Так говорил Бисмарк! Автор-составитель Мориц Д. Буш
Вместо предисловия
Собирая материал для книги «Бисмарк. Любовный роман», я обнаружил в Российской государственной библиотеке русское издание двухтомника Морица Буша «Граф Бисмарк и его люди за время войны с Францией». Во время этой войны Буш был неотлучно при «железном канцлере» в качестве его пресс-секретаря и врача, и два тома его мемуаров были изданы М. Головиным в Санкт-Петербурге в 1879 году, то есть еще при жизни Бисмарка и сразу после их немецкого издания. Но оба тома оказались столь раритетны, что Ленинка не позволяет не только их ксерокопировать, но даже фотографировать!
Однако в США правила не столь строгие. Любая провинциальная библиотека может выписать из Вашингтона, из Библиотеки конгресса, практически любую книгу, чем я и воспользовался. Скопировав оба тома, я прочел их буквально залпом и несколько страниц процитировал в своем романе о любви Отто фон Бисмарка и юной русской княгини Екатерины Орловой-Трубецкой. Но эти цитаты лишь сотая часть того интереснейшего исторического материала, который ежедневно и скрупулезно фиксировал в своих дневниках Мориц Буш. Я уверен, что для всех, кто интересуется Бисмарком и немецкой историей, для студентов исторических факультетов и читателей университетских библиотек эта книга представляет огромный интерес – в ней такое количество живых деталей того времени, такие подробные описания военных сражений и высказываний Бисмарка, его коллег, друзей и врагов!
Пользуясь своей многолетней дружбой с издательством «АСТ», я уговорил его генерального директора Юрия Дейкало переиздать эту книгу и надеюсь, что сотни или даже тысячи историков и просто любопытных читателей будут ему за это благодарны.
Эдуард Тополь
Часть первая
Предисловие от издателя
Крупная политическая роль, выпавшая на долю князя Бисмарка в последние двадцать лет, достаточно объясняет наше намерение издать в русском переводе интересное сочинение его секретаря, посвященное частной жизни и политической деятельности знаменитого германского канцлера за время памятной всем войны Германии с Францией.
Но русский издатель не может предложить такое сочинение публике без всяких оговорок.
Как ни интересно сочинение г. Буша, как ни богато оно характерными подробностями, живо обрисовывающими оригинальную фигуру творца объединенной Германии, оно писано немцем и притом коленопреклоненным немцем , для немецкой публики, также поклоняющейся в лице кн. Бисмарка давно уже невиданному международному и военному значению Германии. И автор, и его публика уже много лет не вспоминают древней и мудрой пословицы «Не сотвори себе кумира».
Русский издатель и русская публика должны отнестись совсем иначе и к предлагаемому сочинению, и к его герою. Им вполне доступно, для них вполне обязательно более спокойное и независимое отношение к сильному политическому деятелю, выказавшему наряду с большим практическим талантом первоклассного дипломата слабую восприимчивость к общим задачам современности.
Биографические подробности, частные разговоры, политические и житейские мелочи, относящиеся к крупному и оригинальному таланту, всегда представляют значительный интерес. Такой интерес несомненно имеет и сочинение г. Буша. Но к той окраске, которую он придает сообщаемым фактам, русский читатель непременно отнесется критически.
Мыслящий русский читатель прежде всего разойдется со взглядами немецкой публики на общественную деятельность кн. Бисмарка в одном весьма существенном пункте. Кн. Бисмарк гораздо больше политик и дипломат, чем государственный человек в широком смысле слова, отвечающий требованиям настоящего и ближайшего будущего, сильный в делах внутренних и внешних. Чисто практический талант его, резко выделившийся на туманном фоне прежнего немецкого идеализма и доставивший Германии ряд чрезвычайных международных успехов, ослепил его соотечественников, до тех пор имевших большое литературное и научное, но отнюдь не политическое международное значение. Упоенная силой и славой своих внешних дел, обязанная ими гениальному таланту своего министра, Германия вверила ему и высшее управление своими внутренними делами. Все его прошлое, все его политические действия довоенного периода были забыты после счастливых войн с Австрией и Францией. Теперь события показали, что, несмотря на большой практический ум и редкий талант, кн. Бисмарк сохранил в своих воззрениях и приемах крупные следы того общественного слоя, в котором он вырос и созрел. Читатель найдет многочисленные тому доказательства в беседах и подробностях, рассказываемых г. Бушем, и, конечно, не будет восторгаться ими так, как делает немецкий автор. Он скорее пожалеет, что некогда мечтательная и склонная к умозрению Германия не дала своему первоклассному политическому таланту ни одной подобной черты. Таков уже дух времени, и в этом отношении кн. Бисмарк в том виде, как описывает его автор, является весьма знаменательным выразителем данной эпохи. Этот замечательный талант не случайно показался на политическом горизонте Германии в такое время, когда идеалы прошлого, даже и недавнего прошлого разбиты критикой, когда заглохла немецкая философия, уступив место исключительно практической постановке вопросов, господству успеха и силы над правом и идеей. Такие переходные эпохи не новы в истории; они естественно предшествуют трудному нарождению новых общественных идеалов, нового строя жизни. В эти эпохи люди будущего только показываются на поверхности общества и, если показываются, то отнюдь не для искусственного оживления умирающих идей и отношений. Кн. Бисмарк не принадлежит к этим людям. Перелистывая замечательное сочинение г. Буша, читатель не раз будет иметь случай убедиться, что даровитый объединитель Германии исключительно человек прошедшего и нашей практической современности.
Предисловие автора
Точно воспоминание о каком-то сне посещает иногда меня, когда я представляю себе, при каких обстоятельствах восемь лет назад я совершил мое первое и последнее путешествие во Францию и что мне пришлось при этом пережить и увидать. С другой стороны, ни одно путешествие не врезалось в мою память так отчетливо и живо, со всеми своими отдельными эпизодами. И то и другое будет понятно, если я скажу, что оно было совершено мною от Саарбрюкена через Седан в Версаль и что я имел честь находиться в течение 7 месяцев, во все время, пока оно продолжалось, в собственной свите имперского или, как он еще тогда назывался, союзного канцлера. Другими словами: путешествие находилось в связи с кампанией 1870–1871 гг., и я был прикомандирован при этом к походной канцелярии иностранных дел, которая была, в свою очередь, причислена к первому отделению главной квартиры.
Что я имел при этом много случаев не только присутствовать при некоторых решительных военных действиях, соблюдая весьма выгодную позицию, но и непосредственно слышать и видеть другие замечательные события – на то была воля судьбы; такое счастье человеку, обладающему скромным общественным положением и восемь месяцев перед тем даже не мечтавшему о возможности находиться в личном соприкосновении с канцлером, могло, естественно, показаться и тогда, и впоследствии какою-то грезою. Лично, собственными глазами приходилось наблюдать развитие всемирно-исторического процесса, которому едва ли был когда-либо подобный. События быстро сменяли друг друга, и среди их разгара чувствовалось, как высоко поднимается дух нашего народа, слышался его громовой голос, носившийся над полями битв, страх охватывал вас, когда приближалась роковая развязка, и трепет радости пробегал по вашим членам при получении известия о победе. Не менее дороги и полны значения были тихие, серьезные рабочие часы, во время которых можно было наблюдать ту мастерскую, где находилась точка отправления главной части вышеупомянутого процесса, где взвешивались, рассчитывались и оценивались результаты борьбы и где, наконец, в Феррьере и Версале ежедневно бывали разные знаменитости, коронованные особы, принцы, министры, генералы, посредники всевозможного рода, вожаки партий рейхстага и другие интересные личности. Во время вечернего отдохновения от труда особенно освежительно действовала мысль, что ты, хотя и в качестве маленького колесика, принадлежишь все-таки к той машине, которая дает мастеру возможность влиять на мир своею мыслью и волею и перестраивать его сообразно своим планам. Но самое лучшее было и осталось навсегда – это сознание, что я был близок к нему.
Я полагаю, что имею причины считать воспоминание обо всем этом лучшим сокровищем моей жизни; и я думаю, что следует, чтобы и другие приняли некоторое участие в пользовании им. Само собою разумеется, что о большей части того, что я мог бы сообщить, я должен пока умолчать. Из того же, о чем я рассказываю, многое может показаться слишком ничтожным и поверхностным. Но такое мнение, по-моему, будет ошибочным. Нередко мелочи позволяют обстоятельнее судить о характере людей или настроении, в котором они находятся, чем многообещающие великие дела. Иногда сами по себе совершенно незначительные вещи и обстоятельства служат для ума импульсом к внезапному просветлению и комбинации идей плодотворных и имеющих важные последствия для будущего. Я вспоминаю при этом о часто случайном и незаметном источнике тех или других великих открытий и изобретений, о ярко блестящей оловянной кружке, которая перенесла Якова Беме в метафизический мир, и об известном сальном пятне на нашей феррьерской скатерти, которое послужило канцлеру исходной точкой для очень замечательной и необыкновенно практической застольной речи. Утро действует иначе на нервные натуры, нежели вечер. Погода своею переменчивостью влияет и на предметы, и на людей. Известно также, что существуют теории, составленные учеными, которые могут быть сведены к одному положению: человек есть что он ест; и как ни смешно звучит это, мы не знаем еще, в какой степени несправедливы подобные воззрения. Наконец мне кажется, во-первых, что все, что относится к достославной войне, давшей нам в результате Германскую империю и твердую восточную границу, имеет вообще интерес, а во-вторых, что даже самая, по-видимому, мелкая подробность имеет свою цену, раз она находится в связи с тем участием, которое принимал граф Бисмарк в событиях, происходивших в течение этой войны.
Поэтому все должно быть сохранено. В великое время малое кажется еще меньшим; в последующие десятилетия и столетия – наоборот: великое становится еще более великим, ничтожное – полным значения. Часто сожалеют по прошествии некоторого времени, что нельзя воспроизвести, несмотря на все желание, в живой и яркой картине те или другие события и лица, потому что недостает того материала, ставшего теперь ценным, на который прежде смотрели, как на нечто несущественное, потому что не нашлось тогда, когда было время, ни одного глаза, который все бы видел, и ни одной руки, которая все бы описала и сохранила для потомства. Кто не хотел бы знать подробностей о Лютере в великие дни и часы его жизни, хотя бы даже самых ничтожных? Сто лет спустя князь Бисмарк займет в умах нашего народа место рядом с виттенбергским доктором: освободитель нашей политической жизни от иностранного гнета станет рядом с освободителем совести от давления Рима, творец Германской империи – рядом с творцом германского христианства. Многие уже отвели нашему канцлеру это место в своем сердце и украсили стены своих жилищ его портретами – и, таким образом, я рискую подвергнуться упрекам со стороны тех или других лиц за то, что я преимущественно веду речь в своем повествовании о скорлупе, не касаясь самого зерна, которое остается неоцененным. Быть может, впоследствии мне будет и возможно сделать скромный опыт и прибавить к образу этой личности несколько новых черт. Но в настоящее время по отношению к подобным предприятиям я руководствуюсь следующим изречением: «Собирайте все крошки, чтобы ничего не пропадало».
Материалом для моих записок послужил дневник, в который во время наших остановок я заносил по возможности подробно и верно все события и разговоры, все, что я видел и слышал, находясь в непосредственном кругу канцлера. Канцлер, во всяком случае, представлял главную фигуру, около которой группировалось все остальное. В качестве чуткого и добросовестного хроникера я поставил себе первой и ближайшей задачей отмечать – сначала исключительно для самого себя, – как он держал себя во время великой войны, причем источниками должны были служить мои личные наблюдения и только вполне достоверные рассказы посторонних лиц, – как он работал и жил во время похода, как рассуждал о настоящем, что говорил о прошлом – за обедом, за чаем или в иной обстановке. При исполнении этой задачи, в особенности когда приходилось записывать то, что он говорил более или менее в интимных кружках своих приближенных, мне оказали большую услугу, во-первых, моя наблюдательность, изощренная к тому же почтением, которое я питал к его особе, и служебными отношениями, в каких я прежде к нему стоял, и, во-вторых, моя память, достаточно выработанная еще дома, но доведенная в последнее полугодие перед началом войны до такой степени, что я был в состоянии помнить во всех главных чертах самые длинные речи канцлера – все равно, имели ли они серьезный или шутливый характер, – и помнил до тех пор, пока не вверял их бумаге. Это значит, что если в этот промежуток времени ничто мне не мешало – чего, однако, я мог опасаться в большинстве случаев, – то все вышеупомянутое почти без исключения записывалось мною до истечения часа после того, как становилось предметом моего внимания. Кто обладает глазами, ушами и памятью по отношению к слогу, каким выражается обыкновенно канцлер, беседуя в тесном кругу, тот сразу увидит, что я не сочиняю. Именно он встретит в речах его, записанных мною, и затейливые сказки, и фигуры умолчания, – все, что так напоминает язык баллад, и, кроме того, он найдет, что часто подкладку этих речей составляет юмор. И то и другое, как известно, – характерные признаки языка канцлера.
Вообще предлагаемые рассказы, равно как и сопровождающие их изречения и замечания, представляют ряд фотографических нерастушированных снимков. Другими словами, помимо того, что все, передаваемое мною, было предметом самого строгого внимания с моей стороны, я сознаю еще очень хорошо, что я ничего не упустил, что можно было сообщить, ничего не изменил, а главное – ничего не прибавил. Где должен был быть пробел – там обыкновенно это обозначено посредством мыслеотделительного знака. Где я нехорошо понял говорящего, там это указано. Некоторые суждения о французах могут показаться резкими и местами даже жесткими. Но надо вспомнить, что уже обыкновенная война ожесточает и раздражает и что война «хотя бы на ножах», объявленная Гамбеттою, при его пламенном увлечении и упорстве вольных стрелков должна была тем более вызвать в нашем лагере настроение, которому чужды были кротость и пощада. Выражения, сложившиеся под влиянием этого настроения, приведены, конечно, не с той целью, чтобы кого-нибудь оскорбить, но единственно как материал для истории войны и характеристики канцлера.
В заключение замечу, что описания местностей, полей битв и т. п. точно так же, как и некоторые обстоятельства, включены мною в мою книгу лишь ради разнообразия; что же касается газетных статей, то я их привел лишь для того, чтобы показать, как возникали известные мысли в известное время.
Граф Бисмарк и его люди
Глава I
Отъезд союзного канцлера. – Я следую за ним непосредственно в Саарбрюкен. – Дальнейшее путешествие оттуда до французской границы. – Походная канцелярия Иностранных дел
31-го июля 1870 г. в половине шестого вечера канцлер, причастившись, за несколько дней перед тем у себя на дому, на Вильгельмштрассе, выехал в сопровождении своей супруги и дочери, графини Марии, на вокзал железной дороги, чтобы затем отправиться с королем Вильгельмом через Майнц на театр военных действий. Некоторые советники министерства иностранных дел, секретарь-экспедитор центрального бюро, два шиффрера и двое или трое канцелярских служителей получили приказание следовать за ним. Мы же, остававшиеся в Берлине, только напутствовали его добрыми пожеланиями, стоя на подъезде между двумя сфинксами, красовавшимися по обеим сторонам лестницы, когда он с каскою на голове спускался к карете. И я в числе прочих уже примирился с участью следить за ходом военных событий только по карте и газетам. Но дело вдруг приняло для меня благоприятный оборот.
6-го августа в министерстве была получена телеграмма о победе при Верте. Полчаса спустя после окончания служебных занятий я доставил эту радостную новость, еще совершенно свежую, нескольким знакомым, ожидавшим в ресторане на Потсдамской улице грядущих событий. Известно, как охотно немец празднует хорошие вести. И так как весть, принесенная мною, была очень хорошая весть, то она была ознаменована шумной пирушкой, некоторыми даже слишком шумной, а большинством слишком продолжительной. Вследствие этого на следующее утро я был еще в постели, как ко мне явился канцелярский служитель и передал копию с депеши, которой мне предписывали немедленно ехать в главную квартиру.
Итак, судьба пожалела меня! Быстро сделал я необходимые приготовления, к полудню выправил паспорт, получил легитимационную карточку и билет на все воинские поезда и около восьми часов вечера уже катил по железной дороге с двумя спутниками, которых взял с собою по приказанию министра, горя нетерпением с Божьей помощью достигнуть своей цели, миновав Галле, Нордгаузен и Кассель, как только возможно скорее.
Сначала мы ехали в отделении первого класса, затем в третьем классе и, наконец, в товарном поезде. Везде были продолжительные остановки, казавшиеся нам еще более продолжительными, чем они были на самом деле. Лишь 9-го августа рано утром, в 6 часов, приехали мы во Франкфурт. Здесь мы должны были прождать несколько часов, прежде чем можно было пуститься в дальнейший путь, и поэтому у нас было достаточно времени навести справку, где находится главная квартира. Начальник этапа не мог нам дать никакого решительного ответа. Директор телеграфной станции, к которому мы обратились с нашим вопросом, тоже не сказал ничего определенного. «Может быть, в Гомбурге», соображал он, «всего же вероятнее уже в Саарбрюкене».
Лишь вечером мы двинулись далее – в товарном вагоне – через Дармштадт по Оденвальду, темные горы которого были повиты густыми белыми облаками тумана, и далее через Маннгейм на Нейштадт. Поезд полз все тише и тише, и все чаще должны мы были уступать дорогу другим необозримо длинным воинским поездам. Всюду, где останавливалась наша волна в потоке этого современного переселения народов, появлялись добродушные люди, входили в вагоны и предлагали солдатам есть и пить; и между ними особенно обращали на себя внимание старушки; эти сердечные, всегда готовые помочь бедные женщины угощали чем только могли: кофе с молоком и сухим черным хлебом.
Рейн переехали ночью. Когда стало рассветать, мы заметили, что около нас лежит на полу щеголевато одетый господин и разговаривает с другим, которого мы приняли за его слугу, по-английски. Оказалось, что это был лондонский банкир Дейхман, отправляющийся также в главную квартиру, чтобы испросить у Роона позволения совершить поход в качестве волонтера в одном из кавалерийских полков, и что с этой целью он везет с собой и своих лошадей. По его совету мы до Нейштадта от Госбаха, – где поезд положительно не мог двигаться далее, потому что впереди его рельсы были заняты еще двумя или тремя поездами, – совершили переезд на лошадях в наскоро нанятой крестьянской телеге. Этот пфальцский городок кишел солдатами, баварскими стрелками, прусскими красными гусарами, саксонцами и другими мундирами.
Здесь в первый раз после отъезда из Берлина мы поели горячего. До сих пор в нашем распоряжении были только холодные кушанья. И до сих пор мы делали малоуспешные попытки заснуть на жестких деревянных скамьях, положив под голову походную сумку. Впрочем, не следует забывать, что мы были на военном положении и что во время других поездок, которые я совершал далеко не с такой благодарной целью, мне приходилось терпеть еще большие неудобства.
Из Нейштадта после часовой остановки мы поехали далее, прямо через Гардт, по узким долинам, покрытым сосновым лесом, прорезали несколько туннелей, наконец добрались до горного ущелья, в котором лежит Кайзерлаутерн. Перед этим были часы, когда погода прояснялась и светило солнце, но потом, во все время переезда отсюда до Гомбурга, исключительно шел дождь и притом лил как из ведра, так что местечко, когда мы подъехали в 10 часов к вокзалу, показалось нам сплошною массою мрака и воды. Мы вышли из вагона, взвалили свои чемоданы на плечи и в проливной дождь стали перебираться через болота и лужи, спотыкаясь о рельсы; после множества расспросов мы отыскали наконец гостиницу «Zur Post», где уже все комнаты были заняты и где уже ничего не было, что могло бы служить подкреплению нашего духа и нашей плоти. Впрочем, даже при более благоприятных обстоятельствах мы не могли бы здесь ничем воспользоваться; мы узнали, что граф и король уже проехали дальше и, вероятно, были уже в Саарбрюкене; значит, нужно было торопиться, если мы желали застать канцлера еще в Германии.
Опять очутились мы под дождем, и в этом не было ничего отрадного. Мы несколько утешали себя, однако, тем соображением, что другим было и того хуже. В почтовой комнате, в атмосфере табачного дыма и лампового чада, пивных паров и запаха сырой кожи и сукна, лежали и спали люди на столах и сдвинутых стульях. Влево от вокзала курились гасимые ливнем сторожевые огни большого лагеря – саксонцев, – если только на наш вопрос ответили верно. Когда мы побрели назад к нашему поезду, сквозь косые струи дождя блеснули остроконечные каски и ружейные стволы прусского батальона, который построился перед гостиницей вокзала. Основательно вымокши и порядком уставши, мы снова нашли убежище в товарном вагоне, где Дейхман для себя и меня открыл местечко на полу в узком боковом отделении. Здесь можно было вытянуться, положивши под голову вместо подушки две охапки сена. Остальным спутникам, между которыми были барон и профессор, было не так хорошо. Они должны были улечься на ящиках между почтовыми пакетами, рядом с почтальонами и низшими чинами. Около часа поезд тронулся. После нескольких остановок мы подъехали светом к одному городку с красивой старинной церковью. В долине недалеко находилась мельница, около которой извивалось, как лента, саарбрюкенское шоссе. Нам сказали, что до него еще добрых полмили, и, таким образом, мы были очень близко от цели. Но наш локомотив, казалось, испускал последнее дыхание, а главная квартира могла сняться каждую минуту и перейти границу, где еще не было устроено для нас железной дороги и где, по всей вероятности, было так же мало и других средств передвижения. Облачное небо и мелкий моросящий дождик едва ли могли уменьшить наше нетерпение и способствовать улучшению нашего дурного настроения, порожденного подобными размышлениями. Напрасно ждали мы в течение двух часов сигнального свистка нашего паровоза. Вдруг Дейхман снова выручил нас из беды. Он исчез, и когда вернулся какое-то время спустя, то оказалось, что он договорил внизу мельника доставить нас в город. При этом он должен был поручиться предусмотрительному человеку, что солдаты не отнимут у него лошадей.
Во время поездки мельник рассказал нам, что пруссаки выдвинули свои передовые посты уже до окрестностей Меца. Между 9 и 10 часами мы были в Санкт-Иоганне, предместье Саарбрюкена, лежащем на правом берегу Саары, где мы увидели немногие следы произведенной французами несколько дней перед тем бомбардировки, а также уже довольно пеструю и живую картину боевой жизни. Тележки маркитантов, багажные повозки, пешие и конные солдаты, иоаннит с перевязью красного креста на руке и т. п. двигались по улицам. Гессенские войска, драгуны и артиллерия проходили мимо; всадники пели: «Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tod».
В гостинице, куда мы перебрались, я узнал, что союзный канцлер еще здесь и занял квартиру у купца и фабриканта Гальди. Итак, несмотря на все задержки на пути, ничего не было потеряно, и я благополучно добрался до пристани, хотя, впрочем, чуть-чуть не опоздал, потому что, отправившись к Гальди, чтобы донести о моем прибытии, я узнал на лестнице от графа Бисмарка-Болена, двоюродного брата министра, что вечером предполагают двинуться далее. Я простился с моими берлинскими спутниками, для которых не хватало мест в поезде министра, и с лондонским банкиром, которому генерал Роон объявил, что, к сожалению, никак не может воспользоваться его патриотическим предложением. Затем я велел снести мой чемодан в фургон, где помещалась кухня; этот фургон вместе с прочими экипажами вскоре отправился к Саарбрюкенскому мосту. Отделавшись таким образом от чемодана, я возвратился в дом Гальди, и здесь в аванзале представился канцлеру, вышедшему из своего покоя для свидания с королем, после чего отправился в бюро и спросил, есть ли работа. Работы было довольно. Чиновники были завалены ею по горло, и я тотчас же принял участие в переводе для короля только что полученной тронной речи ее британского величества. Высокий интерес представила для меня, между прочим, одна депеша, которую я должен был продиктовать шиффреру и которая гласила, что мы не можем удовольствоваться лишь низвержением Наполеона.
Я с трудом, однако, сообразил, в чем дело. Все это казалось предзнаменованием какого-то чуда. Страсбург! Быть может, вогезская граница! Кто мог мечтать об этом три недели назад?
Погода между тем прояснилась. Солнце ярко горело, когда за несколько минут до часа к крыльцу подъехали экипажи, запряженные четверками, солдаты верхом, одна карета для канцлера, другая для советников и графа Бисмарка-Болена, третья для секретаря-экспедитора и обоих шиффреров. Министр с тайным советником Абекеном сели в свой экипаж, его двоюродный брат и другие советники сели на лошадей, все прочие чиновники, вооруженные портфелями, заняли предназначенные им места. Я сел на этот раз в ту карету, где должны были быть советники, и оставался в ней все время, пока они ехали верхом. Пять минут спустя мы переехали реку и очутились на главной улице Саарбрюкена. Затем потянулось шоссе, окаймленное тополями, ведущее к Форбаху, полю битвы 6-го августа, и уже через полчаса после нашего отъезда из Санкт-Иоганна мы были во Франции. Еще оставались следы от кровопролитного боя, происходившего здесь пять дней назад около самой границы: на земле валялись оторванные пулями древесные ветви, рожки, клочки одежды и полотна; поле, засеянное картофелем, было вытоптано, как ток, там и сям виднелись разбитые колеса, ямы, вырытые гранатами, маленькие, наскоро связанные кресты, быть может, означающие место, где были погребены павшие, и т. п. Вообще мертвые, насколько можно было заметить, были уже все похоронены.
Здесь, в начале нашего путешествия по Франции, я хочу на некоторое непродолжительное время прервать нить моего повествования, чтобы сказать несколько слов о походной канцелярии иностранных дел и о том, как канцлер путешествовал со своими людьми, как он работал и вообще какую вел с ними жизнь. Министр выбрал в свою свиту действительного тайного легационсрата Абекена и фон Кейделля, действительного легационсрата графа Гацфельда, состоявшего прежде в течение нескольких лет при прусском посольстве в Париже, и легационсрата графа Бисмарка-Болена. Затем к ним были прикомандированы тайный секретарь Бельзинг из центрального бюро, шиффреры Виллих и Сэн-Бланкар и, наконец, я. В качестве рассыльных и вахмистров при нас состояли канцеляристы Энгель, Тейсс и Эйгенбродт; последний был заменен в начале сентября проворным и ловким Крюгером. С нами был еще и господин Леверстрем, по прозванию «черный рыцарь», который разносит теперь по Берлину министерские эстафеты. Забота о нашей телесной природе была поручена повару, несшему во время дороги обязанности обозного солдата; имя его было Шульц. В Феррьере наличный состав советников пополнился Лотаром Бухером, затем здесь к нам был прикомандирован третий шиффрер, г. Вир. В Версале, наконец, к нам присоединились теперешний легационсрат фон Гольштейн, молодой граф Вартенслебен и для дел, не подлежащих ведомству походной канцелярии, тайный обер-регирунгсрат Вагнер. Бельзинг несколько недель спустя заболел и был заменен тайным секретарем Вольманном, а возрастающая масса дел потребовала еще четвертого шиффрера, затем было увеличено число канцеляристов, но имен ни одного из них я, к сожалению, не запомнил. Благосклонность нашего «шефа» – так чиновники нашей канцелярии называли обыкновенно канцлера – сделала то, что его сотрудники – и секретари, и советники – стали некоторым образом членами его дома. Мы жили с ним, когда обстоятельства это позволяли, в одном и том же доме и имели честь обедать за его столом.
Канцлер во все время войны ходил в форменном платье и притом обыкновенно в мундире желтого полка тяжелой ландверной кавалерии. Он носил белую шапку и высокие сапоги с раструбами, а во время поездок верхом по полям битв или сторожевым пунктам надевал через плечо ремень, на котором висел черный кожаный футляр с кинжалом; иногда при нем, кроме палаша, был еще револьвер. Из орденов он в первые месяцы носил – Красного орла, потом Железный крест. Лишь в Версале видел я его в халате; он был тогда болен; хотя, сколько я знаю, он почти ни разу не мог пожаловаться на нездоровье ранее этого, во все время похода. В дороге он ездил большею частью с покойным Абекеном; раз несколько дней подряд со мной. В отношении помещения он не был требователен, и даже там, где можно было бы устроиться с некоторым комфортом, он довольствовался самою скромною квартирою. В то время как в Версале полковники и майоры иногда располагали целыми анфиладами блестящих покоев, союзный канцлер в продолжение пяти месяцев, которые мы здесь провели, жил в двух маленьких комнатах, из которых одна была вместе и рабочим кабинетом, и спальней, а другая небольшой и не особенно изящной гостиной и находилась в нижнем этаже. В бытность нашу в Клермон-ан-Арагоне нам отвели помещение в школьном доме; не оказалось кроватей – и канцлеру пришлось приготовить постель на полу.
В дороге мы следовали непосредственно за обозом короля. Мы выступали обыкновенно в 10 часов утра и делали иногда переходы до 60 километров. Приходя на ночевку, сейчас устраивали бюро, в котором работы всегда было вдоволь, особенно если до нас доходил полевой телеграф, и канцлер посредством его снова делался тем, чем он всегда был в это время, за исключением небольших перерывов, – центром цивилизованного европейского мира. Даже там, где останавливались лишь на ночь, он держал свою свиту до позднего часа, сам неустанно трудясь и почти не отрываясь от работы. Постоянно сновали фельдъегеря, рассыльные, приносили и относили письма и телеграммы, и чиновники составляли по указанию своего начальника ноты, отпуска и назначения, канцелярия списывала и регистрировала, шифрировала и дешифрировала. Со всех четырех сторон света стекался сюда материал из донесений и запросов, газетных статей и т. п., и большая часть его требовала быстрой обработки.
Абекен был, бесспорно, самым деятельным из чиновников до поступления Бухера. Он был действительно очень полезной силой. Во время многолетней службы он вполне познакомился с делопроизводством, был виртуозом рутины, обладал приличным запасом фраз, выливавшихся у него из-под пера без особенных усилий воли с его стороны, владел несколькими языками настолько, насколько требовали того поставленные ему задачи, был, можно сказать, создан для того, чтобы со скоростью паровой машины облекать в известную форму идеи канцлера, которые тот ему сообщал, и при помощи своего феноменального прилежания часто заготовлял в день изумительнейшее количество хорошо сочиненных бумаг. Почерпнуть материал из самого себя, – конечно, там, где дело шло о сколько-нибудь важных вопросах, – он едва ли был в состоянии. Да этого и не требовалось. Нужен был только искусный формовщик. О содержании заботился гений министра.
Почти сверхчеловеческая способность канцлера работать – работать творчески, скоро, критически, разрешать самые трудные задачи, везде отыскать тотчас истину и выбрать самое подходящее, быть может, никогда не была так удивительна, как в это время, и ее неистощимость была тем изумительнее, что израсходованные при такой деятельности силы восстановлялись лишь непродолжительным сном. Министр вставал в походе по-домашнему, поздно, обыкновенно около десяти часов, если только давно ожидаемая битва не призывала его перед рассветом к королю и войску. Потом уже он не спал всю ночь и засыпал, лишь когда занималась заря. Часто, еще не одеваясь, начинал он думать и работать, читал депеши, делая при этом свои замечания, просматривал газеты, давал инструкции чиновникам и другим сотрудникам, задавал вопросы и ставил проблемы всевозможного рода, сам писал или диктовал. Затем надо было принимать визиты, или давать аудиенции, или идти с докладом к королю. Потом снова изучение депеш или карт, корректура заказанных статей, писание программ знаменитым толстым карандашом, сочинение писем, справка с телеграммами или газетными толками и в промежутках опять прием необходимых визитов, которые не всегда бывали приятны. Лишь после двух, иногда лишь после трех часов канцлер дозволял себе отдых там, где стоянка продолжалась более продолжительное время, и совершал поездки верхом по окрестностям. Затем работа начиналась снова до шестого часа, когда шли к обеду. Полтора часа спустя – никак не более – он сидел уже в своей комнате за письменным столом, и часто можно было его видеть за полночь читающим или вверяющим свои мысли бумаге.
Как сон у графа был совершенно особенный, чем у обыкновенных людей, так и в обеде он проявлял некоторую своеобразность. Утром он выпивал чашку чаю и съедал одно или два яйца, и затем до вечернего обеда не ел обыкновенно ничего. Очень редко принимал он участие во втором завтраке, и то лишь иногда в чае, который подавался в десятом часу. Он ел – не считая случайных исключений, – в течение суток, собственно, один раз, но зато, замечу мимоходом, подобно Фридриху Великому, очень сытно. Пословица гласит, что у дипломатов всегда хороший обед и едва ли, по моему мнению, они уступают в этом отношении прелатам. Это уже зависит от их положения, так как они принимают у себя влиятельных и вообще значительных гостей, которых необходимо для той или другой цели привести в благодушное настроение, а ничто так приятно не настраивает, как запасы хорошего погреба и результаты искусства отличного повара. И у графа Бисмарка был хороший стол, доходивший, смотря по обстоятельствам, до роскоши. Это бывало в Реймсе, Мо, Феррьере и, наконец, в Версале, где нам создавали такие художественные завтраки и обеды, что человек, привыкший к обыкновенной мещанской кухне, не мог не воздавать им должного и чувствовал себя почти на лоне Авраамовом, особенно если к числу напитков присоединялось, кроме других драгоценных даров неба, еще канарское сладкое вино (сект). В кухонном фургоне хранились для таких пиршеств оловянные тарелки, кубки из среброподобного металла, внутри вызолоченные, и такие же чашки. Роскошь наших обедов, которыми нас так радушно угощали, увеличивалась в продолжение последних пяти месяцев приношениями из отечества; немцы не забывали своего союзного канцлера и снабжали его шпигованными гусями, дичью, благородными рыбами, фазанами, плодами, отличным пивом, тонкими винами и многими другими дорогими вещами.
Я замечу в заключение этой главы, что, кроме канцлера, сначала носили мундиры только советники: фон Кейделль – светло-голубой кирасирский, граф Бисмарк-Болен – гвардейского драгунского полка, гр. Гацфельд и Абекен – форму чиновников министерства иностранных дел. Впоследствии возникла мысль о том, чтобы этот наряд был присвоен всему персоналу прикомандированных к свите министра, исключая вышеупомянутых двух господ, состоявших в то же время на военной службе. Наш шеф дал на это свое согласие, и Версаль увидел даже канцеляристов в темно-синих двубортных сюртуках с черными воротниками и бархатными лацканами, в шапках такого же цвета, у советников, секретарей и шиффреров, кроме того, были еще шпаги на золотых портупеях. Старый тайный советник Абекен сидел очень браво на своей лошади и имел в этом костюме весьма воинственный вид; и я думаю, он чувствовал это и был счастлив.
Глава II
От границы до гравелота
В предыдущей главе я остановился на французской границе. Что мы ее перешли, доказывали названия деревень. Можно было прочитать на дощечках: «Departement de la Moselle». Белая дорога была запружена фургонами, отрядами войск, каждое местечко было занято постоем. В холмистой, частью лесистой местности были там и сям небольшие лагеря, в которых можно было видеть лошадей, привязанных к пикетным столбам, пушки, пороховые ящики, маркитантов, ямы для разведения огня и занятых приготовлением пищи солдат.
Около двух часов спустя мы достигли Форбаха, который мы проехали не останавливаясь. Вывески на мастерских и лавках здесь были все без исключения на французском языке, имена же хозяев, напротив, большею частью немецкие – например, «Schwarz, boulanger». Некоторые из жителей, стоя у дверей своих жилищ, кланялись по направлению к экипажам, весьма многие смотрели на нас с сердитым выражением лиц; очевидно, они претерпели от постоя. Все окна были переполнены синими пруссаками.
Так ехали мы с горы на гору, через леса и через деревни и приехали в Сент-Авольд, куда мы прибыли в половине пятого, и все вместе с канцлером заняли квартиру в улице des Charrons, № 301, в доме г. Лети. Это был одноэтажный дом с белыми жалюзи, фасад которого был снабжен всего пятью окнами, но который благодаря своей ширине оказался очень поместителен. Сзади он выходил в хорошо содержимый плодовый сад, прорезанный дорожками. Владелец, по всей вероятности, отставной офицер, и, по-видимому, зажиточный, уехал за несколько дней до нашего приезда и оставил в доме какую-то старушку, говорящую только по-французски, и служанку. Министр занял одну из передних комнат, остальные поместились в комнатах, прилегающих к коридору, который вел в задние покои. В полчаса было устроено бюро в одном из этих покоев, служившем одновременно и спальней для Кейделля. Комната рядом была предназначена для Абекена и меня. Он спал на кровати, снабженной балдахином и поставленной в нише, причем в головах у него висел образ Распятого, а в ногах – Богоматери с окровавленным сердцем; несомненно, хозяева дома были ревностными католиками. Для меня устроили покойное ложе на полу. Бюро начало тотчас же прилежно работать, а так как для меня по моей части еще не было работы, то я стал помогать дешифрировать депеши – манипуляция, не представляющая никаких трудностей.
Вечером, после семи часов, мы обедали с графом в маленькой комнате, смежной с его кабинетом, окна которой выходили на узкий двор, украшенный цветочными клумбами. Разговор за столом был очень оживлен, но говорил преимущественно сам министр. Он считал возможным нападение врасплох; во время своих прогулок верхом он пришел к убеждению, что наши передовые посты находились лишь в трех четвертях часа от города и были слишком разбросаны. Он спрашивал часовых, где находится ближайший пост, но они не знали этого. Позже он заметил, что наш хозяин, убегая, оставил комоды, которые были битком набиты бельем, и прибавил: «Если после нас прибудет сюда лазарет, то прекрасные рубашки его жены пойдут на корпию и бинты, и совершенно по праву. Но тогда скажут, что граф Бисмарк взял их с собой».
Затем разговор зашел о расположении войск, и министр сказал, что Штейнмец выказал при этом своеволие и непослушание. «Он повредит себе этим, заключил он, несмотря на свои скалицкие лавры».
Перед нами был коньяк, красное вино и майнцcкая шипучка. Кто-то заговорил о пиве и полагал, что его у нас не будет. Министр отвечал: «Это ничего. Широкое распространение пива было печальным явлением. Оно делает человека глупым, ленивым и слабым. В нем источник демократического политиканства. Предпочтительно хорошее хлебное вино».
Не знаю уж как и в связи с чем, но зашел разговор о мормонах и затем перешел на вопрос о том, возможно ли терпеть их и их многоженство. Граф воспользовался удобным случаем высказаться вообще о религиозной свободе и объявил, что он стоит за нее, только она должна быть управляема, прибавил он, совершенно независима от борьбы партий. «Каждый может по-своему наследовать царствие Божие, – сказал он, – я когда-нибудь подниму этот вопрос, и, наверное, рейхстаг будет стоять за это. Церковное имущество, конечно, должно остаться за теми, которые не покидают старой церкви, приобретшей его. Кто выходит из нее, тот должен принести жертву своему убеждению или просто своему неверию. Для католиков это не имеет значения, если они правоверны, для евреев тоже, а для лютеран – напротив; и об их церкви постоянно кричат, что она гонительница, когда она отклоняет неправоверных; но что правоверные постоянно подвергаются гонениям и насмешкам со стороны прессы, это почему-то считается в порядке вещей».
После обеда советники отправились с союзным канцлером гулять по саду. Спустившись с крыльца, мы увидели в некотором расстоянии от дома большое здание, на котором развевалось белое знамя с красным крестом; из окон этого здания нас лорнировали монахини. Очевидно, это был монастырь, превращенный в госпиталь. Вечером один из шиффреров выразил сильное беспокойство и озабоченность ввиду возможности нападения; начали совещаться, что делать с портфелями, в которых находились государственные бумаги и шифры. Я старался успокоить и дал слово, что в случае надобности окажу какое могу содействие в спасении и уничтожении бумаг.
Но тревога и опасения были совершенно напрасны. Ночь прошла спокойно, наступило утро, и появился кофе. За ними по пятам прилетел с депешами из Берлина зеленый фельдъегерь. У подобных гонцов ноги окрылены, и тем не менее он ехал не скорее нашего, т. е. меня и моей боязни опоздать. Он выехал в понедельник 8-го августа и ехал несколько раз с экстрапочтой, и все-таки ему нужно было почти 4 суток, чтобы добраться до нас; было уже 12-е число. Утром я снова помогал шиффрерам. Затем, во время пребывания шефа у короля, я посетил с советниками большую красивую городскую церковь, по которой нас водил капеллан. После обеда, когда министр прогуливался верхом, мы осмотрели прусский артиллерийский парк, устроенный на горе, позади местечка.
В четыре часа, по возвращении канцлера, мы сели за обед. Канцлер ездил далеко повидаться с своими двумя сыновьями, служившими рядовыми в гвардейских драгунах, и узнал, что немецкая кавалерия дошла уже до верхней части Мозеля. Он был в хорошем расположении духа, вероятно, по той причине, что наше дело продолжало идти очень успешно. Когда разговор зашел о мифологии, он выразился, что «никогда терпеть не мог Аполлона». Аполлон «пощадил Mapсиаса из упрямства и зависти и по тем же причинам застрелил детей Ниобы». «Он представляет, – продолжал он, – настоящий тип француза; он не мог выносить, чтобы кто-нибудь играл на флейте лучше его или так же хорошо, как и он». Что он держал сторону троянцев, тоже не говорит в его пользу. В конце концов, канцлер высказался за Вулкана и заявил, что ему нравится еще Нептун – но не пояснил за что, быть может, за его Quos ego!
После обеда мы получили радостную весть, которую нужно было немедленно передать в Берлин по телеграфу. А именно: «7-го августа у нас было более 10 000 пленных. Впечатление, произведенное на неприятеля победою при Саарбрюкене, было гораздо большее, чем предполагали сначала. Он бросил понтонный обоз, состоявший из 40 повозок, около 40 000 одеял, которые пригодились раненым, и на миллион франков запасов табаку. Пфальбург и Вогезский проход – в наших руках. Бич обложен одной ротой, потому что гарнизон его заключает в себе лишь 300 национальных гвардейцев. Наша кавалерия стоит уже у Люневилля». Немного спустя за этим последовало еще другое радостное известие: французский министр финансов, очевидно, вследствие успехов германских войск – приглашал французов не хранить своего золота у себя дома, а присылать его в государственный банк.
Далее говорилось об изготовлении прокламации, которою запрещалась конскрипция в занятых германскими войсками местностях – и отменялась навсегда. Из Мадрида сообщали, что приверженцы Монпансье, либеральные политические деятели вроде, например, Реос Розаса и Топете и другие вожаки партий ревностно стремятся к немедленному созванию народного представительства, чтобы избранием короля положить конец временному порядку вещей; герцог Монпансье, на которого они рассчитывают, находится уже в столице; между тем правительство очень энергически противодействует осуществлению этого плана.
Наконец мы узнали, что завтра надо двигаться далее, и нашей ближайшей стоянкой должен был быть маленький городок Фолькемон. Вечером я снова упражнялся в дешифрировке, и мне удалось без всякой помощи разобрать депешу из 20 приблизительно цифровых столбцов в столько же почти минут.
Действительно, 13-го августа мы выехали в Фолькемон или, как мы теперь пишем, в Фалькенберг. Холмистая местность, по которой мы ехали, была похожа на окрестности Саарбрюкена; во многих местах она была покрыта кустарником и изобиловала боевыми картинами. Шоссе было запружено обозом, пушками, подвижными лазаретами, армейскими жандармами и ординарцами. Длинные ряды пехоты тянулись по дороге и прямо по сжатым полям. Иногда в строю падал человек, там или сям лежали отставшие; августовское солнце бросало снопы палящих лучей с безоблачного неба. Войска, шедшие перед нами и позади нас, были 84-й (Шлезвиг-Гольштинский) и 36-й полки. Наконец прорезавши густое желтое облако пыли, поднятое ими, мы вошли в городок, где я занял квартиру у булочника Шмидта. Министр пропал в толпе, и лишь некоторое время спустя я узнал от оставшихся в Фалькенберге советников, что он с королем уехал в деревню Герни, отстоявшую от нас на добрую милю.
Фалькенберг – местечко приблизительно с 2000 жителей, состоящее из нескольких довольно длинных главных улиц и узких переулков и лежащее на отлогом гребне холма. Всю остальную часть дня почти непрерывно проходили мимо нас войска. Саксонцы стояли неподалеку. Они присылали своих маркитантов вплоть до поздней ночи за хлебом к моему булочнику, у которого скоро оказался недостаток вследствие такого необычайного спроса.
Вечером прусские гусары привезли нескольких пленных и, между прочим, одного тюркоса, заменившего свою феску обыкновенною шляпою. В другом месте города, близ ратуши, мы наткнулись на шумную ссору. Маркитантка что-то украла у одного лавочника, – кажется, несколько шляп, которые она и должна была отдать. Нельзя было узнать, к какому обозу она принадлежала. Наши соотечественники платили – я видел это собственными глазами – за все, что им было нужно и чего они требовали, хорошие деньги. Случалось еще и не так. Граф Гацфельд рассказал мне следующее: «Ко мне с Кейделлем подошла сегодня на улице женщина, жалуясь со слезами, что солдаты угнали ее корову. Кейделль старался ее утешить, говоря что он посмотрит, может быть, он и возвратит ей корову; и, когда она нам сказала, что корову угнали кирасиры, мы пошли их отыскивать; при этом она дала нам в проводники маленького мальчика. Тот вывел нас в поле, но ни кирасиров, ни коровы указать не мог, и мы, не разобрав дела, возвратились назад. Кейделль хочет теперь заплатить ей за корову».
Мои хозяева были очень вежливы и добродушны. Они быстро очистили для меня лучшую комнату и принесли мне, несмотря на мою просьбу не беспокоиться обо мне, роскошный завтрак с красным вином; при этом по французскому обычаю был подан еще кофе в маленькой чашечке со столовой серебряной ложкой, из которой я должен был пить, и чему я, невзирая на мое сопротивление, должен был в конце концов покориться. Хозяйка плохо говорила по-немецки, хозяин довольно бегло, хотя и не совсем чисто, и при случае вставлял в свою речь французские слова. Судя по образам, висевшим в их комнатах, можно было заключить, что они католики.
После обеда в гостинице, где нашли себе пристанище советники, я возвратился к своим булочникам и имел удовольствие в благодарность за их предупредительность оказать им небольшую услугу, которая вывела их из затруднительного положения. Ночью после 11 часов я услышал шум и стук. Минуту спустя хозяйка просунула голову в дверь и попросила меня заступиться за нее: наши солдаты хотят насильно получить от нее чего-нибудь съестного, тогда как в булочной теперь ничего нет. Я быстро оделся и застал булочника и булочницу, окруженных саксонскими солдатами и маркитантами, которые бурно наступали на них, требуя хлеба; при этом, я должен отдать им справедливость, они в нем крайне нуждались. На лицо имелись только, как оказалось, две или три булки. Я предложил компромисс, в силу которого булочник должен был разделить между всеми свой небольшой запас хлеба и приготовить к утру сорок булок. После непродолжительного спора обе стороны остались довольны таким решением, и ночь прошла совершенно спокойно.
В воскресенье, 14-го числа, после обеда, за которым Кейделль сообщил, что он таки заплатил своей женщине чуть ли не 30 талеров за корову, мы поехали в Герни. Над нами висел темно-голубой свод неба, и от сильной жары рябило в глазах. Близ одной деревни, влево от дороги, гессенская пехота присутствовала при богослужении на открытом воздухе, солдаты-католики в одной кучке, протестанты неподалеку – в другой, вокруг своих священников. Последние пели: «Бог – наша твердыня».
Приехав в Герни, мы увидали, что канцлер занял квартиру в первом этаже длинного, низенького, белого крестьянского домика, откуда его окно выходило на навозную кучу. Дом был довольно поместителен, и мы все перебрались в него; мне опять пришлось занять одну комнату с Абекеном. Комната Гацфельда была в то же время и канцелярией. Король поместился у пастора против хорошенькой старинной церкви с живописью на окнах. Деревня представляла широкую, растянутую улицу с хорошо построенным зданием мэрии, в которой находилась и общинная школа, и с плотно прилегающими друг к другу домами, затем она спускалась к маленькому местному вокзалу. На станции мы нашли полное разорение, разбросанные бумаги, разорванные книги и т. п. Тут же солдаты сторожили двух пленных. После того как солнце стало склоняться к западу, в продолжение нескольких часов со стороны Меца доносился глухой гром пушечных выстрелов. За чаем министр сказал: «Я никак не думал четыре недели назад, что я буду с вами пить чай в крестьянском доме в Герни». Между прочим зашла речь о Грамоне, и граф удивлялся, что такой здоровый и сильный человек после таких неудач в своей антинемецкой политике не поступил в полк, чтобы искупить грехи своей глупости. Он достаточно росл для этого. «Если бы в 1866 году дело пошло скверно, – прибавил он, – я бы тотчас поступил в полк; мне совестно было бы оставаться в живых».
Когда он удалился в свою комнату – надо прибавить, маленькую и плохо меблированную, – меня несколько раз призывали к нему для выслушания от него разных приказаний. Было бы не бесполезно предложить нашим иллюстрированным газетам изобразить картину штурма Шпихернберга. Затем надо было бы ответить на уверения «Constitutionel», что пруссаки все жгут на пути и оставляют за собою лишь одни развалины; ничего подобного не происходило. Наконец, было бы желательно возразить «Neue Freie Presse», относившейся к нам до сих пор благоприятно, но по словам «Constitutionel», в последнее время принявшей другое направление, быть может, потому что она потеряла подписчиков за свою дружбу с Пруссией [1] , быть может, вследствие слуха, что венгерско-французская партия предполагает приобрести эту газету. «Скажите, – так заключил канцлер свое приказание относительно другой статьи «Constitutionel», – что в совете министров никогда не было речи об уступке Франции Саарбрюкена. Это дело никогда не выходило за пределы дружеских запросов и обсуждений, и, само собой разумеется, не мог думать об этом министр, который работает в национальном духе. Но толки имели небольшое основание. Еще до 1864 года в совете министров был поднят и обсуждался вопрос о том, насколько своевременна уступка частным обществам некоторых государственных имуществ, именно – угольных копей, лежащих близ Саарбрюкена. Я хотел этою операциею покрыть тогда издержки на шлезвиг-гольштинскую войну. Но все дело рушилось вследствие несогласия короля. Вот этот-то факт, надлежащим образом извращенный, и послужил поводом к теперешним газетным недоразумениям».
В понедельник 15-го нужно было снова выступать внезапно и в необычное время. Уже рано утром, вскоре после четырех часов, канцелярский служитель пришел в комнату нижнего этажа, где спали Абекен и я, и доложил: «Его сиятельство уезжает; господам надо приготовиться». Я тотчас вскочил и уложился. Но я поторопился; под господами разумелись советники. Около шести часов канцлер уехал с гр. Бисмарком-Боленом, а Абекен, Кейделль и Гацфельд поехали за ними верхом. Канцелярия осталась пока в Герни, где еще работы было достаточно, и где мы, окончив ее, могли быть полезнее и в другом отношении. Через деревню снова прошли большие отряды пехоты в облаках серо-желтой пыли; между прочим 2 прусских полка, состоявших частью из поморцев, рослого и красивого народа. Музыка играла: «Heil dir im Siegeskranz» и «Ich bin ein Preusse». Видно было по воспаленным глазам, как люди страдали от жажды, и мы живо организовали маленькую пожарную команду. В ведрах и кружках мы приносили воду и подавали ее на ходу – останавливаться было нельзя – по возможности в самом строю, и многие солдаты ухитрялись при помощи своей пятерни или взятого с собой оловянного сосуда промочить горло.
Имя нашего хозяина было Матиот, его жены – Мария; он говорил немного по-немецки, она на труднопонимаемом французском диалекте этой местности Лотарингии. Оба должны были относиться к нам не совсем дружелюбно, чего я, впрочем, не заметил. Да и министр ничего не заметил. До нашего приезда он имел дело лишь с мужем, и тот был «ничего». «Он, принося кушанье, спросил меня, – рассказывал он потом, – не желаю ли я попробовать его вина. Когда я стал расплачиваться, то за вино, очень недурное, он не взял ничего, а только за еду. Он осведомлялся о будущей границе и высказал надежду, что относительно податей станет несколько легче».
Остальных жителей деревни почти не было видно. Те, которые встречались, были вежливы и разговорчивы. Одна старуха крестьянка, у которой я попросил огня закурить сигару, ввела меня в комнату и показала висевший на стене портрет своего сына во французском мундире. Она плакала и жаловалась на императора за войну. Ее pauvre garзon, вероятно, уже убит, думала она, и ее нельзя было утешить.
Три часа спустя возвратились наши всадники, несколько позже министра. Между тем прибыли к нам граф Генкель, стройный мужчина с темной бородой, и депутат рейхстага Бамбергер, а также г. фон Ольберг, префект или что-то в этом роде. Мы начинали чувствовать себя господами завоеванной земли и устраиваться в ней. Что теперь уже все немцы смотрели на занятую нами страну, как на свое будущее владение, убедила меня полученная с востока телеграмма, которую я помогал дешифрировать и в которой говорилось, что мы, «коль на то Божья воля», должны удержать за собою Эльзас.
Король и канцлер, как оказалось за обедом, произвели нечто вроде рекогносцировки перед Мецом; в ней участвовал также и генерал Штейнмец. Стоящая вне крепости французская армия была им отчаянно атакована день назад у Курселя и отброшена в город и в форты. Предполагали, что потери неприятеля доходили до 4000 человек; в одном ущелье нашли около сорока красноштанников; почти все они были ранены в голову.
Вечером, когда мы сидели на скамье перед крыльцом, к нам вышел на несколько минут министр. Он спросил у меня сигару, но надворный советник Тальони (шиффрер короля) оказался проворнее меня. Жаль, моя сигара была гораздо лучше, чем его.
За чаем канцлер между прочим говорил о том, что два раза, в Сан-Себастьяне и в Шлюссельбурге, его чуть-чуть не застрелили часовые; при этом мы узнали, что он понимает немного по-испански.
Потом был разговор о враждебном нам настроении в Голландии и о причинах его. Эти последние приписывались отчасти тому, что министр ван Цуйлен, в бытность свою нидерландским посланником в Берлине, сумел сделаться очень неприятным, вследствие чего ему не оказывали того почета, какого он желал, и он удалился, недовольный нами.
Шестнадцатого августа в десять часов, в прекрасное, но жаркое утро, мы снова двинулись в путь по направлению к Понт-а-Муссону. Я ехал в экипаже советников; некоторые из них снова поехали верхами. Около меня сидел ландрат Янзен, член консервативной партии рейхстага, светский любезный господин, приехавший занять место по управлению завоеванными местностями. Путь лежал через широкую, немного неровную долину по гребню холмов на высоком берегу Мозеля, на котором обрисовывался конус Муссона с его огромными развалинами. По отличной дороге мы проехали несколько деревень с красивыми мэриями и школами. Дорога кишела опять солдатами, пехотинцами, отрядами светло-голубых саксонских кавалеристов, экипажами и повозками всевозможного рода. Там и сям разбиты были небольшие лагеря.
Наконец после трех часов мы спустились с горы, въехали в долину Мозеля и затем в Понт-а-Муссон. В этом городе 8000 жителей; он расположен по обеим сторонам реки; в нем есть хороший каменный мост, а на правом берегу большая старая церковь. Мы переехали мост, проехали мимо рыночной площади, окруженной сводами, с несколькими гостиницами, кафе и старой ратушей, перед которой расположилась лагерем на соломе саксонская пехота, и повернули отсюда в улицу St.-Laurent, где была отведена квартира для министра вместе с Абекеном, Кейделлем и гр. Бисмарком-Боленом – в небольшом замке, сплошь обвитом вьющимися растениями с красными цветами. Его негостеприимным хозяином был, как мы узнали, какой-то старик, уехавший вместе с женой. Канцлер жил в комнатах первого этажа, выходивших в маленький сад, расположенный за домом. В нижнем этаже было устроено бюро также в одной из задних комнат; маленькая комната насупротив должна была служить столовой. Ландрат, я, секретарь Бельзинг, Виллиш и Сент-Бланкар – другой походный шиффрер, получили квартиры также в улице St.-Laurent, через десять домов от рынка, в доме, по-видимому, обитаемом какими-то французскими дамами и их горничными. Я спал с Бланкаром – или – назовем его хоть раз полным его титулом – надворным советником Сент-Бланкаром – в комнате, в которой кто-то, подобно мне, много и далеко путешествовавший, развесил и разложил всевозможные редкости, вывезенные им из разных стран света: засушенные розовые венки, цветы, пальмовые ветви, фотографии града царя Давида, также vino di Gerusalemme, кокосовые орехи, кораллы, морских раков, морские губки, меч-рыбу и тому подобные чудовища с раскрытыми зевами и острыми зубами, далее три немецкие трубки и рядом с ними коллекцию их восточных родственниц, затем тут же находились испанская Богоматерь с полудюжиной мечей в груди, рога антилопы, московские образа, наконец, под стеклом и в рамке французская газета с помаркой русской цензуры – одним словом, здесь в этой комнате был настоящий этнографический кабинет.
Мы пробыли на своей квартире лишь столько времени, сколько было нужно, чтобы привести в порядок наш туалет. Затем мы поспешили в бюро. По дороге на углах мы увидали различные объявления: одно извещало о нашей победе 14-го числа, другое о прекращении набора и третье исходило от местного мэра; мэр увещевал жителей быть благоразумными; вероятно, за день или более перед этим жителями было произведено нападение на наши войска. С нашей стороны также было им приказано под страхом строгого наказания ставить огни на окна и открывать лавки и двери домов; кроме того, они должны были выдать все свое оружие ратуше.
Весь почти вечер грохотали пушки; за столом узнали, что у Меца опять была битва и что положение дел очень напряженное. Кто-то при этом заметил, что, может быть, не удастся отрезать отступление французам, которые, как говорили, очевидно, хотели идти на Верден. Министр отвечал шутя: «Мольке, этот жестокосердый злодей, сказал, что о подобной неудаче нечего тужить; тогда они, наверное, будут в наших руках». Это означало, надо полагать, что тогда в своем дальнейшем отступлении французы будут со всех сторон окружены и уничтожены. Из других заявлений канцлера, сделанных им при этом случае, следует упомянуть еще о том, что «маленькие черномазые саксонцы с умными лицами» очень ему понравились во время визита, который он им сделал день назад. Он разумел темно-зеленых стрелков и 108-й полк, носивший мундир того же цвета. «Они показались мне проворными, ловкими людьми, – прибавил он, – надо бы об этом замолвить в печати».
В следующую ночь я несколько раз просыпался от мерного шага проходившей мимо пехоты и стука и грома тяжелых колес по неровной мостовой. Это были гессенцы. Министр отправился вскоре после четырех часов утра к Мецу, где не сегодня-завтра ожидалась решительная битва. Таким образом, мне было мало дела или, вернее, совсем было нечего делать, и я воспользовался случаем, чтобы вместе с Виллишем совершить прогулку по окрестностям города. Сначала мы пошли вверх по реке через понтонный мост саксонцев, которые здесь на лугу, на левом берегу, устроили большой обозный парк; в этом последнем находились между прочим повозки из поддрезденских деревень. Мы два раза переплыли через прозрачную, глубокую реку, окаймленную с обеих сторон лугами. Затем мы посетили церковь на ее правом берегу, где между прочим видели чрезвычайно красивый гроб Спасителя с изображениями спящих стражей. Особенно художественно исполнены поза и выражение лиц этих последних. Эти фигуры принадлежат к произведениям, составляющим переход от эпохи Средних веков к эпохе Возрождения.
Возвратясь в бюро, мы увидали, что работы еще нет. Поэтому мы решили опять предпринять прогулку и отправились с Янзеном и Виллишем на вершину Муссона с целью посмотреть на тамошние развалины. Крутая тропинка вела вверх через виноградники, которые покрывали склон конусообразной горы, обращенной к реке и городу. С развалин замка, настолько обширных, что в них приютилась довольно значительная деревня, можно было насладиться далеким и прекрасным видом на долину реки и ее холмы. Большая часть последних была усажена виноградными лозами; внизу в зеленой раме извивался голубой Мозель, направо и налево в долине и на горах виднелись деревушки и виллы. На белых дорогах внизу, точно колонны муравьев, шли войска, блестя касками и ружейными стволами. Позади них поднималось густое облако пыли. По временам раздавались сигналы и гремели барабаны. Около нас все было безмолвно и пустынно. Даже ветер, дувший здесь на горе, вероятно, очень чувствительно задерживал свое дыхание.
Мы отправились снова вниз, в суматоху войны, в наш домик, но лишь затем, чтобы услышать, что министра еще нет. Зато пришло известие о битве, происходившей вчера к востоку от Меца. Мы узнали, что с нашей стороны были сильные потери и что вылазка Базена, под начальством которого находились запертые в крепости французы, была отражена с большими усилиями. Говорили, что главным пунктом сражения была деревня Марс-ла-Тур. Пули Шасспо сыпались буквально как град. Один кирасирский полк – так рассказывали тогда не без обыкновенного в подобных случаях гиперболизма – был почти истреблен, гвардейские драгуны также сильно пострадали; не было дивизии, в которой бы не насчитывали нескольких рот, понесших очень чувствительные потери. Тем не менее сегодня, когда на нашей стороне был перевес, как вчера на стороне французов, можно было ожидать победы, если последние попытаются снова сделать вылазку.
Но впрочем – так казалось – вряд ли о чем-нибудь можно было говорить утвердительно. Вследствие этого беспокоились, не находили места, мысли быстро сменялись одна другою; некоторые из них, однако, точно в лихорадке, снова возвращались. Мы пошли на рынок через мост, где наконец встретили легкораненых, ковылявших пешком, а тяжелораненых – ехавших в экипаже. Выйдя на шоссе, ведущее к Мецу, мы наткнулись на партию, состоявшую из 120 пленных. Это были слабосильные маленькие люди; между ними, однако, попадались и рослые, широкоплечие парни, гвардейцы, которых можно было узнать по белым петличкам на груди. Снова отправились мы на рынок, потом в сад, лежавший за бюро, где влево от угла, недалеко от дома, была «погребена собака» – собака некоего г. Обера, вероятно, нашего домохозяина, который поставил покойнице каменный памятник, снабдив его следующею трогательною надписью:
...
Gerard Aubert epitaphe а sa chienne.
Ici tu gis, ma vieille amie,
Tn n’es donc plus pour mes vieux jours.
O toi, ma Diane cherie,
Je te pleurerai toujours.Наконец около шести часов возвратился канцлер. Большой битвы сегодня не было, но, по всей вероятности, завтра что-нибудь начнется снова. Шеф рассказывал за обедом, что он навестил своего сына, графа Герберта, раненного во время генеральной кавалерийской атаки при Марс-ла-Туре ружейной пулей в бедро; он отправлен в Мариавильский полевой лазарет. Министр нашел его наконец на одном дворе, на холме, на котором лежало еще довольно значительное число раненых. Заботу о них принял на себя старший врач, не сумевший достать воды и не хотевший воспользоваться для своих больных из деликатности особого рода цыплятами и курами, бегавшими по двору. «Он говорил, что не имеет права, – продолжал свой рассказ министр. – Увещевания добрыми словами, которые были сделаны, нисколько не помогли. Тогда я пригрозил убить всех кур из револьвера. Потом дал ему 20 франков, чтобы он купил 15 штук. Наконец, я напомнил ему, что я ведь прусский генерал, и просто приказал ему – тогда он послушался. Но за водой я был принужден идти сам и велел привезти ее в бочках».
Между тем в город приехал американский генерал Шеридан. Он приехал из Чикаго, поселился на рыночной площади в «Croix blanche» и просил об аудиенции у нашего канцлера. Я отправился по желанию графа к нему и сказал, что канцлер ждет его вечером. Генерал был маленький коренастый господин лет 45, с темными усами и клинообразной бородой. Его сопровождали адъютант Форсайт и переводчик – журналист Мак-Лин, бывший военным корреспондентом «New Jork World».
Ночью мы снова слышали, как проходили войска. Впоследствии мы узнали, что это были саксонцы.
На другое утро мне сказали в бюро, что король и министр уже уехали в три часа. Вероятно, на поле сражения уже происходила битва, и казалось, что наступала решительная минута. Понятно, что наше возбуждение достигло максимума. Полные тревожного нетерпения и желая обстоятельно узнать, в чем дело, мы отправились пешком по направлению к Мецу и отдалились от Понт-а-Муссона на 4 километра; при этом мы выносили и моральную пытку – пытку неизвестности, и телесную – мы страдали от страшной духоты, так как воздух был буквально раскален солнцем. По дороге мы встречали легкораненых, шедших к городу по одному, вдвоем и целыми партиями. Многие несли еще свои ружья, другие опирались на палку, кто-то завернулся в ярко-красную шинель французского кавалериста. Они бились третьего дня при Марс-ла-Typе и Горзе. О сегодняшней битве они сообщили лишь неопределенные слухи, хорошие и дурные, которые затем стали повторять в городе в преувеличенном виде. Наконец хорошие вести взяли перевес. Но положительного еще ничего не было. Мы пообедали без нашего шефа, которого мы напрасно прождали до полуночи. Под конец мы, однако, услышали, что он с Шериданом и графом Бисмарком-Боленом у короля, в Резонвилле.
В пятницу, 19-го августа, Абекен, Кейделль, Гацфельд и я отправились на поле битвы в полной уверенности, что немцы победили. Дорога вилась сначала между итальянскими тополями по веселой долине Мозеля. Вправо блистала река, влево виднелись виноградники, горы, виллы, красивые деревни, развалины замков. Мы проехали Вандьер, Арнавилль и Нован. Затем мы повернули в сторону и поднялись к Горзу, городку, расположенному в виде длинной, узкой улицы по косогору этого берега. Советники здесь вышли, чтобы сесть на лошадей. Я и наш преданный канцелярист Тейсс напрасно старались пробраться к нашему экипажу; это оказалось невозможным; повозки заграждали путь. С нашей стороны ехали телеги с сеном, соломой, дровами и багажом, с другой – фургоны всевозможного рода с эвакуируемыми ранеными и боевыми припасами; скоро нас совершенно сдавили. Почти на всех домах развевались женевские флаги, обозначавшие лазареты, и почти во всех окнах виднелись люди с обмотанными холстом головами или с руками на перевязи.
После часового ожидания можно было наконец проехать, и мы медленно двинулись вперед и очутились на плоскогорье, в стороне от городка. В небольшой роще нас застигла сильная гроза, сопровождавшаяся ливнем; затем мы выбрались на широкую равнину, прорезанную тропинками, усаженными немецкими тополями. Вдали, направо, можно было заметить несколько деревень, а за ними холмы и уступы, покрытые лиственным лесом.
Недалеко от Горза, вправо, идет отлогая дорога, которая привела бы нас в добрые полчаса в Резонвилль, где я встретил бы министра и наших всадников. Но моя карта не давала мне нужных указаний насчет положения окрестных деревень. Опасаясь, чтобы по этой дороге не подойти слишком близко к Мецу, я велел опять выехать на шоссе. Сначала мы наткнулись на одиноко стоящую мызу, где дом, сеновал и конюшня были наполнены ранеными, затем в деревню Марс-ла-Тур.
Уже сейчас за Горзом мы заметили следы стычек, ямы, вырытые пулями, отбитые ветки и сучья, убитых лошадей. Лошади потом стали попадаться чаще: по две, по три, раз мы насчитали восемь таких трупов. Они страшно распухли, их ноги были вытянуты кверху, головы же лежали на земле. Около Марс-ла-Тура находился лагерь саксонцев. По-видимому, деревня мало пострадала от боя 16-го числа; только один дом был сожжен. Я спросил у одного уланского лейтенанта, где Резонвилль. Он не знал. Где король? «В расстоянии двух часов отсюда, – был ответ. – Вон там!» При этом офицер указал на восток. Крестьянка, к которой мы обратились с просьбой описать нам положение Резонвилля, сделала такое же указание, и мы двинулись в путь. Скоро мы приехали в деревню Вионвилль. Не доезжая до нее, я увидел на краю шоссейной канавы первого убитого – прусского мушкетера. Лицо его было черно, как у тюркоса, и страшно распухло. В деревне все дома были переполнены тяжелоранеными, по улице озабоченно сновали немецкие и французские фельдшера и санитары со своими женевскими крестами.
Я решился ожидать министра и советников здесь, так как полагал, что они во всяком случае проедут через эту деревню. Окольной тропинкой влево от дороги, в канаве которой из-под кучи окровавленных лохмотьев выглядывала отрезанная человеческая нога, отправился я на поле битвы. В 400 шагах от деревни я набрел на две параллельно вырытые ямы около 300 футов длины, не особенно широких и глубоких, над которыми еще работали и около которых были сложены большие кучи убитых французов и немцев. Некоторые были полураздеты, большинство в мундирах, все серовато-черного цвета и ужасно распухшие. Было около 250 трупов, сложенных здесь, и все еще прибывали партии новых. Многие, без сомнения, были уже погребены. Далее к Мецу поле битвы повышается, и здесь-то кажется пало особенно много народа. Везде валялись французские кепи, каски, ранцы, оружие и мундиры, белье, сапоги и клочки бумаг. Между окопами на картофельных полях лежали отдельные убитые – ничком или на спине; одному оторвало всю левую ногу, от пятки до колена, другому полголовы, некоторые трупы протягивали неподвижно правую руку к небу. Там и сям виднелись одинокие могилы, которые можно было узнать по крестику, сделанному из дерева сигарочного ящика и связанному веревочкой, или по ружью Шасспо, вбитому в землю штыком. Трупный запах был очень чувствителен, иногда же, если ветер дул с той стороны, где лежала группа лошадиных трупов, становился почти невыносим.
Пора было вернуться к экипажу, я вдоволь насмотрелся на поле сражения. Я пошел по другой дороге, но и здесь мне надо было проходить опять мимо кучи убитых, на этот раз все красноштанников; везде валялись также клочья одежды, рубашки, сапоги, бумаги и письма, служебники и молитвенники. Около некоторых павших лежали целые пачки писем, которые они принесли с собою в ранцах. Я взял несколько на память; между ними были немецкие от какой-то Анастасии Штампф из Шеррвейлера, близ Шлеттштадта, найденные мною возле одного французского солдата, который стоял перед началом войны в Кане. Одно было помечено 26-м июля 1870 года и заключалось словами: «Поручаем тебя заступничеству Девы Марии».
Когда я вернулся опять к экипажу, то министра еще не было, хотя уже пробило четыре часа. Поэтому мы вернулись по ближайшей дороге в Горз, причем я убедился, что мы сделали острый угол, вместо того чтобы выбрать ближайшую дорогу. Здесь мы встретили Кейделля, которому я рассказал наши недоразумения и наше несчастное блуждание. Он был с Абекеном и графом Гацфельдом у шефа в Резонвилле. Как мы узнали впоследствии, канцлер некоторое время находился в опасности во время битвы 18-го числа, которая решила дело при Гравелоте; он с королем зашел слишком вперед. Потом он собственноручно утолял жажду тяжелораненых. В девять часов вечера он прибыл невредимо в Понт-а-Муссон, где мы все вместе с ним ужинали. Разговор за столом шел, конечно, главным образом о двух последних битвах, и о военной добыче, и потере, которую они причинили. Французы оставили на месте множество людей. Министр видел при Гравелоте, как их гвардия лежала целыми рядами. Но и наши потери были, по его словам, велики. В известность приведено лишь количество павших к 16-го августа. «Множество прусских семейств должны будут наложить на себя траур, – заметил шеф. – Весделен и Рейс лежат в могиле, Ведель убит, Финкенштейн убит, Раден (муж Лукки) прострелен в обе щеки, множество полковых и батальонных командиров пало или тяжело ранено. Все поле при Марс-ла-Туре казалось вчера белым и голубым от павших кирасиров и драгун». При этой деревне, как объяснил потом канцлер, происходила кавалерийская атака на французов, прорывавшихся к Вердену, которая была отражена неприятельской пехотой по-балаклавски, но которая все-таки была полезна тем, что задерживала неприятеля до тех пор, пока не подошло подкрепление. Сыновья канцлера храбро ринулись вместе с другими под град пуль, и старший из них получил три раны: одну в грудь, другую в часы, а третью в бедро. Младший, кажется, успел избежать опасности, и шеф рассказывал, видимо, с некоторой гордостью, что гр. Билль при отступлении мощными руками схватил одного своего товарища, раненного в ногу, и вез с собой на лошади верхом, пока не очутился вне выстрелов. 18-го числа немецкая кровь лилась еще сильнее, но немцы удержали победу за собой и достигли цели этого обильного жертвами боя. Вечером армия Базена окончательно была отброшена в Мец, и пленные офицеры сами сознались министру, что теперь дело их погибло. Саксонцы, сделавшие в предыдущие дни очень сильные переходы и наконец принужденные вступить в бой при деревне Сен-Прива, стояли на дороге в Тионвилль. Мец окончательно окружен нашими войсками.
По-видимому, канцлер не был доволен некоторыми военными мерами во время обеих битв. Между прочим, он сказал о Штейнмеце, что «он злоупотребляет удивительным мужеством наших войск. Расточитель крови». С сильным негодованием говорил он также о варварском способе ведения войны французами, стрелявшими по женевскому флагу и даже по одному парламентеру.
С Шериданом министр сразу поставил себя на хорошую ногу; я должен был пригласить на следующий вечер к обеду этого генерала и его обоих спутников.
20-го числа прибыл к нам г. фон Кильветтер, будущий гражданский комиссар или префект Эльзаса или Лотарингии. В 11 часов наследный принц, стоявший со своими войсками в пяти или шести милях от Понт-а-Муссона, на дороге от Нанси к Шалону, сделал визит канцлеру. Днем по улице Нотр-Дам проехал поезд с пленными в числе около 1200, между прочим 2 экипажа с офицерами; поезд охраняли прусские кирасиры. Вечером с нами обедали Шеридан, Форсайт и Мак-Лин. Гости шефа, разговаривавшего очень оживленно с американским генералом, пили шампанское и портер; последний – из вышеупомянутых металлических чашек. Бисмарк спросил меня: «Г. доктор, вы пьете портер?», потом налил и передал мне напиток. Я упоминаю об этом, потому что, кроме министра и американца, на этот раз никто не получил портера и потому что любезность эта была очень приятна для меня; начиная с Саарбрюкена у нас не было пива, хотя шампанского, всякого вина и коньяку было сколько угодно. Генерал, известный счастливый предводитель унионистов в последние годы междоусобной войны, говорил довольно много. Он рассказывал о трудностях переезда из территории Скалистых гор до Чикаго, об ужасных комариных полчищах, о большом количестве скелетов в Калифорнии или близ нее, об ископаемых животных, которые, если только я его верно понял, были будто бы сначала рыбами, а затем сделались ящерицами, об охотах на буйволов и медведей и т. п.
Канцлер также рассказал одно свое охотничье похождение. Однажды в Финляндии ему угрожала довольно значительная опасность от большого медведя, которого он не мог хорошенько разглядеть, так как медведь весь был покрыт снегом. «Я наконец выстрелил, – продолжал он свой рассказ, – и медведь упал передо мною за шесть шагов; он не был еще мертв и мог снова встать. Я знал, что мне предстояло и что я должен был делать. Я не тронулся с места, опять зарядил ружье, и в ту минуту, как он хотел снова подняться, я положил его на месте».
Утром 21-го мы прилежно работали для почты и телеграфа и отправляли различные известия и объяснительные статьи в Германию. Парламентер, по которому стреляли французы, когда он подходил к ним с белым флагом, был, как передавали, капитан или майор Верди из генерального штаба Мольтке; сопровождавший его барабанщик был при этом ранен. Из Флоренции было получено верное известие, что Виктор-Эммануил и его министры решились вследствие наших побед сохранить нейтралитет, что отнюдь не было известно до сих пор. Наконец можно было по крайней мере приблизительно вычислить потери, понесенные французами 14-го числа при Курселе, 16-го при Марс-ла-Туре и 18-го при Гравелоте. Министр оценивал их за все три дня в 38 000 человек ранеными и пленными и 12 000 убитыми и прибавил к этому: «В усердии некоторых наших полководцев лежит причина, что мы также потеряли много людей».
Днем я разговорился с одним гвардейским драгуном, атаковавшим 16-го числа французскую батарею. Он сказал мне, что, кроме Финкенштейна и Рейса, убиты и погребены оба Тресковы и что из двух эскадронов его полка, бывших в огне, образовался теперь только один, то же самое и из 1-го и 2-го драгунских полков. Впрочем, он выражался очень скромно об этом подвиге. «Мы должны были, – сказал он, – двинуться вперед, ради того чтобы неприятель не захватил нашу артиллерию». Во время нашего разговора снова провели через городок около полутораста пленных под конвоем саксонской пехоты. Я узнал от конвойных, что саксонцы после продолжительного перехода дрались также при Ронкуре и Сент-Привá, даже раз дошло дело до рукопашного боя, и многие офицеры, и между ними генерал Краусгар пали.
Вечером, за чаем, шеф спросил меня, когда я вошел в комнату:
– Как ваше здоровье, господин доктор?
Я ответил:
– Благодарю вас, ваше превосходительство.
– Видели ли вы что-нибудь?
– Да, поле сражение при Вионвиле, ваше превосходительство.
– Жаль, что вас не было с нами 18-го числа.
Затем он подробно рассказал, что с ним в этот день случилось, в последние часы битвы и в следующую ночь. Я приведу этот рассказ, дополненный позднейшими вставками министра, в одной из следующих глав… После этого речь зашла о генерале Штейнмеце, о котором канцлер сказал, что он храбр, но своеволен и чрезмерно тщеславен. В рейхстаге он старается быть вблизи президентского кресла и встает, чтобы быть заметнее. Он кокетничает тем, что за всем прилежно следит и делает заметки на бумаге. «Он думает при этом, что газеты заметят это и похвалят его рвение. Если я не ошибаюсь, надежды его сбылись». Министр ничуть не ошибался.
Дамы, жившие в нашем доме (я говорю о том, в котором был этнографический кабинет), не были застенчивы, скорее наоборот. Они разговаривали с нами, насколько мы знали, по-французски и вели себя очень развязно.
Понедельник, 22-го августа . Я записал в своем дневнике:
«Рано поутру пошел с Вилишем купаться – до выхода министра. В половине одиннадцатого меня позвали к нему. Он спросил сначала о моем здоровье и не было ли со мною припадков дизентерии. Он дурно себя чувствовал в прошедшую ночь. Граф и дизентерия? Да хранит Господь его от этого! Это было бы хуже потерянного сражения. Все наши дела пришли бы в расстройство…
Нет более никакого сомнения, что мы в случае окончательного поражения Франции удержим за собою Эльзас и Мец с его окрестностями, и вот последовательный ход мысли, приведший канцлера к этому заключению.
Контрибуция, как бы она ни была велика, не может покрыть принесенные нами жертвы. Мы должны сильнее защищать южную Германию при ее открытом положении от нападения французов, мы должны положить конец давлению, производимому на нее Францией в продолжение двух столетий, в особенности потому, что это давление вообще постоянно вредило положению дел в Германии за все это время. Бадену, Вюртембергу и другим юго-западным местностям не должен на будущее время угрожать Страсбург, и они не могут более подвергаться нападению во всякое время. То же самое следует сказать о Баварии. В продолжение 250 лет французы предпринимали несколько походов с завоевательными целями против юго-западной Германии. В 1814 и 1815 гг. старались найти гарантию против повторения подобных нарушений мира и действовали мягкими мерами. Но эта мягкость не привела ни к чему. Опасность лежит в неизлечимом высокомерии и властолюбии, присущим характеру французского народа, – качества, которыми каждый монарх – не только Бонапарт – всегда будет злоупотреблять для нападений на мирных соседей. Наша защита против подобного зла лежит не в бесплодных попытках временно ослаблять обидчивость французов, но в приобретении хорошо защищенных границ. Франция постоянным присвоением себе немецких земель и всех укрепленных самою природою пунктов на нашей западной границе приобрела себе такое положение, что со сравнительно незначительной армией может проникнуть в сердце южной Германии, прежде чем с севера подадут ей помощь. Со времен Людовика XIV, при нем и его наследнике, при республике, при первой империи очень часто повторялись подобные вторжения, и чувство беззащитности заставляет немецкие государства постоянно с тревогой следить за Францией. Нельзя принимать в расчет, что отнятием одного клочка земли возбудится у французов чувство горечи. Эта горечь существовала бы и без территориальной уступки. Австрия в 1866 году не поплатилась ни одной пядью земли, а получили ли мы за это какую-нибудь благодарность? Уже наша победа при Кениггреце преисполнила французов недоброжелательством к нам, ненавистью, сильной досадой на нас; тем чувствительнее должны подействовать на них наши победы при Верте и Меце! Месть гордого народа за подобные поражения будет лозунгом в Париже и в влиятельных провинциальных кружках, даже помимо территориальных потерь, подобно тому, как десятки лет мечтали там о мести за Ватерлоо. Враг, которого после его поражения нельзя сделать другом посредством предупредительного обращения с ним, должен быть сделан безвредным и на долгое время. Только уступка восточных крепостей, а не их срытие может послужить нам к этому. Кто хочет обезоружения, тот должен прежде всего желать, чтобы соседи французов согласились на подобную меру, так как Франция – единственная нарушительница мира в Европе и будет оставаться таковою до тех пор, пока может, пока в силах».
«Достойно удивления, как плавно теперь уже льются из-под пера подобные мысли шефа. Что за десять дней казалось чудом, то теперь кажется совершенно понятным и естественным».
За обедом говорили о неслыханном, если не сказать более, о гнусном способе ведения войны французами, и министр сказал, что при Марс-ла-Туре они убили одного нашего раненого офицера, полагать надо Финкенштейна, который сидел при дороге на камне. Одни думали, что его застрелили, а другие рассказывали, и это должно быть вернее, что доктор, осматривая труп, утверждал, что упомянутый офицер был проколот шпагой. К этому министр присовокупил, что если бы возможно было выбирать, то он скорее согласился бы быть застреленным, но не проколотым. Он жаловался на то, что Абекен беспокоил его всю ночь, не давал спать и надоедал криком, хождением взад и вперед, хлопаньем дверей. «Он воображает, что симпатизирует с своими двоюродными братьями». Тут подразумевались графы Иорк, с которыми наш советник породнился, вступив недавно в брак с девицею фон Ольферс, и с тех пор каждому старается намекнуть на это родство, заканчивая свою речь словами: «Мой двоюродный брат Иорк». Один из двух Иорков ранен при Марс-ла-Typе или Гравелоте, и старик в прошедшую ночь поехал к нему.
По всей вероятности, он дорогою в порыве высоких чувств, которые он в себе тщательно воспитывал, декламировал за спиною кучера что-нибудь беспредельное, прочувствованное – из Гете или Оссиана и даже из греческих трагиков.
Граф Герберт перевезен сегодня или вчера из военного лазарета к своему отцу. В комнате устроили ему на полу постель. Я видел его и говорил с ним сегодня. Рана его очень болезненна, но до сих пор, кажется, не опасна. На этих днях он должен отправиться в Германию, где останется до выздоровления.
Глава III
Коммерси. – Бар-ле-Дюк. – Клермон-ан-Арагон
Вторник, 23-го августа . Мы должны были продолжать наш путь на восток. Шеридан и его люди должны были следовать за нами. Президент правления фон Кюльветтер остался здесь на некоторое время и, кажется, назначен префектом. Равное назначение получили граф Ренар, мужчина богатырского роста и с соответственной бородой, – в Нанси, а граф Генкель – в Сааргемюнд. Мы встретились опять с государственным курьером Бамбергером. Г. Стибер также вынырнул раз из-за угла дома в улице Рограф. Наконец, осматривая внутреннюю часть города перед нашим отъездом, с тем чтобы вид его зaпeчaтлелcя у меня в памяти, я встретил Мольтке, которого видел за 8 или за 10 дней до объявления войны в министерстве иностранных дел, когда он входил с военным министром на лестницу в квартиру шефа. Мне показалось, что выражение его лица было сегодня покойно и весело.
Возвратясь в бюро, я нашел интересное донесение о том, в каком виде недавно Тьер описал будущность Франции. Он точно определил, что в случае победы мы возьмем Эльзас, что Наполеон после потери сражения переживет также и потерю трона и что за ним, вероятно, настанет на несколько месяцев республика, а там воцарится кто-нибудь из Орлеанов, может быть, и Леопольд из Бельгии, который очень честолюбив…
В 10 часов мы отправились в Понт-а-Муссон. Прекрасная погода предшествовавших дней изменилась. С утра до полудня небо было покрыто густыми тучами и наконец полил дождь. На этот раз я сел в карету с секретарями, в которой также перевозились портфели министерства иностранных дел. Дорога шла сначала через Мэдьер, потом по долине Мозеля на Монтобан, Лишэ и Бомон. После 12 часов погода стала ясная, и мы увидали перед собою расположенную на холме деревню, внизу которой простиралась волнообразная местность. Изредка проезжали лесом. Деревни составляли везде замкнутые улицы, дом около дома, так же, как в городах. Во многих деревнях видны были постройки, предназначенные для школ, и несколько еще красивых зданий, в других – старинные церкви в готическом вкусе. По ту сторону Жиронвиля шоссе подымается на крутую гору, с которой открывается великолепный вид на равнину, лежащую внизу. Здесь мы вышли из экипажей, чтобы облегчить лошадей. Шеф, который с Абекеном был во главе нашего поезда, вышел также и с четверть часа шел в своих сапогах с раструбами, по своей старинной форме напоминавших сапоги, которые рисуют на картинах времен Тридцатилетней войны. Около него шагал Мольтке; величайший знаток военного искусства шел по большой дороге на Париж рядом с величайшим в наше время государственным человеком; и я утверждаю, что ни один из них не видел в этом ничего особенного.
Когда мы опять сели в экипажи, то направо от дороги увидели, как проводили телеграф наши ловкие солдаты. Вскоре спустились мы в долину верхнего Мааса, и через 2 часа были уже в красивом городе Коммерси, к которому с одной стороны примыкает густой лес. Жителей в нем приблизительно около 6000 человек. Река здесь узка и болотиста. На берегу стоит старинный замок с большими колоннами. Белые шторы в богатых домах были почти все спущены, точно владельцы этих домов не хотели видеть презренных пруссаков. Напротив того, народ в синих блузах казался более любопытным и менее враждебным. Часто попадалась в глаза вывеска на дверях: «Fabrique de Madelaines». Тут продают бисквиты, формою похожие на маленькие дыни, которые славятся во всей Франции, почему мы и не упустили из виду отправить домой 2 ящика этого печенья.
Шефу с Абекеном и Кейделлем была отведена квартира на rue des Fontaines, в доме графини Макор-де-Гокур, в котором за несколько дней жил князь или принц Шварцбургский, а теперь оставалась только хозяйка дома. Супруг ее служил во французской армии. Он был очень знатный господин, так как происходил от старинных герцогов Лотарингии. Около его дома был хорошенький цветник, а за домом тянулся большой тенистый парк. Моя квартира была недалеко от квартиры министра, на улице Heurtebise, в первом этаже, в доме, принадлежащем г. Жильло, где я нашел прекрасную постель, а в нем доброго и услужливого хозяина. В первую прогулку по городу встретил я у одного дома адъютанта Шеридана. Он рассказал мне, что они выехали из Калифорнии в начале мая и с большими затруднениями доехали до Чикаго, оттуда в Лондон, потом в Берлин, потом, через 5 дней, приехали в Понт-а-Муссон. Он и генерал, который выглядывал из окна первого этажа, были теперь в мундирах. Позднее я пошел к канцлеру, которого застал в саду, и спросил, нет ли какого дела. После короткого размышления он нашел его. Через час полевая почта и новый телеграф стали работать.
Между прочим я написал следующую статейку:
«Теперь совершенно ясно, что принцы из фамилии Орлеанов с нетерпением ожидают падения звезды Наполеонидов. Ударяя на то, что они французы, они и предложили Франции в настоящем кризисе свои услуги. За бездействие и явное равнодушие к делу государственного развития своего соседа фамилия Орлеанов утратила право на французский престол. Но она энергично желает завладеть им и укрепиться на нем, вступив на путь шовинизма и взяв себе за правило потворствовать славолюбию французов. Наше дело далеко еще не окончено. Решительная победа вероятна, но не несомненна. Падение Наполеона близко, но еще не последовало. Должны ли мы, если оно действительно последует, ввиду вышеизложенного удовольствоваться таким результатом наших неимоверных усилий, – смеем ли думать, что мы этим достигли того, что должно составлять нашу высшую цель, – прочного и долговременного мира с Францией? Никто этого не скажет. Мир с возвратившимися на французский престол Орлеанами, без сомнения, будет только более наружным миром, чем мир с Наполеоном. Рано или поздно Франция опять бросит нам вызов, но Франция, еще лучше вооруженная и запасшаяся могущественными союзниками».
В Германии должны были быть сформированы 3 резервные армии. Одна из них и самая сильная – в Берлине, другая – на Рейне, а третья, вследствие подозрительного поведения Австрии, – около Глогау в Силезии. Это была только предохранительная мера. Войсками на Рейне назначен был командовать великий герцог Мекленбургский, в Берлине – генерал фон Канштейн, а в Силезии – генерал фон Левенфельд.
Вечером перед домом короля, который еще в войну за освобождение квартировал в Коммерси, играла военная музыка, и уличные мальчики совершенно добродушно держали солдатам ноты.
За обедом, за которым между прочими напитками нам было подано превосходное белое бордоское вино, присутствовали в качестве гостей шефа граф Вальдерзее, Лендорф и генерал-лейтенант фон Альфенслебен (из Магдебурга). Канцлер рассказывал, не помню уже в какой последовательности, об одном майоре, который все события имеет обыкновение считать следствием геогностических причин. «Он рассуждает приблизительно так, говорил он: Орлеанская дева должна была родиться только на плодородной, рыхлой почве, одержать победу на глинистой почве, а умереть на песчанике».
Альфенслебен уверял, когда речь зашла о варварском ведении войны французами, что они стреляли в парламентера в то время, когда к нему подходил другой офицер для миролюбивых переговоров. Был поднят вопрос о бомбардировании Парижа, и военные одобрительно отнеслись к этому. Генерал сказал: «Каждый большой город, такой как Париж, атакованный многочисленною армиею, долго защищаться не может». Один из гостей выразил желание, чтобы Париж постигла участь Вавилона; мне это в глубине души очень не понравилось. Министр возразил: «Да, это было бы справедливо, но есть много обстоятельств, в силу которых мы должны будем пощадить Париж, хотя бы уже, например, потому, что немцы, финансисты Кёльна и Франкфурта, владеют в нем значительными капиталами».
Потом говорили о завоеванной и подлежащей еще завоеванию Франции. Альфенслебен хотел, чтобы Германии была уступлена полоса земли до Марны. У нашего графа было другое желание, но на исполнение его он не рассчитывал. «Мой идеал, – сказал он, – состоит в том, чтобы устроить нечто вроде немецкой колонии, нейтральное государство с 8 или 10 миллионами жителей, где бы не существовало конскрипции и которое платило бы дань Германии до тех пор, пока эти деньги не понадобились бы для самой страны. Франция лишилась бы, таким образом, провинций, поставляющих ей самых лучших солдат, и стала бы безвредна. В ней не было бы тогда ни Бурбонов, ни Орлеанов, и весьма сомнительно, уцелел ли бы Лулу или кто-нибудь из Бонапартов. Во время люксембургской истории я не хотел никакой войны, я знал, что их будет шесть. Но теперь надо положить конец. Впрочем, не будем говорить о шкуре медведя, пока он еще не убит. Признаюсь, я в этом отношении суеверен». «Да, но медведь уже ранен», – добавил граф Вальдерзее.
Канцлер вспомнил затем о своих сыновьях и сказал: «Надеюсь, что из моих молодцев мне останется хоть один – Герберт, который теперь возвращается на родину. Впрочем, он привык к походной жизни. Когда он, ранненый, лежал у нас в Понт-а-Муссоне и его навещали простые драгуны, он обращался с ними лучше, чем с офицерами».
За чаем говорили, что в 1814 году король жил на той же улице, что и теперь, и даже чуть ли не в том доме, который стоит рядом с его нынешней квартирой. Министр сказал: «Мой дальнейший план кампании состоит в том, чтобы обеспечить безопасность особы его величества. Для этого местность по обеим сторонам дороги должна быть тщательно осматриваема, и на известном расстоянии друг от друга должны стоять караульные. Король одобрил эти меры, после того как я ему сказал, что то же самое было и в 1814 году. Монархи ехали тогда верхами, и по дороге на расстоянии двадцати шагов друг от друга были расставлены русские солдаты». Кто-то заметил, что, пожалуй, крестьяне или вольные стрелки будут стрелять в экипаж короля.
На следующее утро Жилльо повел меня во дворец, в котором жил в прошлом столетии тесть Людовика XV Станислав Лещинский в качестве лотарингского герцога. В этом дворце в последние годы стояли кирасиры. Из задних окон открывался очень красивый вид на протекающий внизу Маас и на группы дерев, расположенных по ту сторону этой реки. Мы осмотрели также капеллу и дворцовую фабрику, которая скорее может назваться мастерскою или даже чуланом. Во дворце Лещинского наши солдаты наделали много беспорядков. По словам провожавшего меня кистера, это были гусары. Они отбили носы у некоторых святых статуй, сломали один мраморный барельеф, разбили вдребезги паникадило, раскидали священные книги и архив и прокололи шпагой написанную масляными красками старинную картину. Может быть, они сделали это в темноте, нечаянно. Оба француза сильно негодовали на них, и вряд ли я их успокоил, сказав, что у нас такое бесчинство не в обычае. Впрочем, попадались люди, не выказывавшие такого озлобления, в особенности мой добрый хозяин, который не раз уверял меня, что видит во мне не врага, а гостя. Он принадлежал к многочисленному во Франции классу ремесленников, которые, скопив себе путем упорного труда, небольшие средства, лет в пятьдесят прекращают свои занятия и покойно доживают свой век, ухаживая за маленьким цветником или фруктовым садиком и проводя время в кофейной за чтением газет или болтая с друзьями и соседями. Г. Жилльо имел двух сыновей, из которых один жил в Кохинхине, а другой был священником где-то во Франции. Когда разговор зашел о том, что и духовные лица призываются теперь к отбыванию воинской повинности, то он выразил надежду, что сын его будет назначен только в канцелярию, так как он совсем не знаком с военной службой.
В 12 часов мы выехали из Коммерси. Дорога шла сначала через прекрасный лиственный лес, состоявший между прочим и из кустарника и изобиловавший плющом и всевозможными ползучими и вьющимися растениями, что все вместе образовывало почти непроходимую чащу, в которой превосходно могли скрываться вольные стрелки; потом перед нами развернулась открытая местность. Почва, кажется, здесь недостаточно плодородна, потому что зерновой хлеб, попадавшийся нам на глаза, например овес, был очень плох. Дорогою мы несколько раз нагоняли колонны войск и проезжали мимо лагерей. Меры предосторожности, о которых за день перед тем говорил шеф, были приняты. Впереди нас был авангард, возле нас – телохранители, которые резко отличались от армейских полков, от белых, красных и синих гусар, саксонских и прусских драгунов и от всех прочих. Карета канцлера следовала тотчас за каретой короля. Долго не попадалась нам ни одна деревня. Потом мы проехали мимо Сент-Обена, и вслед за тем выбрались на шоссе, и очутились возле милевого камня, на котором значилось: «Париж 241 километр».
Итак, мы были только в 32 милях от Вавилона! Далее мы обогнали большой баварский обоз, который принадлежал полкам короля Иоанна Саксонского, великого герцога Гессенского, фон дер Танна, принца Отто и многим другим. Из этого мы могли заключить, что находимся в округе наследного принца.
Вскоре мы въехали в маленький городок Линьи, переполненный саксонскими и другими полками. Мы простояли три четверти часа на площади, загражденной разными повозками, в ожидании шефа, который пошел навестить замедлившего здесь наследного принца. Выбравшись наконец из этого хаоса, мы скоро доехали по прекрасной зеленой долине до города Барледюка. Дорогою мы опять встретили светло-голубых баварских пехотинцев.
Барледюк – самый большой город во Франции, который нам удалось видеть до сих пор во время нашего похода. Приблизительно в нем 15 000 жителей. Он стоит на мелкой тинистой реке Орнэне, через которую перекинуто несколько мостов. Местоположение его очень живописно. На улицах и площадях, когда мы проезжали, заметно было большое оживление, и из окон выглядывало много любопытных женских лиц. Странствующие баварские музыканты встретили короля гимном: «Heil dir im Siegerkranz». Он занял квартиру на главной улице в доме французского банка. Канцлеру и нам было отведено помещение наискосок в доме некоего Пернэ. В нижнем этаже направо была устроена походная канцелярия, в комнате налево – столовая. Шеф занял второй этаж, Абекен – комнату с окнами на двор, где был хорошенький сад с кустами роз и где росли гранатовые и другие деревья, я поместился в покое, украшенном различными образами, портретами духовных лиц и другими предметами, имеющими отношение к церкви. Хозяин дома убежал, оставив вместо себя какую-то старуху.
За обедом присутствовал лейб-медик короля доктор Лауер. Министр, как и всегда, был сообщителен и в необыкновенно хорошем расположении духа. Между прочим, он рассказал, что у наследного принца в Линьи он очень вкусно позавтракал с разными князьями и высшими офицерами. «Ayгcбургский был там в баварской форме, так что я его не узнал и очень сконфузился, когда он подошел ко мне».
Мы узнали от него, кроме того, что граф Гацфельд назначен временным префектом; он долго жил в Париже и хорошо изучил язык, обычаи и нравы французов. Приятно было также узнать, что главная квартира пробудет здесь еще несколько дней. «Как в Капуе», – сказал шеф смеясь.
Вечером опять было отправлено в Германию несколько статей; в одной из них так говорилось о саксонцах, отличившихся при Гравелоте: «18-го числа, в сражение при Меце, саксонцы выказали свойственную им чрезмерную храбрость и сделали все, чтобы слава этого дня принадлежала немцам. Намереваясь отправить саксонцев против неприятеля, их заставили в день битвы сделать предварительно трудный переход с правого на левое переднее крыло. Несмотря на эти трудности, эти храбрые войска с замечательной энергией бросились на французов и превосходно исполнили свой долг, который состоял в том, чтобы не дать неприятелю прорваться по направлению к Тионвиллю. Потери их в сражении превышают 2200 человек».
Для разнообразия я теперь опять сделаю несколько выписок из дневника.
Четверг, 25-го августа . Прежде чем сесть за занятия, я сделал прогулку по верхней и, кажется, древнейшей части города и осмотрел церковь, построенную во имя св. Петра, главный вход в которую богато отделан, и старинные дома времен Renaissance. Вид из замка на город очень недурен. Недостает только реки. Улицы верхнего города все идут круто в гору и большею частью узки и темны. В нижнем городе светлее. Тут много одноэтажных массивных домов, построенных из плитняка с окрашенными белою краскою ставнями. Все церкви – в новом стиле. Ставни в домах почти все открыты. Жители, к которым мы обращались с вопросами, отвечали вежливо. Недалеко от нашей квартиры протекает река, через которую построен каменный мост. Посреди моста находится маленькая башня, которая, без сомнения, помнит еще то время, когда Лотарингия и герцогство Бар не принадлежали Франции. Мы посетили вокзал железной дороги, комнаты и залы которого были опустошены, говорят, самими французами.
Около 9 часов вступили в город баварцы. Они шли по Банковской улице мимо квартиры короля и нашей. Французы заняли места по обеим сторонам тротуара, обсаженного деревьями. Шли зеленые кирасиры с красно-розовыми воротниками и обшлагами, большею частью видные и статные люди, уланы, артиллерия и инфантерия, полк за полком в продолжение нескольких часов. Громкое «ура» проходивших мимо короля войск, причем всадники обнажали свои палаши, веющие знамена, звуки труб, барабанный бой, музыка, игравшая великолепный марш, – все это поражало слух и зрение. Сначала выступал армейский корпус генерала Гартмана, а за ним фон дер Танна, который был потом приглашен к нам на завтрак. Кто бы 3 месяца назад считал это возможным непосредственно после войны 1866 года!
Я приготовил много бумаг на почту и для телеграфа. Наши идут быстро вперед. Передние колонны стоят уже между Шалоном и Эпернэ. В Германии оканчивается формирование 3-х резервных полков, о которых было говорено несколько дней назад. Нейтральные державы восстают против наших намерений – путем приобретения некоторых французских владений устроить себе выгодную границу на западе. В особенности восстает Англия, которая с давних пор недоброжелательно относится к нам. Известия, идущие из Петербурга, – благоприятнее; великая княгиня Елена Павловна, между прочим, принимает в нас милостивое и деятельное участие. Мы остаемся при своем намерении – оградить навсегда южногерманские владения от нападения Франции, и, таким образом, сделать Германию независимою от французской политики. Исполнение нашего намерения, без сомнения, энергично требует национальное чувство, которому трудно противостоять. Нам сообщают много возмутительного о бандах вольных стрелков. Их форма такова, что их едва можно признать за солдат, знаки же, которыми они несколько отличаются от крестьян, они легко могут спрятать. Такой парень, заслыша, что приближаются немцы, ложится в ров около рощи, точно греется на солнце, и, когда те отойдут на некоторое расстояние, стреляет в них, а сам тотчас бежит в лес, откуда через несколько времени выходит беззаботным блузником. Я убежден, что это не защитники отечества, а коварные убийцы, которых без всяких размышлений следовало бы вешать.
За обедом гостем нашим был граф Зекендорф, адъютант наследного принца. Между прочим, говорили об Аугустенбургере, который пошел с баварцами. (Суждения об этом человеке сходились отчасти с мнением, выраженным несколько месяцев позже в письме одного моего приятеля, бывшего тогда профессором в Кёльне. Он писал следующее: «Мы знаем все, что он не рожден для исполнения геройских подвигов. Он на них не способен. Но все-таки лучше было бы, если бы, вместо того чтобы быть полковым балагуром, он в качестве капитана или майора повел хоть роту или батальон солдат, по-моему – даже и баварских. Вероятно, путного из этого ничего бы не вышло, но по крайней мере было бы приятно видеть проявление доброго желания».)
Зекендорф опроверг носившийся слух, будто наследный принц расстреливал крестьян, которые вели себя изменнически по отношению к пруссакам. Напротив, он ко всем и везде относился очень милостиво и снисходительно – даже к негодным французским офицерам.
Граф Болен, всегда располагающий запасом остроумных и подходящих анекдотов, рассказал следующее: «18-го по одной батарее был открыт сильный огонь, так что в короткое время пали почти все лошади и множество солдат было убито и ранено; капитан, однако, не потерял присутствия духа и, отдавая приказания не многим уцелевшим храбрецам, бывшим под его командою, произнес: «Тонкое орудие, не правда ли?»
Шеф, в свою очередь, рассказал: «Прошедшую ночь спросил я солдата, который стоит на часах у наших дверей, хорошо ли ему и как он ест; при этом я узнал, что он голодает уже в продолжение 2-х суток. Тогда я вернулся домой, пошел в кухню, отрезал большой ломоть хлеба и подал часовому; это ему, очевидно, очень понравилось».
Когда потом речь с префектуры Гацфельда перешла на других префектов и комиссаров in spe и когда стали выражать сомнения в способностях тех или других кандидатов на эти должности, то министр заметил: «Наши французские чиновники могут всегда сделать две или три глупости, лишь бы в общем действовали энергично».
Говорили о телеграфных линиях, которые так быстро проводятся позади нас; при этом было сообщено следующее. Телеграфисты, в участках которых были повалены столбы и перерезана проволока, потребовали, чтобы по ночам крестьяне ставили, где нужно, караул. Но те сначала воспротивились такому требованию и даже за деньги не хотели ему подчиняться. Тогда им пообещали, что каждый столб будет называться именем того, кто его будет караулить, и это, как нельзя более, подействовало на тщеславие французов. Молодцы в своих остроконечных шапках весьма добросовестно стали исполнять свои новые обязанности, и с тех пор повреждений на телеграфных линиях не было.
Пятница, 26-го августа . Сегодня мы выезжаем, кажется, в Saint-Ménehould, где стоят наши войска, которые взяли в плен 800 мобильгардов, о чем я телеграфировал сегодня утром в Берлин. Тальони, угощавший нас сегодня великолепной икрой, которую он достал, я думаю, у толстого Борка, подтвердил, что действительно цель нашей поездки – Saint-Ménehould. Сегодня утром я написал статью о вольных стрелках, в которой я обстоятельно изложил ложные представления их о том, что допускается войною. Так как шеф ушел, по предположению одних – к королю, а по мнению других – прогуляться по городу [2] , то и я в сопровождении Абекена отправился к старинной красивой церкви Св. Петра. Стены и колонны ее гораздо ниже, чем бывают обыкновенно в готических церквах, но в общем она очень красива. Образа внутри ее не имеют никакого значения в художественном отношении. Около одной стены стоит мраморный скелет, поставленный какой-то герцогиней, в такой степени страстно любившей своего мужа, что, когда он умер, она вынула его сердце, которое и доселе хранится в руке остова. Разрисованные стекла окон распространяют в церкви полумрак. Благодаря этому последнему обстоятельству Абекен был очень возбужден. Он декламировал места из второй части гетевского Фауста. Весьма вероятно, что во время пребывания своего в Риме, где он состоял при посольстве, он получил сильную склонность к католицизму, которая впоследствии должна была еще более увеличиться, потому что берлинские аристократы, в гостиные которых он имел доступ, в восторге от всего римского.
Мы спустились по крутым лестницам и, пройдя несколько переулков, очутились на улице, носящей имя Удино и расположенной как раз против его фамильного дома, что мы узнали из надписи. Это маленький, бедный и дряхлый дом только с тремя окнами; о нем ходит какое-то предание. Абекен купил в лавке две фотографии церкви «в воспоминание религиозного настроения», которое он там испытал, и предложил одну мне. Возвратясь в наши квартиры, мы узнали, что Эйгенброд сильно заболел кровавым поносом и будет тут оставлен.
Мы действительно выехали 26-го, но не в Saint-Ménehould, где было еще опасно, так как везде бродили шайки вольных стрелков, а в Клермон-ан-Аргонн, куда и приехали около 7 часов вечера. По дороге, которая проходила мимо больших деревень с красивыми старинными церквами, для безопасности через каждые 200 шагов были расставлены полевые жандармы. Дома все каменные, нештукатуренные примыкают плотно один к другому. Все крестьяне хромают здесь в неуклюжих деревянных башмаках; лица мужчин и женщин, стоявших группами у дверей, насколько я второпях мог заметить, были все без исключения отвратительны. Несмотря на это, принимались меры, чтобы уберечь лучших молодых девушек от немецких хищных птиц! Часто проезжали мы такие большие леса, которые, ввиду того что Францию описывают обыкновенно как страну безлесную, я не ожидал встретить. Это все были лиственные громады с частыми кустарниками и густою массою ползучих растений.
Сначала мы встретили обоз и баварский полк. Солдаты прокричали впереди нас королю оглушительное «ура»; канцлеру тоже досталась доля этой чести. Затем нагнали мы один за другим 31-й (тюренгенский), 96-й и 66-й полки; потом – гусаров, уланов и, наконец, саксонских пластунов. На опушке леса, недалеко от деревни, которая, если я не ошибаюсь, носит название Трианкур, нам очистили дорогу две телеги – одна с пленными вольными стрелками, другая – с их ранцами и оружием. Большая часть из них поникла головами, а один даже плакал. Шеф остановился и стал разговаривать с ними, но, кажется, ничего утешительного им не сказал. Позже рассказывал нам офицер, подъезжавший к карете советников и добывший у них коньяку, что эти молодцы или их товарищи день назад в этой же местности изменнически застрелили уланского ротмистра или майора фон Фрица или Фризена. В плену они не ведут себя как солдаты и разбегаются при первом удобном случае. Кавалерия с помощью егерей устраивает тогда в виноградниках, где они прячутся, нечто вроде облавы, и там часть их опять попадает в плен, часть же подвергается расстрелянию или прикалывается штыками. Вследствие появления этих бандитов война стала принимать ужасное направление. Солдат видит в них людей, берущихся за дело, которое не составляет их ремесла и которое их не касается, он смотрит на них как на бродяг, и тем не менее ему в голову не приходит остерегаться их.
В Клермон приехали мы совсем измокшие, так как дорогою два раза шел проливной дождь с градом. За исключением Кейделля и Гацфельда, мы поместились в городской школе, которая находилась на главной улице. Квартира короля была против нашей. Вечером представится случай осмотреть немного город. Жителей в нем не более 2000 человек, и расположен он очень живописно: по скату невысокого и покрытого лесом Аррагонского хребта, на одной из конусообразных вершин которого стоит капелла. Большая улица была заставлена телегами и экипажами, мостовая вся была покрыта густой желтой грязью. Там и тут видны были саксонские егеря. На закате солнца Абекен и я поднялись по каменным ступеням к церкви, построенной на горе, на половину ее высоты; на церковь падала теперь тень от окружавших ее деревьев. Она была открыта; мы вошли в нее; в полумраке едва можно было различить кафедру и престол. От неугасимой лампады падал красноватый свет на образа, а разрисованные окна пронизывались последними лучами заходящего солнца. Мы были одни. Кругом нас все было тихо как в могиле. Чуть слышались далекий глухой стук колес, говор, шаги проходящих войск и крики «ура!» перед домом короля. Мы возвратились домой, и министр, которого мы застали, велел нам следовать за ним в гостиницу для приезжающих, где мы должны были обедать, потому что кухня наша отстала. Мы вошли в заднюю комнату, наполненную табачным дымом, и застали еще обед и места за столом шефа, за которым сидел какой-то офицер с длинной темной бородой и один из санитаров. Это был князь Плесс. Он рассказывал, что взятые при Понт-а-Муссоне в плен французские офицеры очень нагло и непристойно вели себя, и всю ночь кутили, и азартно играли. Один генерал непременно требовал отдельный и приличный для себя экипаж и делал ужасающие жесты, когда ему было отказано. Потом разговаривали о начальниках вольных стрелков и непозволительном способе ведения ими войны, и министр подтвердил, о чем мне передал уже Абекен, что он тем, которых мы сегодня после обеда встретили на дороге, сделал строгое внушение, закончив свою речь так: «Vous serez tous pendus, vous n’ètes pas soldats, vous etez des assassins». (Вы все будете повешены, вы не солдаты, вы убийцы.) Один из них начал громко хныкать. Что канцлер, в сущности, далеко не так жесток, это мы уже видели и потом еще неоднократно увидим.
В нашем доме шеф занял комнату в первом этаже. Абекену досталась задняя комната, а нам была отведена спальня двух или трех учеников, которых школьный учитель, по-видимому, держал у себя. Эта спальня была довольно велика. Здесь стояли две кровати с матрацами, без одеял и два стула. Ночь была холодна. Мне нечем было укрыться. У меня было только каучуковое пальто. Но холод как бы ослабевал при мысли о солдатах, которые стояли лагерем в поле, в грязи! Каково-то было им!
Утром было много хлопот с приобретением необходимых принадлежностей для нашей спальни. Она стала совсем неузнаваема. Точно так же преобразились канцелярия, столовая и чайная комната. Тейсс устроил нам стол, поставив с одной стороны козлы, а с другой – бочку и на это положив снятую с петель дверь. Таким образом, воздвигнут был очень удобный стол, за которым союзный канцлер завтракал и обедал с нами. В промежутках же между завтраком и обедом, обедом и чаем советники и секретари тщательно составляли на нем бумаги, депеши, инструкции, телеграммы и газетные статьи – все по инициативе канцлера. Недостаток стульев был пополнен скамейками и разными сундуками… Роль подсвечников играли пустые бутылки из-под выпитого канцлером вина; вставленные в них свечи горели так же светло, как в серебряных канделябрах. (Опыт научил, что шампанские бутылки более пригодны для этой цели.) Не так легко могли мы обойтись без воды для мытья, тем не менее обходились. И не только для мытья – даже для питья трудно было достать воды, потому что в продолжение двух дней войска вычерпали весь колодец маленького Клермона. Только один из нас, который вообще был притязательнее, чем имел на то право, и всегда любивший брюзжать, ворчал и теперь. Остальные и между ними много путешествовавший Абекен с юмором говорили, что это-то и составляет соль нашей экспедиции.
В нижнем этаже помещалась канцелярия военного министра и главного штаба в двух классных комнатах; фурьеры и солдаты писали на скамьях и кафедрах. На стенах виднелись учебные пособия, географические карты и разные изречения; на одной черной доске была написана арифметическая задача, на другой красовалось очень понятное, относившееся к тяжкому времени увещание: «Faites vous une étude de la patience, et sachez ceder par raison».
Когда мы сидели за кофе, к нам вошел шеф и сердито спросил, почему до сих пор не вывешена прокламация о том, что всякое нарушение военного устава будет наказываться смертью. Я отправился навести справку к Стиберу, который отыскал себе хорошую квартиру в нижней части города; он отвечал мне, что Абекен передал прокламацию в генеральный штаб и что он в качестве директора полевой полиции может вывешивать только прокламации, изданные самим королем.
Я это доложил канцлеру, причем тотчас же получил от него несколько приказаний. Он устроился в своем помещении не лучше нашего. Всю ночь он спал на полу на простом матраце, револьвер клал около себя и писал в углу около двери, на таком маленьком столике, на котором едва можно было поставить локти. Комната его требовала многого, так как не было ни диванов, ни кресел и т. п. Тот, который в продолжение многих лет «делал» всемирную историю, в голове которого заключался источник ее направления и от которого вполне зависело повернуть в ту или другую сторону течение событий, едва имел куда приклонить голову, между тем как глупые придворные отдыхали от бездействия на мягких постелях и даже мсье Стибер сумел устроиться лучше нашего господина.
Случайно нам попалось в руки письмо, отправленное недавно из Парижа на имя одного высокопоставленного французского офицера. По содержанию видно было, что в том кругу, из которого оно было послано, имеют мало надежды на дальнейшее сопротивление, а также и на возможность для династии удержаться на престоле. Писавший не знал, чего ему в будущем ждать и на что надеяться. Он стоял на распутье и не знал, что выбирать – республику без республиканцев или монархию без монархистов. Республиканцы казались ему очень посредственного ума, а монархисты слишком себялюбивыми существами. Все восхищались армией, но никто не торопился пойти к ней на помощь, чтобы преодолеть врага.
Шеф еще раз говорил о саксонцах; они вполне заслуживают того, чтобы дело их при Гравелоте было выставлено вперед. «В особенности следует похвалить маленьких шварцвальдцев, – добавил он. – Они пишут очень скромно о себе в своих газетах, но они чрезвычайно храбро сражались. Постарайтесь изобразить возможно отчетливее подробности сражения 18-го августа».
В канцелярии между тем ревностно работали. Советники и секретари писали и читали с напряженным вниманием среди карт, бумаг, дождевых пальто, сапожных и платяных щеток, бутылок со вставленными в них свечами и вскрытых конвертов, валявшихся на полу. Приказания получались и отдавались курьерам и канцелярским чиновникам. Пахло сургучом. Все громко разговаривали. Дела были спешные, так что некогда было заботиться об этикете учтивости. Абекен необыкновенно быстро бегал между столами и вестовыми, и голос его звучал весьма внушительно. Я думаю, что из-под его проворного пера немало вышло в это утро статей; я слышал, как часто он отодвигал стул и звал служителя. С улицы доносились шаги, музыка, барабанный бой и грохот телег. Трудно было в этом хаосе собрать мысли и что-нибудь сделать. С доброй волей, впрочем, можно было все преодолеть.
После обеда, за которым канцлер и некоторые советники не присутствовали, потому что обедали у короля, я отправился с Виллишем опять к церкви, а оттуда по извилистой тропинке – на самую вершину горы, где стоит капелла во имя св. Анны. Около нее под тенью ветвистого дерева ужинала группа ополченцев с солдатами егерского батальона. Они вместе сражались 18-го. Я хотел узнать от них что-нибудь относящееся к делу, но они ничего не могли мне сообщить, кроме того что храбро дрались. По дороге, тут и там, видны были следы старых стен, а на равнине той же вершины – правильно расположенные деревья и кустарники. Очевидно, когда-то здесь был большой сад, пришедший теперь в запустение.
В сторону от капеллы идет прямой спуск между тенистыми деревьями. Здесь мы встретили священника в черной рясе с открытою книгой в руках. Он читал, скромно вознося свои молитвы к Всевышнему. Перед нами расстилался чудный вид. Вдали виднелся маленький город, за ним к северу и западу далеко развертывалась равнина, зеленели поля, группы деревьев, рощи, блестели купола храмов, к югу и западу возвышался гребень Аррагонских гор, покрытый необозримым темно-зеленым лесом, исчезавшим в голубом облаке. Равнина пересекалась тремя дорогами. Одна из них идет по прямому направлению на Варенн. Около дороги, недалеко от города, был расположен баварский лагерь, в котором теперь горели костры; клубы дыма живописно поднимались. Правее, на самом горизонте, виднелась расположенная на лесистом холме деревня Фокоар; еще правее – возвышались отдельные горы, а над ними в светло-голубой дали висел город Монфокон. По направлению к востоку идет второе шоссе на Верден. Правее, мимо лагеря саксонцев, шла полукругом дорога на Барледюк, по которой теперь тянулись войска. Их штыки блестели при заходящем солнце, издали доносились звуки барабанного боя.
Долго любовались мы этой чудной картиной, облитой с запада лучами заходящего солнца, пока горные тени не покрыли постепенно всей долины и все потонуло в сумраке. На возвратном пути мы еще раз вошли в церковь, которую заняли теперь гессенцы. Они лежали на соломе перед алтарем и, вероятно, не видя в том ничего дурного, – это были невинные люди – закуривали трубки у неугасимой лампады.
Я вписываю сюда несколько интересных заметок, взятых из дневника одного баварского офицера. В мае 1871 года, при возвращении в Клермон, он квартировал в том же доме, в котором во время нашего пребывания в этом городе жил король Вильгельм, и точно так же в качестве любителя природы осматривал гору и капеллу Св. Анны. Там застал он священника, того самого, с которым мы встретились, познакомился с ним и узнал от него многое, достойное внимания. Остатки стен, которые мы видели, принадлежали замку, впоследствии обращенному в монастырь, а потом разоренному во время первой французской революции. Священник был уже стар; 56 лет прожил он на этом месте. Это был человек, проникнутый глубоким религиозным чувством, и хороший патриот. Несчастье его родины камнем лежало у него на сердце; он, впрочем, не отвергал, что причиною всего был преступный задор французов. Кстати, при этом он рассказал один очень некрасивый анекдот о своих соотечественниках. Я хочу изложить его здесь приблизительно его словами, насколько это позволяют мне данные источника, которым я пользуюсь.
«В прошлом августе неожиданно пришли сюда точно так же, как и вы, господа, французские кирасиры. Как и вам, им захотелось осмотреть гору и ее окрестности. Со смехом прошли они мимо открытой тогда церкви и выразили мнение, что гостиница была бы тут более у места. Потом они притащили сюда ведро вина. Распив его около капеллы, они начали танцевать и петь. Вдруг откуда ни взялся рослый кирасир; на спине у него была большая собака, одетая в женское платье. Он пустил ее к танцующим с криком: «C’est Monsieur de Bismark!», и восторгу, вызванному гнусной шуткой, не было конца. Потом стали дергать собаку за хвост, и, когда она залаяла, кто-то из них заявил: «C’est le language de Monsieur de Bismark!» Они долго танцевали с собакой. Потом ее опять взвалили на спину, так как она должна была участвовать еще в процессии, которую они устраивали. Это возмутило меня. Я обратился к ним с речью и представил им, что грех – сравнивать человека, хотя бы и врага, с животным. Но все было напрасно. Поднялся оглушительный крик, и меня толкнули в сторону. Полный негодования, я сказал им: «Берегитесь, чтобы вас не постигло наказание!» Однако они не обратили внимания на это предостережение, опять начался шум, и вся толпа с собакой, с криками и ревом отправилась в город, где, к сожалению, ее хорошо приняли. Ах, что я предчувствовал, совершилось. Не прошло и четырнадцати дней, как Бисмарк стоял победителем на том самом месте, где над ним так скверно глумились. Я видел этого железного человека, но я не думал тогда, что он будет так жесток и заставит мою бедную Францию изойти кровью. Все же тот день, в который кирасиры так согрешили по отношению к Бисмарку, не выходит у меня из памяти».
Составитель дневника рассказывает далее: «Мы разошлись по квартирам. Тут встретили мы нашего хозяина дома; он охотно показал нам комнату, в которой жил король Вильгельм, и кровать, на которой он спал. Он не мог достаточно нахвалиться королем за его рыцарские качества; о Бисмарке же сказал, что он с виду совсем не так ужасен, как о нем пишут. Граф пришел сюда однажды к королю, но должен был порядочно прождать; в это время на аудиенции был Мольтке; граф стал ходить по саду; и он при этом нашел, что с ним жить можно. Граф великолепно говорит по-французски; нельзя было предполагать в нем такого свирепого пруссака. Он беседовал с ним о сельском хозяйстве, и граф оказался таким же сведущим в этой области, как и в политике. Такой человек был бы полезен Франции, закончил добряк свою болтовню».Воскресенье, 28-го августа. Утром, когда мы встали, лил теплый дождь, что мне напомнило Гете, жившего в сентябре 1792 г. в Валми в грязи и тине, до и после его бомбардирования. Я пошел к генералу Шеридану, который помещался в задней комнате аптеки, и по поручению шефа передал ему газету «Pall Mall». Потом я стал разыскивать саксонцев, чтобы узнать от них подробности дела 18-го августа, но мне встречались солдаты только в одиночку; они не могли сказать ничего нового. Наконец, мне попался один ландверный офицер, в котором я узнал помещика Фукс-Нордгофа из Мекерна под Лейпцигом. Он также сообщил мне мало нового; саксонцы особенно храбро сражались при Сен-Мари aux Chènes и Сен-Приво и удержали пришедшую в беспорядок гвардию, а егеря без выстрела заняли французскую позицию; лейпцигский (сто седьмой) полк потерял множество солдат и почти всех офицеров. Это было все. Впрочем, он передал еще, что Краузгар убит.
Утром, когда министр встал, опять закипела работа. Наши дела шли удачно. Я должен был телеграфировать, что саксонская кавалерия прогнала стрелков при Фуссьере и Бомоне, что мы намерены принудить Францию к уступке земель и что ни при каких других условиях не будет заключен мир.
Статья, одобренная шефом, гласила следующее:
«Немецкие войска после победы при Марс-ла-Туре и Гравелоте безостановочно подвигаются вперед, и, кажется, настало время решить, при каких условиях может Франция заключить с Пруссией мир. Слава и жажда приобретений не должны руководить нами точно так же, как и великодушие, так часто предписываемое нам иностранными газетами. Путь, который бы нам указал, как нам надо будет поступить, лежит на иной почве. Мы должны будем принять в соображение, как можно обеспечить безопасность Германии и главным образом ее южной части от дальнейших нападений алчных французов, нападений, которые со времен Людовика XIV и до сих пор повторялись более 12 раз и которые еще будут повторяться, если только Франции дать время окрепнуть.
Огромные жертвы, принесенные в эту войну немцами, и все наши настоящие победы будут напрасны, если Франция не будет ослаблена, а Германия – усилена. Удовольствуемся мы переменой династии или контрибуцией, и мы ничего не достигнем и не помешаем нынешней войне повести за собой ряд других войн, потому что гордые французы захотят во что бы то ни стало отмстить немцам за свой теперешний позор. Всякая контрибуция будет скоро уплачена таким большим государством, как Франция, и каждая новая французская династия будет стараться, ввиду своего упрочения на престоле и приобретения популярности, унизить Германию. Великодушие – очень почтенная добродетель, но она в политике обыкновенно неуместна. В 1866 году мы не взяли ни одной десятины земли у Австрии; что получили мы в благодарность за нашу умеренность? Не переполнена ли Вена чувством мести только за то, что была побеждена? Французы сердились на нас даже за Кениггрец, где не они были побиты! Несомненно, они только и будут думать отмстить нам за Верт и Мец, как бы великодушны мы ни были.
Если нам укажут на то, что в 1814 и 1815 годах политика действовала иначе, не так, руководствуясь несколько другими мотивами, то последствия тогдашнего деликатного обращения с Францией достаточно уже доказали, что оно принесло только вред. Если бы тогда ослабили Францию настолько, насколько того требовали интересы всемирного спокойствия, то теперь не было бы необходимости воевать.
Опасность не лежит в бонапартизме, хотя он преимущественно придерживается шовинистских воззрений, она лежит в неизлечимой и неискоренимой притязательности той части французского народа, которая задает тон всей Франции. Национальная черта французского характера есть страсть к нападению на своих мирных соседей; это обстоятельство каждой французской династии, какое бы имя она ни носила, даже самой республике предписывает путь, по которому те должны неуклонно следовать. Плоды наших побед могут заключаться в фактическом улучшении нашей пограничной обороны против этого беспокойного соседа. Кто в Европе желает облегчения военных расходов, кто желает такого мира, кто допускает что-нибудь подобное, тот должен устремлять, направлять свои желания на то, чтобы против французской страсти к завоеванию воздвигнута была солидная и прочная преграда, другими словами, чтобы и на будущее время Франция была поставлена, по возможности, в затруднение с небольшим сравнительно войском производить вторжения в Южную Германию и чтобы, с другой стороны, южногерманцы могли всегда держать Францию в почтительном отдалении. Поставить Южную Германию в безопасное положение путем укрепления границ составляет теперь нашу задачу. Исполнить ее – значит совершенно освободить Германию, значит, закончить войну за независимость 1813 и 1814 годов.
Самое меньшее, что мы должны требовать, самое меньшее, что может удовлетворить немецкую нацию во всех ее частях, в особенности наших замайнских союзников и соратников, – это уступка нам Францией больших дорог, ведущих к сердцу Германии, это завоевание нами. . . .
. . . . . .
местился в старинном замке налево от дороги. Второе отделение главной квартиры, в котором находились принц Карл, принц Леопольд Баварский, великий герцог Веймарский и наследный герцог Мекленбург-Шверинский, помещено было в деревне Жювэн. Мне квартирьеры отвели помещение в чистой комнате одной модистки, наискосок от квартиры шефа. На рынке была кучка французских пленных, а к вечеру к ним присоединилось еще несколько человек. Завтра, как я узнал, ожидают столкновение с Мак-Магоном.
В Гранпрэ шеф, по обыкновению, обнаруживал бесстрашие, не опасаясь, что на него могут сделать изменническое нападение. В сумерки гулял он один, без конвойного, по узким и безлюдным улицам города, весьма удобным для совершения преступления. Я говорю об этом, потому что знаю: я всегда следовал за ним в некотором от него расстоянии. Мне казалось, что, пожалуй, я могу ему пригодиться.
Узнав на следующее утро, что король с канцлером намереваются ехать, чтобы присутствовать при облаве на сильную французскую армию, я решил, вспомнив слова, сказанные канцлером в Понт-а-Муссоне после возвращения его из Резонвилля: «Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen», просить его взять меня с собой. «Хорошо, – возразил он, – но если нам придется пробыть всю ночь под открытым небом, что с вами будет?» «Все равно, ваше превосходительство, – ответил я, – я уже буду знать, что делать». «Хорошо, в таком случае едемте вместе», – смеясь, сказал он. Пока шеф прошелся еще на рынок, я, совершенно довольный, успел собрать свою походную сумку, каучуковое пальто и дневник, и когда он возвратился и поместился в экипаже, то по знаку его я сел рядом с ним. Нужно иметь редкое счастье, чтобы удостоиться подобной чести.
Был 10-й час, когда мы выехали. Мы отправились по той самой дороге, по которой ехали день назад. Но скоро мы повернули в гору налево, оставив за собой несколько деревень; впереди были видны марширующие и отдыхающие солдаты и артиллерийский парк. В 11 часов мы приехали в городок Бюзанси и остановились здесь на рыночной площади в ожидании короля.
Граф был дорогою очень сообщителен. Сначала он сетовал на то, что во время занятий ему часто мешают разговоры, которые ведутся за стеной. «В особенности некоторые из наших господ имеют ужасно громкие голоса». «Я не раздражаюсь, – продолжал он, – обыкновенным шумом. Музыка и грохот экипажей меня не сбивают, но это случается, когда я ясно могу разобрать каждое слово. Тогда вдруг является желание узнать, в чем дело, и, таким образом, теряется нить мыслей».
Потом он мне заметил, что весьма неприлично с моей стороны отдавать честь офицерам. Приветствуют не министра или союзного канцлера, а только генерала, и офицеры могут обидеться, что статский относит это приветствие к себе.
Он опасался, что дельного сегодня ничего не выйдет; того же мнения были артиллерийские офицеры, стоявшие около Бюзанси на городском валу возле своих пушек. «То, что случилось как-то со мной во время охоты на волков в Арденнах, то произойдет, очевидно, и теперь, – сказал он. – Мы пробыли там несколько дней в глубоком снегу, и наконец нас уведомили, что напали на волчий след; но, когда мы пошли по следу, волк улизнул. Так будет сегодня и с французами».
В надежде встретить здесь своего второго сына он расспрашивал о нем офицеров и при этом заметил мне: «Вы теперь можете видеть, как мало развит у нас непотизм. Он уже служит 12 месяцев и ни до чего не дослужился, между тем как другие служат не более четырех недель и уже представлены к повышению». Я позволил себе спросить почему. «Да я не знаю, – отвечал он. – Я подробно справлялся, не сделал ли он чего дурного, был пьян, может быть, и т. д., но ничего подобного; напротив, он очень хорошо вел себя, и во время кавалерийского дела при Марс-ла-Туре так же храбро, как и другие, прорвался во французское каре». Несколько недель спустя, нужно заметить, оба его сына были произведены в офицеры. Потом рассказал он еще раз о своих приключениях 18-го августа. «Я отправил своих лошадей на водопой. Смеркалось. Я стал около батареи, которая была в действии. Французы молчали. Мы думали, что их артиллерия спешивается. Но на самом деле они приготовляли пушки и митральезы. Вдруг был открыт ими страшный огонь, посыпались гранаты и тому подобные снаряды, раздался непрерывный треск, грохот; свистом и шипением наполнился воздух. Мы были разъединены с королем, которого Роон просил удалиться. Я остался на батарее и думал в случае отступления сесть на ближайший лафетный ящик. Мы ожидали, что французская инфантерия поддержит залп; тогда они могли бы захватить меня в плен, в особенности если бы наша артиллерия отказалась взять меня с собой. Но залпа не последовало. Между тем привели опять лошадей, и я поехал к королю. На дороге, прямо перед нами, падали гранаты, которые прежде перелетали через нас!»
«Король должен был ехать еще дальше, о чем я ему доложил после представления, сделанного мне о том офицерами. Король заявил, что он голоден и хотел бы поесть. Было что пить – имелись и вино, и прескверный ром, купленные у маркитанта, – но еды не было никакой, кроме сухого хлеба. Наконец с трудом достали в деревне 2 котлеты, как раз только для короля, но ничего для его свиты, так что я принужден был поискать чего-нибудь другого. Его величество собирался провести ночь в карете, между убитыми лошадьми и тяжело раненными. Но потом для него нашлось помещение в одном кабачке. Союзный канцлер должен был ютиться где-нибудь под крышей. Наследный великий герцог Мекленбургский вызвался караулить общие экипажи, чтобы ничего не было украдено. И вот я с Шериданом отправился разыскивать какое-нибудь пристанище для себя. Мы подошли к дому, который еще горел. Рядом с ним стоял другой, но он был наполнен ранеными. В четвертом тоже; отсюда я, однако, не ушел. Я заметил наверху окно. «Что там наверху? – спросил я. – Все раненые». «Это надо исследовать». – И я пошел наверх, нашел 3 свободные кровати с хорошими и, по-видимому, довольно чистыми соломенными матрацами. Здесь мы переночевали. Я отлично спал».
«Да, – сказал его двоюродный брат граф Бисмарк-Болен, когда канцлер в первый раз рассказывал обо всем этом еще в Понт-а-Муссоне. – Ты тотчас же уснул, уснул и Шеридан, который завернулся в простыню и всю ночь видел тебя во сне, потому что я несколько раз слышал, как он бормотал: “О dear count!” «Гм, и наследный великий герцог – тоже этот приятный и любезный молодой человек», – сказал министр. «Лучшее в этой истории было то, – сказал Болен, – что, собственно говоря, не было никакой надобности искать ночлега. Они потом узнали, что недалеко от них находился роскошный загородный дом, приведенный в порядок для Базена, – с хорошими кроватями, сектом и другими дорогими винами; расположился там один из наших генералов и превосходно поужинал со своими товарищами».
Канцлер дорогою в Бюзанси продолжал: «Целый день я ничего не ел, кроме сухого хлеба и сала. Потом мы достали 5 или 6 яиц. Некоторые хотели их варить, но я разбил пару о шпагу и выпил сырыми, что меня очень освежило. На другой день, в первый раз в продолжение 36 часов, я насладился горячей пищей, предложенной мне генералом Гёбеном, и хотя это был только суп из гороховой колбасы, но он мне необыкновенно понравился».
Затем нашлась еще жареная курица, но «она ужасно вязла в зубах». Эта курица была предложена министру одним маркитантом, после того как уже была куплена у солдата другая сырая курица. Бисмарк принял ее от маркитанта и, заплатив ему за нее, отдал ему сверх того и сырую курицу, сказав: «Если мы еще раз встретимся на войне, то вы мне ее отдадите в жареном виде, если же нет, то, надеюсь, вы мне ее отдадите в Берлине».
Рыночная площадь города или местечка Бюзанси была наполнена офицерами, гусарами, уланами, фельдъегерями и разными повозками. Немного спустя прибыли Шеридан и Форсайт. В половине двенадцатого приехал король, и мы должны были тотчас выступить, так как получено было известие, что французы неожиданно остановились. Едва на расстоянии 4-х километров от Бюзанси успели мы добраться до плоскогорья, с правой и левой сторон которого были голые обрывы, как внезапно вдали послышался глухой треск. «Это выстрел из пушки», – сказал министр. Далее по ту сторону одного из обрывов на безлесной площадке стояли две колонны инфантерии, а впереди них находились две пушки, из которых стреляли. Но это было так далеко от нас, что выстрелы едва были слышны. Шеф удивлялся моей дальнозоркости. Сам он надел очки, без помощи которых он не может различать далеких предметов, о чем я, впрочем, узнал при этом впервые. Маленькие белые ядра, точно высоко поднявшиеся воздушные шары, носились две или три секунды в воздухе над обрывом и потом моментально исчезали. Орудия должны были быть немецкие, и, казалось, они направляли выстрелы по скату на противоположную сторону лощины, на верху которой чернел лес, а перед ним виднелось много темных линий. Вероятно, то были французы. Далее на горизонте возвышалась гора, на вершине которой росли 3 или 4 дерева. По карте обозначена была здесь деревня Стонн, откуда, как я после узнал, император Наполеон следил за ходом сражения.
Стрельба с левой стороны скоро прекратилась. Баварская артиллерия, голубые кирасиры и зеленые кавалергарды быстро промчались по дороге мимо нас. Немного далее, проезжая через небольшой лес, мы услыхали продолжительный треск, похожий на взрыв. «Разорвало ядро», – сказал Энгель, поворачиваясь к нам на козлах. Недалеко от того места, где баварские егеря отдыхали в шоссейных канавах и на клеверном поле, министр сел на лошадь, чтобы сопровождать едущего впереди нас короля. Мы несколько времени должны были простоять, чтобы дать дорогу быстро мчавшейся артиллерии. Егеря казались очень утомленными. Один из них жалобно просил у нас воды. «Вот уже пять дней, как у меня кровавый понос, – с грустью говорил он. – Ах! дорогой товарищ, я должен умереть, ни один доктор мне уже не поможет. Я весь горю». Мы старались его утешить и дали ему воды с коньяком. Батарея за батареей пролетали мимо нас, пока наконец мы не выбрались на свободу. Впереди, на горизонте, поднимались гранатные облака. Пушечный грохот становился яснее, слышался треск митральез, точно действовала колоссальная кофейная мельница. Наконец мы взяли направо в поле, мимо шоссе, от которого налево идет низменное место. Перед нами на небольшой возвышенности расположился король, на расстоянии 1000 шагов от лошадей и экипажей, в которых приехали он и его свита. Возле него находились шеф, много князей, генералов и других высших офицеров. Я следовал за ними по сжатому полю и наблюдал до позднего вечера сражение при Бомоне.
Перед нами расстилалась широкая, но не очень глубокая долина, на дне которой зеленел прекрасный лиственный лес. Затем виднелась покатая местность, на которой несколько правее был расположен городок Бомон со своею огромною церковью. Еще правее – опять был виден лес. Налево, на краю долины, – опять лес, вперемежку с кустарником. К нему вело шоссе, усаженное по обеим сторонам итальянскими тополями. Перед ним лежала маленькая деревушка или, точнее, несколько усадеб. Весь этот пейзаж с своею волнистою местностью заключался на горизонте линией далеких темных гор, возвышавшихся по сю и по ту сторону Бомона.
Теперь было ясно видно, как стреляли пушки. Город, вероятно, горит, судя по густому дыму, который стоит над ним и расстилается над деревнею и шоссе.
Стрельба немного умолкла. Прежде она была слышна около города, потом левее, наконец, выстрелы послышались из лесу, что на дне долины; вероятно, то стреляла баварская артиллерия, которая проезжала недавно мимо нас. Приблизительно около четырех часов прискакали галопом баварские кирасирский и кавалергардский полки, вслед за ними на шоссе показались уланы, если я не ошибаюсь, чтобы идти опять к деревне Стонн. Левее, близ опушки леса, происходила ожесточенная свалка. Один раз показался сильный огонь; а затем раздался треск. Вероятно, взлетел пороховой ящик. Говорят, что уже несколько времени в сражении принимает участие наследный принц.
Начало смеркаться. Король сидел на стуле и наблюдал за ходом сражения. Так как дул холодный ветер, то около него разложили костер из соломы. Канцлер взобрался на козлы вместе с Шериданом и его адъютантом. Ясно были видны искры лопающейся гранаты, которая вдруг из маленького облачка превращалась в остроконечную звезду. В Бомоне пылало зарево пожара. Французы быстро стягивались назад, и бой исчез за гребнем гор, которыми заканчивался горизонт. Сражение, которое уже в начале перешло в отступление неприятеля, было нами выиграно. Мы поймали волка, о котором говорил министр; по крайней мере мы должны будем поймать его завтра. На следующий день вечером, узнав все подробности, относившиеся к данному событию, я, между прочим, послал домой следующее письмо:
«Французы, во главе которых стоял император и его сын, отступают со всех пунктов, и все сражение было только наступлением с нашей стороны и отступлением со стороны французов, которые нигде не проявили той энергии, которую они выказали в сражении при Меце. Или они сильно пали духом, или у них много новобранцев, которые, разумеется, не могут сражаться, как настоящие солдаты. Форпосты их были дурно установлены, и их арьергард легко мог подвергаться нападению. Наши потери убитыми и ранеными на этот раз гораздо незначительнее, чем при Меце, где мы ближе сходились с французами. Напротив, последние во время неожиданного нападения на них при Муссоне, где они были оттеснены за Маас, потеряли очень много людей. Наша добыча, насколько теперь известно, состоит из двадцати пушек, одиннадцати митральез, двух лагерных палаток, множества багажа и военных запасов и приблизительно пяти тысяч пленных. Французская армия, насчитывавшая до этого дня в своих рядах 100 или 120 тысяч человек, заперта теперь в Седане и лишена всякой возможности обойти наше правое крыло к Мецу. Я думаю, мы имеем право считать победу 30-го августа за самую важную в настоящей войне».
С наступлением сумерек мы покинули нашу позицию, откуда наблюдали сражение, и возвратились в Бюзанси. Движение, господствовавшее в эту ночь здесь и кругом, напоминало о пребывании многочисленной армии. Дорога была занята баварской пехотой. Немного далее виднелись остроконечные каски прусской инфантерии. Наконец, тянулись длинные обозы, которые по временам загораживали нам путь.
Была темная ночь, когда мы доехали до Бюзанси, которое горело кругом сотнями огней. Длинные тени множества людей, лошадей и телег дрожали на полях. Мы вышли из экипажей перед домом одного доктора, который жил в конце улицы, недалеко от квартиры короля и к которому попали еще сегодня утром наши чиновники, остававшиеся в Гранпрэ. Я лег в задней комнате на полу, на соломенном матраце и под одеялом, принесенным мне из лазарета. Несмотря на это, я спал сном праведного.
Среда, 31-го августа . Между 9 и 10 часами утра король с канцлером поехали осмотреть вчерашнее поле битвы. Я осмелился сопровождать министра. Мы поехали по вчерашней дороге мимо Бар-де-Бюзанси и Соммота, причем мы обогнали несколько эскадронов баварских уланов, которые здесь отдыхали и которые встретили короля громогласным «ура!» Мне показалось, что их пики короче прусских. Из Соммота, наполненного ранеными, мы въехали в прекрасный лес. В 11 часов мы были в Бомоне. Король Вильгельм и канцлер сели тут на лошадей и поскакали через поля налево. Я пешком пошел по тому же направлению. Экипажи отправились в город, где должны были нас ожидать.
Но предварительно я записал себе на память приказания, которые я получил в течение дня от канцлера, чтобы завтра в точности исполнить их. Канцлер был опять необыкновенно сообщителен и снисходительно относился к моим расспросам. Он немного простудился. Прошедшую ночь он чувствовал сильные судороги в ноге, что с ним иногда случается. Ему помогает только следующее средство: он начинает босиком ходить по комнате. Но тут-то он и простудился. «Один черт должен быть изгнан другим: судороги кончились, а насморк начался».
Затем он выразил желание, чтобы я еще раз обратил внимание прессы на то, что французы ведут войну, как варвары, и что постоянно повторяются с их стороны нарушения правил Женевской конвенции, «которые, конечно, в сущности, никакого практического значения иметь не могут», добавил он. Говорил также, чтобы я упомянул об их непозволительной стрельбе в парламентеров, сопровождаемых трубачом и белым флагом. «Они позволили толпе оскорблять немецких пленных в Меце, – продолжал он, – не давали им ничего есть и запирали их в подвалы. Удивительного в этом, впрочем, ничего нет. Они постоянно воевали с дикарями, и после войн в Алжире, Китае, дальней Индии и Мексике они сами наконец сделались варварами».Потом он заметил, что вчера красноштанники не выказали ни особенной боевой стойкости, ни бдительности. «У Бомона, – продолжал он, – прикрытие тяжелой артиллерии в 6 часов утра наткнулось на их лагерь. Сегодня вот мы увидим, как убитые лошади у них валяются в пикетных ямах. Многих убитых нашли в одной рубахе, масса раскрытых ранцев и сумок на поле, а в них – остатки вареного картофеля и вяленой говядины».
При въезде в лес он, быть может, наведенный на эту тему нашей встречей на дороге с королевской свитой, в которой находились граф Бисмарк-Болен и Гацфельд, заговорил о Борке, королевском кассире, а потом перешел к графу Беристрофу, нашему тогдашнему послу в Лондоне.
Я при этом позволил себе предложить вопрос, что за человек был фон дер Гольц, о котором приходится слышать теперь самые разнообразные суждения. Был ли он в самом деле настолько способным и замечательным человеком, каким его считают теперь все.
«Да, в известном смысле он был способный человек, – отвечал он, – работник проворный, образованный, но человек крайне переменчивый в своих суждениях о лицах и событиях; сегодня относительно данного лица он принимает один способ действия, завтра – другой, часто противоположный первому. При этом он постоянно влюблялся в принцесс, при дворах которых он был аккредитован: сперва в Амалию греческую, потом в Евгению. Он был убежден, что если мне иногда удавалось сделать что-нибудь, то ему при его великом уме это должно удаться и подавно. Кроме того, он постоянно интриговал против меня, несмотря на то что в молодости мы были товарищами; он писал постоянно письма к королю, наполненные обвинениями и предостережениями против меня. В этом, однако же, он не имел успеха: король передал мне эти письма и поручил ответить на них. Но он был крайне упрям и продолжал работать в этом направлении неутомимо и беззастенчиво. Кроме того, подчиненные не любили его. Они просто презирали его. Я помню, что, когда я в 1862 году прибыл в Париж, я зашел к нему и велел доложить о себе, но он как раз в это время собрался прилечь отдохнуть. Я и хотел оставить его в покое, но секретари были очень рады случаю потревожить его; один из них пошел тотчас же доложить обо мне, чтобы иметь удовольствие побесить его. А между тем ему было очень легко снискать расположение и привязанность своих подчиненных. Посланник всегда может это сделать. И мне это также удавалось. Министру некогда этим заниматься – много есть другого, что нужно сделать и о чем надобно подумать. Поэтому я и обставил себя теперь более по-военному».
Из этой характеристики нетрудно усмотреть в фон дер Гольце натуру, родственную графу Арниму, так сказать, его предшественнику. Под конец министр заговорил о Радовице и при этом заметил, между прочим: «Перед Ольмюцем надобно было гораздо раньше привести армию в надлежащее положение; он виноват, что это не было сделано»… К сожалению, мы должны пока пройти молчанием те интересные сообщения, которыми мотивировано было вышесказанное суждение, равно как и многое другое, что сообщил нам потом канцлер.
Король и канцлер вскоре подъехали к тому месту, где действовало «прикрытие тяжелой артиллерии»; я, сделав свои наброски, тотчас же присоединился к ним. Место, о котором идет речь, лежит шагов на 800 или на 1000 вправо от дороги, которая привела нас к нему. От него по направлению к лесу, в глубине долины идут огороженные поля; там лежало около 12 убитых немецких солдат 31-го Тюрингенского полка. Один, простреленный в голову, зацепился за кустарник, через который он, очевидно, хотел перескочить. Вид места был ужасен. Все кругом синело и краснело французскими трупами; много убитых от взрыва гранат. Нападение на французов было произведено 4-м корпусом, который произвел в их рядах неописанное опустошение. Черные от пороха, покрытые запекшейся кровью, валялись мертвецы по полю, кто на спине, кто ничком, многие с открытыми неподвижными глазами, как у восковых кукол. На одном месте нашли мы пятерых убитых одним пушечным выстрелом. У троих были оторваны головы, у одного разорван живот, и из него вытекли внутренности; пятый, лицо которого было закрыто черным покрывалом, был изувечен, вероятно, еще более страшным образом. Поодаль, словно пустой сосуд, лежала верхняя часть черепа; а около него мозги – точь-в-точь как в кухне. Кепи, фуражки, сумки, листки бумаги, башмаки были рассеяны повсюду. Раскрытый офицерский чемоданчик, котел на потухшем костре с варившимся картофелем, куски мяса в блюдах, которые ветер посолил уже песочком, – все это показывало, насколько неожиданно явились наши, а вместе с ними и истребление. Бронзовая пушка тоже осталась на месте. Я снял с одного покойника бронзовую медаль, которая висела у него на голой груди на эластическом шнурке. На ней было изображение какого-то святого с крестом в руке; под фигурой знаки епископского достоинства: митра и жезл, вверху слова Crux S.Р. Bened. На оборотной стороне отчеканен пунктиром крест в кругу, напоминающий по форме наш ландверский крест, покрытый целыми рядами букв. Вероятно, это были начальные слова молитв или благочестивых заклинаний. Этот амулет католической церкви, надетый, вероятно, на шею бедному парню его матерью, а может быть, и священником, однако же, не помог ему нисколько. Маркитанты и солдаты расхаживали кругом и искали чего-то. «Вы не доктор ли? – вдруг спросил кто-то меня. «Доктор, но не врач. Что вам угодно?» «Там лежит один; он еще дышит». Раненый совершенно спокойно позволил положить себя на носилки и нести. Несколько дальше на полевой дорожке, ведущей к шоссе, мне попался еще один, лежавший навзничь; когда я наклонился к нему, он повернул глаза в мою сторону, грудь его еще поднималась, хотя коническая немецкая пуля сидела у него во лбу. На пространстве приблизительно в 500 квадратных шагов лежало около 150 трупов, и между ними – не более 10 или 12 из наших.
Подобным зрелищем я, однако же, уже насытился по горло и потому поторопился поскорее добраться в Бомон, к нашей колонне. По дороге туда, перед первыми домиками деревни, направо от дороги, увидал я целую толпу пленных французов. «Около семисот», – сказал мне охраняющий их со своим отрядом лейтенант, угощая меня стаканом мутного баварского пива, за что я отблагодарил его глотком коньяка из моей дорожной фляжки. Далее попадается мне молодой раненый офицер в экипаже; солдаты его роты приветствуют раненого, делая ему под козырек. На рыночной площади около церкви местечка опять пленные красноштанники и между ними несколько офицеров. Я спрашиваю саксонского егеря, где королевские экипажи. «Уехали уже с четверть часа назад вон в ту сторону». Значит, опоздал во всяком случае. Спешу по указанному направлению вдоль шоссе, усаженного тополями, к сожженной вчера вечером деревеньке. Жара страшная. Спрашиваю снова у стоящих в деревне солдат о королевских экипажах. Наконец за последним домом деревни, у опушки леса, где направо и налево в шоссейных рвах лежат массами тела убитых баварцев и французов, заметил экипаж шефа. Он чистосердечно обрадовался моему возвращению. «Ну, вот и вы наконец. А я хотел было уж послать за вами. Впрочем, если б вы и не вернулись, я был уверен, что вы не пропадете. Я думал, в случае если доктор не вернется к ночи, он дойдет до сторожевых костров и расспросит, где мы», – говорил шеф.
Потом он рассказал мне, что ему пришлось увидать и испытать в это время. Он обратил также внимание и на первую попавшуюся мне, упомянутую выше, партию пленных. Среди них он заметил священника, который, как говорят, стрелял по нашим солдатам. «Он отрицал этот факт, когда я его спрашивал. Берегитесь, сказал я ему, если это будет доказано, вас повесят непременно. Рясу-то я велел снять с него потом».
«У церкви, – продолжал шеф, – король заметил раненого мушкетера; и хотя последний после вчерашней работы был порядочно-таки грязен, но король все-таки подал ему руку, чем, без сомнения, немало изумил бывших при этом французских офицеров. – Ваше звание? – спросил король раненого. – Доктор философии. – В таком случае вы, должно быть, умеете переносить вашу рану, как подобает философу. – Да, – отвечал тот, – я уже приготовился к этому».
Дорогой, около другой деревни, встретили мы кучку баварцев, простых солдат; они нога за ногу тащились под палящими лучами солнца. «Эй, земляк, – крикнул одному из них союзный канцлер, – не хотите ли коньяку?» Ему, разумеется, хотелось; выразительный взгляд другого показывал, что и он тоже страстно желает хлебнуть, третий тоже; каждый из них, а за ними и другие отпили по глотку, кто из министерской, кто из моей фляжки, и потом каждый получил еще по сигаре.
Четверть мили дальше в деревне, не означенной на моей карте, – название ее, кажется, Креанж или что-то в этом роде, – находились лица из свиты кронпринца. Здесь король приказал подать завтрак, к которому был приглашен также и граф Бисмарк. Я же присел на камень у дороги и набросал карандашом мои заметки, потом пошел помогать переносить и убирать раненых голландцам, которые недалеко от этого места раскинули большую зеленую палатку и устроили свой вспомогательный амбуланс.
Вернувшись, министр спросил меня, что я поделывал. Я сказал ему. «Я и сам охотно пошел бы с вами туда», – ответил он, глубоко вздохнув.
Потом дорогой разговор довольно долгое время вертелся около высших сфер, и шеф охотно и обстоятельно отвечал на мои вопросы и удовлетворял моей любознательности. Я сожалею, что по разным причинам должен оставить эти сообщения про себя; я могу только заметить, что они были настолько же характерны, насколько и поучительны и далеко не чужды живого и острого юмора. Потом от богов, из заоблачных сфер, мы снова перешли к простым смертным, коснулись между прочим Аугустенбургера и его баварского мундира. «Он мог бы устроиться гораздо лучше, – заметил министр. – Я сначала от него требовал только тех уступок, на которые согласились мелкие немецкие князья в 1866 году. Он же не сдавался ни на какие компромиссы. Я припоминаю мои переговоры с ним в 1864 году. Дело происходило у меня в биллиардной, рядом с моим кабинетом. Разговор тянулся до ночи, я называл его тогда в первый раз ваше высочество и был вообще с ним очень обходителен. Я заговорил о том, что нам нужна очень Кильская гавань. Он возразил, что при этом ему придется уступить около полутора квадратных миль. С этим я тоже должен был согласиться. Когда же он сказал, что ничего не хочет слышать о наших требованиях, что этому препятствуют чисто военные соображения, – я переменил с ним тон. Вместо высочества начал величать сиятельством и совершенно хладнокровно на нижненемецком наречии пояснил, что цыпленку, которого мы сами высидели, мы сумеем и шею свернуть».
После необыкновенно долгой дороги через горы и долы, только к 7 часам вечера добрались мы наконец до нашего временного места жительства, городка, или, правильнее, местечка Вандресс. Дорогой мы проезжали через довольно большие селения, попались нам также два замка. Один очень старинной постройки, с массивными угловыми башнями. Переехали потом через какой-то канал, обсаженный высокими старыми деревьями; это последнее место напомнило канцлеру характерные черты бельгийского ландшафта. В одной деревне увидал меня через окно Людвиг Пейтш, попавший сюда, вероятно, в качестве военного корреспондента, и поздоровался со мной. В ближайшей затем деревушке Шемери была остановка на полчаса. Король делал осмотр нескольким пехотным полкам, по каковому случаю ему кричали «ура!».
В Вандрессе канцлер остановился в доме вдовы Бодело, где устроились и другие близкие к нему лица. С Кейделлем и Абекеном, которые приехали, если не ошибаюсь, из Бюзанси, случилось в дороге приключение. В лесу, за Сомотом или около Стонна, из чащи на них высыпало восемь или десять французских солдат с Шасспо. Они появились и скрылись снова в лесу. Господа генералы отступили в полном порядке и поехали по более верной дороге. Ничего нет невозможного, что обе стороны ударились в бегство друг от друга. Сен-Бланкар, ехавший с Бельзингом и Виллишем по той же дороге и тоже испытавший сладость встречи с красными штанами, полагает, что он подвергал свою жизнь опасности ради отечества. Наконец, Гацфельд с Бисмарком-Боленом похвалились маленьким геройским подвигом: если я не забыл, они в том местечке, где канцлер завтракал с королем, разыскали беглого француза в винограднике, и не помню уж, сами ли они его взяли в плен или другим поручили сделать это.
В Вандрессе в первый раз я встретил вюртембергских солдат: здоровые, плотные ребята; темно-голубая форма их с двумя рядами белых пуговиц и черными перевязями напомнила мне датские военные мундиры.
Глава V
День Седанской битвы. – Бисмарк и Наполеон в Доншери
По всем сведениям, первого сентября приближалась к концу охота Мольтке за французами в области Мааса, и мне выпало на долю присутствовать на ней в этот день. Встав утром очень рано и приведя в порядок мой дневник, куда в ближайшем будущем должны были занестись весьма интересные события, я, выйдя из моей квартиры, направился к дому Бодело. Я пришел туда как раз в тот момент, когда мимо решетки садика квартиры шефа проходил сильный кавалерийский отряд, состоявший из пяти прусских гусарских полков, зеленых, коричневых, черных и красных (Блюхеровских). Слышно было, что шеф через час намерен отправиться вместе с королем на обсервационный пункт перед Седаном следить за ходом ожидаемой ныне катастрофы. Когда экипаж подъехал, вышел канцлер, осмотрелся кругом, и взгляд его упал на меня. «Умеете ли вы дешифрировать депеши, доктор?» – спросил он меня. Я отвечал утвердительно. «Ну, так возьмите с собой ключи и отправляйтесь с нами». Я не заставил себя повторять приглашения и через несколько времени ехал уже в карете, где в это утро, кроме меня, сидели Бисмарк-Болен и министр.
Сделав несколько сот шагов, мы остановились перед домом, где жил Верди, позади королевских экипажей, которые здесь поджидали государя. В это время явился Абекен с бумагами за получением приказаний. Шеф принялся что-то растолковывать и, по своему обыкновению, во второй раз повторять разъясненное; но в эту минуту проехал принц Карл со своим известным всем негром, одетым в восточный костюм. Наш старик, превращающийся обыкновенно весь в слух и внимание, когда с ним говорит шеф, имел слабость ко всему, что, так или иначе, касается двора, которая на этот раз послужила ему не к добру. Появление принца, очевидно, приковало к себе гораздо большее внимание, чем слова министра. Последний, заметив это, предложил ему несколько вопросов по поводу тотчас сказанного и получил ответы на них совершенно неподходящие. За это старику сделано было суровое внушение. «Однако же слушайте ради самого создателя, что я вам говорю, господин тайный советник, и оставьте принца в покое. Мы ведь с вами говорим о делах. – Потом, обращаясь к нам, прибавил: – Старик совсем теряет соображение, когда видит какую-нибудь придворную церемонию. Но без него обойтись я никак не могу», – докончил он, как бы извиняя Абекена.
После того как король вышел и пестрая свита его помчалась вперед, тронулись и мы. Мы снова проехали через Шемери и Шеери, места, знаменитые по вчерашним событиям, и остановились около третьей деревни у подошвы обнаженного холма, налево от шоссе. Здесь король со своей свитой из князей, генералов и придворных сели на лошадей; наш шеф последовал их примеру, и все направились на плоскую вершину холмика, стоявшего перед нами. Отдаленный гул пушек возвестил нам, что ожидаемая битва уже в полном разгаре. Яркое солнце на безоблачном небе освещало расстилавшуюся перед нами картину.
Оставив экипаж на попечение Энгеля, я присоединился к обществу, расположившемуся наверху, посреди сжатого поля, откуда видно было на далекое расстояние окрестности. Перед нами глубокая и широкая, по большей части покрытая зеленью долина; на окаймляющих ее вершинах порос кое-где лесок, вдоль по лугам, змеясь, течет голубая река Маас, подходящая вплоть к маленькому укреплению Седана . По гребню возвышения, направо от нас, на расстоянии ружейного выстрела начинается лес, налево – кустарник. На переднем плане, прямо под нами, долина образует косой уступ; здесь, направо от нас, стоят батареи баварцев и усердно посылают свои снаряды в неприятельский город; за ними чернеют войска, выстроенные колоннами; впереди пехота, за нею кавалерия. Еще правее поднимается колонна черного дыма. Говорят, что это горит деревня Базейлль. Седан рисуется на горизонте приблизительно в расстоянии четверти мили от нас; при ясной атмосфере его дома и церкви отчетливо видны отсюда.
Над крепостью, стоящею влево от города, в виде отдельного предместья недалеко от противоположного берега реки поднимается ряд широких холмов, покрытых лесом. Лес этот спускается и в глубину ущелья, расщепляющего здесь гребень гор; левая сторона его обнажена, правая местами покрыта деревьями и кустарниками. Около ущелья я замечаю, если меня не обманывает зрение, несколько деревенских домиков, а может быть, и вилл. Левее холмов – равнина; среди нее возвышается одинокая горка, увенчанная группой высоких деревьев. Недалеко оттуда, среди реки – обломки взорванного моста. В отдалении направо и налево видны три или четыре деревеньки. На горизонте задний план картины замыкает мощный горный хребет, покрытый густым, непрерывным, по-видимому, хвойным лесом. Это Арденнские горы на бельгийской границе.
На холмах, прямо за крепостью, находится, по-видимому, главная позиция французов. Кажется, наши войска намерены охватить их в этом месте со всех сторон. В настоящую минуту можно заметить только наступление правого крыла наших: они медленно, но безостановочно подвигают вперед линию огня действующих орудий; исключение составляет только наша баварская батарея, которая все время стоит на одном месте. Пороховой дымок показывается и за холмами, и за расселиной; можно заметить, что расположенное полукругом войско, охватывающее неприятеля, стремится образовать вокруг последнего замкнутый круг. На левой половине сцены господствует полнейшая тишина. Часам к одиннадцати из крепости, которая все время не отвечала на выстрелы, поднимается столб черного дыма, окаймленный языками желтоватого пламени. За линией огня французов и над лесом беспрестанно показываются белые облачка от выстрелов неизвестно чьих войск – немецких или французских. По временам раздаются также треск и шипение митральез.
На нашей горке блестящее собрание: король, Бисмарк, Мольтке, Роон, князья, принц Карл, высочества Кобургские и Веймарские, наследный герцог Мекленбургский, генералы, флигель-адъютанты, гофмаршалы, граф Гацфельд, вскоре, впрочем, исчезнувший, русский агент Кутузов, английский Валькер, генерал Шеридан, его адъютант, все в полной форме с биноклями около глаз; король стоял, а канцлер занял место около полевой межи. Я слышал, что король велел сказать, чтобы присутствующие не скучивались вместе; в противном случае французы могли заметить группу из крепости и открыть по ней огонь.
К одиннадцати же часам благодаря энергичному движению, имевшему целью окружить позицию французов, начала выясняться и наша атакующая линия на правом берегу Мааса. Я стал горячо беседовать по этому поводу с одним пожилым придворным, может быть, гораздо громче и пространнее, чем было позволительно по условиям места и времени; чуткое ухо шефа уловило мои слова, он осмотрелся и знаками подозвал меня к себе. «Если вы, доктор, намерены развивать стратегические идеи, – сказал он мне, – то желательно, чтобы вы делали это не так громко; в противном случае король может осведомиться, кто это рассуждает там, и мне придется представить вас».
Вскоре принесли ему телеграмму, и он подошел ко мне и дал мне шесть штук их для дешифрирования. Таким образом, я на некоторое время потерял возможность следить за ходом битвы.
Я отправился вниз к экипажам, и в нашем нашел я себе товарища, графа Гацфельда, которому тоже пришлось в этот день в своих занятиях соединять полезное с приятным; впрочем, как мне показалось, он был меньше моего недоволен этим обстоятельством. Шеф поручил ему немедленно переписать длинное французское письмо в четыре страницы, перехваченное сегодня нашими солдатами. Я забрался на козлы, достал шифровые ключи и, вооружившись карандашом, принялся разбирать депеши, а битва за холмом гремела между тем, как ураган. Торопясь поскорее закончить работу, я и не замечал лучей полуденного солнца, которое обожгло мне одно ухо до такой степени, что оно покрылось волдырями. Первую разобранную телеграмму я отослал к министру с Энгелем – ему тоже хотелось посмотреть на битву. Следующие две я отнес ему сам, так как, к величайшему моему удовольствию, шифры, взятые нами, не подходили к трем последним телеграммам. По мнению шефа, впрочем, большой потери от этого быть не могло.
Был час дня. Линия нашего огня, охватывая большую часть неприятельского расположения, заняла собою и высоты, расположенные по ту сторону города. На дальних линиях взвивались уже белые клубы порохового дыма и знакомые нам уже, разорванные, неправильной формы облака от выстрелов шрапнелью; только на левом крыле все еще господствовала тишина. Канцлер сидел на стуле и внимательно изучал какой-то длинный документ. Я спросил его, не хочет ли он закусить и есть ли у нас с собой провизия. Он отклонил мое предложение. «Я бы не прочь, но и у короля ничего нет с собой», – пояснил он.
Неприятель, должно быть, находился недалеко от нас за рекой – все чаще и чаще слышалось отвратительное шипение митральез, про которые говорили, однако ж, что они больше лают, чем кусают.
Между двумя и тремя часами король, проходя близко мимо того места, где я стоял, посмотрел несколько минут в бинокль по направлению к предместью города и сказал окружающим: «Они сдвигают большие массы войск влево – мне кажется, они хотят прорваться там». И в самом деле колонны пехоты двинулись вперед по этому направлению, но быстро отступили назад, вероятно, заметив, что там также стоят войска, хотя и не слыхать выстрелов. Вскоре видно стало в зрительную трубу, как левее леса и ущелья французская кавалерия несколько раз пускалась в атаку. На нападения отвечали с нашей стороны беглым огнем. После отбития атак можно было и невооруженным глазом заметить, что вся дорога отступления французов покрыта валяющимися белыми предметами, трупами лошадей и шинелями. Немного спустя артиллерийский огонь начал заметно ослабевать по всей линии и французы отступили к городу и его ближайшим окрестностям. Как тотчас же было узнано, неприятель и слева, где недалеко от нашего холма вюртембержцы поставили две батареи и куда, как говорили, были стянуты 5-й и 11-й корпуса армии, был окружен и притиснут к бельгийской границе. В половине пятого повсюду замолкли французские пушки, а немного позднее стихли и наши.
Сцена оживилась еще один раз. Сперва в одном, потом в другом месте в городе показались два громадных белых облака – признак, что в двух местах начался пожар. И Базейлль все еще горит; от пожара на правой стороне горизонта в прозрачном вечернем воздухе поднимается густой громадный столб серого дыма. Красноватое вечернее освещение принимает все более и более интенсивный багровый цвет и золотит своими лучами лежащую перед нами долину. Холмы поля сражения, овраг среди них, деревни, дома и башни крепости, предместье Корси, налево в отдалении разрушенный мост – все это резко очерчивается среди красноватого освещения, и с минуты на минуту, все яснее и яснее вырисовываются отдельные подробности предметов.
Часов в пять генерал Гиндерзин разговаривал с королем; мне послышалось, что они говорили об обстреливании города и о грудах развалин. Четверть часа спустя является к нам баварский офицер; генерал Ботмер сообщает через него королю известие от генерала Майлингера о том, что последний стоит со стрелками в Корси; французы желают капитулировать; от них требуют безусловной сдачи. «Никто не может вести переговоры об этом деле, кроме меня. Скажите генералу, что парламентер должен явиться ко мне», – возражает король.
Баварец спускается обратно в долину. Король вдвоем беседует с Бисмарком, оба подходят к кронпринцу, затем слева присоединяются к ним Мольтке и Роон. Высочества Веймарский и Кобургский стоят в стороне. Несколько времени спустя является прусский адъютант и рапортует, что потери наши, насколько можно судить в настоящую минуту, не очень значительны: в гвардии они умеренны, среди саксонцев значительнее и менее многочисленны в остальных бывших в деле войсках. Только небольшой отряд французов проскользнул в лес по направлению к бельгийской границе, где их и разыскивают. Остальные все отступили в Седан.
«А император?» – спрашивает король.
«Это еще неизвестно», – отвечает офицер.
В 6 часов является новый адъютант и рапортует, что император находится в городе и немедленно пришлет парламентера.
«Однако результат прекрасный! – говорит король, обращаясь к окружающим. – И я благодарю тебя, что и ты этому содействовал», – заявляет он кронпринцу.
Затем он подал руку сыну, который поцеловал ее. Потом протягивает король руку Мольтке, тот тоже целует ее. Под конец подает он руку также и канцлеру, и они несколько времени толкуют о чем-то вдвоем, что, как кажется, не совсем нравится некоторым из высочеств.
В половине седьмого предшествуемый почетным эскортом из кирасиров слева медленно въезжает на гору парламентер от Наполеона, французский генерал Рейль. За десять шагов перед королем он спешивается, идет к нему, снимает шапку и передает ему большой пакет с красной печатью. Генерал – пожилой человек среднего роста, худощавый, в черном сюртуке с аксельбантами и эполетами, черном жилете, красных штанах и лакированных ботфортах. В руках у него не шпага, а тросточка. Все отступают на несколько шагов от короля, последний распечатывает письмо, читает его и затем передает содержание этого известного теперь всем документа Бисмарку, Мольтке, кронпринцу и остальным лицам. Рейль стоит поодаль против короля сперва в одиночку, потом вступает в разговор с прусскими генералами. Кронпринц, Мольтке и герцог Кобургский также вступили в разговор с французским генералом, а король в это время держал совет с канцлером; последний поручал Гацфельду написать ответ на письмо императора. Через несколько минут письмо было готово. И король переписал его начисто, причем он сидел на стуле, а столом ему служил другой стул, который майор Альтен, стоя перед ним на одном колене, держал на другом.
Около семи часов француз в сопровождении офицера и трубача-улана с белым парламентерским флагом отправился назад в Седан. Город горит теперь уже в трех местах, и, судя по красному отблеску дыма, в Базейлле тоже еще не кончился пожар. В остальном седанская трагедия кончилась, и ночь опустила занавес.
На следующий день должен был наступить эпилог драмы. Теперь же все начали разъезжаться по домам. Король уехал снова в Вандресс. Шеф, граф Бисмарк-Болен и я отправились в деревню Доншери, куда мы прибыли уже ночью и поместились там в доме доктора Жанжо. Селение было полно вюртембергскими солдатами, которые расположились лагерем на рыночной площади. Мы переменили место ночлега, потому что Бисмарк и Мольтке по условию должны были еще нынче вечером повидаться с французскими уполномоченными и прийти к соглашению относительно условий капитуляции запертых в Седане четырех корпусов французской армии.
Я ночевал в маленьком алькове возле задней комнаты первого этажа, стена об стену с канцлером, который занимал большую переднюю комнату. Ранним утром, часов около 6, разбудили меня тяжелые шаги. Я слышал, как Энгель говорил: «Ваше превосходительство, ваше превосходительство, какой-то французский генерал ждет вас у дверей; я не пойму, что ему нужно». Потом мне послышалось, что министр быстро поднялся с постели и через окошко обменялся несколькими короткими фразами с французом – это был снова генерал Рейль. Результат разговора был таков, что министр быстро оделся и, не дожидаясь завтрака, несмотря на то что он не ел ничего со вчерашнего дня, сел на лошадь и быстро ускакал. Я поскорее прошел в его комнату и бросился к окну, чтобы увидать, куда он поехал. Он скакал по направлению к рынку. В комнате его царствовал полнейший беспорядок. На полу лежала «Тägliche Lösungen und Lehtexte der Üdergemeinde für 1870», на ночном столике – другая религиозно-нравственная книга «Die tägliche Erquickung für gläubige Christen», которую, по словам Энгеля, канцлер постоянно читает, отходя ко сну.
Я также поспешил одеться, и, узнав, что граф отправился в Седан на встречу к императору Наполеону, который вышел уже из крепости, я поспешил туда же как можно скорее. Шагов 800 от моста через Маас у Доншери, направо от обсаженного тополями шоссе, стоит уединенный домик, в котором тогда жил какой-то бельгийский ткач. Домик выкрашен желтоватой краской – двухэтажный, в четыре окна с фасада; в нижнем этаже в окнах – белые ставни, во втором – такого же цвета жалюзи; крыша шиферная, как почти на всех домах в Доншери. Налево от домика – картофельное поле, сплошь покрытое белыми цветами, направо, шагах в пятнадцати от дороги, – мелкий кустарник. Я вижу, что канцлер встретил уже императора. Перед домиком ткача стояло шестеро высших офицеров французской армии. Из них пятеро имели на головах красные кепи с золотым околышем, на шестом была черная. На шоссе стоит четырехместный экипаж, по-видимому, наемная карета. Напротив французов стояли граф Бисмарк, его двоюродный брат граф Болен, поодаль от них Левештрем и два гусара, черный и коричневый. В восемь часов появился Мольтке с несколькими офицерами генерального штаба, но вскоре уехал снова. Немного времени спустя из-за дома вышел небольшого роста, худощавый человек в красном кепи с золотым околышем, черном пальто на красной подкладке с капюшоном и красных штанах; он заговорил с сидевшими на меже картофельного поля французами. На нем были белые лайковые перчатки, и он курил папироску. Это был император.
На том незначительном расстоянии, на котором я от него находился, я мог ясно разглядеть его лицо. Взгляд его светло-серых глаз имел в себе что-то мягкое, выражавшее утомление, как у людей, сильно поживших. Фуражка была сдвинута несколько на правую сторону, на которую склонялась и голова. Ноги непропорционально коротки по сравнению с длинным туловищем. Во всей фигуре императора было мало военного. Он казался слишком смиренным, можно сказать, слишком жидким для военного мундира, который он носил. Можно было подумать, что по временам на него нападают припадки сентиментальности. Это впечатление усиливалось еще более при сравнении маленького моллюскообразного человека с высокой и плотной фигурой нашего канцлера. Наполеон показался мне грустным, но не слишком разбитым нравственно и не настолько пожилым, как я его себе представлял. Он имел вид хорошо сохранившегося пятидесятилетнего мужчины. Через несколько минут он подошел к шефу, поговорил с ним в течение трех минут и потом снова пошел прохаживаться по картофельному полю взад и вперед, покуривая и заложив руки за спину. Затем снова короткий разговор между императором и канцлером, начатый в этот раз последним, после которого Наполеон опять отходит к своим французским спутникам. В три четверти девятого Бисмарк со своим двоюродным братом направился в Доншери, куда и я за ним последовал.
Министр несколько раз принимался рассказывать события нынешнего утра и вчерашнего вечера. Я соединяю в одно целое эти отдельные сообщения, стараясь сохранить не только смысл, но и подлинные слова рассказанного министром:
«Мольтке и я после битвы первого сентября для переговоров с французами направились в Доншери в пяти километрах от Седана, король же и главная квартира возвратились в Вандресс. Переговоры тянулись до полуночи, не приведя ни к какому результату. С нашей стороны, кроме меня и Мольтке, при переговорах присутствовали Блюменталь и еще трое или четверо из офицеров генерального штаба. Со стороны французов говорил Вимпфен. Требования Мольтке были кратки и ясны: вся французская армия сдается в качестве военнопленных. Вимпфен находил условия слишком тяжелыми. Армия за свою храбрость заслуживала лучшей участи. По его мнению, можно было отпустить армию, взяв с нее слово не действовать против нас в настоящую войну и обязав ее отойти в такую местность Франции, какую мы ей укажем, или в Алжир. Мольтке спокойно настаивал на своих требованиях. Вимпфен выставил ему на вид свое несчастное положение. Всего два дня назад прибыл он к армии из Африки; командование принял он под конец битвы после того, как Мак-Магон был ранен уже, и теперь он должен подписать свое имя под такой капитуляцией! Лучше он попробует держаться в крепости или отважится пробиться. Мольтке сожалел о том, что он, вполне уважая соображения генерала, не может принять их в расчет. Он признавал мужество французских солдат, но объяснил, что в Седане держаться далее невозможно и что равным образом нельзя и пробиться сквозь ряды нашей армии. Он готов был даже позволить одному из офицеров генерального штаба осмотреть наши позиции, чтобы доказать справедливость своих слов. Вимпфен попробовал на основании политических соображений склонить нас на более выгодные для французов условия. Мы должны бы желать скорого и прочного мира: для этого нам полезно показать свое великодушие. Пощада армии обязала бы к благодарности весь народ и возбудила бы дружественные чувства. Противное было бы началом бесконечной войны. После этого я взял слово, так как дело коснулось моей специальности. Я сказал ему, что можно было бы положиться на признательность государя, но не народа, а всего менее французского. У них нет ни прочного государственного порядка, ни учреждений; формы правления и династии сменяют одна другую, и при этом последующее правительство не считает обыкновенно себя обязанным выполнить обязательство предыдущего. Если б император крепко сидел на своем троне, то можно было бы рассчитывать на его благодарность, заключая условия сдачи армии. В настоящем же положении было бы глупостью не воспользоваться всеми выгодами, какие нам представлялись. Французы – завистливый и честолюбивый народ. Они были недовольны Кениггрецом и не простили нам его; а Кениггрец им не сделал никакого вреда. Какое же великодушие с нашей стороны может заставить их отказаться отплатить нам за Седан. Вимпфен не хотел согласиться со мной: он утверждал, что во время империи Франция научилась предпочитать мирное развитие военной славе, что она готова объявить братский союз всех народов и т. д. Было нетрудно доказать ему, что принятие его условий затянуло бы войну, а не способствовало бы ее окончанию. Я покончил тем, что мы остаемся при своих прежних требованиях».
«Затем говорил Кастельно и объяснил по поручению императора, что последний вчера передал королю свою шпагу только в надежде на почетную капитуляцию. Я спросил, чья это была шпага, шпага императора или шпага Франции. – Шпага императора, отвечал тот. – В таком случае об изменении условий не может быть и речи, быстро сказал Мольтке, и довольная улыбка скользнула по его лицу. Если так, мы завтра снова начнем битву. В четыре часа я снова велю открыть огонь, заключил Мольтке, и французы поднялись, чтобы уйти. Я постарался остановить их и еще раз обсудить дело; в конце концов, дело свелось на просьбу о продлении перемирия, которое дало бы им возможность обсудить в Седане вместе с своими наши требования. Мольтке сначала не соглашался на это, но уступил потом, когда я ему представил, что от этого никакого вреда для нас быть не может.
Второго сентября утром в 6 часов перед моей квартирой в Доншери появился генерал Рейль и объявил, что император желает говорить со мной. Я тотчас оделся и, неумытый, в пыли, как был в старой фуражке и больших смазных сапогах, поскакал в Седан, где, как я полагал, находится император. Но я встретил его уже во Френуа, за три километра от Доншери на шоссе. Он ехал в пароконной коляске с тремя офицерами, а трое других сопровождали его верхом. Из них мне были известны только четверо: Рейль, Кастельно, Москова и Вобер. Я взялся за свой револьвер, и глаза императора остановились на нем в течение нескольких минут… [3] Я поздоровался с ним по-военному, а император снял фуражку; сопровождавшие его офицеры последовали данному им примеру, после этого и я снял шапку, хотя это и противно военному регламенту. «Couvrez vous done», – сказал он мне. Я обходился с ним так, как бы он был в Сен-Клу, и спросил, не будет ли от него каких приказаний. Наполеон осведомился, может ли он поговорить с королем. Я объяснил ему, что это неисполнимо в данную минуту, так как его величество имеет квартиру в двух милях отсюда. Мне не хотелось сводить его с королем раньше, чем мы порешим с ним вопрос о капитуляции. Затем он спросил, где ему остановиться, и заявил, что он не может возвратиться в Седан, где его ждут неприятности. Город полон пьяных солдат, присутствие которых очень тягостно для жителей. Я предложил ему свою квартиру в Доншери, которую обязался освободить немедленно. Он согласился на это. Но проехав шагов двести, он велел остановиться и спросил, не может ли он остановиться в домике, который встретился нам тут. Я послал туда моего двоюродного брата, который между тем подъехал к нам; когда он вернулся, я сообщил императору, что там очень бедное помещение. «Это ничего», – отвечал он. Видя, что он ходит взад и вперед и не находит, вероятно, лестницы, я подошел и поднялся с ним в первый этаж, и мы вошли в маленькую комнату в одно окошко. Это была лучшая комната в доме, но в ней мы нашли только простой сосновый стол и пару деревянных стульев.
Здесь у меня был разговор с императором, продолжавшийся около трех четвертей часа. Он сначала жаловался на несчастную войну, которой он вовсе не желал. Он вынужден был объявить ее под давлением общественного мнения. Я возразил ему, что и у нас никто не желал войны, а всего менее король. Мы также смотрели на испанский вопрос исключительно как на испанский, а не как на немецкий, и мы полагали, по его добрым отношениям к царствующему дому Гогенцоллернов, что ему и наследному принцу легко будет прийти к соглашению. Потом разговор перешел на настоящее положение вещей. Он желал прежде всего снисходительных условий капитуляции. Я объяснил ему, что не могу входить в такие переговоры, где выступают на первый план чисто военные вопросы, которые должен решить Мольтке. Затем мы заговорили о мире. Он объявил, что, как пленный, считает для себя невозможным решать условия мира. Я спросил, кого же он считает компетентным в этом деле; император указал на правительство, заседающее в Париже. Я заметил ему, что так как обстоятельства не изменились со вчерашнего дня, то мы и намерены настаивать на наших требованиях относительно Седанской армии, не желая рисковать результатами вчерашней битвы. Мольтке, которого я известил о случившемся, явился к нам и заявил, что он поддерживает мое мнение; вскоре он отправился к королю передать обо всем происходящем.
Прохаживаясь перед домом, император в разговоре отзывался с похвалой о наших солдатах и их командирах; когда же я, в свою очередь, заявил, что и французы тоже бились храбро, он заговорил снова об условиях капитуляции и спросил, не согласимся ли мы запертую в Седане армию переправить за бельгийскую границу и оставить ее там, предварительно обезоружив. Я снова попытался дать ему понять, что это вопрос военный и не может быть разрешен без соглашения с Мольтке. Он тотчас же заметил на это, что в качестве военнопленного он не может представлять собою правительственной власти, а потому и переговоры о подобных вопросах должны быть ведены с главным начальником французской армии в Седане.
Между тем отправились искать более удобное помещение для императора, и офицеры генерального штаба нашли, что маленький замок Бельвю около Френуа, где я в первый раз встретился с Наполеоном после битвы, может служить квартирою для него и еще не занят ранеными. Я сказал об этом императору и советовал ему перебраться в замок, так как в домике очень неудобно, а он, вероятно, нуждается в спокойном помещении. Королю же мы сообщили о новом местонахождении императора. Он ушел в домик, а я поскакал в Доншери переодеваться. Потом я перевел его в сопровождении почетного эскорта, состоявшего из взвода солдат первого кирасирского полка, в Бельвю.
Император настаивал на участии короля в переговорах, которые имели начаться здесь, рассчитывая на его мягкость и доброту, но он также желал, чтобы и я принял участие в обсуждении дела. Я же думал, что военные – люди более суровые и должны решить судьбу переговоров; подымаясь вместе на лестницу, я сказал тихонько офицеру, что пусть он вызовет меня через пять минут как бы по требованию короля; офицер так и сделал. Относительно короля было сказано пленному, что он увидит его лишь после подписания капитуляции. Дело и было облажено между Мольтке и Вимпфеном почти так, как мы говорили накануне. Затем произошло свидание их величеств. Когда император выходил от короля, я заметил слезы на его глазах. Со мной он был гораздо спокойнее и держал себя с большим достоинством».
Обо всех этих происшествиях, имевших место утром 2-го сентября, мы ровно ничего не знали определенного с того самого момента, как шеф в новом мундире и кирасирской каске снова ускакал из Доншери. Вплоть до самого вечера к нам доходили только неопределенные слухи о случившемся. В половине десятого мимо нас на рысях пронеслась вюртембергская артиллерия; это значит, что французы намерены сопротивляться и Мольтке дает им сроку на размышление до 11 часов, после чего должна немедленно начаться канонада из 500 орудий единовременно. Я отправился вместе с Виллишем посмотреть на это зрелище; мы прошли через Маасский мост, где около казарм стояли пленные французы, на шоссе к историческому отныне домику бельгийского ткача, а оттуда – на вершину холма, с которой нам виден был весь Доншери с его серыми шиферными крышами и все его окрестности. Повсюду по полям и дорогам кавалерия подымала целые клубы пыли, повсюду блестели стальной щетиной колонны пехоты. В той стороне от Доншери, где находился взорванный мост, виднелся лагерь. Все расстилавшееся внизу шоссе было сплошь занято повозками с багажом и фуражом. Так как и после 11 часов стрельба еще не началась, то мы и спустились снова вниз. Здесь мы встретили полицейского офицера Черницкого, который сбирался в экипаже ехать в Седан и нас звал с собою. Мы почти доехали с ним до Френуа, как нам встретился король – это было в час уже – с многочисленной свитой верховых, среди которых мы заметили и канцлера. Полагая, что наш шеф едет домой, мы сошли с экипажа и вернулись назад. Кавалькада, в которой были налицо также и Гацфельд и Абекен, проехала через Доншери и проследовала дальше; как оказалось, она отправилась осматривать поле битвы. Так как мы не знали, долго ли министр пробудет с остальными, то и остались ждать его на месте.
В половине второго несколько тысяч французских пленных кто пешком, кто в экипаже, один генерал верхом – все это следовало через город в Германию. Виднелись тут кирасиры в белых металлических касках, голубые гусары и пехотные полки от 22 до 52 с прибавкой еще 58-го полка. Конвой состоял из вюртембергских пехотных солдат. В два часа вслед за первой тронулась вторая партия также числом около двух тысяч человек. Между ними попадались негры в арабском костюме, широкоплечие фигуры с обезьянообразными и зверскими лицами, среди последних много старых солдат с медалями за крымскую и мексиканскую экспедиции. При этом произошел следующий трагикомический случай: один из пленных, идущих в партии, увидал на рынке раненого француза и признал в нем своего брата. «Eh, mon frère!» – крикнул первый и рванулся к нему. Но шваб из конвоя осаживает его назад с замечанием: «Was friesen, mich friest auch!» Прошу извинения за грубый, клоунский каламбур, но я его не сам выдумал, а передаю только, как дело происходило в действительности.
После трех часов проехали два отбитых у французов орудия с их зарядными ящиками, запряженные еще французскими лошадьми. На одной пушке было написано: «5 Jäger Görlitz». Потом в переулке позади нашей квартиры поднялся пожар. Вюртембержцы разбили там бочку с водкой и неосторожно подошли к ней близко с огнем. Другой, рядом стоявший с горевшим, дом они разрушили, потому что там им отказались дать водки; домик этот разносили, очевидно, умелыми руками, потому что, когда мы пришли туда посмотреть, что сталось с домиком, от него не было видно уже и следа.
Нужда царит между обитателями нашего городка; даже наш квартирный хозяин и его жена терпят недостаток в хлебе. Местечко переполнено постоем и ранеными; последних нередко принуждены бывают перетаскивать в конюшни. Придворные пытались занять наше жилище для наследного герцога Веймарского. Мы отстаивали свое помещение, и не без успеха. Потом какой-то офицер желал отыскать у нас помещение для какого-то мекленбургского князя. Мы указали офицеру на дверь и не советовали больше приходить к нам, потому что у нас живет союзный канцлер. Но стоило мне только отлучиться на некоторое время, чтобы веймарцы захватили в мое отсутствие квартиру. Я был доволен и тем уже, что они не захватили в свое владение постель нашего шефа.
Было уже десять часов, а министр все еще не возвращался, так что мы начали уже беспокоиться о нем. С ним могло случиться несчастье, или он мог также проехать с королем в Вандресс. Наконец он явился после одиннадцати часов, и я сел с ним ужинать. С нами сели за стол наследный принц Веймарский в светло-голубом гусарском мундире и граф Сольмс-Зонневальде, состоявший прежде при парижском посольстве, в настоящее время причисленный к нашему бюро, но редко туда показывавшийся.
Канцлер рассказывал разные разности о своей поездке по полю битвы. С небольшими перерывами он пробыл на седле около 12 часов. Они объехали все поле битвы, и повсюду, в лагерях и бивуаках, их встречали с небывалым энтузиазмом и воодушевлением. На самом поле битвы взято было в плен более 25 000 французов, да по заключенной ныне в полдень капитуляции сдалось в качестве военнопленных в Седане более 40 000 человек.
Министр имел удовольствие встретить своего младшего сына. «Я открыл в нем новое замечательное достоинство», – повествовал нам министр за столом, – он отличный свинопас. Он поймал самую жирную свинью, потому что она бегала медленнее всех, и унес ее на руках, как ребенка. Пленным французам, должно быть, было очень смешно видеть, как прусский генерал обнимал простого драгунского солдата».
«В другом месте, – продолжал рассказывать министр, – нас поразил внезапно сильный запах печеного лука. Я заметил потом, что запах шел из Базейлля; вероятно, причиной его были французские мужики: они стреляли из окон по баварцам, а те выбили их из жилищ и сожгли их дома». Потом говорили мы о Наполеоне, который завтра должен был направиться в Германию в Вильгельмсхёе. «Разговор шел у нас о том, – пояснял министр, – переправить ли его через Стенэ, Бар ле Дук или Бельгию». «Но он там уже не был бы нашим пленником», – возразил Сольмс. «Так что же за беда, – возразил министр. – Я стоял за то, чтобы его переправили в Бельгию, и он сам, по-видимому, склонялся к этому. Если б он и не сдержал своего слова, то нам вреда от этого никакого не было бы. Но в случае поездки его в Бельгию нам нужно было бы послать запрос в Брюссель и два дня сидеть в ожидании ответа».
Когда я вернулся в свой альков, то увидал, что Крюгер, вновь прибывший слуга канцлера, приготовил мою постель для Абекена. Последний стоял над нею в нерешимости и вопрошал меня: «Как же вы останетесь без постели?» Я возражал, что постель принадлежит ему без всякого сомнения и уступка с моей стороны была вполне законна – старик во всю нынешнюю поездку сопровождал короля верхом.
Я, однако же, довольно сносно провел ночь на полу в комнате рядом с кухней нашего доктора. Мое ложе устроено было моим изобретательным слугою Тейссом из четырех каретных подушек, обитых синим сукном; одна из них прислонена была к стулу и с успехом заменяла подушку. Одеяло мне заменяли страшная усталость и каучуковый макинтош; к этому Крюгер утром, когда стало невыносимо холодно, прибавил бурое шерстяное одеяло, добытое от французов в качестве военной добычи. Рядом со мной улеглись Тейсс и Энгель; в углу спали двое баварских солдат.
В соседней комнате лежал простреленный в руку ротмистр фон Дернберг, адъютант генерала Герсдорфа, командовавшего одиннадцатым корпусом. Утром рано, разбуженный шумом людей, принявшихся чистить платье, сапоги, пуговицы и болтать со служанкой по-французски, я поднялся с постели, из плошки, в которой лежала столовая ложка, я напился кофе и закусил куском хлеба. Таким образом, мне пришлось вкусить пищи, приправленной некоторою дозою лишений военного времени.
В восемь часов, когда я еще сидел за завтраком, раздался такой гром, что я подумал, что снова началась перестрелка. Оказалось, что это громко ржали лошади в соседней конюшне. Должно быть, им надоело стоять на скудной пище святого Антония; им на нынешнюю ночь дали только половинную дачу овса. Недостаток чувствовался во всем и повсюду. Потом слышал я, что Гацфельд отправился с поручением от канцлера в Брюссель. Вскоре канцлер, лежавший еще в поспели, позвал меня к себе. Он получил 500 штук сигар и поручил их мне раздать нашим раненым. Я и пошел странствовать по казармам, превращенным теперь в лазареты, по отдельным помещениям, закоулкам и хлевам около нашего дома. Я сначала делился моим запасом только с немцами, но французы, бывшие при этом, так жадно смотрели на раздаваемые сигары, и лежавшие на соломе немцы так усердно просили за них, – «что им смотреть да облизываться!» – «они ведь с нами все делят», говорили немецкие солдаты, – что я не счел воровством у своих дать несколько сигар пленным. Все жаловались на голод, все спрашивали, скоро ли их двинут оттуда. Но через несколько времени явились суп, хлеб и колбаса; даже тех, которые находились в сараях и конюшнях, добровольный санитар из баварского отряда оделил бульоном и шоколадом.
Утро было холодное, пасмурное и дождливое. Впрочем, проходившие массами прусские и вюртембергские войска находились, по-видимому, в наилучшем настроении. Они шли с музыкой и песнями. Вероятно, в большом соответствии с неприветливой погодой и сумрачным небом было расположение духа лиц, проезжавших в то же время по городу в экипажах в направлении, противоположном движению войск. Около десяти часов, исполнив поручение, которое мне было дано, насчет раненых, я пробирался под проливным дождем по площади через ужаснейшую грязь; в это время около меня проехал длинный ряд экипажей по направлению от моста на Маасе с конвоем из черных гусар с мертвыми головами. По большей части это были закрытые коляски и повозки с кладью и кухонными принадлежностями; за ними следовало несколько верховых лошадей. В закрытой карете сзади гусар ехал вместе с генералом Кастельно «седанский пленник», император Наполеон, отправлявшийся через Бельгию в Вильгельмсхёе. За ними вместе с князем Линаром и французскими офицерами, которые накануне присутствовали при свидании канцлера с императором, ехал в открытом шарабане генерал от инфантерии, генерал-адъютант фон Бойен, назначенный королем сопровождать императора. «Бойен очень хорош для этого», – заметил шеф по этому поводу вчера вечером, думая, вероятно, о том, что офицеры, окружавшие императора, могут оказаться слишком заносчивыми. «Он умеет быть груб в вежливой форме».
Позже мы узнали, что был сделан объезд на Доншери, так как император настоятельно просил не ехать мимо Седана. Гусары сопровождали его до самого Бульони, пограничного бельгийского города. Французские пленные солдаты, мимо которых проехал императорский поезд, не нанесли императору никаких оскорблений. А офицерам пришлось выслушать несколько неприятных замечаний: их, конечно, называли «изменниками», какими считались все проигравшие сражение или вообще потерпевшие от нас. По-видимому, для пленных была особенно тяжела минута, когда им пришлось проезжать мимо большого количества полевых орудий, попавших в наши руки. Абекен рассказывал по этому поводу следующий анекдот: «Один из адъютантов императора – кажется, князь де ла Москова, принял пушки, бывшие в прусской запряжке, за наши орудия и был этим несколько удивлен. Он спросил: “Quoi, est се que vous avez deux systèmes d’artillerie?” “Non, monsieur, nous n’avons qu’un seul, – ответили ему. – Mais ces canons lа? Ils ne sont pas de notres, monsieur”».
Глава VI
От Мааса до Марны
На некоторое время я продолжаю выписки из моего дневника.
Суббота, 5-го сентября . Мы оставили Доншери в первом часу пополудни. Дорогой нас застала непродолжительная, но необыкновенно сильная гроза; в долинах долго отдавался гром, и под конец пошел проливной дождь. Канцлер, как он рассказывал нам за обедом, был вымочен до костей. С ним был и дождевой плащ, но он только накинул его на себя, вместо того чтобы завернуться в него. К счастью, это не имело дурных последствий. По-видимому, подошло время, когда дипломатия в наших делах должна была выступить на первый план, а в случае болезни шефа кто заменил бы его?
Я ехал с членами совета, и граф Болен рассказывал нам различные подробности последних событий. По его словам, Наполеон выехал из Седана в такую раннюю пору (вперед или вслед за рассветом), потому что он не чувствовал себя в безопасности среди разъяренных солдат, скученных в укреплении, громко кричавших и ломавших оружие, когда до них дошла весть о капитуляции. Между прочим, при первом объяснении в Доншери министр сказал Вимпфену, что, без всякого сомнения, надменность и задорность французов и их зависть к успехам соседей исходят не от работающих и приобретающих классов, а от журналистов и парижан, которыми управляется и насилуется общественное мнение. Поэтому мы не можем довольствоваться нравственными гарантиями, на которые указывал генерал; нам нужны материальные обеспечения – прежде всего приведение французской армии в такое состояние, чтобы она не могла нам вредить, и потом сдача восточных крепостей. Разоружение распространялось и на небольшой полуостров, образуемый извилинами Мааса. При свидании короля с императором, которому встретился Мольтке на дороге в Вандресс, оба государя оставались в течение десяти минут одни в гостиной, около закрытой веранды замка (Бельвю). Позднее король собрал офицеров своей свиты и прочитал им текст капитуляции, причем со слезами на глазах благодарил их за их содействие в этом деле. Наследный принц объявил гессенским войскам, что в награду за их храбрость король назначил Кассель местопребыванием пленного императора.
Министр обедал в Вандрессе, где мы оставались и эту ночь, у короля; однако поел и у нас яичного пирожного. Он прочел нам несколько строк из письма своей супруги, которая в библейских выражениях высказывала энергическую надежду на скорую погибель французов. Потом он задумчиво проговорил: «Гм, кампания 1866 года кончилась в семь дней. А эта разве, в семью семь… Мы когда перешли через границу? четвертого, нет, десятого августа. С тех пор не прошло еще и пяти недель. Семью семь – это очень возможно».
Только для того чтобы указать еще раз, как создаются мифические сказания и как зла может быть фантазия, создающая их, я привожу слух, дошедший до Болена. Рассказывают, будто в Базеле, жители которого изменническим образом приняли участие в битве французских солдат с наступавшими баварцами, причем они умерщвляли раненых баварцев, а одна женщина застрелила четверых, подкравшись к ним сзади, будто там нашими людьми «беспощадно зажигался один дом за другим» и было казнено 35 крестьян вместе с упомянутой женщиной [4] .
Кейделль сообщает, что он видел придворного советника Фрейтага, который прибыл на войну вместе с герцогом Кобургским и князем Аугустенбургским. Он давал совет, совершенно излишний и ничем не вызванный, не оказывать никакого давления на южную Германию и требовать от французов возвращения рукописей, между прочим собрания среднегерманских песен, вывезенных ими в Тридцатилетнюю войну из Гейдельберга.
Опять отправил в Германию несколько статей; одна из них касалась подробностей битвы 1-го сентября. Так же как было при Кениггреце, значение последней постепенно оказывается все более и более значительным; это выяснилось вчера. Мы захватили пленными 90 000 человек и больше 300 орудий, множество лошадей и несметное количество всякого рода военных материалов. Скоро всего этого у нас будет еще больше, потому что из армии Мак-Магона, в которой после Бомона насчитывается около 120 000 человек, едва ли многие уйдут от наших рук.
Шеф опять помещается в доме вдовы Бодело. На этот раз я живу уже не в здании полевой почты, а в одной из боковых улиц, у старого вдовца, добродушного человека, который со слезами рассказывает мне о потере своей «pauvre petite femme», оказывает мне всевозможные услуги и без всякого требования с моей стороны чистит мне сапоги.
Ходят слухи, что завтра мы отправляемся в сторону Реймса и прежде всего остановимся в городе Ретеле.
Ретель, 4-го сентября , вечером. Сегодня рано утром, еще в Вандрессе, шеф призвал меня к себе, чтобы сообщить или, лучше сказать, продиктовать те сведения о его встрече с императором Наполеоном, которые он желал видеть напечатанными в газетах.
Вскоре после того, около половины десятого, выехали экипажи, и мы начали наше путешествие в Шампань. Сперва мы ехали по холмистой местности, потом по равнине с легкими подъемами, где виднелось множество плодовых садов. Далее потянулись менее плодородные пространства с редкими деревнями. Мы проезжали мимо длинных рядов войска, сперва баварских отрядов, а потом 6-го и 50-го прусских полков; в последнем Виллиш поздоровался со своим братом, который участвовал в деле и остался невредимым. Немного далее загорелась ось экипажа принца Карла; этот экипаж мы оставили в ближайшей деревне и взяли к себе в коляску шталмейстера принца, графа Денгофа, и адъютанта принца, Луитпольда Баварского, майора фон Фрейберга. Вследствие этого мы представляли собой довольно живописную группу, так как на графе – светло-красная гусарская форма, а на майоре – знаменитый небесно-голубой баварский мундир. Речь опять шла о базельской трагедии, и майор сообщил о ней подробности, существенно отличавшиеся от слышанных нами вчера из уст Болена. По словам майора, погибло всего около двадцати крестьян, в том числе одна женщина, но все они пали в битве с наступавшими войсками. Позднее по приговору военного суда был расстрелян священник. Впрочем, рассказчик не был свидетелем этого события, следовательно, и его отчет о нем не может считаться исторически верным. Об упоминавшихся в рассказе Болена «казненных» ему ничего не известно. По-видимому, существуют люди, язык которых злее их сердца.
Около половины пятого мы прибыли в Ретель. Это средней величины город, в настоящее время наполненный вюртембергскими войсками. Из окон первого этажа в одном доме, стоявшем на улице, по которой мы ехали по направлению к рынку, выглядывали также пленные французы. Квартирьеры нашли для нас помещение в просторном и изящно убранном доме некоего Дюваля, в улице Гран-Пон. Я занял там, рядом с Абекеном, хорошенькую комнату с мебелью из красного дерева и кроватью с пологом из желтой шелковой материи. Все это представляло приятную противоположность с последним ночлегом в Доншери. Многочисленное семейство Дюваля носит креп и флер – траур по своей родине, если я не ошибаюсь. После обеда меня три раза призывали к шефу для доклада. Между прочим, он сказал тогда: «Мец и Страсбург – крепости; они нам нужны, и мы их возьмем. А Эльзас – это все профессорские идеи». Он, видимо, намекал на усиленное подчеркивание прессы относительно немецкого происхождения и немецкой речи эльзасцев. Позднее, за чаем, за которым находились только Кейделль, Болен и я, он опять прочел нам некоторые места из письма своей супруги, извещавшей его о благополучном прибытии графа Герберта в Франкфурт-на-Майне.
В это время были получены отечественные газеты. Из них можно было видеть, что и южногерманская печать начинает благоприятно высказываться против чужеземной дипломатии, желающей вмешаться в мирные переговоры между нами и Францией. «Schwäbische Merkur» выражался в этом отношении вполне в духе шефа: «Когда германские народы двинулись к Рейну на защиту родной земли, тогда в европейских кабинетах говорили, что воюющие стороны должны быть предоставлены себе, что борьба должна быть ограничена их столкновением, что война должна быть локализирована. Пусть так. Мы одни вели войну против нарушителей спокойствия Европы; мы локализируем и заключение мира; мы сами продиктуем условия, которые должны охранить германский народ от разбойнического нападения, каким была война 1870 года; ни один дипломат иноземных властей, которые в это время сидели сложа руки, не должен произнести ни одного слова. Кто не участвовал в борьбе, тот не может быть и посредником». «Эта статья должна приобрести себе последователей», – сказал шеф, и она приобрела их.
Реймс, 5-го сентября . В конце концов, французы не всех нас считают варварами и злодеями. Некоторые, видимо, допускают, что и среди нас могут быть честные люди. Так, сегодня утром в Ретеле я пошел в магазин белья, чтобы купить себе воротничков. Купец сказал мне, что стоит целая коробка, и, когда я дал ему два талера, он поставил предо мной ящик с мелочью, чтобы я мог сам взять себе сдачу. Река Эн, протекающая через Ретель, прекрасного зеленого цвета вроде Рейна. Недалеко от нашей квартиры на ней построен каменный мост, через который все утро шли войска. Под конец показались четыре прусских пехотных полка. Среди них было замечательно мало офицеров; многими отрядами командовали молодые поручики и прапорщики. Я заметил это в 6-м и 46-м полках, в которых один из батальонов нес в виде добычи французского орла. За ними следовали 50-й и 37-й полки. Был палящий жар; люди были покрыты густым слоем белой шампанской пыли, но шли бодро и твердо. Наши кучера выставили на дороге ведро с водой, которую жаждущие, проходя мимо, черпали оловянными чашками, жестяными кружками, стаканами, а иные и фуражками.
Между двенадцатью и часом мы двинулись к Реймсу. Местность, по которой шла наша дорога, была по большей части плоская, слегка волнообразная страна с немногими деревьями и беловатой почвой. Там чаще встречались луга, нежели хлебные поля. Кое-где виднелись ветряные мельницы, которых я до тех пор не замечал во Франции. По сторонам тянулся невысокий сосновый лес. Дорогой Кейделль заговорил с каким-то ротмистром черных драгун. «Это сын министра фон Шепа, – пояснил он. – Он сражался при Верте и Седане».
Наконец вдали туманно обрисовались башни реймсского собора, а по ту сторону города – голубоватые высоты, которые потом оказались зелеными и обнаружили на своих склонах белые деревни. Сперва мы проезжали бедными, а потом более замечательными улицами города и, минуя площадь с памятником, въехали в улицу de Cloitre, где мы остановились наискось от большого собора в красивом доме какого-то г. Дофино. Шеф помещался в бельэтаже флигеля направо от входа во двор; канцелярия расположилась в нижнем этаже под его комнатой; рядом была устроена столовая. Мне квартира была отведена в левом флигеле, возле Абекена. Весь дом, насколько я могу судить, меблирован очень изящно. Я опять сплю в комнате с кроватью, убранной шелковым пологом, с раскладными креслами, обитыми красным репсом, с комодом красного дерева с мраморной доской, с такими же умывальным и ночным столиками и мраморным камином. Улицы кишат пруссаками и вюртембержцами. Король Вильгельм оказал честь архиепископу, остановившись в его дворце. Мне сказали, что наш хозяин – городской мэр. Кейделль слышал, будто страна, которая после заключения мира останется за нами, не отойдет к какому-нибудь отдельному государству и тем более не будет разделена между несколькими, а по всем вероятиям, будет считаться достоянием всей Германии.
Вечером шеф присутствовал за нашим столом. Так как мы находились в среде самых крупных шампанских фирм, мы пробовали различные сорта этого вина. Рассказывали, что вчера из какой-то кофейной был сделан выстрел по эскадрону наших гусар. Министр высказал мнение, что эта кофейная должна быть тотчас же разрушена, а хозяин ее предан военному суду. Штиберу должно быть немедленно поручено расследовать это дело. Шампанское, которое достал Болен, было хорошего качества, и потому на него было обращено большое внимание, между прочим, и мною. Министр сказал по этому поводу: «Наш доктор не похож на других саксонцев: он пьет не один кофе». «И еще тем, ваше сиятельство, – возразил я, – что я откровенен и не всегда вежлив». Этому много смеялись. Говорят, что мы останемся здесь от десяти до двенадцати дней.
Вторник, 6-го сентября . Рано утром, когда пришло время посещения собора, я отправился туда. Колокола его несколько раз будили меня ночью своим мелодическим звоном. Собор – величественное здание лучшей эпохи готического стиля; он посвящен Богоматери. Главный фасад с двумя неоконченными башнями производит торжественное впечатление; в собор ведут три портала, богато украшенные изваяниями; внутренность его полна волшебным полусветом, падающим с раскрашенных окон на пол и на бока колонн. Главный алтарь в передней части храма, где короновались французские короли, покрыт золотыми листами. В одной из боковых капелл, в проходе, идущем кругом хора, шла обедня. Там рядом с женщинами с четками в руках стояли на коленях их единоверцы, силезские и польские мушкетеры и кирасиры. У наружных дверей собора было много нищих, которые просили милостыню нараспев.
От десяти до трех часов работал без перерыва и, между прочим, изготовил две статьи – одну более подробную, а другую покороче – об условиях, на которых Германия могла бы заключить мир. «Очень разумно и хорошо, что на это обращают внимание», – сказал шеф, прочитавши статью в «Volks-Zeitung» от 31-го августа, которая высказывалась против присоединения завоеванной французской области к Пруссии и которая после доказательств, что это поведет не к усилению, а к ослаблению Пруссии, заканчивалась словами: «Не увеличение Пруссии, а объединение Германии и обессиление Франции составляет желаемую нами цель». Бамбергер основал в Нанси французскую газету, и мы будем от времени до времени посылать ему известия.
Перед обедом граф Болен, пересчитывая куверты, сказал: «А что, нас не тринадцать ли? Нет; ну и хорошо; министр этого не любит». Болен, которому, по-видимому, поручено заботиться о поддерживании нашего существования, подействовал на вдохновение нашего повара и заставил его отличиться. Обед был великолепен. Сегодня за ним присутствовали в качестве гостей канцлера капитан гвардии Клобельсдорф, граф Иорк и высокий молодой человек с скромными манерами, в драгунском мундире с красно-розовым воротником. Канцлер сообщил нам важное известие, что в Париже провозглашена республика и установлено временное правительство, в котором принимают участие прежние ораторы оппозиции, Гамбетта и Фавр. Даже и фонарщик Рошфор попал в высший совет. Как слышно, эти господа хотят продолжать войну против нас. Таким образом, положение наших дел относительно желаемого нами окончания войны не улучшилось; но оно и не ухудшилось, если только республика удержится и захочет приобрести себе сторонников в иностранных дворах. С Наполеоном и Лулу дело кончено; императрица, подобно Людовику Филиппу в феврале 1848 года, удалилась со сцены и, кажется, находится теперь в Брюсселе. Что сделают адвокаты и литераторы, занявшие их место, покажет близкое будущее. Нужно еще, чтобы Франция признала их власть.
Наши уланы стоят уже у Шато-Тьери. Еще два дня, и они могут быть у самого Парижа. А мы, как это выяснилось теперь, пробудем в Реймсе еще целую неделю.
Граф Болен сообщил шефу подробности о деле хозяина кофейной, из которой был сделан выстрел по нашим кавалеристам. Как оказывается, хозяина зовут Жакье, а гусары принадлежат к вестфальскому полку, командир их – фон Ферст, сын посланника. Дом, по усердной просьбе Жакье, который, по-видимому, невиновен в этом преступлении, не будет разрушен, тем более что выстрел никому не сделал вреда. Хозяина заставили только выдать эскадрону 200 или 250 бутылок шампанского, что он исполнил с удовольствием.
За чаем, не помню уже кем, был начат разговор об исключительном положении, которое заняла Саксония в Северо-Германском союзе по отношению к военным порядкам. Канцлер не придавал этому большого значения. «Не я даже это и устраивал, – прибавил он. – Договор заключал Савилью; я в это время был опасно болен. Еще менее я придаю значение дипломатическим положениям маленьких государств. Многие совершенно напрасно беспокоятся об этом и видят опасность в сохранении дипломатических представителей их наряду с представителями союза. Если бы такие государства имели политическую силу, они могли бы обмениваться с иностранными дворами нотами и без официальных представителей и могли бы вести против нас интриги и на словах. Для этого было бы достаточно какого-нибудь зубного врача или кого-либо в этом роде».
Среда, 7-го сентября . Утром совершил прогулку по городу. Он носит на себе признаки благосостояния и имеет несколько прекрасных улиц. Лавки почти все отперты, и некоторые, как кажется, делают выгодные дела с нашими офицерами и солдатами. На площади, примыкающей к нашей улице, стоит красивый монумент Людовика XV. Посредине широкой улицы, похожей на рынок, вокруг которой идут крытые галереи с лавками и кофейнями, находится статуя маршала Друэ посредственной работы. На обратном пути я опять встретил около собора множество нищих, из которых иные были очень оригинальны. Маленький мальчик с другим еще меньшим на спине бежал около меня и жалобно выкрикивал: «Je me meurs de faim, M’sieur, je me meurs, donnez moi un petit sou!» Какой-то безногий тащился на коленях по площади, а его провожатый играл на гармонике и собирал для него милостыню. Женщина с ребенком на руках просила подаяния «pour acheter du pain». Высокий здоровый человек, хорошо сложенный, напевал густым басом какую-то песню с припевом: «О, c’est terrible de mourir de faim». Пять или шесть грязных существ окружали нашего мушкетера, у которого в руках был хлеб (в форме подковы, по здешнему обычаю); он отломил им порядочный кусок, и они бросились с громким криком на эту подачку. По случаю прекращения работ на фабриках в многочисленном фабричном населении Реймса должна царствовать сильная нужда, и старшины народа опасаются восстания, когда мы уйдем оттуда.
По возвращении домой написал несколько статей; между прочим, об отношении России к настоящей войне. После обеда, по отъезде шефа, я предпринял с Абекеном большую экскурсию, чтобы обозреть достопримечательности города. Относительно числа жителей (около 60 000) город очень обширен, что происходит от одноэтажных и двухэтажных построек. Отдавая дань нашим классическим познаниям, мы прежде всего пошли на бульвар взглянуть на древнеримскую триумфальную арку. Кроме древности, в ней почти нет ничего интересного. От нее уцелели только несколько колонн и изваяний; верхушка же новейшего происхождения. Потом под сильным дождем, мы вышли аллеями к статуе Кольбера, прошли мимо цирка, также занятого теперь войсками, и вышли к вeзeльcкому каналу и на пристань, загроможденную массивными фрахтовыми судами. Там на одной из свай виднелась надпись: «Pèche interdite» но – inter arma silent leges; около самой запретительной надписи три беззаботных блузника удили рыбу, и далее мы видели еще тридцать таких рыболовов, державших свои удочки над светло-зеленой водой. Отсюда мы поднялись вверх налево и по плохенькой улице вышли к другому городскому собору. Он посвящен св. Ремизию и принадлежит по характеру постройки к переходной эпохе между романским стилем и германским. Своими размерами, своей благородной простотой и массивными колоннами он производит сильное впечатление. Гробница святого позади хора живо напоминает собою гробницу Спасителя в Иерусалиме. Она имеет подобие храма, открытого со всех четырех сторон, и находится под сводом ниши алтаря. Она сделана из белого мрамора с розовыми жилками в стиле Возрождения. В боковой капелле над алтарем мы заметили художественную редкость, быть может, единственный экземпляр в этом роде, а именно висящее распятие, на котором Спаситель изображен в золотой царской короне и в пурпурной мантии с золотыми звездами. Выражение, приданное лицу, и покрой одежды указывают на глубокую древность. На другой стороне в ризнице сторож показал нам вышитые картины.
Четверг, 8-го сентября . Рано утром выкупался с Виллишем в Везеле; было ветрено, но погода была ясная. Вечером у нас был большой обед, в котором участвовали наследный герцог Мекленбург-Шверинский, его адъютант Неттельблатт, обер-почтдиректор Стефан и три американца. Говорили, между прочим, о различных слухах, касающихся базельских происшествий. Министр высказал, что участие крестьян при защите населенных мест ни в каком случае не может быть терпимо. Они не носят никакой формы, а поэтому, бросив тайком ружья, перестают быть неприятелями, что ведет к неравенству шансов воюющих сторон. Абекен выразил мнение, что с Базелем поступлено слишком строго, и полагал, что войну следует вести гуманнее. Совершенно другое воззрение высказал Шеридан, которому Мак-Лин передал сущность нашего разговора. Он признавал самое строгое обхождение с населением во время войны – вполне в порядке вещей и даже политически необходимым. «Настоящая стратегия, – объяснил он, – состоит в том, чтобы наносить, во-первых, существенные удары армии неприятеля, а потом – заставлять страдать обывателей настолько, чтобы они всеми силами стремились к миру и в этом смысле действовали на свое правительство. У этих людей должны оставаться только глаза, чтобы оплакивать бедствие войны». Это мнение показалось мне несколько бессердечно, но достойно внимания.
Пятница, 9-го сентября . Все утро до трех часов писал различные статьи; между прочим, о непонятной приверженности эльзасцев к Франции, об их добровольном рабстве и ослеплении, которое не позволяет им видеть и чувствовать, что у французов они всегда стоят на втором плане и что с ними поступают сообразно с этим. Получено известие, что Париж не будет защищаться против нас, а объявит себя открытым городом; но это едва ли верно: по другим сообщениям, у них еще есть солдаты регулярной армии, хотя и немного. Около дома, занимаемого наследным принцем, я встретился с придворным советником Фрейтагом и потолковал с ним.
Он отправился сегодня вместе с одним из наших фельдъегерей домой, потому что, как он признавался Кейделлю, ему здесь нечего было делать. Это вполне достойное признание и разумное решение, к которому давно уже должны были прийти и многие другие господа, состоящие при различных главных квартирах в качестве военных болтунов.
Суббота, 10-го сентября . Шеф уезжает рано утром с Гацфельдом и Бисмарком-Боленом в Шалон, куда отправляется и король. В половине шестого после обеда они возвратятся назад. В это время, после четырех часов, прибыл министр Дельбрюк, который ехал через Гагенау и Бар-ле-Дюк и должен был преодолеть множество затруднений. Он совершил этот переезд вместе с генералом Бойеном, который благополучно препроводил в Кассель Наполеона или, как его теперь называют, графа Пьерфона. Он жалуется, что не мог взять с собою ящик старого нордгейзера, который почему-то предназначался для главной квартиры. Далее он рассказывал, что Наполеон говорил Бойену, будто он был вынужден к войне общественным мнением и что он весьма хвалил наши войска, в особенности улан и артиллерию.
Шеф обедал сегодня у короля, но на полчаса пришел к нам, когда еще мы сидели за столом; в это время Болен, посетивший императорский замок Мурмелон близ Шалона, рассказывал нам много неприятного об опустошениях, которые народ произвел там, уничтожая зеркала и мебель. После обеда, за которым присутствовали Бойен и Дельбрюк, канцлер долго говорил наедине с этими господами. Потом он велел позвать меня и дал мне поручение написать для выходящих здесь французских газет «Courrier de la Champagne» и «Indépendant Remois» правительственное сообщение следующего содержания: «Ввиду того, что выходящие в Реймсе газеты извещают о провозглашении республики во Франции и как бы признают новую государственную власть, печатая ее распоряжения, можно было бы заключить, что газеты, высказывая такие мнения в городе, занятом немецкими войсками, высказывают их с согласия германских правительств; но это заключение было бы неверно. Германские правительства уважают, как у себя на родине, так и в чужой стране, свободу печати. Но до настоящего времени они не признают во Франции никакого другого правительства, кроме правительства императора Наполеона. Поэтому и в последующее время они будут считать возможным входить в какие-либо международные отношения только с императорским правительством». Следующее я заимствую из моего дневника для того только, чтобы выказать сердечную доброту и простую, врожденную гуманность нашего шефа. Он спросил меня:
– Сегодня утром вы имели нездоровый вид. Что с вами?
– Сильное расслабление желудка, ваше сиятельство, – ответил я.
– И при этом лихорадка и головная боль?
– Да, немного, ваше сиятельство.
– Вы обращались к врачу?
– Нет, я кое-что прописал себе сам и взял из аптеки.
– Что же именно?
Я ему сказал.
– Это не поможет, – возразил он. – Разве вы полагаете, что знаете все и не нуждаетесь в докторах?
– Уже несколько лет я не обращался к ним.
– Это правда, не всякий доктор может помочь; другой, пожалуй, наделает еще хуже. Но теперь шутить нечего; пошлите за Лауером. Это славный человек. Я не знаю, как его и отблагодарить за его заботы о моем здоровье. А вы ложитесь-ка дня на два в постель; этим и отделаетесь, а то могут быть возвраты, и вы встанете не раньше трех недель. Я часто сам страдаю тем же. Там на камине вы найдете склянку; примите тридцать или тридцать пять капель на куске сахара. Возьмите ее, но потом принесите мне назад. А если я вас позову, и вы не в состоянии будете прийти, то так и скажите прямо. Если мне что-нибудь понадобится, то я сам приду к вам. Вы ведь можете писать и в постели.
Воскресенье, 11-го сентября . Лекарство шефа мне очень помогло. Я встал рано и мог свободно работать. Содержание правительственного сообщения было отправлено в газету в Нанси и в немецкие газеты. При этом некоторым органам прессы было внушено, что Пруссия заключила Пражский мир не с Францией, а с Австрией и поэтому первая не имеет никакого права вмешиваться в пятую статью этого договора, также как и во все другие не касающиеся ее трактаты.
В двенадцать часов я отправился с Абекеном в протестантскую церковь на бульваре. Я нашел там большой зал с хорами, кафедрой и маленьким органом, но без колокольни. Служба, которую исполнял полковой священник Фроммель и при которой присутствовали король, принц Карл, великий герцог Веймарский, наследный принц Мекленбургский, Бисмарк и Роон, а также некоторые прусские и многие вюртембергские офицеры и солдаты, началась не органной, а военной музыкой, которая сыграла псалом «Хвалите Господа», причем солдаты пели по своим молитвенникам. Затем вместо Апостола последовал другой псалом и Евангелие тринадцатого воскресенья после Троицы. Проповедь была построена на седьмом, одиннадцатом и двенадцатом стихах книги Самуила: «Тогда люди Израиля вышли из Миспы, гнали филистимлян и побивали их до самого Бет-Кара. Тогда Самуил взял камень и поместил его между Миспой и Сеном и назвал его Эбен-Эзер и сказал: «До этого места нам помогал Господь». Последние слова составляли главную мысль проповеди; дальнейшие мысли заключались в благодарности Богу за его помощь, желании принести жертву на камне Эбен-Эзер, не уподобляясь врагам, гонимым Господом, и надежду, что Бог будет помогать нам и дальше и восспособствует объединению Германии. Проповедь была довольно складная и содержала в себе много хороших мыслей; но, к сожалению, в ней Хлодвигу воздавалась незаслуженная честь за то, что он (как известно, это случилось в Реймсе) дозволил себя крестить. Это, как в настоящее время знает каждый учащийся, не принесло ему пользы, потому что он и после крещения оставался кровожадным и коварным злодеем. Также мало согласовалось с историей и то, что проповедник говорил о Людовике Святом.
Позднее посетил я, также с Абекеном, службу в католическом соборе, на котором сегодня без умолку происходит звон больших и малых колоколов. Хор состоял из духовных всякого рода и вида. Там были клирики, одетые в фиолетовые, черные с белым и черные одежды с красными воротниками, в фиолетовых мантиях, черных накидках с белой оторочкой, шелковых, суконных и полотняных одеждах. Они все проходили мимо нас с архиепископом во главе, за которым тащился длинный шлейф; около него шли два священника высшего звания; за ними следовали маленькие певчие, одетые в белое с красным. Когда он вышел и благословил двумя пальцами правой руки молящихся женщин за дверью решетки, это благословение отчасти досталось и мне.
В течение дня у шефа был г. Верль, старый сухощавый человек с трясущейся головой; у него, как у всех прилично одетых французов, была неизбежная красная ленточка в петлице. По-видимому, он – член законодательного собрания и владелец или участник фирмы вдовы Клико; ходили слухи, что он желал говорить с министром о том, какими средствами можно было бы предотвратить возникшую в городе нужду и предотвратить восстание бедных против богатых. Последние опасаются провозглашения красной республики рабочими, среди которых происходит брожение, и так как Реймс – фабричный город, насчитывающий в своих стенах от десяти до двенадцати тысяч работников, то в действительности может явиться опасность, когда наши солдаты покинут город. Месяц назад и мечтать было нельзя, что немецкие войска станут защитниками французов от коммунизма! Действительно, это какое-то чудо. Верль, впрочем, говорит и по-немецки; как он уверяет, по рождению он наш соотечественник, подобно многим владельцам больших виноделий в Шампани и в ее окрестностях. В нашу канцелярию являлись также и другие городские жители с различными претензиями и добивались возможности говорить с канцлером. Между прочим, одна женщина жаловалась, что у нее солдаты отняли несколько мешков с картофелем, и требовала возвращения своей собственности. Мы указывали ей на полицейское управление, которое должно восстановить ее права; но она не хотела идти туда и возражала, что мы должны ей помочь, потому что она «mère de famille».
За столом с нами опять обедал Кнобельсдорф. Позже меня несколько раз требовал шеф и давал мне различные поручения. Бельгийцы и люксембуржцы недружелюбно обошлись с нашими ранеными; в этом обстоятельстве довольно основательно предполагают ультрамонтанские интриги. Митральезные ядра, по-видимому, содержат в себе какое-то ядовитое вещество, потому что от них происходят раны с тяжелым воспалением. Фавр, «несуществующий для нас», проездом через Лондон наводил справки, согласны ли у нас войти в переговоры относительно перемирия; кажется, он очень спешит с решением этого вопроса, совершенно обратно нашему канцлеру.
Вечером, после десяти часов, шеф пришел вниз пить чай; он пожелал выкурить «плохую легкую сигару», какую только я и мог ему дать, так как в моем кармане осталось лишь подобного рода зелье. Разговор шел сперва о проповеди Фроммеля, в которой министр также обратил внимание на Хлодвига и Людовика Святого, изображенных совершенно несогласно с историей. Потом он говорил о своем сыне, который был ранен в бедро и рана которого шла гораздо хуже, выказывая признаки антонова огня на краях. Врач выражал предположение, что ядро содержало в себе какое-то ядовитое вещество.
Под конец речь пошла о политике недавно протекших годов, и канцлер высказал по этому поводу: «Более всего я горжусь нашим успехом в шлезвиг-гольштинском вопросе. Из этого можно было бы сделать для театра хорошую дипломатическую пьесу с интригой. Австрии, конечно, нельзя было оставаться в хороших отношениях с князем Аугустенбургским после того, что оказалось в актах Союзного Совета, на которые она не могла не обратить внимания. Потом ей хотелось также половчее выйти из того затруднения, в которое она впала по отношению к конгрессу государей. То, что я хотел, я высказал в длинной речи в одном из заседаний Государственного Совета, вскоре после смерти короля датского. Главные места были пропущены секретарем; он, вероятно, нашел, что я слишком усердно позавтракал и что для меня самого будет приятно, если эти места исчезнут, но я позаботился, чтобы они были восстановлены. Впрочем, провести мою мысль было нелегко: ни более ни менее как все были против нее: и австрийцы, и англичане, и либеральные и нелиберальные мелкие государства, оппозиция в ландтаге, влиятельные люди при дворе, большинство газет. Да, тогда происходили горячие схватки, для которых нужно было бы иметь лучшие нервы, чем у меня! На франкфуртском конгрессе в присутствии короля саксонского было то же самое. Когда я вышел из комнаты, нервы у меня были так возбуждены и я был так утомлен, что едва мог держаться на ногах и, затворяя двери адъютантской комнаты, оторвал ручку. Адъютант спросил меня, здоров ли я? «Теперь опять здоров», – ответил я ему. Подробные рассказы об этих событиях продолжались до позднего времени, и шеф простился с нами следующими словами: «Да, господа, нервная система с слабыми струнами должна много выдерживать. А теперь я пойду спать. Спокойной ночи!»
Понедельник, 12-го сентября . До обеда писал различные статьи. В Лионе французы – быть может, только один из них – провинились в крупной измене: вчера после заключения капитуляции и вступления наших войск они взорвали цитадель, причем около ста человек из нашего четвертого стрелкового батальона были убиты или ранены. В немецких газетах говорят, будто шеф высказал, что в битве при Седане самое важное было сделано союзниками Пруссии. Он говорил только, что они наилучшим образом содействовали нашему успеху. Бельгийцам, которые питают к нам такую ненависть, а к Франции такую горячую привязанность, при некоторых обстоятельствах также могла бы быть оказана помощь. Тамошнему общественному мнению можно бы поставить на вид, что возможны даже такие соглашения с теперешним французским правительством, которые могут удовлетворить приверженность бельгийцев к Франции. Баварский граф Люксбург, находящийся при Кюльветтере, отличился замечательной удачей и энергией; впоследствии его будут приглашать к обсуждению важных вопросов.
До нас доходят слухи, будто Америка предлагает свое посредничество между нами и новой Французской республикой. Это посредничество не будет отклонено; ему даже будет отдано предпочтение перед другими. Но едва ли в Вашингтоне хотят помешать необходимым военным действиям с нашей стороны. Шеф, по-видимому, давно расположен к американцам и уже несколько времени назад говорил, что он надеется добиться в Вашингтоне разрешения вооружаться нашим кораблям в американских гаванях, чтобы вредить французскому флоту. Впрочем, теперь это уже не имеется в виду.
Общее положение дел, насколько я понимаю, представляется ему в следующем виде: мир находится еще в далеком будущем, так как в Париже еще нет прочного правительства. Когда наступит время переговоров, король войдет в соглашение с союзниками относительно того, чего мы должны требовать с нашей стороны. Нашей главной целью должно быть обеспечение юго-западной германской границы от опасности французского вторжения, угрожающего нам в течение нескольких веков. Новое нейтральное государство между Германией и Францией вроде Бельгии или Швейцарии не принесло бы нам пользы, так как в случае новой войны подобное государство, несомненно, примкнуло бы к Франции. Мец и Страсбург с близлежащей областью, соответствующей нашим требованиям, должны составить такого рода нейтральную землю, принадлежащую всем. Разделение этой области на отдельные государства не должно иметь места. Общее ведение войны не останется без благотворного влияния на стремление к объединению Германии, и Пруссия, конечно, так же как и прежде, будет сообразоваться с свободною волею юга и будет избегать всякого подозрения в давлении с ее стороны. При этом многое должно произойти от личного настроения и решения короля баварского. Объявление республики в Париже благоприятно встречено в Испании, и то же самое может быть и в Италии. Правительства монархических государств должны в этом видеть опасность, которая указывает им на необходимость сближения и единства действий. Каждое из них находится под известной угрозой, не исключая и Австрии. В Вене не должны забывать об этом. Если нечего ожидать от Бейста, который в своей злобе против Германии и России заигрывает с поляками и с красными республиканцами, то, быть может, император Франц-Иосиф не откажет в своем внимании должному разъяснению событий. Он должен убедиться, что интересы его монархии противоположны республиканским, которые легко могут принять социалистическую форму и представить серьезную опасность. Эта республика пропагандируется среди соседей и, вероятно, будет иметь сторонников и в Германии, если государи не захотят выполнить волю народа, принесшего большие жертвы имуществом и кровью и требующего серьезного обеспечения от нападений Франции и прочного мира.
Сегодня перед обедом принц Луитпольд Баварский имел разговор с шефом, причем последний говорил с ним об «истории и политике».
Вторник, 13-го сентября . Сегодня рано утром нашему шефу была устроена серенада военным хором вюртембержцев, что его весьма порадовало. Если б это узнали господа сотрудники штутгартского «Beobachter’a»! В течение утра канцлер призывал меня шесть раз, и я написал несколько статей для печати, из которых две – для здешних французских газет, получивших от нас известия несколько дней назад. Нам сообщали, что в одной из дружественных нам иллюстрированных газет помещены портрет и биография генерала Блюменталя на подобающем месте. Газеты совсем не вспоминают о нем, хотя он начальник главного штаба наследного принца и после Мольтке оказал наибольшие заслуги в ведении настоящей войны.
14-го сентября около десяти часов утра мы оставили Реймс, собор которого долго виднелся, пока мы ехали по равнине, и направились в Шато-Тьери. Затем мы перерезали обширную плоскость с хлебными полями, окруженную возвышенностями с виноградниками, деревнями на скатах и лесами на гребне. Из этой холмистой местности мы въехали в местность волнообразную, которая обнаруживала маленькие котловины и боковые долины. В городке Дормане на Марне, через которую мы переехали два раза, мы остановились на некоторое время. Река здесь почти вдвое шире, чем Мозель при Понт-а-Муссоне, и имеет чистую светло-зеленую воду. Небо было покрыто серыми облаками, и два раза на нас низвергался жестокий ливень. Наш путь лежал направо от железной дороги, которая была испорчена убегавшим неприятелем; река также была недалеко от нас. С правой стороны у нас были виноградники, с левой – лиственный лес по скатам гор; из этого леса по временам выступали красивые замки. Мы прошли мимо трех или четырех деревень со старыми церквами и живописными боковыми улицами, из которых на нас выглядывали маленькие домики, построенные из серого плитняка и наполовину скрытые в тени виноградной листвы. Далее опять шли виноградник за виноградником, высокие и широкие, с низкой лозой и голубыми кистями. Мне сказали, что из них приготовляется сок, идущий в Реймс и Эпернэ на выделку шампанского.
В этой местности уже стояли вюртембержцы, которые высылали пехотные и кавалерийские отряды для нашей защиты. Из этого можно было заключить, что здесь было небезопасно, хотя крестьяне, которые бродили по улицам в своих деревянных башмаках или стояли перед своими домиками, смотрели весьма незлобиво, и по их физиономиям никак нельзя было заключить, чтобы они были способны на какое-нибудь предательство. Выражаясь проще, у них были весьма глупые лица. Впрочем, быть может, колпак с кисточкой, который большей частью они носили, придавал им этот сонный, идиотский вид; держа руки в карманах, они, быть может, не всегда находились в апатическом состоянии, а судорожно сжимали их в кулаки.
В пять часов приехали мы в Шато-Тьери, где мы все очень удобно поместились в большом доме некоего Саримона на церковной площади. Хозяин, по словам министра, беседовавшего с ним, – весьма приятный человек, с которым можно говорить обо всем. Шато-Тьери – прелестный городок, лежащий на некотором возвышении на берегу Марны, среди остатков стен старого замка, поросших зеленью. Он построен на обширном пространстве и содержит в себе много садов. Только в центре города – длинной улице, проходящей мимо церкви, и на некоторых боковых улицах, прилегающих к ней, – дома стоят плотно друг к другу. Старинная церковь посвящена Криспину, или, как французы называют, Крепену, занимавшемуся башмачным мастерством, из чего можно заключить, что не только дубильное искусство, но и изготовление башмаков некогда процветало здесь и прокармливало жителей.
За обедом шеф был чрезвычайно весел и разговорчив. Позднее мы наслаждались прекрасной лунной ночью на садовой террасе сзади двора.
На следующее утро после завтрака в отеле Ножан мы двинулись в Мо, который лежит на расстоянии пятидесяти километров от Шато-Тьери и почти на таком же расстоянии от Парижа. По дороге опять в течение нескольких часов тянулись мимо нас виноградники на огромном пространстве. Мы переехали через Марну и проезжали через перелески и отроги возвышенностей левого края долины. В деревне Люзанси была сделана получасовая остановка. В наших повозках часть лошадей была из тех, которые были взяты при Седане. Чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем чаще, в особенности в рощах и аллеях, встречались нам сторожевые посты, состоявшие здесь опять из прусской пехоты (с желтыми погонами), и тем реже можно было видеть жителей в деревнях. По-видимому, там оставались только хозяева харчевен и некоторые поденщики. Девушек и молодых женщин совсем не было видно, так же как и детей. В Люзанси на двери одного из домов было написано мелом «больные оспой».
На небольшом расстоянии от городка Трильпора мы опять переехали через Марну и на этот раз по мосту из красных прусских понтонов, так как прекрасный новый мост, через который проходит железная дорога, и другой, лежащий недалеко на шоссе, были взорваны французами. Около столбов и разрушенных арок висели рельсы с прибитыми к ним скреплениями; они печально смотрели на плитняки, лежавшие на дне реки. Затем по деревянному дополнительному мосту мы опять переехали через реку, а потом по такому же мосту – через канал, на котором прежние переправы также были сделаны непроходимыми. Все это имело вид совершенно бесполезного ранения собственного тела, потому что движение наших сил вперед из-за подобных разрушений, в особенности на мелких реках, могло задержаться не более как на один час.
Мо – город с двенадцатью тысячами жителей, в красивой лесистой местности. В нем есть тенистые аллеи для прогулок и большие зеленые сады. Улицы в более старинной части города узки и мрачны. Шеф помещается на улице Троншон, в красивом доме виконта де ла Мотт. За этим домом находится обширный сад. Мне квартира отведена напротив, у некоего барона Водёвра, старика, который бежал оттуда и за письменным столом которого я могу работать спокойно. Я могу делать выбор между двумя спальнями, из которых в одной – постель с пологом из шелковой материи, а в другой – из льняной или бумажной. Кроме того, вид из кабинета, окна которого выходят в маленький сад со старыми деревьями и ползучими растениями такого рода, что с ним скоро свыкаешься; библиотека, если б было свободное время, также могла бы доставить много удовольствия. Выбор книг очень хорош. Я нашел здесь, между прочим, «Историю французов» Сисмонди, все сочинения О. Тьери, философские статьи Кузена, «Историю церкви» Ренана, «Политическую экономию» Росси и другие исторические и экономические сочинения. В доме множество мелких боковых комнат, альковов, дверей, прикрытых коврами, скрытых стенных шкафов; кроме меня, в нем живут в нижнем этаже оба приехавших из Берлина полицейских, которые следуют в статском платье за министром, когда тот выходит. В каком виде они будут следовать за ним, когда он выедет верхом, я не могу сказать.
За столом говорят, что из Парижа приехал парламентер. Мне показали на дворе перед домом шефа стройного черноволосого молодого человека – это и был приехавший. Судя по языку, он, должно быть, англичанин. За обедом присутствуют оба графа Иорк в качестве гостей. Они объяснили нам, почему в деревнях встречается так мало жителей. Дело в том, что они встречали в лесу целые толпы крестьян, бежавших туда с частью своего имущества, именно со скотом. Они весьма обрадовались, когда им объяснили, что они, не имея при себе оружия, без всякого страха могут возвратиться в свои деревни. «Если бы я был военный начальник и распоряжался бы этим, сказал шеф по этому случаю, я знал бы, что мне делать. Я обращался бы с теми, которые остались дома, со всевозможным вниманием. Дома же и имущество тех, которые бежали, я считал бы никому не принадлежащими и поступал бы с ними сообразно с этим. А если бы они попались мне, я отнял бы у них коров и все, что они при себе имеют, под тем предлогом, что все это ими украдено и спрятано в лесу. Это было бы лучше в том отношении, что они могли бы убедиться, насколько справедливы слухи, будто мы едим детей под разными соусами».
Пятница, 16-го сентября . Рано утром над городом Боссюэта раскидывалось ярко-голубое небо и полное солнечное освещение. Я перевел для короля письмо, присланное ему Джемсом Пуркинсоном, английским пророком, в котором автор объясняет, что если король не остановит кровопролития, то его постигнет кара неба за избиение датчан и за кровь сынов Австрии; выполнение этой кары предоставлено императору Наполеону. Это предостережение помечено 29 августа. Через три дня после того телеграф сообщил, насколько было верно это предсказание. Такой назойливый глупец, подобно другим своим соотечественникам, хотя и поставленным выше его, но обладающим таким же умственным развитием и позволяющим себе вмешиваться в наши дела, сделал бы гораздо лучше, если бы вспомнил, что Англия не имеет права высокомерно смотреть на нас за то, что мы в справедливой войне защищаемся от грубого нападения, и за то, что мы не жгли еще без причины мирных деревень и не расстреливали людей из пушек, чту часто делывали соотечественники автора во многих гораздо менее справедливых войнах.
Молодой черноволосый джентльмен, который должен был играть роль парламентера и с которым шеф вечером долго просидел за бутылкой киршвассера, носит имя сэра Эдуарда Маллета; он состоит при английском посольстве в Париже. Он привез письмо от лорда Лайонса, в котором тот спрашивает – желает ли граф вступить с Фавром в переговоры об условиях перемирия. Канцлер ответил: «Об условиях мира – да; об условиях перемирия – нет».
Из писем от берлинских друзей я усматриваю, что многим благомыслящим людям кажется немыслимым, чтобы завоеванную французскую область можно было не присоединять к Пруссии. Письмо от одного честного патриота из Бадена высказывает опасение, что Эльзас и немецкую Лотарингию отдадут Баварии, чем создадут новый дуализм. В приписке этого письма, предназначенной для шефа, говорится, что только Пруссия обладает достаточной силой, чтобы германизировать вновь германские провинции Франции: это как нельзя более очевидно. Он указывает, что на севере Германии слишком мало обращают внимание на желание всех благоразумных людей видеть Эльзас в руках Пруссии, и прибавляет: «Было бы грубым заблуждением, если бы в северной Германии желали наградить юг новыми землями и людьми». Откуда он заимствовал соображения об этом – я не знаю. У нас, насколько я вижу, не предполагается ничего подобного. Как мне кажется, здесь считают достаточным наградить юг тем, что он будет обеспечен от нападений французов. Другие мысли автора письма могут оправдаться при известных обстоятельствах. Гораздо справедливее и соответственнее настоящим событиям указанная мною выше мысль нашего шефа о присоединении этих провинций к имперской земле. Этим устраняется предмет зависти и несогласий с союзниками Пруссии и явится соединительный пункт севера с югом.
Говорят о том, что король не поедет в Париж, а будет ожидать дальнейшего развития событий в Феррьере, имении Ротшильда, лежащем на полпути между Мо и Парижем.
За обедом присутствует в качестве нашего гостя князь Гогенлоэ. Шеф также сидел с нами, возвратившись с королевского обеда. Сообщают, что центром управления французских провинций, занятых нашей армией, кроме Эльзаса и Лотарингии, будет Реймс, что великий герцог Мекленбургский будет назначен генерал-губернатором и главою всех тамошних управлений, а Гогенлоэ будет его помощником.
В разговоре шеф заметил своему двоюродному брату, который жаловался на нездоровье: «Когда я был твоих лет (тот считает себе тридцать восемь лет), я был еще совсем не тронут и мог все себе позволить. Но в Петербурге я получил первый толчок по своему здоровью».
Кто-то начал разговор о Париже и о французах по отношению к эльзасцам; шеф высказал по этому поводу намек или желание, чтобы его слова или их содержание появилось в газетах. «Эльзасцы и лотарингцы, – говорил он, – доставили французам много способных людей, в особенности для армии; но на них мало обращали внимания, им редко давали высшие должности на государственной службе, и парижане всегда осмеивали их в анекдотах и карикатурах. Впрочем, то же самое, – продолжал он, – испытывают и другие французские провинциалы, хотя и не в такой степени. Франция распадается на две нации: парижан и провинциалов. Последние состоят добровольными илотами первых. В настоящее время дело идет об эмансипации, об освобождении Франции от власти Парижа. Кто в провинции чувствует себя не на месте, кто мечтает сделаться чем-нибудь особенным, переселяется в Париж, принимается там в господствующую касту и властвует вместе с ней. Что касается того, не навяжем ли мы им опять проштрафившегося императора, – это дело возможное, потому что крестьяне не хотят испытывать тирании Парижа. Франция есть нация нулей, стадо. У нее много денег и много изящества, но нет личностей, нет индивидуального чувства достоинства, разве только в массе. Это тридцать миллионов покорных кафров, из которых в отдельности ни один не имеет ни голоса, ни значения. Было нетрудно из таких безличных и бесхарактерных людей создать гуртовую массу, умевшую давить других, пока они не сплотились между собою».
Вечером написал несколько статей на тему, что поклонники республики в Германии, люди того же цвета, как и Якоби, социалистические демократы и близкие к ним люди, не хотят ничего слышать об уступках Франции в нашу пользу, так как они прежде всего республиканцы, а потом уже немножко немцы. Обеспечение Германии приобретением Страсбурга и Меца кажется им обеспечением против желаемой ими республики, ослаблением пропаганды этой государственной формы, уменьшением шансов на распространение ее за Рейном. Их партия стоит для них выше их отечества. Поражение Наполеона они признают справедливым, потому что он был противником их учения, но с той минуты, как его место заступила республика, они стали французами по настроению и наклонностям. Россия выразила требование пересмотра трактата, свидетельствовавшего об ее поражениях в Крымской войне. Изменение некоторых пунктов этого трактата, которые она имеет в виду, такого рода, что справедливость вполне говорит за них. Парижский мир по отношению к Черному морю содержит постановления вполне неправильные, так как берега этого моря по большей части принадлежат России.
Суббота, 17-го сентября . Рано утром в течение часа гулял с Виллишем. Мы спускались к зеленой Марне, где женщины в большой общественной прачечной выколачивали вальками белье. Мы дошли до старого моста, над которым возвышалось здание мельницы в несколько этажей, и через предместье перешли на левый берег реки. В конце улицы Корнильон опять находится мост, впрочем, взорванный. Он был переброшен через пропасть или глубокую расщелину, по которой проходит канал. Препятствие к сообщению, являющееся вследствие взрыва, уже устранено нашими понтонерами, так как недалеко от места взрыва, засыпавшего канал, устроен временный мост, через который всадники приближающегося эскадрона баварских кирасир могут переходить один за другим.
На возвратном пути встречаем мы большую колонну повозок с военными припасами, стягивающуюся от места взрыва в самую глубину города. На одном углу я видел множество афиш и между ними длиннейшее обращение Виктора Гюго к немцам, слезливое и высокомерное, чувствительное и надменное в одно и то же время, в настоящем французском духе. И зачем этот забавный человек говорит с нами, если он думает, что Померания и восточная Пруссия ничего не могут дать, кроме сволочи! Какой-то блузник, громко читавший это воззвание рядом со мною, сказал мне: «C’est bien fait, mousieur, n’est-ce-pas?» Я возразил ему, что, к моему величайшему прискорбию, должен признать это совершеннейшей бессмыслицей. Какую физиономию он скорчил тогда!
Мы посетили церковь, прекрасное старинное здание с четырьмя рядами готических колонн; за входом в капеллу, сзади хора, находится пристройка, выполненная в том же стиле. Сбоку хора, направо от него, если войти через главный портик, находится мраморный памятник Боссюэту, бывшему здесь епископом и, вероятно, проповедовавшему с кафедры этой церкви. Знаменитый автор четырех статей галликанской церкви изображен здесь в сидячей позе.
За обедом шеф не присутствовал; он не появлялся весь этот день до вечера. Говорили, что он уехал к своему сыну Биллю, стоявшему со своим полком в двух с половиной милях от Мо. Он нашел его здоровым и веселым. Потом он рассказывал об испытании мужества и силы молодого графа, о котором уже была речь выше. По его словам, граф Билль во время атаки при Марс-ла-Туре, шагах в пятидесяти от французского каре, споткнулся с лошадью об лежавшую перед ним мертвую или раненую лошадь. «Он полетел вниз, – сказал шеф, – но через несколько времени стал на ноги и повел своего гнедого в дождь ядер, потому что не в силах был на него влезть. Он встретил раненого драгуна, посадил его на свою лошадь и вернулся к своим людям, прикрывшись с одной стороны от огня этой защитой. Эта защита сделала свое дело, потому что лошадь оказалась убитой».
Сегодня и утром, и после обеда много работал и высказал в одной статье мысли, характерные для воззрений канцлера.
Утреннее издание «National-Zeitung» от 11-го сентября содержит в себе статью под заглавием: «Aus Wilhelmshöhe», которая в первой части своей жалуется на слишком почтительное обращение с седанским пленником и этим поддерживает весьма распространенное заблуждение. По ее мнению, Немезида должна была бы быть менее любезна с человеком 2-го декабря, издавшим законы безопасности, устроившим трагедию в Мексике и начавшим настоящую ужасную войну. Победитель ведет себя слишком великодушно. Таков голос народа, которому, по-видимому, сочувствует автор. Мы ни в каком отношении не разделяем этого воззрения. Во всяком случае, общественное мнение чересчур склонно политические отношения и события рассматривать с точки зрения частной жизни и требовать, чтобы при столкновениях между государствами победитель произносил суд над осужденным с нравственным кодексом в руках и наказывал его за то, что он свершил дурного по отношению к нему, а также и по отношению к другим. Такое требование вполне несправедливо; ставить его – значит совершенно не понимать сущности политики, к которой вовсе не относится понятие о наказании, награде и мести, это значит извращать самую душу политики. Политика должна наказание тех или других прегрешений государей и народов против нравственного закона предоставлять божественному провидению, держащему в своих руках судьбу битв. Она не имеет ни права, ни обязанности быть судьею; при всех подобных случаях она может лишь ставить вопрос: в чем заключается здесь выгода моей страны? Каким образом я могу наилучшим и плодотворнейшим способом воспользоваться этой выгодой? Душевные движения в области политического расчета имеют так же мало права гражданства, как и в области торговли. Политика не должна мстить за то, что свершилось, а должна заботиться только, чтобы не повторялось ничего подобного.
Применяя эти начала к нашему случаю, к обращению с побежденным и пленным императором французов, мы позволим себе спросить: каким образом могли бы мы наказать его за второе декабря, за законы о безопасности, за события в Мексике, как бы все это ни казалось нам несправедливым? Не только законы политики не позволяют нам думать о мести за поднятую им войну, но, действуя последовательно, мы должны были бы наказывать каждого отдельного француза в том духе, как это делал Блюхер, по словам «National-Zeitung», так как вся Франция, со всем своим тридцатипятимиллионным населением, сочувствовала мексиканской экспедиции, так же как и настоящей войне, и притом с величайшим рвением. Германия должна просто спросить себя: какую пользу можем мы извлечь из Наполеона, будем ли мы с ним дурно или хорошо обращаться? Как мне кажется, на этот вопрос ответить нетрудно.
В 1866 году мы опирались на те же принципы. Если в некоторых мерах этого года, некоторых постановлениях Пражского мира можно усматривать месть за сделанное нам оскорбление, наказание за погрешности, вызвавшие войну, то, во всяком случае, и те, которые пострадали от этих мер и постановлений, не были именно те лица, которые заслуживали мести и строгого наказания.
Суббота, 18-го сентября . Утром написал статьи для Берлина, Гагенау и Реймса. Между прочим, я касался там фразы Жюля Фавра: «La république c’es la paix!» Логическое развитие моей мысли заключалось главным образом в следующем: Франция в последние сорок лет при всех своих формах правления хотела быть миром и при всех этих формах оставалась полною противоположностью этому. Двадцать лет назад империя, а теперь республика хочет быть миром. В 1829 году говорили: «Легитимизм есть мир» – и в то же время составлялся русско-французский союз с целью нападения на Германию. Этому помешала только революция 1830 года. Известно также, что мирное правительство короля-буржуа в 1840 году хотело у нас отнять Рейн, и никто не забыл, что Вторая империя вела войн больше, чем это было при всех других формах правления. Мы можем из этого заключить, чего можно ожидать от уверений г. Фавра относительно его республики. Всем таким фразам Германия может противопоставить другую: «La France c’est la guerre» и действовать сообразно этому убеждению, требуя уступки Меца и Страсбурга.
Если верить слухам из Америки, которым предшествуют телеграммы, то жизни союзного канцлера угрожало или еще угрожает покушение. Весьма почтенный, принадлежащий к высшему сословию житель Балтиморы слышал в одном из тамошних ресторанов, как какой-то человек, которого он может отчетливо описать и который, судя по языку, должен быть австриец, высказывал другому, что, если откроется война, он застрелит Бисмарка. Сперва, как говорит рассказчик, он не придал этому заявлению никакого значения, но вскоре после этого он заметил этого молодца на борту бременского парохода, отправлявшегося в Европу. Кроме того, ему два раза снилось, что злодей направляет пистолет на офицера, сидящего в палатке, похожего по портретам на Бисмарка. Поэтому к нему были приставлены полицейские. Провидение сделало бы большое благо, если бы, оставивши за этим сообщением значение благонамеренного пожелания неизвестного американца, склонило бы канцлера к более строгим мерам относительно своей безопасности.
Шеф сегодня принимал участие в завтраке, за которым присутствовали два гвардейских драгуна. Оба они украшены Железным крестом. С одним из них министр поцеловался и говорил ему «ты». Я узнал, что это поручик Филипп фон Бисмарк, родной племянник шефа. Другой из них – адъютант Дахроден, племянник канцлера, в мирное время служащий в суде, производит впечатление способного и скромного человека. Когда министр выразил удовольствие, что тот получил Железный крест по предложению товарищей, поручик возразил, что он получил его только за выслугу лет. Затем шеф спросил его относительно князя Гогенцоллерна, состоящего при их полку: «Что он, и солдат – или только князь?» Ответ последовал в благоприятном смысле. Министр возразил: «Это мне очень приятно слышать. Меня всегда располагало в его пользу то, что его выбор в испанские короли состоялся по рекомендации его начальства за должностные заслуги». При этом он вспомнил, что попавшийся в плен при Седане генерал Дюкро в благодарность за то, что ему, веря его честному слову, давали больше свободы, чем другим, по дороге в Германию (я полагаю, это было в Понт-а-Муссоне) убежал предательским образом. Шеф заметил, что если такие плуты, изменившие своему слову, опять попадутся, то их следует вешать и на одной ноге написать «parjure», а на другой «infâme». Во всяком случае, это должно быть разъяснено в печати. Когда речь зашла о жестоком ведении войны со стороны французов, министр высказал: «Если с такого галла снять его белую кожу, то за нею окажется тюркос». В дополнение я могу заметить, что сегодня вюртембергский военный министр фон Зукоф довольно долго просидел у шефа, и, как говорят в Швабии, дело объединения Германии стоит хорошо. Менее утешительным представляется оно в Баварии, именно министр Брай ведет себя настолько противно народным интересам, насколько это возможно при настоящих обстоятельствах. После обеда в моем доме появился некто Г., который без всякой церемонии поместился со своими двумя сундуками у полицейских. Он имел разговор с шефом. Судя по паспорту, он был купец и отправлялся к графу Пьеффону.
Понедельник, 19-го сентября . Рано утром для военного кабинета я сделал извлечение из английского письма, полученного королем. Автор его, производящий свой род от Плантагенетов, железнодорожный машинист Уиль в Дамниси в Пемброк-Шейре. У него, очевидно, так же как и у Пуркинсона, который несколько дней назад представил нам свои пророчества, в голове не совсем ладно, но, во всяком случае, он гораздо добродушнее. Изречениями на библейский манер и с ужасной орфографией он предостерегает на основании разговора, слышанного им между ирландцем и французом, от западней и силков, которые расставлены для пруссаков в лесах Медона, Марли и Бонди. В заключение он посылает свое благословение королю, его дому и всем его подданным.
Выдают за верное, что Жюль Фавр сегодня в двенадцать часов явится сюда, чтобы вступить в переговоры с шефом. Погода благоприятствует ему. Около десяти часов граф Бисмарк-Болен пришел вниз от канцлера. Ему приходится отправляться тотчас же в замок Феррьер, лежащий в четырех или пяти часах пути отсюда; он должен будет скакать сломя голову. Тейсс возвращает мне вырученное с трудом от прачки мое постельное белье, но потом я узнаю, что я и Абекен должны остаться здесь с экипажем и слугой и приехать позднее. Мы завтракали в одиннадцать часов и с шефом, причем пили дорогое старое белое бордоское, которое прислала министру хозяйка дома, по-видимому, легитимистка, за то, что мы ей и ее близким не сделали ничего дурного. О ее легитимистских воззрениях шеф заключил из изображений Люцернского льва, висящего над ее постелью.
Глава VII
Бисмарк и Фавр в Готмезоне. – Две недели в замке Ротшильда
Жюль Фавр 19-го сентября заставил себя ждать до двенадцати часов, и мы не дождались его. Министр оставил в мэрии для него письмо и сказал слуге нашей виконтессы, чтобы ему указать на это письмо, когда тот приедет. Шеф и советники поехали верхом в имение парижского миллионера и несколько опередили экипажи, в одном из которых я сидел один. Мы сперва проехали мимо квартиры короля, помещавшегося в красивом доме наподобие замка, и оттуда по каналу переехали на левый берег реки, через которую проехали по временному мосту. При деревне Марель дорога идет в гору, и мы вступили в возвышенную местность, идущую по этой части канала и реки, по которой ехали среди обработанной земли, огородов, плодовых садов и виноградников с голубыми кистями.
Здесь, между деревнями Марель и Монтри, там, где шоссе под тенью раскидистых деревьев идет по довольно крутому наклону, мы встретили двухместную коляску с опущенным верхом, в которой сидели три господина в штатском платье и прусский офицер. Между штатскими находился пожилой господин с седой бородой и отвисшей нижней губой. «Это Фавр, – сказал я княжескому курьеру Крюгеру, сидевшему сзади меня. – Где министр?» Его уже не было видно, но, по всем вероятиям, он ехал впереди нас и длинной колонны повозок, которые, будучи по большей части нагружены кладью, загораживали от нас горизонт. Я велел ехать скорее, и через несколько времени мы увидели шефа, едущего назад с Кейделлем. Это было в деревне, которая, если я не ошибаюсь, называется Шесси. Там лежала мертвая лошадь, которую крестьяне покрыли соломой и сучьями и подожгли, вследствие чего около этого места распространялся отвратительный запах.
– Фавр уже проехал, ваше сиятельство, – сказал я, – туда вверх.
– Знаю, – ответил тот, улыбаясь, и поскакал дальше.
На следующий день граф Гацфельд рассказал нам кое-что о встрече союзного канцлера с парижским адвокатом и правителем. Министр, граф и Кейделль опередили нас на добрые полчаса, когда придворный советник Тальони, находившийся в ряду экипажей короля, сказал им, что Фавр проехал. Он ехал другой дорогой и то место, где она пересекалась с нашей, проехал раньше, чем шеф и его свита. Шеф был весьма недоволен тем, что ему не сообщили этого раньше. Гацфельд поехал вслед за Фавром и, догнавши его, возвратился с ним. Через несколько времени им навстречу выехал граф Бисмарк-Болен, который должен был доложить о нем министру, ехавшему с Кейделлем. Наконец они съехались в Монтри. Французов хотели пригласить в какой-нибудь из домов деревни; но они указали на замок Готмезон, лежащий на возвышенности в десяти минутах пути оттуда, как на удобное место, и все отправились в замок.
Там они встретили двух вюртембергских драгун, из которых один взял карабин и стал на часы перед домом. Здесь находился также французский крестьянин, который имел такую физиономию, как будто ему только что всыпали порядочное количество палок. У него спросили, можно ли здесь найти что-нибудь поесть и выпить. Пока они с ним разговаривали, Фавр, вошедший было в дом с канцлером, вышел на минуту и заговорил со своим соотечественником патетическим и возвышенным тоном. Случались нападения на безоружных пруссаков, которые больше не должны повторяться. Он сам не шпион, а член нового правительства, взявшего в свои руки заботу о благе отечества, и служит представителем его достоинства, и поэтому он требует во имя народного права и чести Франции блюсти за тем, чтобы это место считалось священным. Он говорил о том, что его честь правителя и честь крестьянина неизбежно требует этого, и тому подобные трогательные вещи. Добрый глупый парень выслушивал этот поток слов с очень глупым лицом. Он, видимо, мало понимал из него, как будто речь шла на греческом языке, и вообще имел такое выражение лица, что Кейделль сказал: «Если уже кто-нибудь нас должен охранять от нападений, то я предпочту вот того солдата».
Из другого источника узнал я сегодня вечером, что Фавр был в сопровождении господ Ринка и Геля, прежнего секретаря посольства Бенедикти и князя Бирона, и что для него в деревне около замка Феррьера приготовили квартиру, так как он хотел продолжать разговор с шефом. Кейделль прибавлял к этому, что когда союзный канцлер вышел из комнаты, где он беседовал с Фавром, он спросил у драгуна, стоявшего перед дверями: откуда он родом? «Из Швебиш-Галла», – отвечал тот. «Ну, подумайте только о том, что вы стояли на часах при первом переговоре о мире в эту войну».
Мы все довольно долго ждали в Шесси возвращения канцлера и затем с его разрешения отправились дальше и часа через два приехали в Феррьер. По дороге мы прошли по краю той полосы, которую французы усердно опустошили кругом Парижа. Впрочем, опустошение в этом месте еще было не так велико. По-видимому, население деревень, мимо которых мы проезжали, было по большей части разогнано подвижной гвардией. Нигде, сколько я помню, не слышно было лая собак, только на некоторых дворах мы видели бродящих кур. На многих дверях, мимо которых мы ехали, стояло написанное мелом: «Капральство Н.» или «Офицер и две лошади» и т. п. В деревнях мы видели много домов городской постройки, а около них виднелись виллы и замки с парками, что указывало на близость большого города. У одной из деревень, через которую мы проходили, лежало несколько сот пустых винных бутылок во рву и в поле около дороги. По-видимому, какой-то полк открыл здесь хороший источник и сделал около него остановку. Сторожевых постов у большой дороги и других мер предосторожности, как это делалось около Шато-Тьери и Мо, мы здесь не замечали, что, вероятно, бросилось в глаза шефу, когда он возвращался поздно вечером и с небольшой свитой.
Наконец когда начало темнеть, мы въехали в деревню Феррьер и вскоре затем в лежащее около нее поместье Ротшильда, в замке которого король и первое отделение главной квартиры поселились на продолжительное время. Министр должен был поместиться в последних трех комнатах правого флигеля, откуда вид был на луга, пруд и парк замка; канцелярия заняла одну из самых больших комнат нижнего этажа, а маленькая комнатка в том же коридоре была назначена для обедов. Барон Ротшильд убежал в Париж и оставил только какого-то кастеляна, который умел прислуживать, и, кроме того, трех или четырех особ женского пола.
Было уже темно, когда шеф вернулся и сел с нами за стол. Пока мы обедали, пришел посланный от Фавра узнать, когда он может прийти для продолжения переговоров. Он имел свидание с канцлером в нашей конторе с глазу на глаз от половины десятого до одиннадцати часов. Когда он выходил от него, он смотрелся подавленным, огорченным, почти отчаявшимся – быть может, все это остатки мимики, которая должна была растрогать слушателя, – говорится в моем дневнике. Переговоры, по-видимому, не привели еще ни к какому соглашению. Парижские господа, видимо, должны сделаться еще уступчивее. Вообще их посол и представитель имел наружность высокого человека с седыми бакенбардами, доходившими до подбородка, несколько еврейский тип лица и толстую отвисшую нижнюю губу.
За обедом шеф, в связи с тем что король поехал в Клей, чтобы воспрепятствовать какому-либо нападению с нашей стороны, высказал, что многие из наших генералов злоупотребляют самоотвержением войска ради побед. «Быть может, впрочем, – продолжал он, – жестокосердые злодеи главного штаба и правы, говоря, что если мы пожертвуем пятьюстами тысяч человек, находящихся теперь во Франции, то это будет наша ставка в игре, когда мы ее выиграем. Но брать или хватать быка за рога – слишком легкая стратегия. 16-го при Меде все было в порядке, но и здесь дело не обошлось без жертв. Пожертвование гвардией 18-го вовсе не было нужно; можно было подождать при Сент-Привá, пока саксонцы кончат свое обходное движение».
Во время обеда мы имели случай подивиться гостеприимности и пониманию приличий господина барона, дому которого король сделал честь своим присутствием, чем, конечно, избавил его от всякого рода опасности. Господин Ротшильд, обладающий сотнями миллионов, еще недавно бывший генеральным консулом Пруссии в Париже, велел нам через посредство своего управителя или дворецкого отказать в вине, которого мы требовали, хотя мы и заметили, что за вино, как и за всякую выдачу, будет заплачено. Призванный к шефу, этот смелый человек подтвердил свой отказ и солгал, будто в доме нет никакого вина, и потом объяснил, что у него найдется, быть может, бутылок двести дешевого бордо в погребе (в действительности их там лежало до семнадцати тысяч), но объявил, что он ничего из этого количества нам уступить не может. Министр старался внушить ему в очень энергичной речи, насколько это неприлично ввиду той чести, которую король оказал его господину, остановившись у него, и, когда этот дюжий молодец скорчил гримасу, коротко и ясно спросил: знает ли он, что такое связка соломы? Тот, по-видимому, угадывал, в чем дело, потому что побледнел и не проговорил ни слова. Ему было замечено, что связка соломы есть такая вещь, на которую кладут упрямых и дерзких управителей; остальное он может понять сам. На следующий же день мы получили все, чего требовали, и, сколько я знаю, дальнейших жалоб не было. Барон получил за свое вино не только требуемую плату, но еще и добавочную, так что он от нас еще кое-что нажил.
Оставалось ли дело в таком положении, когда мы уехали оттуда, было долгое время для меня сомнительнее, нежели ответить на вопрос: должно ли оно было так оставаться? Говоря яснее, я не вижу никакой разумной причины, почему миллионера Ротшильда избавляли от реквизиций, тем более соответственных его состоянию, как скоро он ничего не хотел сделать для короля и его свиты. На самом деле позднее в Версале рассказывали, что уже в день после нашего отъезда в Феррьере появилось с полдюжины реквизиционных команд, которые похитили множество съестных припасов и напитков, и что даже олени в загородке у пруда были съедены нашими солдатами. К моему глубочайшему огорчению, мне известно из достоверных источников, что ничего подобного не было. Такие рассказы были только благими пожеланиями, которые, как это часто бывает, превратились в мифы. Исключительное положение замка до самого конца войны имелось в виду. Тем неприятнее было слышать рассказы, исходящие от лица Ротшильда, который в парижском обществе передавал слова нашего шефа в превратном виде, будто, например, пруссаки чуть не побили его феррьерского управляющего за то, что фазаны, о которых этот последний им наговорил, не были найдены.
На следующее утро министр пришел в охотничью комнату, которая была снабжена красивою дубовою мебелью с великолепной резьбой и дорогими фарфоровыми вазами и которую мы превратили в бюро, увидел лежавшую на средине стола охотничью книгу и указал в ней на страницу от 3-го ноября 1856 года, где говорилось, что в этот день он и Галифет, охотясь, убили 42 штуки дичи, 14 зайцев, 1 кролика и 27 фазанов. Теперь он и Мольтке охотятся за более важной дичью, за волком из Гранпрэ, о чем он тогда и не помышлял, а его товарищ по охоте, конечно, еще и того менее.
В одиннадцать часов он имел третье свидание с Фавром, после чего было совещание у короля, на котором присутствовали Мольтке и Роон. Я отправил письма в Берлин, Реймс и Гагенау, и у меня осталось два свободных часа, чтобы ознакомиться с новым местопребыванием. Я употребил их на осмотр замка и окрестностей. С южной стороны тянется парк, с северной примыкает цветник, с западной, на расстоянии 400 шагов от замка, находятся конюшни и хозяйственные постройки, против которых, по ту сторону дороги, лежат обширные сады с широкими грядами овощей, фруктовыми деревьями и великолепными оранжереями; в заключение я зашел в швейцарский домик, находящийся в парке; здесь помещаются прислуга и прачечная.
О замке я упомяну лишь вкратце. Он имеет вид четырехугольника и построен в два этажа; со всех четырех сторон его возвышаются трехэтажные башни, заканчивающиеся конусообразными крышами. Стиль постройки представляет смесь разных школ времен Возрождения; в результате – отсутствие гармонии и величия. Красивее всего кажется южный фасад с великолепными вазами, украшающими лестницу, которая ведет на террасу, уставленную померанцевыми и гранатными деревьями в больших кадках. Главный вход находится с северной стороны и ведет в переднюю, уставленную изящными бюстами римских царей, присутствие которых в доме современного жидовства Креза довольно непонятно. Отсюда лестница с мраморными стенами ведет в главный зал здания, вокруг которого идет галерея, поддерживаемая позолоченными колонами. Над нею стена украшена гобеленами. Между картинами великолепно убранного зала находится конный портрет Веласкеса. Впрочем, взор покоится то на том, то на другом предмете, так как все красивы. Вообще целое производит такое впечатление, как будто обладатель не столько думал о красоте, как о том, чтобы собрать в кучу все дорогое.
Не замок, а окружающие его сады и парк заслуживают особенной похвалы. Необыкновенно красивы клумбы цветов, расположенные перед северным фасадом, со статуями и фонтанами, и еще более передняя часть парка, который далее переходит в лес, перерезанный прямыми широкими дорогами и узкими тропинками, из которых некоторые ведут к большой мызе. Впереди парка стоят красивые экзотические деревья, на некотором отдалении со вкусом сгруппированы туземные; приятное разнообразие зелени с просветами между кустарниками и вершинами дерев, луга, вода составляют удивительный ландшафт. Перед замком спускается поросшая травой равнина, перерезанная песчаными дорожками, к пруду, на котором плавают черные и белые лебеди, турецкие утки и разные другие птицы. По ту сторону зеркального пруда, справа, возвышается искусственный холм, на котором между кустами, лиственным и хвойным лесом извиваются тропинки, ведущие на его вершину. Налево от маленького озера видна загородка с оленями и косулями, а далее по ту же сторону между высокими лесными деревьями журчит ручеек. На лугах перед крыльцом пасутся овцы и ходят куры, к которым иногда присоединяются и фазаны, собирающиеся целыми стаями на открытой вдали местности; их в лесу от 4000 до 5000. Солдаты наши проходят мимо этих вкусных вещей, не обращая на них внимания, как будто они не годны для пищи, несмотря на то что чувствуют сильный голод.
– Тантал в мундире! – сказал кто-то, вспомнив мифологию, когда мы увидали трех птиц, которых можно было бы съесть и не под соусом à la Ротшильд, – т. е. сваренными в шампанском, – и которые прогуливались так близко возле часового, что легко могли попасть на его штык.
– Выдержал ли бы себя так французский мобиль? – спросил один из моих спутников.
Вспомнив любовь к искусству Абекена, мы отправились искать чего-нибудь замечательного и нашли на холме, у пруда, статую, которою хозяин замка, казалось, хотел украсить эту часть своих владений. По-видимому, это было изображение какого-то второстепенного божества, служебного Адонаи. На вершине бугра стоит сделанная из красной глины дама, в руке она держит копье, на голове надет зубчатый (стенной) венец, ростом она в полтора раза больше, чем обыкновенно бывают дамы. На пьедестале большими буквами написано – вероятно, для того чтобы прусский генеральный консул не имел права протестовать и не подумал бы, что он присоединил к своему парку Боруссию, – Avstria. Мне пришло тогда на ум, что, вероятно, памятник поставлен бароном в знак благодарности, так как он много заработал во время финансовой нужды Австрии. Один посетитель, проникнутый высоким чувством, не обращая внимания на надпись, сделанную в предостережение ошибок, написал карандашом на рубашке дамы: «Хвала тебе, Германия, твои дети единодушны!» А двоюродный брат Кладерадатша приписал внизу: «Прежде не было ни гроша. Дитя Берлина», – подобное замечание вырвалось у него еще раз, когда восторженный человек запачкал эту надпись, и он написал: «Твои дети навек соединены, великая богиня Германии!»
В верхних комнатах швейцарского домика господствовал страшный беспорядок. Двери были выломаны, вещи, принадлежащие живущим здесь слугам, раскиданы, на полу валялось белье, женские юбки, бумаги и книги, между ними одна под заглавием «Liaisons dangereuses», – любимейшая книга прачек и горничных.
Возвратясь, мы узнали, что управляющий замком, вначале такой недоступный, ознакомясь с нами, не видел уже в нас непрошеных гостей. Он чрезвычайно боялся грабителей, как называли теперь землевладельцы вольных стрелков, и эта боязнь заставила его примириться с нашим присутствием. Он рассказал одному из наших, что те господа, которые с мобилями и африканскими охотниками наперерыв грабили по соседству, разорили почти все дома в Клэ, и крестьяне с оружием в руках вынуждены были покинуть свои жилища и бежать в лес, и притом высказывал опасение, что они могли бы напасть на замок, если бы мы не были в Феррьере, ему даже казалось, что они сочли бы нужным сжечь замок. Вероятно, вследствие таких соображений, он вспомнил, что в погребе барона есть еще несколько бутылок шампанского, которое он может нам продать за хорошую цену, не делая из этого смертного греха. Вследствие такой перемены мы начали чувствовать себя почти как дома.
За завтраком мы узнали полученное в генеральном штабе известие, что запертый в Меце Базен письменно спрашивал принца Фридриха Карла, основательна ли весть, полученная им от возвращенных пленных, – о падении Седана и провозглашении республики, на что принц послал ему письменное подтверждение с приложением парижской газеты.
Вечером позвал меня шеф, который по случаю нездоровья не присутствовал за обедом. Маленькая каменная витая лестница, называвшаяся «Escalier particulier de М. le Baron», ввела меня в роскошно меблированную комнату, где на диване в халате сидел канцлер. Я должен был телеграфировать, что французы день назад – хотя мы слышали пушечную пальбу, но еще не были в ней уверены – сделали вылазку с тремя дивизионами по направлению к югу, но были в беспорядке отброшены, причем они потеряли 7 орудий и более 2000 человек пленными.
Среда, 21-го сентября . Шеф, оправившись от нездоровья, начал сильно заниматься. Но содержание и цель этих занятий не могут быть обнародованы, как и вообще многое другое, что было тогда сделано, пережито и переслышано. Я говорю это раз навсегда, и главное, с тою целью, чтобы кто-нибудь не заподозрил, что я принимаю участие в походе, как самодовольный Фаэк, не сознавая честного исполнения принятого на себя долга, в качестве «солдата пера».
Сообщаю следующее место из моего дневника:
«Императорская фамилия, эмигрировавшая в Лондон, избрала заступником своих интересов орган «La Situation». Учрежденные нами в западной Франции газеты будут знакомить ее публику с текущими делами; но наши намерения не должны быть тождественны с излагаемыми в газетах; необходимо поддержать раздор в различных французских партиях, чему поможет и удержание императорской эмблемы. Наполеон нам не опасен, республика еще менее, а хаос во Франции нам полезен. Будущность Франции нас не касается, французы сами должны заботиться о ней. Для нас она только до тех пор имеет значение, пока наши интересы затронуты, что в политике вообще должно быть путеводной звездою».
Когда шеф ушел и все распоряжения его были исполнены, мы пошли опять в парк, в котором и сегодня фазаны не имели ни малейшего подозрения, что существуют охотники, которые относятся к ним несколько враждебно. За обедом присутствовал граф Вальдерзее, приехавший из Ланьи, куда переведена вторая инстанция главной квартиры. Он говорил, что войска, окружающие Париж как бы кольцом, все больше стягиваются и что наследный принц находится в Версале. Офицеры, взятые в плен в Вавилоне, что на Сене, известили нас, что национальная гвардия отделилась от регулярных солдат и стала упрекать их в малодушии, выказанном ими во время последнего сражения, и что даже дошло до того, что между ними было вооруженное столкновение. В трех каменоломнях поймали беглых мужиков. В одном лесу наткнулись на вольных стрелков, которых оттуда прогнали гранатами и потом убили всех, за исключением одного, которого отпустили с тем, чтобы он предостерег других от подобной участи. Наконец жители деревень, расположенных между Парижем и Версалем, просили прусский гарнизон, находящийся в Севре, защитить их от грабежа и насилия вольных стрелков.
За чаем узнал еще кое-что о последних переговорах канцлера с Жюлем Фавром. Ему было поставлено на вид, что все условия мира ему сообщены быть не могут, так как для обсуждения их должно быть составлено собрание, но что без уступки земель не обойдется, потому что нам необходима лучшая граница против французских набегов. Интересно, что в переговорах менее касались мира и находящихся в связи с ним наших требований, чем притязаний со стороны французов, ради которых мы должны были бы согласиться на перемирие. Фавр делал чрезвычайно непристойные жесты, когда упомянули об уступке земель, вздыхал, поднимал взоры к небу и проливал патриотические слезы. Шеф не ожидает его возвращения. Это сообщено и наследному принцу, который сегодня утром – я пишу 22-го – присылал телеграмму с запросом о том, как идут дела.
Четверг, 22-го сентября, вечером . Французы не перестают выставлять нас перед светом варварами и злодеями, а английские газеты, в особенности враждебный нам «Standard», оказывает им в том содействие. Почти беспрерывно разражается эта газета перед своими читателями ужаснейшими клеветами на счет нашего обращения с французским народонаселением и с пленными, и все это сопровождается ссылками на свидетельства очевидцев или людей, черпающих сведения из верных источников, в сущности, состоящих из чистейшей лжи. Так, в последние дни герцог Фиц Джэмс изобразил ужасающую картину наших злодеяний, совершенных в Базейле, причем он употребил только «настоящие» краски; также вопит в жалобном тоне некто г. Л., взятый в плен при Седане, на бесчеловечное обращение с ним пруссаков и разыгрывает несчастного французского офицера, с которым жестоко обошлись. На последнее можно бы было не обращать внимания. Но герцог восстановляет против нас тех, кто расположен к нам по ту сторону моря, а смелая клевета всегда бросает тень. Поэтому сегодня отправлено в одну доброжелательную нам лондонскую газету следующее опровержение:
«Как во всякой войне, так и в настоящей сгорело немало деревень – большая часть от артиллерийского огня пруссаков, а также и французов. При этом сгорели женщины и дети, которые спрятались в погреба и не могли быть вовремя спасены. Это относится и к Базейлю; это местечко несколько раз занималось от ружейного огня. Герцог Фиц Джэмс видел только его развалины, которые он осматривал после сражения, как и тысячи других лиц. Все остальное в его сообщении написано со слов несчастных, обездоленных людей. В стране, где само правительство систематически развивает неслыханную ложь, едва ли возможно, чтобы озлобленные мужики имели большую склонность при виде погорелых своих домов давать правдивые показания о своих врагах. Официальными донесениями подтверждено, что жители Базейля, не только военные, но и блузники, стреляли из окон в проходящие немецкие войска, а также в пленных, которые потом найдены убитыми в комнатах. Также констатировано, что женщины, вооруженные ножами и ружьями, совершали зверства над тяжелоранеными солдатами, а другие в сообщничестве с мужским населением стреляли и заряжали пушки, почему и найдено их так много среди раненых и убитых на поле сражения. Эти обстоятельства, вероятно, не переданы герцогу Фицу Джэмсу его свидетелями. Они вполне извиняют умышленный поджог деревень, сделанный с целью прогнать находящегося в них неприятеля. Не раз был открыт этот умысел. Что женщин и детей насильно гнали в огонь – это низкая ложь, которою французы запугивают народонаселение и возбуждают их к ненависти против нас. Этим они подстрекают жителей к бегству, которые обыкновенно после вступления немецких войск тотчас возвращаются и совершенно поражаются тем, что эти последние обращаются с ними лучше, чем французские войска… Если боязнь не заставляет жителей бежать, то правительство посылает толпу вооруженных вольных стрелков, иногда даже поддерживаемую африканскими войсками, чтобы ударами сабель заставить жителей покинуть свои жилища, а в наказание за недостаток в них патриотизма позволяют этим шайкам опустошать деревни. Что касается письма одного пленного офицера (Булонь 9-го сентября), то и в нем больше лжи, чем правды. Относительно обращения с пленными Германия может сослаться на 150 000 свидетелей, более достоверных, чем этот анонимный, изолгавшийся офицер, письмо которого дышит чувством мести, столь присущей этим тщеславным и кичливым французам. Сквозь это чувство просвечивает возможность новых нападений, которым будет подвергнута Германия, и эта возможность принуждает нас при заключении мира преследовать одну цель, а именно укрепление наших границ. Только и есть правды в письме этого мнимого офицера г. Л., что по сдаче Седана недоставало съестных припасов, но не только для пленных, а и для победителей, которые не могли ничем поделиться с голодными врагами, потому что ничего не имели. Если г. Л. жалуется на то, что он под дождем и в грязи стоял на биваках, то в этом видно лучшее доказательство того, что он не офицер и до сих пор не участвовал ни в одной войне. Он какой-нибудь наемный писака, который никогда не покидал комнату, и эта жалоба заставляет предполагать, что рассказ о его плене есть вымысел, потому что если он офицер, то должен знать, что большая часть его товарищей – по крайней мере это можно сказать о немцах – из 40 ночей со дня начала военных действий 30 провели при таких же обстоятельствах. Когда ночью шел дождь, то они проводили ее под дождем, когда же место бивака превращалось в грязь, они лежали в ней. Тот только, кто не участвовал в этом походе, может всего этого не знать и удивляться подобным случаям. Если г. Л. хвастается, что у него сохранился его кожаный кошелек, то это уже есть ясное доказательство, что он не был ограблен. Нет ни одного солдата, который бы, имея при себе деньги, не носил бы их, как и 50 или 100 лет тому назад, на голом животе, и если бы наши солдаты хотели воспользоваться деньгами г. Л., они по собственному опыту знали бы, где их найти. Немногие немцы, попавшие в плен к французам, могут рассказать о том, как проворно руки их противников умеют рвать мундир пленного, и не обращая внимания на кожу своего пациента, взрезают ножом или саблею кожаный кошелек. Уверение в жестоком обращении с седанскими пленными – это наглая ложь. Большая часть французских пленных, может быть, четвертая часть из них, была пьяна до бесчувствия, так как за несколько часов до капитуляции французы ограбили все винные и водочные погреба. Ясно, что управлять пьяными людьми труднее, чем трезвыми, но примеров жестокого обращения ни при Седане, ни в ином месте не было, несмотря на господство строгой дисциплины в прусских войсках. Что эта дисциплина возбуждала удивление французских офицеров – это факт. К сожалению, мы не можем выставить в этом отношении в таком же виде неприятельские войска и не можем отдать им дани удивления, не засвидетельствовать их храбрости. Редко удавалось французским офицерам удержать своих подчиненных от убиения тяжелораненых, и были случаи не только между африканскими войсками, что высшие офицеры с опасностью своей жизни защищали этих последних от своих же солдат. Привезенные в Мец немецкие пленные познакомились с оплеванием, ударами и каменьями, которыми их провожали по улице, а при возвращении их африканские войска стали шпалерами и прогнали их, как в старину, сквозь строй палками и кнутами. В этих случаях мы можем сослаться на официальные протоколы, которые имеют другое значение, чем анонимные письма г. Л. Но нужно ли всему этому удивляться, если журналы такого города, как Париж, который лицемерно требует пощады во имя цивилизации, предлагают, не желая слышать противоречий, чтобы всем раненым, которых нельзя брать с собой, раскалывали череп или просто пользовались бы немцами для удобрения полей? Зверство французов, прикрываемое жалкой цивилизацией, в настоящей войне достигло совершенного развития, и если кичливые французы прежде говорили: «Grattez le Russe et vous trouverez le barbare», то теперь каждый будет в состоянии сравнить обхождение русских с неприятелем во время Крымской кампании с обхождением французов и, конечно, найдет, что это замечание более подходит к французам».
Прошу заметить раз навсегда: 1) в Англии совершенно достаточным для нашей безопасности считают снесение западных французских крепостей; 2) там стараются объяснить долговременную защиту Страсбурга приверженностью жителей к Франции. Но ведь крепость Мец защищается не немецким мещанством, а французскими войсками; упорная защита, значит, не есть следствие немецкой верности.
Только что мы сели за стол, входит один из придворных лакеев и докладывает, что наследный принц будет к обеду и просит приготовить для себя ночлег, причем он – секретарь или курьер, кто его знает, – выражает желание, чтобы ему для пяти господ, сопровождающих его королевское высочество, были приготовлены канцелярия и большая гостиная рядом с комнатой канцлера. «Канцелярию нельзя, – отвечает шеф, – там идут занятия». Потом он предлагает в распоряжение комнату, в которой он моется, – гостиная же нужна для приема французских посредников и князей. Квартирмейстер удалился с вытянутым лицом. Он, конечно, рассчитывал на безусловное согласие.
За обедом в присутствии графа Лендорфа шел оживленный разговор. Когда зашла речь об украшении старого Фрица «под липами» черно-красно-желтыми знаменами, министр неодобрительно отнесся к Вурмбу за то, что он допустил спор о цветах.
«По-моему, – сказал он, – дело может считаться оконченным, с тех пор как принято северогерманское знамя. В остальном отлив цветов для меня безразличен, зеленый, желтый, какой угодно, даже самый игривый цвет, хоть мекленбург-штрелицкое знамя. Прусский же солдат знать ничего не хочет о черно-красно-желтом знамени, что, конечно, благоразумные люди не поставят ему в вину, когда вспомнят о берлинских мартовских днях и о значках противников в Майнской кампании 1866 г.». После того шеф говорил, что мир еще далек и прибавил: «Если они пойдут на Орлеан, то и мы за ними последуем, и – если они двинутся далее, то и мы – до самого моря». Затем он прочел нам полученные телеграммы и список находящихся в Париже полков. «Все вместе должны составить 180 000 человек, – сказал он, – но едва ли между ними есть 60 000 настоящих солдат. Молодых солдат и национальных гвардейцев с их табакерками считать не стоит». Несколько минут разговор вертелся о предметах, находящихся на столе, причем, между прочим, упомянули, что Александр фон Гумбольдт, этот идеальный человек нашей демократии, был ужасный едок и что при дворе «он собирал целые горы омаров и других трудноперевариваемых гастрономических закусок и все это погружал в желудок». Наконец нам подали жареного зайца, причем министр заметил: «Французский заяц ничего не стоит в сравнении с зайцем из Померании, в нем нет вкуса дичи! Совсем не то наш заяц, жаренный в сметане, который вкусен, потому что питается ароматными травами». После половины одиннадцатого министр велел узнать внизу, не пьет ли кто чаю. Ему доложили: «Доктор Буш». Он пришел, выпил две чашки чая с коньяком, что он считал очень полезным для здоровья, и съел несколько маленьких кусков холодного жаркого. Потом он взял с собою полную бутылку холодного чая, который, кажется, составляет любимый его напиток по ночам, как я заметил во время похода. Он оставался до полуночи, и первое время мы были одни. Немного погодя он спросил, откуда я родом. Я ответил – из Дрездена. Какой город мне особенно нравится? Конечно, тот, в котором я родился? Я решительно отрицал это и сказал: «После Берлина более всего мне нравится Лейпциг». Он ответил, смеясь: «Вот как! Я этого не думал, Дрезден – такой прекрасный город!» Я выставил главную причину, почему он, несмотря на это, мне не нравится. Он ничего не сказал.
Я спросил, не следует ли телеграфировать о слышанных нами на парижских улицах ружейных и пушечных выстрелах. «Да, – сказал он, – сделайте это». «О переговорах с Фавром надо еще подождать?» «Впрочем… – и потом продолжал: – От Мэзон на… как бишь его?.. на Монтри – первое совещание; потом в тот же вечер в Феррьере – второе, на следующее утро – третье, и все безуспешно как относительно перемирия, так и мира. Со стороны других французских партий готовятся также вступить с нами в переговоры». При этом он сделал некоторые намеки, из которых я мог заключить, что он указывает на императрицу Евгению.
Шеф хвалит стоящее на столе красное вино из погреба замка, а потом выпивает стакан, затем он порицает неприличное поведение Ротшильда и говорит, что старый барон обладал большим тактом. Я вспомнил о фазанах и спросил, нельзя ли устроить на них охоту. «Гм! – сказал он, – хотя и запрещено стрелять в парке, но что же со мной сделают, если я выйду и принесу хотя пару? Арестуют – нет, потому что тогда у вас никого не будет, кто бы приготовил мир». Потом разговор зашел об охоте вообще.
«Когда я охочусь с королем в Лецлинге, то охочусь в нашем старинном фамильном лесу. Бургсталь приобретен нашей фамилией 300 лет назад – только ради охоты. Лес тогда был уже почти такой же, как и теперь. Но тогда он недорого ценился, за исключением охоты. В настоящее время он стоит миллионы».
«Вознаграждение было незначительное – менее четвертой части стоимости, вода затопила почти все» и т. д.
Другой предмет навел его на разговор об искусной стрельбе, и он сообщил, что бывши еще молодым человеком, он имел верный пистолет, что он на сто шагов попадал в лист бумаги, а уткам простреливал головы.
Опять вернулся он к часто излагаемой им теме и заметил: «Когда я усиленно работаю, то должен и есть хорошо. Я не могу заключить порядочного мира, если мне не дадут хорошо покушать и выпить. Это относится к моему ремеслу».
Разговор отклонился – не помню как – на старые языки. «Когда я еще был учеником первого класса, – сказал он, – тогда я мог очень хорошо писать и говорить по-латыни; теперь мне было бы трудно, а греческий я совсем забыл. Я вообще не понимаю, как этим можно так усердно заниматься. Разве только потому, что ученые не хотят уменьшить ценности тому, что ими приобретено с трудом». Я позволил себе напомнить о disciplina mentis и заметил что 20 или 30 значений частички αν были бы очень полезны тому, кто мог бы пересчитать их по пальцам. Шеф возразил: «Да, но на русском языке еще гораздо лучше, чем на греческом. Следовало бы вместо греческого ввести сейчас русский язык; это непосредственно имело бы практическую пользу. В этом языке столько тонкостей в спряжении, и заучивание 28 склонений, которые существовали прежде, что-нибудь да значит для упражнения памяти. Теперь, кажется, есть только 3, но зато гораздо более исключений. А как изменяется корень – в некоторых словах остается только одна буква»!
Мы говорим об изложенном на сейме в пятидесятых годах шлезвиг-гольштинского вопроса. Граф Бисмарк-Болен, который в это время вошел, заметил, что это, должно быть, все происходило во сне. «Да, – сказал шеф, – во Франкфурте они спали во время переговоров с открытыми глазами. Вообще это сонливое и пошлое общество, которое стало сносным только тогда, когда я, как перец возбуждающий, появился между ними». Вслед за этим он рассказал прелестную историю о бывшем тогда представителе сейма графе Рейхберге.
Я напомнил об известной всем истории с сигарой.
«Какой? – С графом Рейхбергом, ваше превосходительство».
– Да, это было так просто. Я пришел к нему в то время, когда он занимался и при этом курил. Он просил меня немного подождать. Я стал ждать, но когда мне уже надоело, а он мне даже не предложил сигары, я взял сам и попросил у него огня, который он мне подал с немного изумленным лицом. В том же роде есть еще и другая история. Во время заседания военной комиссии, когда на сейме представителем Пруссии был Рохов, Австрия курила только одна. Рохов, как страстный курильщик, вероятно, с охотой сделал бы то же, но удерживался. Когда я туда пришел, мне сильно захотелось сигары, и так как я не видел, почему бы не курить, то я попросил председателя одолжить мне огня, на что с неудовольствием и удивлением обратили внимание как он, так и другие господа. Видимо, это для них составляло событие. Теперь курили еще только Австрия и Пруссия. Но остальные, очевидно, считали это настолько важным, что послали запросы домой, как им быть. Дело требовало зрелого обсуждения, и в продолжение полугода курили только две державы. Затем начал и баварский посланник выставлять важность своего положения и стал покуривать. Саксонский имел, вероятно, тоже большое желание затянуться, но еще не получил надлежащего разрешения от своего министра. Но когда на следующий раз он увидал, что ганноверский посланник курит, он, как ревностный австрияк – потому что его сыновья служили там в армии, – обнажил меч, и сам задымил. Теперь остались только вюртембергский и дармштадтский, но те вообще не курят. Тем не менее честь и важность их мест необходимо требовали этого, и вот один из них достал сигару – как теперь вижу, тонкая, длинная светло-желтая – и докурил ее до половины, совершив, таким образом, нечто вроде всесожжения за отечество».
Пятница, 23-го сентября. С утра – прекрасная погода, но в 11 часов было уже очень жарко. Прежде чем шеф встал, я отправился в парк. В одной засеке, левее ручья, увидел я огромное стадо косуль. Далее на дворе великолепный птичник, где в больших проволочных клетках находится много заграничных птиц, как-то: китайских, японских, из Новой Зеландии, редкие голуби, золотые фазаны и т. п. и садок перепелок. Возвращаясь, встретил я в коридоре Кейделля. «Война, – сказал он. – Получено письмо от Фавра, он отклоняет все наши требования». Мы приготовим это с комментариями для печати, и при этом поставим на вид, что настоящий обитатель замка Вильгельмсхёе совсем не так дурен и мог бы для нас оказаться очень выгодным.
После завтрака я получил много перехваченных английских писем из Парижа, содержанием коих мы, пожалуй, можем воспользоваться для напечатания в газетах. Впрочем, для наших, собственно, газет в них мало интереса: жалобы на опустошение бульваров, на оскорбление, сделанное войсками империалистским генералам, например: Валльяну, на циркуляры Жюля Фавра и тому подобное.
За обедом были гости у шефа, между прочим, главный почт-директор в Реймсе, Стефан; они рассказывали, что все деревни, замки и виллы около Парижа покинуты жителями и большею частью разграблены. В Монморанси, где находились богатая библиотека, монетный двор и музей древностей, все теперь разрушено, золото и серебро украдены, оставлена только медь, все остальное изодрано в куски, все разбито, все разбросано в беспорядке. На это шеф сказал: «Это не диво там, где правительство заставило африканских стрелков с оружием в руках гнать несчастных жителей, а в наказание за то, что они не проникнуты патриотизмом, приказало опустошить их дома! Наш солдат не крадет денег и не рвет книг. Это сделали мобили, между которыми много разной сволочи. Наш солдат берет себе только пищу и питье там, где ему их не дают, и при этом он, конечно, совершенно прав; если в поисках пищи он сломает дверь или шкаф, то против этого нечего сказать. Кто велит им бежать?»
Вечером по приказанию министра я телеграфировал, что Туль сдался при таких же условиях, как и Седан.
Суббота, 24-го сентября . Министр и другие начали говорить за столом о драгоценных вещах, находящихся в большом зале, которые он только теперь осмотрел и между которыми, как говорят, есть трон или стул, нечаянно попавший в руки к одному французскому маршалу или генералу в Китае – или Кохинхине – и потом им же проданный нашему барону – достопримечательная вещь, на которую я при осмотре комнаты не обратил должного внимания. Мнение шефа о роскоши согласовалось почти с высказанным за несколько дней перед этим мною. «Все очень дорого, но не особенно красиво и еще менее приятно».
Потом он продолжал: «Такое благоустроенное готовое владение, как это, не могло бы мне доставить удовольствия. Оно сделано другими, а не мною. Правда, в нем много хорошего, но я был бы лишен удовольствия создавать и преобразовывать. Совсем другое, если я должен подумать, могу ли я употребить 4000 или 10 000 франков на то или другое улучшение. Как будто не надо соображаться со средствами. Иметь всегда достаток, и даже более чем достаток, наконец наскучит». Сегодня мы ели фазанов, и управляющий, в котором перемена произошла к лучшему, доказал нам свою дружбу, подав хорошее вино. Потом обер-провиантмейстер доложил министру – что очень понравилось графу Бисмарку-Болену, – что один берлинский благодетель прислал шефу в подарок четыре бутылки кюрасао; ему сейчас же была сделана проба. Канцлер, обратясь к Бисмарку-Болену, спросил:
– Знаком ты с (имени я не разобрал)?
– Да.
– Ну, так телеграфируй ему, чтобы немедленно выслал в главную квартиру два кувшина.
После за обедом разговор коснулся владельцев, в особенности же находящихся в Померании, причем граф бросил взгляд на прежнее и теперешнее положение владельцев Шмольдин и в теплых словах сказал, какое влияние они имеют на маленьких людей.
Вечером опять вспомнили мы наших приятелей французских ультрамонтанов, которые стараются подорвать к нам доверие народа, распространяют против нас в газетах ложь и даже ведут против нас в сражение мужиков, как это было при Бомоне и Базейле.
Воскресенье, 25-го сентября. Шеф был сегодня с королем и другими в церкви, и после обеда мы его не видали. Может быть, есть дело особенно важное. Мы получили из Берлина письма, из которых видно, что бисквиты, посланные нами из Реймса в сумке фельдъегеря, благополучно доставлены и даже не пахли ворванью Леверстремских сапог, хотя были уложены вместе. Возвращаемая сумка, напротив, имела несчастье: когда Бельзинг ее раскрыл, она распространила сильный запах портвейна, и по остаткам вина в разбитых бутылках можно было заключить, что оно смешалось с красными чернилами, которые были уложены вместе. За столом что-то навело разговор на евреев. «У них, собственно, нет отечества, – сказал шеф. – Они общеевропейцы, они космополиты, кочующий народ. Их отечество Сион (к Абекену) – Иерусалим. Они рассеяны по всему свету и тесно связаны между собою. Только маленький еврей как будто еще имеет любовь к родине. Есть и между ними хорошие, честные люди. Такой был у нас в Померании, он торговал кожами и тому подобными произведениями. Должно быть, это не пошло, потому что он обанкротился. Тогда он пришел ко мне и стал просить, чтобы я его пощадил и не предъявлял своих требований, так как он понемногу со временем постарается уплатить. По старой привычке я на это согласился, и он действительно уплатил. Бывши еще посланником на франкфуртском сейме, я получил от него часть в уплату старого долга, и, вообще если что и потерял, то, во всяком случае, менее, чем другие. Таких евреев, вероятно, немного найдется. Впрочем, у них есть и свои добродетели: уважение к родителям, супружеская верность, а благодеяниями они славятся.
Понедельник, 26-го сентября . С утра приготовил последовательно для различных газет статью по поводу мнения, что Париж со своими дорогими коллекциями, художественными постройками и памятниками не должен быть допущен до бомбардирования. Как бы не так! Париж – крепость; что там собрали художественные сокровища, воздвигнули великолепные дворцы, это не уничтожает его характера. Крепость есть военный аппарат, который без всяких рассуждений должен быть сделан безвредным. Если французы не хотели подвергать опасности свои монументы, библиотеки и картинные галереи, то они не должны бы были обносить его укреплениями. Впрочем, они ни минуты не задумывались бомбардировать Рим, в котором были совсем другие, ничем незаменимые памятники.
За нашим обедом присутствовал сегодня лейб-медик короля доктор Лауер. Долго говорили о кулинарных и гастрономических кушаньях, и мы узнали, что любимый плод шефа – вишни. Поданные нам четыре карпа были очень вкусны. Из речных рыб он предпочитает мурену и форель, которые у него водятся в большом количестве в Варцинских прудах. Большие форели, которые в Франкфурте-на-Майне во время пиршеств считаются изысканным блюдом, он считает хуже речных. После речных рыб он отдает должное озерным, из них – наваге. «Даже самую обыкновенную селедку, хорошо очищенную, я ем с удовольствием». «В молодые годы я сделал услугу жителям Аахена, как в древние времена Церера, богиня земледелия, тем, что научил их жарить устриц». Лауер попросил рецепт, и министр дал его. Если я хорошо понял, то он следующий: надо обсыпать их толченой булкой и пармезаном и жарить их в раковинах на горящих угольях. Я думал про себя, что устрицы и поваренное искусство ничего общего между собою не имеют. Лучший рецепт: свежие устрицы без всякого снадобья. Шеф говорил еще о различных лесных ягодах, о землянике, клюкве, как настоящий знаток, также и об обширном семействе грибов, которые ему большею частью попадались в Эстляндии и Финляндии и совсем у нас неизвестны. Потом говорили об еде вообще и он, шутя, заметил: «В нашей фамилии все большие едоки. Если бы в стране все имели такую же способность, то она бы не выдержала. Я бы оставил отечество. Затем разговор коснулся военных, и министр заявил, что уланы – лучшая конница. Пика придает улану много самонадеянности. Думают, что она мешает в лесу, но в этом ошибаются; напротив, она помогает раздвигать ветки. Он знает это по опыту, так как он сначала служил в егерском, а потом ополченцем в уланском полку. Отнятие пик у ополченцев кавалерии было бы большим промахом. Согнутая сабля мало приносит пользы, особенно если дурно отточена; гораздо практичнее была бы прямая длинная шпага».
После обеда получено письмо от Фавра, в котором он просит: во-первых, чтобы о начале бомбардирования Парижа было заранее объявлено, чтобы дать время удалиться дипломатическому корпусу; во-вторых, чтобы последнему было дозволено письменно сношение. Абекен сказал, возвратясь с бумагами, что он пошлет ответ на Брюссель. «Оттуда письмо пойдет очень долго или совсем не дойдет и возвратится опять к нам», – заметил Кейделль.
«Это ничего не значит», – продолжал Абекен. Король пожелал читать газеты, и чтобы ему было подчеркнуто самое главное. Шеф предложил ему «Norddeutsche Allgemeine-Zeitung», и на меня возложено было подчеркивание ее.
Вечером меня несколько раз звали к министру за приказаниями, и я узнал, между прочим, что Фавр в своих донесениях о переговорах с канцлером хотя и старается быть правдивым, но объявляет не совсем подробно о бывших трех совещаниях, что при настоящих обстоятельствах кажется довольно странным. Именно он умалчивает о вопросе о перемирии, между тем как этот вопрос стоял на первом плане. Об Соассоне не было и упомянуто, только о Зааргемюнде. Фавр был готов дать значительное денежное вознаграждение. Вопрос о перемирии колебался между двумя альтернативами: с одной стороны, уступка части внешних укреплений Парижа, и хоть часть укрепленных пунктов, находящихся в городе, под условием дозволения свободного сношения жителей Парижа с внешним миром; с другой стороны – за отречение от вышесказанной уступки – уступка Страсбурга и Туля. Последняя уступка была нам выгоднее, потому что эти города в руках французов затрудняют нам подвоз необходимого. Союзный канцлер сказал, что будет говорить об уступке владений при заключении мира, лишь только тогда, когда он будет принят в принципе. Потом, когда Фавр попросил, чтобы ему хотя бы изложили наши требования, ему заметили, что Страсбург необходим нам, как ключ к нашим владениям; и что, кроме того, департаменты верхнего и нижнего Рейна, также Мец и часть департамента Мозеля должны служить для нашей безопасности на будущее время.
После обеда получено важное известие: итальянцы заняли Рим, папа и дипломаты остались в Ватикане.
Вторник, 27-го сентября . Бельзинг по приказанию шефа показал мне переписанный им короткий ответ на письмо Фавра. В нем сказано: 1) преждевременные переговоры не в обычае войны; 2) обложенная крепость не должна быть местопребыванием дипломатов; открытые письма, в которых не будет заключаться ничего вредного, могут быть пропущены. Надеются, что дипломатический корпус, который мог бы отправиться в Тур, куда, говорят, намеревается также переехать и французское правительство, изъявит на это свое согласие. Ответ дан на немецком языке, который Бернсторф старался провести, а Бисмарк последовательно ввел в употребление. «Прежде, – сказал Бельзинг, – большая часть секретарей в министерстве иностранных дел были французы, из которых остались еще Ролан и Делякроа, и совещались на французском языке. Даже входящие журналы велись на нем, и посланники обыкновенно говорили по-французски и т. д.». Теперь язык «презренных галлов», как называет их граф Бисмарк-Болен, в употреблении только исключительно с такими державами и посланниками, которых отечественный язык мы не довольно бегло читаем, но журналы уже несколько лет ведутся на немецком.
Абекен сегодня не появлялся в бюро; говорит, что у него был удар и приглашали Лауера. Шеф занимается сегодня уже с восьми часов, он опять не мог спать. Я получил от него различные поручения, которые уже были исполнены до обеда. Посланы статьи о враждебных отношениях люксембуржцев, о переговорах шефа с Фавром, об Англии и Америке. Мы имеем теперь газеты в изобилии, и письма с некоторых пор доходят из Берлина к нам гораздо скорее. Б. покинул Гагенау, потому что его положение между прибывшими туда бюрократами стало очень затруднительное и неловкое. Перед этим он три недели работал с большим рвением и известною ловкостью достиг того, чего только возможно было достичь при затруднительных обстоятельствах.
К обеду прибыли из генерального штаба князь Радзивилл и Кнобельсдорф. Когда речь зашла о последнем совещании Фавра с министром, о том, как Фавр был расстроен, как он заплакал, канцлер сказал: «Да, он был так жалок, что я некоторым образом старался его утешить. Но когда я рассмотрел его ближе – то совершенно убедился, что он не проронил ни одной слезы. Он, вероятно, хотел подействовать на меня трагическим представлением, как парижские адвокаты на их публику. Я вполне также уверен, что он был набелен, особенно во второй раз. В это утро он имел серый цвет лица, казался таким страждущим и слабым. Я допускаю, впрочем, что он мог быть и действительно опечален, но он не политик, он должен был знать, что душевные излияния в политике не допускаются».
Через минуту министр продолжал: «Когда я касался в чем-нибудь Страсбурга и Меца, он делал такое лицо, как будто это была только шутка с моей стороны. Я бы мог ему рассказать, как мне раз ответил – не помню уже, как его фамилия, – один богатый меховщик в Берлине. Я пошел с моей женой, чтобы купить ей шубу, и за ту, которую я выбрал, он спросил очень высокую цену. «Вы, конечно, шутите?» – сказал я. Нет, – отвечал он, – в серьезных делах – никогда».
Потом ему доложили об американском генерале Борнсайде. Он просил его прийти попозже, так как он теперь обедает. «Через час или два?» «Ах, по мне хоть через полчаса». Потом он спросил меня: «Доктор Буш, что он такое, собственно?» Я ответил, что этот уважаемый генерал был после Гранта и Шермана, во время междоусобной войны, одним из замечательнейших.
Затем говорили о занятии Рима, о папе и Ватикане, и министр сказал, между прочим: «Да, властелином он должен остаться. Только спрашивается – как? Можно бы было ему помочь, если бы ультрамонтаны не восставали во всем против нас. Я привык отплачивать той монетой, какою и мне платят. Я, между прочим, хотел бы знать, в каком положении находится наш Гарри (Арним, севepогерманский посланник при папском дворе). Вероятно, сегодня утром так, вечером этак, а завтра утром опять иначе – как и его донесения. В сущности, он слишком важен для маленького властелина. С другой стороны, папа не только князь церковной области, но и глава католической церкви».
После обеда, только окончили мы пить кофе, пришел Борнсайд с другим пожилым господином в красной шерстяной рубашке и бумажном воротнике. Генерал – довольно высокого роста, тучный, со сросшимися густыми бровями и поразительной белизны зубами – был похож на отставного прусского майора. Шеф сел с ним в столовой на диване, налево от окна, и за стаканом киршвассера, который потом несколько раз доливался, стал живо с ним разговаривать по-английски. Князь Радзивилл разговаривал в это время с другими. После того как министр сказал своему гостю, что он немного поздно прибыл на войну, и тот объяснил причину, министр высказал, что мы в июле хотели устранить войну, но неожиданно были поражены объявлением ее. Никто не думал о приобретениях, ни король, ни народ. Германию очень легко склонить на оборонительную войну, но не на завоевательную, потому что войско составляет народ, а наш народ не алчен на славу. Также и теперь голос народа печатно требует улучшения границ; для сохранения мира мы должны тем более думать оградить себя на будущее время от опасностей, что имеем дело с честолюбивым и алчным народом. Казалось, Борнсайд это понял и очень хвалил нашу организацию и храбрость наших войск.
В 9 часов вечера, только что я телеграфировал по поручению министра о том, что мобильгарды дезертируют и что многие из них за это расстреляны, как вошел Крюгер с известием, что Страсбург взят. Кейделль спросил: откуда он это знает? Сейчас являлся к шефу Бронзар, чтобы ему об этом доложить, а потом сказал нам Краусник, что с этим же известием приехал и Подбельский. Бронзар позже перешел сам в бюро и сообщил, что получена телеграмма о капитуляции Страсбурга, причем он сказал, что, будь он моложе, он за это известие выпил бы бутылку вина, но теперь боится, потому что не будет спать ночь.
Среда, 28-го сентября . Король запретил стрелять и охотиться в парке. Сегодня он поехал на большой смотр войск в окрестностях Парижа. В 12 часов я отправился за приказаниями к министру, но в передней мне сказали, что его нет дома.
– Верно, поехал верхом?
– Нет, господа вдвоем стреляют фазанов. Энгель должен идти к ним.
– Разве они взяли с собою ружья?
– Нет, Подбельский их отправил раньше.
В два часа шеф был уже дома; он, Мольтке и Подбельский охотились не в парке, а в лесу, севернее, но охота была неудачная. Абекен начал поправляться и приходил уже в канцелярию.
К завтраку пришел пожилой француз в сером сюртуке, седой, с орлиным носом, седыми усами и бородой. Это был, как мы после узнали, Ренье, о котором по окончании войны так много толковали в газетах и который, кажется, был посредником между императрицей Евгенией и Базеном. Теперь он желал получить аудиенцию у короля. Борнсайд просил также сегодня телеграммою назначить ему час. Он хотел также быть доверенным лицом и посредником. Я ответил ему по поручению шефа: «The Chancellor will be happy to receive you this evening at any hour you please».
За обедом присутствовали граф Лендорф, граф Фюрстенштейн в светло-голубом драгунском мундире и г. фон Катт, из которых двух последних предположено назначить префектами в завоеванные французские области. Шеф говорил, что сегодняшняя охота не была успешна, вероятно, потому, что патроны очень слабы. Он убил только одного фазана, трех или четырех поранил, но и тех не нашел. Прежде ему здесь больше повиновались, по крайней мере фазаны. В Магдебурге раз в продолжение 5–6 часов он застрелил 160 зайцев. После охоты он был сегодня у Мольтке, где они пробовали изобретенный этим последним новый напиток вроде пунша, состоящего из шампанского, хереса и горячего чая.
После этих сообщений последовал серьезный разговор. Канцлер высказал свое неудовольствие на то, что Фойгтс-Ретц совсем не упомянул в своих донесениях о храброй атаке двух гвардейских драгунских полков при Марс-ла-Туре, которые спасли 10-й армейский корпус. «Она была необходима – я это допускаю, – но все-таки не следовало об ней умалчивать». Затем он сказал довольно длинную речь, исходным пунктом которой было жирное пятно, замеченное им на скатерти, и которая в конце концов возбудила беседу исключительно между министром и Каттом. «Убеждение, что прекрасно умереть за родину на поле чести, все более и более распространяется в народе», – высказал при этом между прочим собеседник министра. Последний возразил: «У нас, у немцев, унтер-офицер, в общем, имеет тоже воззрение и чувство долга, как и лейтенант и полковник. Это проходит у нас вообще очень глубоко, через все слои народа». «Французы – народ, легко подчиняющийся самодержавию, и тогда он становится могущественным. У нас каждый имеет свое собственное мнение. Но когда много немцев одинакового мнения, то с ними трудно справиться. Если бы все были одного мнения, то они были бы всемогущи». Чувства долга у человека, который предоставляет застрелить себя, оставаясь в неизвестности (вероятно, он подразумевал под этим: без вознаграждения и почести за его стойкость на указанном ему посту, без страха и надежды), – этого чувства у французов нет. Оно происходит оттого, что в нашем народе сохранился еще остаток веры: немец знает, что кто-то есть еще, который меня даже тогда видит, когда не видит меня лейтенант».
– Полагаете ли, ваше превосходительство, что они думают об этом? – спросил Фюрстенштейн.
– Думают – нет, по-моему, это чувство, настроение, инстинкт. Когда они рассуждают, то это живо исчезает. Тогда они начинают себя оправдывать в этом. Я не понимаю, как можно жить без веры в откровенную религию, Бога, творящего добро, в высшего судью и будущую жизнь – и делать свое дело, и воздавать каждому по заслугам. Если б я перестал быть христианином, я не оставался бы ни одной минуты на своем посту. Если б я не надеялся на моего Бога, то я ставил бы ни во что земных царей. Я мог бы отлично жить и был бы чрезвычайно доволен. Зачем бы мне было утомляться, неустанно работать в этом мире, подвергать себя неприятностям и затруднениям, если б я не чувствовал, что должен исполнять мой долг относительно Бога [5] ? Если бы я не верил в Божественный порядок, предназначающий этот немецкий народ к чему-нибудь великому и доброму, я бы тотчас же перестал быть дипломатом или не принял бы на себя этого дела. Ордена и титулы меня не соблазняют. Я обладаю стойкостью, высказываемою мною в продолжение десяти лет до настоящего дня, против всевозможных заблуждений только благодаря моей твердой вере. Отнимите у меня эту веру, и вы отнимете у меня родину. Если б я не был глубоко верующим христианином, если б у меня не было чудесной религиозной основы, то вы никогда бы не дожили до подобного союзного канцлера. Добудьте же мне преемника с подобной основой, я тотчас же уйду. Но я живу между язычниками. Я не хочу этим приобрести прозелитов, я только чувствую потребность исповедать мою веру». Катт возразил, что древние греки также высказывали самоотвержение и самопожертвование, обладали любовью к отечеству и совершали с ее помощью великие дела. Он был уверен, что многие люди сделали бы и теперь то же из чувства государственности, из чувства солидарности. Шеф отвечал, что эта самоотверженность и преданность долгу относительно государства и короля – остаток веры отцов и праотцов в измененной форме, более неясной, но все-таки существующей, что это – хотя и не вера, но все-таки вера. «Как охотно удалился бы я от дел! Я люблю сельскую жизнь, лес и природу. Отнимите у меня союз с Богом, и я стану человеком, который завтра соберет свои пожитки и уедет в Варцин и будет обрабатывать свое поле».
После обеда наверху у союзного канцлера был великий герцог Веймарский, потом Ренье и, наконец, Борнсайд со своим вчерашним спутником.
Четверг, 29-го сентября . Рано поутру была написана статья о глупости немецких газет, предостерегающих нас от притязания на Мец и его окрестности, потому что там говорят по-французски, и также о Дюкро и его непростительном побеге во время препровождения его в Германию. Вторая статья будет отправлена также в Англию. В газетах есть сообщение о настроении в Баварии, по-видимому, из достоверного источника, и содержание которого мы поэтому отметим в его главнейших чертах. Большею частью сообщаемые известия благоприятны, лишь некоторые могли бы быть лучше. Немецкий дух, по-видимому, приобрел этой войной силу и распространение, но и специфически баварское чувство самостоятельности усилилось. Участие армии в победах немецкого войска при Bepте и Седане и значительные их потери не преминули одушевить чувством военной гордости все слои народа. Здесь уверены, что король надеется на победу немецкого оружия и вполне содействует, насколько может, достижению этой цели. Но этого нельзя сказать о всех его министрах. Военному министру, без сомнения, действительно много дела при счастливом исходе войны, и он делает все от него зависящее. В этом отношении на него можно положиться и надеяться, что при заключении мира он будет стоять на правой стороне.
Относительно какого-нибудь нового видоизменения положения дел в Германии, которое могло бы возникнуть из товарищества по оружию в этой войне, в смысле прочного тесного союза и в мирное время, нельзя еще делать никаких заключений, несмотря на очень благоприятный тон печати. Многие влиятельные личности видят в сильном содействии Баварии германским победам не столько путь к большему единению Германии, сколько попытку Баварии выказать свою силу и упрочить за собою полную самостоятельность. Партикуляристы не-ультрамонтаны становятся приблизительно на ту же точку зрения. Они удивляются тому, как мы ведем войну, и хотят, подобно нам, обеспечить Германию от дальнейших нападений с запада. Но они не хотят и слышать о присоединении Баварии к северному германскому союзу в его настоящем виде. В этих кружках много говорится о распределении завоеванных французских областей. Они очень желали бы видеть Эльзас присоединенным к Бадену, предполагая, что за это баденский Пфальц будет уступлен Баварии. Многие очень озабочены тем, что, вероятно, Баден и Вюртемберг потребуют после заключения мира присоединения их к северу, составляющему союзное государство. Ультрамонтаны все те же, хотя они громко и не высказывают своих мнений. К счастью, они потеряли всякое доверие к Австрии, так что им недостает теперь опоры, тогда как, с другой стороны, баварцы, находящиеся в походе, составили себе совсем другое мнение о пруссаках, чем какое у них было до войны. Они отзываются с полной похвалой о своих северных товарищах не только за их военные качества и подвиги, но и за их готовность поделиться с ними своими запасами. Не один баварец писал домой, что их попы наврали им о пруссаках. Неправда, что будто все они – лютеране. Многие из них католики, и у них были даже полевые патеры. Офицеры разделяют мнения своих солдат – и, таким образом, возгорится деятельная пропаганда против ультрамонтанов, а также и против партикуляризма. Баварские националы чувствуют это теперь более, чем когда-либо, оно и понятно. Они сделали бы все, что только возможно. Только у них нет большинства во второй палате, а в первой – едва двое или трое принадлежат к их партии.
За обедом, на котором присутствовал владетель больших имений в Померании, граф Борк в военной форме, и прапорщик фон Арним Крейхлендорф, кирасир, племянник шефа, не произошло ничего достойного внимания и замечания. Говорили о великом герцоге Веймарском и тому подобном. Затем министр рассказывал, что его спрашивали, что делать с пленными национальными гвардейцами, захваченными в Страсбурге. «Вероятно, возвратить на родину», – возразили ему. «Сохрани Боже! Отправить их в верхний Шлезвиг!» – сказал я.
Пятница, 30-го сентября . Опять получено письмо от Б. из П., который продолжает проявлять свой талант и свое влияние в печати в благоприятном смысле для канцлера. В ответе его просят выступить против безобразного поведения немецких журналистов: теперь, когда мы еще ведем войну и не успели покончить с самым главным, они кричат уже об умеренности. Эти господа подают всенародно советы, как далеко в своих притязаниях может и должна идти Германия, и, таким образом, ратуют в пользу Франции, между тем как с их стороны было бы умнее предъявлять большие требования. «Они меня заставят потребовать линию Мааса», – сказал министр, жалуясь на это.
Наверху – парадный обед; празднуется, как слышно, день рождения королевы. Говорят, слышны опять выстрелы со стороны Парижа, а вечером шеф приказал мне телеграфировать об этом с прибавлением, что была вылазка и французы были отбиты с сильным уроном в страшном беспорядке.
Суббота, 1-го октября . Написал две статьи, одну – для Берлина, другую – для Ганновера. У нас обедал бернский профессор политической экономии доктор Яннаш со своим спутником. Они приехали сюда испытать всевозможные лишения и треволнения. За обедом министра не было, гостем был у нас граф Вальдерзее. Ему очень хочется, чтобы Париж, этот Содом, отравляющий весь мир, был хорошенько наказан.
Воскресенье, 2 - го октября . Граф Билль посещает своего отца. Рано утром отослана телеграмма, вечером две статьи. Более сегодня нечего отмечать.
Ах да! За чаем Гацфельд рассказывает, что он заезжал в соседний замок Германт, лежащий на дороге в Ланьи, и что его владетель, какой-то маркиз Толозан или д’Олосан, радушный человек с брюшком, жаловался на свой постой. Пруссаки – прелестные люди, но вюртембержцы уже слишком, по его словам, фамильярны. Тут же, при входе в дом, они похлопали его по животу и сказали: «Славное брюхо!» Кроме того – они с большими претензиями: он поставил им четыре тысячи бутылок бордоского вина и оставил им ключи от погреба, но они все продолжали искать, так как предполагали, что есть еще скрытое от них. Затем он отдал им в распоряжение из трех экипажей, находящихся в его конюшне, два и хотел оставить для себя лишь один небольшой, который ему крайне необходим вследствие его тучности. Но через день они увезли и этот экипаж, и когда он упрекнул их, то они, смеясь, отвечали ему, что на войне все случается.
Это дает повод кому-то сказать, что маленький человек всегда страдает более знатного и богатого. Шеф, вспомнив о словах Шеридана, сказанных в Реймсе, заметил, что все это ничего не значит; бедных людей больше, чем зажиточных, а мы должны постоянно иметь в виду цель войны – выгодный мир. Чем значительнее число французов, которым придется плохо, тем более будут они желать мира, несмотря на все наши условия. «А их коварные стрелки, – продолжал он, – мирно расхаживающие в своих блузах, заложив руки в карманы, до тех пор пока наши солдаты не пройдут, и затем берущие ружья из канав и стреляющие по ним – они доведут нас до того, что мы будем расстреливать каждого жителя мужского пола. Это ничуть не хуже, чем в сражении, где сходятся на расстоянии 2000 шагов и, следовательно, не видят друг друга в лицо».
Затем разговор зашел о России и о тамошнем коммунистическом распределении земель в деревенских общинах, о мелких дворянских семействах, которые обладают выкупными свидетельствами и выжимают проценты с крестьян в виде оброка, и перешел затем на богатство некоторых древних боярских родов. Шеф привел несколько примеров и подробно рассказал о Юсуповых, состояние которых, хотя и наполовину конфискованное несколько раз в наказание за заговоры, все еще гораздо значительнее состояния большинства немецких князей; «оно нисколько не пострадало, когда двое крепостных, отец и сын, бывшие последовательно княжескими управляющими, во время своей службы содрали с него три миллиона». Во дворце князя в Петербурге есть большой театр, бальная зала вроде Белой залы в берлинском дворце и великолепные комнаты, в которых могут обедать от 300 до 400 человек. «Старик Юсупов 40 лет назад держал открытый стол. Один бедный старый отставной офицер ежедневно в продолжение многих лет обедал у него, и никто не знал, кто он такой. Лишь когда он одно время не появлялся довольно долго, навели справку у полиции и узнали там имя и звание многодетного гостя».
5-го октября было для меня, судя по дневнику, dies sine linea, так как министра не было видно ни до, ни после обеда. За последним, в котором принимали участие гофмаршал Перпоньер и г. фон Тадден, назначенный членом управления в Реймсе, шеф рассказал несколько хороших анекдотов о старике Ротшильде во Франкфурте. Однажды при нем он разговаривал с хлебным торговцем о продаже хлеба. «При этом торговец сказал, что ему, как богатому человеку, вовсе нет необходимости чересчур возвышать цену хлеба. «Что вы говорите, богатый человек! – отвечал старик. – Разве мой хлеб меньше стоит оттого, что я – богатый человек». «Впрочем он давал обеды, делавшие честь его богатству. Я помню, раз нынешний король был во Франкфурте, и я пригласил его к себе на обед. Вслед за этим Ротшильд вздумал тоже пригласить его. Но принц сказал ему, чтобы он сговорился об этом со мною, потому что ему все равно, обедать ли у меня или у него. Он пришел ко мне и стал просить, чтоб я ему уступил его королевское высочество, говоря, что я могу у него тоже отобедать. Я отклонил это предложение. Но он был настолько наивен, что находил возможным принести свой обед ко мне в дом, так как он сам обыкновенно не обедал – он ел только «кошерную» пищу. Но я по-дружески не принял и этого предложения – хотя, конечно, его обед был, без сомнения, лучше моего. Между прочим старик Меттерних, «который очень благоволил ко мне», прибавил шеф, «рассказывал мне, что, когда он гостил однажды у Ротшильда, тот дал ему на дорогу при отъезде в Иоганнисберг завтрак с шестью бутылками иоганнисбергера. Меттерних, приехав в Иоганнисберг, не раскупоривая бутылок, позвал к себе управляющего погребом и спросил, по скольку продается бутылка такого вина. «По 12 гульденов», – отвечал тот. «Ну так отправьте эти 6 бутылок барону Ротшильду по первому его требованию, да только поставьте их на этот раз по 15 гульденов – они уже лежалые».
Вторник, 4-го октября . Сегодня днем не звали к шефу. После завтрака приехали к нам советник посольства Бухер и секретарь Вир, шиффрер. Первый, вероятно, предназначался для замены Абекена, который хотел уехать домой, но снова поправился и вынужден только соблюдать строгую диету. Никто не мог бы выполнить обязанности Абекена лучше Б., без сомнения, самого знающего, сообразительного и ловкого из высших сотрудников, окружающих шефа и исполняющих его предначертания. Они ехали по железной дороге до Нантейля, переночевали в Лафертэ, где еще не все приведено в порядок от бывшего там взрыва, и обедали вечером с нами. За обедом канцлер опять заговорил о Мольтке, о том, как он храбро вел себя за пуншевым бокалом и был весел, как никогда. Кто-то заметил, что генерал действительно теперь выглядит очень здоровым. «Да, – сказал шеф, – да и я давно так хорошо себя не чувствовал, как теперь. Причина этому – война и особенно то, что ее ведет Мольтке. Война – его стихия. Я помню, что когда испанский вопрос стал на очередь, он вдруг помолодел на десять лет. Затем, когда я сказал, что Гогенцоллерн отказался, он тотчас же постарел и, казалось, устал; но когда французы не остались довольны этим, он снова помолодел и расцвел».
Во время обеда министр получил письмо от посланника Соединенных Штатов в Берлине, Банкрофта, которое я должен был перевести на немецкий язык и в котором американец высказывал радость по поводу того, что он – современник таких людей, как король Вильгельм и наш граф. Перед этим, как я только вошел в столовую, в которой были шеф и два гостя, драгунские офицеры, он представил меня им как «доктора Буша – саксонца» и затем, приветливо смотря на меня, прибавил: «Бушенка» [6] .
Наши секретари давно уже мечтали с некоторого времени о своем мундире. Бельзинг заявил это за десертом, и доброе слово нашло себе отголосок. «Почему же нет? – возразил шеф. – Надо только подать мне небольшое прошение, и я это устрою у короля». Этот вечер был мирно проведен в лагере Израиля.
Завтра нужно ехать дальше, нам предстоит большой переезд: наша следующая ночевка будет в Версале.
Глава VIII
Путешествие в Версаль. – Дом m-me Жессе. – Наша тамошняя жизнь
Мы покинули Феррьер 5-го октября около семи часов утра. Сначала мы ехали преимущественно по проселочным дорогам, которые, однако, отлично содержатся, через большой лес, мимо разных больших деревень, по-видимому, покинутых всеми жителями и занятых лишь немецкими войсками, мимо парков и замков. Все это смотрело очень богато и жирно-жирно, как сыр бри, в месте производства которого мы теперь, кажется, находились. В окрестностях стояли постоем вюртембержцы, а затем пруссаки. После 10 часов мы достигли верхней стороны Сенской долины, где недавно сооруженная, страшно крутая дорога спускалась среди виноградников на низкий берег; все вышли, и экипажи могли быть предохранены только ловким лавированием от ломки и падения. Затем мы проехали прелестный городок Вилльнев – Сен-Жорж, в домах которого царствовало ужаснейшее разорение. Во многих из них, в которых я был, пока лошади отдыхали, зеркала были разбиты, мебель поломана или взломана, белье и бумаги разбросаны и т. д. Дальнейший путь лежал через какой-то канал или приток реки в поле, затем – через понтонный мост, ведущий через Сену, и в начале которого развевались черные с белым флаги. Зеленая речная вода была прозрачна, можно было отчетливо видеть дно, ширина реки равнялась в этом месте ширине Эльбы у Пирны. На другом берегу нас встретил наследный принц со свитой, выехавший верхом навстречу королю. Последний тоже должен был сесть на лошадь, так как ему предстоял смотр войск. Канцлер сопровождал его. Дальше мы поехали уже одни.
Недалеко отсюда дорога вышла на шоссе, ведущее вверх в деревню Вилльнев Леруа, где мы нашли несколько крестьян, большею частью стариков, и где мы на одном дворе расположились перед навозной кучей, чтобы съесть бывший с нами холодный завтрак. Из стены дома течет струя чистой родниковой воды, над которой прибита дощечка, гласящая, что г. X. и его жена в такой-то день открыли этот родник и сделали его доступным для публики посредством водопровода. Внизу написано: «Владельцы забудутся, их благодеяния останутся». Какая-то седая борода в блузе и в высокой серой шапке, какие носят французские крестьяне, приплелась в деревянных башмаках, похлопала меня по плечу и спросила, что я думаю насчет надписи; и при этом я узнал от него, что он сам и есть мужская половина добродетельной четы, выставившая дощечку забывчивому потомству для благодарного воспоминания. Не надо прятать свой огонь под уголья, сказал француз, и вот он сам поставил себе памятник.
Далее мы проехали вторую деревню, где находился лагерь из соломенных бараков. У часовых на улицах были будки, состряпанные из двух выбитых дверей, белые жалюзи составляли заднюю стену и пучок соломы – крышу. Прусская пехота, расположившись побатальонно, ждала на дороге своего августейшего вождя. Немного далее в поле, около рощицы, расположилась кавалерийская дивизия – зеленые, коричневые и красные гусары, уланы и кирасиры.
Уже давно жаждал я увидать Париж. Но на правой стороне, где он должен был быть, ряд довольно высоких холмов, на которых там и сям лепились деревеньки, или белый городок заслонял даль. Наконец показалась впадина в гребне вершин, узкая долина, и через нее мелькнуло желтоватое возвышение с острым краем, может быть, форт, а влево от него над каналом или виадуком, среди столбов дыма, выходящих из фабричных труб, поднялись синеватые очертания большого здания с куполом. Пантеон! Ура, мы перед Парижем! Отсюда до него не более полутора миль.
Вскоре мы въехали на большую мощеную императорскую дорогу в том месте, где на пересекающем ее и ведущем в Париж шоссе баварский пикет стоял на сторожевом посту. Налево раскинулась долина, направо – продолжение цепи холмов, покрытых лесом. Наконец проехав чугунные ворота с позолоченными верхушками, одну широкую и несколько оживленных улиц, через совершенно прямую аллею, еще коротенькую улицу с трехэтажными домами, изящными лавками, рестораном и вторую аллею и съехав под гору по переулку – мы очутились в Версале перед назначенной нам квартирой.
6-го октября , в день нашего приезда в прежнюю королевскую резиденцию Франции, Кейделль заявил мне, что, вероятно, наша стоянка продолжится здесь около трех недель, и это мнение казалось мне совершенно правдоподобным; ход войны до сих пор приучил к быстрым успехам. Но как известно и как, вероятно, предполагал министр, о чем будет говорено в следующей главе, мы оставались здесь целых пять месяцев, и так как в доме, где мы поселились, происходили важные события – что тоже известно, – то подробное описание его, надо предполагать, будет очень кстати.
Дом, занимаемый канцлером, принадлежал вдове зажиточного фабриканта сукон m-me Жессé, бежавшей незадолго до нашего приезда с 2 своими сыновьями в Пикаржо или Солонь и оставившей сторожить свое имущество только садовника и его жену. Дом стоит на улице де Прованс, соединяющей у своего конца проспект де Сен-Клу с глубже расположенным бульваром Делярейн № 14. Улица эта принадлежит к одним из самых спокойных в Версале, и только одна ее часть состоит из непосредственно стоящих друг около друга домов. Пробелы между остальными заняты садами, обнесенными высокими стенами, из-за которых кое-где выглядывают верхушки дерев. У нашего дома, находящегося на правой стороне, если идти от проспекта, – тоже по обеим сторонам довольно значительные промежутки. Он отступает несколько шагов от улицы, на которой возвышается перед ним маленькая терраса с балконом, кончающаяся стеною, которая все это маскирует. Влево въезд в последнюю представляют чугунные ворота, около которых открывается маленькая калитка; на ней развевался в последние месяцы черно-бело-красный флаг. Направо над зданием возвышается стройная лиственница. Здание это – вилла, окрашенная в желтоватый цвет, с пятью окнами, закрытыми белыми жалюзи с фасада. За первым этажом следует второй этаж, затем антресоль со слуховыми окнами, покрытый шифером наподобие плоской крыши. Позади входа в главное здание идет каменная лестница к подъезду, ведущему к площадке, на которой сходятся справа большая лестница, слева дверь в маленькую нишу и две высокие створчатые двери. Последние ведут в довольно большую, выходящую в сад комнату, служившую нам столовой. Третья створчатая дверь против входа – в гостиную, четвертая вправо от нее – в биллиардную, из которой можно пройти в зимний сад – продолговатую стеклянную комнату, уставленную всевозможными цветами и деревьями и украшенную фонтаном; напротив открывается дверь в маленькую комнатку, в которой находится библиотека покойного господина Жессе. Под главной лестницей идет коридор в кухню, расположенную за террасой.
В зале стоят пианино, софа, мягкие стулья и висят два зеркала. На столике перед одним из них стоят старинные часы, с которых демоническая бронзовая фигурка, кусавшая себе пальцы, – может быть, карикатура самой m-me Жессе, оказавшейся впоследствии крайне нелюбезной женщиной, как об этом будет сказано ниже, – взирала на переговоры, которые повели к заключению трактатов с южногерманскими государствами, к провозглашению германского императора и империи и впоследствии к сдаче Парижа и установлению предварительных условий мира – переговорам, которые все без исключения были подписаны в этой зале, ставшей, таким образом, всемирно-исторической комнатой.
На другом зеркальном столике лежала в день нашего приезда небольшая карта Франции, на которой обозначены были успехи французской армии наколотыми булавками с пестрыми головками. «Вероятно, это принадлежит m-me, – сказал шеф, когда я рассматривал ее. – Но посмотрите – лишь только до Верта».
В биллиардной было устроено бюро для советников, исполнительного секретаря и шиффреров. Часть зимнего сада, когда наступили январские морозы, занимал отряд, поставивший часовых перед входом, сначала из линейной пехоты, затем из зеленых егерей. В библиотеке устроились ординарцы, канцеляристы, попадался иногда на глаза толстобрюхий кожаный мешок для депеш, в котором, впрочем, не было ничего официального, например, он заключал в себе наши зимние платья и несколько дней подряд огромную связку французских писем – багаж воздушного шара, пойманного одним из наших солдат.
Если идти по главной лестнице, то придешь сначала опять на площадку, полуосвещаемую четырехугольным отверстием в потолке и сделанным повыше его в крыше плоским окном. Две двери ведут отсюда в покои, занимаемые министром, – две комнатки, из которых в каждой не более – шагов десять в длину и семь в ширину. Первая, окна которой на главном фасаде выходили в сад, была его рабочим кабинетом и его спальней; в ней стояла только самая необходимая мебель. Направо у стены против окна стояла его постель и за ней, в алькове, умывальник. У другой стены – стоял комод из красного дерева с бронзовыми ручками для выдвигания ящиков; на нем в последние месяцы наставили сигарных ящиков, присланных шефу бременскими благодетелями. Занавеси у обоих окон были из синей с цветами материи. У четвертой стены был камин. Софа, придвигаемая иногда к огню, стол посреди комнаты, за которым работал министр, оборотясь спиною к окну, и на котором лежали ландкарты. Наконец, несколько стульев пополняли чересчур простое убранство комнаты.
Другая комнатка, меблированная несколько лучше, однако, ничуть не роскошно, служила вместе с залою в нижнем этаже для приема гостей. Это была, если я не ошибаюсь, комната старшего сына хозяйки дома, и во время переговоров о капитуляции Парижа ее отдали Жюлю Фавру для «медитаций» и его корреспонденций. В ней было одно окно, выходящее в ту сторону дома, где стояла лиственница, и завешанное зелеными шерстяными занавесями. Обои были серого цвета в тень. Мебель состояла из конторки, на которой стояли два глобуса и теллурий, большого комода с мраморной доской, дивана, обитого бумажной материей, представлявшей райских птиц и ветки на красном фоне, двух кресел, одного большого и другого маленького, обитых зеленой материей, пары плетеных стульев и круглого стола, стоящего посередине, на котором лежали письменные принадлежности, и маленького зеркала над камином. Вся мебель была из красного дерева. Перед софою лежал маленький зеленый ковер с зелеными арабесками. На карнизе камина стояли старинные часы с воинственными эмблемами, два обелиска с горящими гранатами, петли в цепях, трофеи и воин в римской одежде, обнажающий меч. Над часами стояли две маленькие голубые вазы с золотыми ободками. Стены были увешаны всевозможными картинами: тут были – картина, писанная масляными красками, в овальной золотой раме, представляющая молодую хорошенькую женщину в черном платье, другая, изображающая господина в костюме двадцатых годов, литография рафаелевой Мадонны della Sedia, фотография пожилого господина и дамы, ландшафт, литографированный образ, надпись которого гласила, что Гюстав Жессе в такой-то церкви и в такой-то день в июне месяце 1860 года в первый раз был у причастия. Гюстав был старший сын в семье, дама в черном, вероятно, его мать в ее лучшие годы, другой портрет – отец Гюстава, а оба старика, вероятно, его дед и бабка.
В комнате, дверь которой находилась влево от двери, ведущей в комнату канцлера, жил граф Бисмарк-Болен; эта комната выходила также в парк и сад; из нее видна была улица, в которой жил Абекен. Рядом с задней лестницей занимал комнату секретарь Бельзинг; я же поместился во втором этаже над комнатой Болена. У меня была хорошая постель, два стула, один для меня, другой для гостей, умывальник, поместительный комод и стол, за которым очень уютно было работать, хотя он и не был сделан столяром, а импровизирован нашим Тейссом, умеющим за все взяться и всегда готовым помочь, и состоял, собственно, из двух чурбанов, на которых был утвержден выструганный ставень. Для удовлетворения моего эстетического вкуса Жессе-старший, по словам садовницы, страстный художник, оставил некоторые свои художественные произведения – метателя в диск и два ландшафта, нарисованные карандашом, которые висели по обеим сторонам зеркала над камином и свидетельствовали о некоторой опытности дилетанта. Любитель природы был удовлетворен, глядя на парк – сначала в осеннем его наряде, затем блестящий зимним снегом и серебристым инеем. Освященная буковая ветвь оберегала от домовых и других ночных ужасов. Комната отапливалась камином, выложенным мрамором, степень нагревания которого, однако, заставляла многого желать, особенно во время сильных морозов, доходивших до 12 градусов ниже нуля.
Парк позади дома невелик, но очень красив, ему придают большую красоту дорожки, извивающиеся между обвитыми плющом и барвинком деревьями, а в глубине между частым кустарником, направо от стены, из водопровода струится ключ среди покрытых мхом и обросших широколиственными папоротниками камней; он образует ручеек и маленький пруд, в котором плавают утки. Налево по стене тянется, начиная от конюшни, над которой помещаются садовники, целый ряд плодовых шпалер; перед ними находятся отчасти открытые, отчасти под стеклом гряды с цветами и овощами.
В светлые осенние ночи можно было видеть высокую фигуру канцлера в белой фуражке, выступающую из чащи при лунном свете и медленно идущую далее по дорожкам парка. О чем думал он, бессонный человек? Какие мысли вращались в голове одинокого скитальца? Какие планы зарождались или зрели у него в тихий полночный час? Менее серьезное настроение вызывал другой любитель парка, вечно юный певец муз Абекен, когда приходилось его слышать распевающим под вечер маломелодичным голосом стихи греческих трагиков или Wandrer’s Nachtlied; было смешно видеть, как старый юноша, разнежившись, искал по утрам между сухими листьями фиалки для госпожи тайной советницы, пребывавшей в Берлине. Собственно говоря, мне не пристало смеяться над этим; я должен признаться, что я, заразясь от него, в конце концов, послал несколько фиалок жене и радовался этому.
Не вся походная канцелярия иностранных дел помещалась в доме m-me Жессе. Лотар-Бухер занял хорошенькую квартиру на avenue de Paris, Кейделль и шиффреры поместились в домах немного далее нашего, на rue de Provence, граф Гацфельд – как раз наискось против нас.
Несколько раз заходила речь о том, чтобы канцлер переехал в более обширный и более красивый дом, но дело на этом и остановилось, быть может, потому, что он не чувствовал надобности в подобной перемене, или потому, что он любил тишину, которая царствовала в уединенной rue de Provence.
Впрочем, эти тишина и спокойствие днем не были так идилличны, как описывали их некоторые газетные корреспонденты. Я не подразумеваю под этим барабанного боя и свистков проходящих батальонов, которые слышались ежедневно около часу, а также и шума, производимого вылазками, которые были сделаны парижанами два раза по направлению к нам, и даже самых жарких дней бомбардировки, к которой привыкаешь, как мельник к треску и шуму мельничных колес. Я говорю преимущественно о многочисленных визитах всевозможного рода, сделанных канцлеру в эти полные событий месяцы, – визитах, между которыми попадались не совсем приятные. В некоторые часы наш дом походил на гостиницу, где сходились и расходились знакомые и чужие. Сначала приходили из Парижа неофициальные лазутчики, затем в лице Фавра и Тьера официальные посредники, иногда с более или менее многочисленной свитой. Из отеля des Reservoirs являлись августейшие особы. Несколько раз был наследный принц и один раз даже король. Между посетителями церковь имела тоже своих представителей в лице высоких сановников – архиепископов и других прелатов. Берлин высылал депутацию из рейхстага, отдельных вожаков партий, банкиров и высших чиновников, из Баварии и других южногерманских государств приезжали министры для заключения договоров. Американские генералы, члены иностранной дипломатии в Париже, между ними какой-то черный джентльмен, посланцы империалистической партии желали говорить с заваленным работою государственным мужем; само собою разумеется, также, что любопытство английских репортеров стремилось поближе пробраться к нему. При этом фельдъегеря с наполненными или ожидающими наполнения телеграфными сумками, канцеляристы с телеграммами, ординарцы с сведениями из генерального штаба и, кроме всего этого, работы трудные и важные, затем расчеты, комбинации, искание выхода при столкновениях, раздражение и досада, обманутые ожидания, бывшие вполне основательными, недостаток поддержки и предупредительности, нелепые мнения немецких газет, их недовольство, несмотря даже на неснившиеся успехи, интриги ультрамонтанов – одним словом, трудно было понять, каким образом канцлер при всех этих притязаниях на его рабочую силу и терпение, при всех этих помехах и столкновениях сохранил свое здоровье – в Версале он был серьезно нездоров лишь один раз три или четыре дня – и бодрость, которая его не оставляла даже во время веселого или серьезного разговора. Министр очень мало давал себе отдыха. Прогулка верхом от трех до четырех часов, час за обедом, полчаса за кофеем в гостиной, который подавался сейчас после обеда от времени до времени, после вечернего чая, в десять часов, небольшая беседа с присутствующими, двухчасовой сон после утренней зари – все остальное время посвящалось, если не было вылазки французов или какого-нибудь другого значительного военного действия, призывавшего его к королю, занятиям, изучению или творчеству в своей комнате или обсуждениям и переговорам. За столом у канцлера почти каждый день были гости, и, таким образом, можно было познакомиться почти со всеми известными и знаменитыми личностями, выступившими в эту войну, и слышать их мнение. Несколько раз с нами обедал Фавр, сначала колеблясь, так как его соотечественники голодали в Париже, но затем, следуя благоразумному совету и увещеваниям и многим соблазнам кухни и погреба, кончил тем, что воздавал нам должное подобно другим. Однажды принимал участие в нашем обеде Тьер. В другой раз кронпринц оказал нам честь отобедать с нами и пожелал, чтобы ему представили не известных ему до сих пор сотрудников шефа. Был у нас еще и принц Альбрехт. Из менее близких гостей министра я назову еще здесь президента союзного совета Дельбрюка, который несколько раз гостил по неделям в Версале, герцога Ратибора, князя Путбуса, Бенигсена, Симсона, Бамбергера, фон Фриденталя и фон Бланкенбурга; затем баварских министров графа Брай и фон Луца, вюртембергских фон Вехтера и Митнахта, фон Ротенбаха, князя Радзивилла и, наконец, Одо-Росселя, теперешнего английского посланника в Германской империи. В присутствии канцлера беседа была всегда очень оживленна и разнообразна, часто поучительна ввиду его умения понимать людей и вещи или повествования об известных эпизодах и событиях из его прошедшей жизни. Материальные блага доставляло отечество в виде доброхотных даров в жидкой и твердой форме, иногда в таком изобилии, что кладовая их едва вмещала. К самым дорогим приношениям принадлежали бутылки лучшего пфальцского вина – если я не ошибаюсь, дейдесгеймера или форстера, иордана или, может быть, буля? – и огромных размеров паштеты из форелей от Фридриха Шульце, хозяина лейпцигского сада в Берлине, добродетельный патриотизм которого снабдил нас также в изобилии и отличным пивом. К самым трогательным дарам я причисляю шампанское, которое солдаты нашли где-то в подвале или погребе близ города и поднесли канцлеру. Еще дороже и поэтичнее был букет роз, нарванный солдатами под неприятельским огнем.
Нам прислуживали обыкновенно канцеляристы; что должно было быть предоставлено в женские руки – исполнялось нанятой женщиной и женой садовника. Последняя оказалась пламенной французской патриоткой, которая ненавидела от всего сердца les Prussiens и считала Париж неприступным даже после того, как Фавр подписал капитуляцию. Базен, Фавр и Тьер были, по ее мнению, «изменниками»; об экс-императоре она говорила, как о «cochon», которого, если бы он возвратился во Францию, отправили бы на эшафот, причем черные глаза маленькой, худой и угловатой женщины так дико и грозно блестели, что даже со стороны становилось страшно. M-me Жессе появилась лишь за несколько дней до нашего вторичного отъезда и, как уже было сказано выше, не произвела благоприятного впечатления. Она распространяла о нас разные небылицы, подхваченные печатью и даже такими газетами, которые придерживались чувства приличия и критики, но в этом случае с радостью передали эти небылицы. Между прочим, судя по ним, мы уложили ее серебро и столовое белье и увезли с собою. Кроме того, граф Бисмарк старался присвоить себе дорогие стенные часы. Первое обвинение было плоской выдумкой, так как в доме не было серебра, если оно только не находилось в одном замурованном углу погреба, который по настоятельному приказанию шефа остался неприкосновенным. Что же касается истории со стенными часами, то она произошла совершенно не так, как о том повествовала эта госпожа. Это были именно часы с бронзовым демоном. M-me Жессе предложила канцлеру эту, собственно, довольно недорогую вещь, предполагая, что она ему будет необходима при разных важных переговорах, за неимоверную цену. Мне кажется, она просила за них 5000 франков. Но она не достигла своей цели, потому что предложение этой корыстолюбивой и неблагодарной было отклонено. «Я припоминаю, – так рассказывал впоследствии в Берлине министр, – при этом я заметил ей, что так как эта демоническая статуэтка на часах, строящая гримасы, может быть ей дорога, как семейный портрет, то я и не решаюсь лишить ее такой драгоценности».
Глава IX
Осенние дни в Версале
На другой день нашего приезда в Версаль густой белый туман, стоявший в воздухе до десяти часов утра, возвестил, что осень имеет намерение показать нам оборотную сторону своей медали, несмотря на то что деревья аллей и садов и лесистые возвышенности вокруг Парижа были еще покрыты зеленью.
Что касается того крика, который подняла немецкая печать, не только демократическая, но и прогрессистская, которая на все смотрит с точки зрения частных прав гражданина, крика по поводу заключения в тюрьму Якоби, то с одобрения канцлера появилась следующая заметка, касающаяся этого предмета:
«Все еще говорят о нарушении права, совершенном арестом Якоби. Мера эта может казаться неблагоприятной; его демонстрации следовало бы придать меньшее значение. Но мера эта не есть нарушение права; мы живем на военном положении, где право гражданина уступает место военной необходимости. Заключение вышеупомянутого лица есть мера, входящая в область военных действий. Она не имеет ничего общего с полицией и судом. Тут дело не в исполнении кары, Якоби – просто военнопленный, подобно схваченным в Германии шпионам, с которыми мы его, впрочем, понятно, не желаем сравнивать. Другими словами, он был одной из тех сил, которая мешала выполнению задач войны и которую поэтому нужно было парализовать. Чтобы это вполне себе уяснить, достаточно одного взгляда на те многие случаи, в которых государственные силы, обремененные ведением войны, принуждены не стесняться признанным государством правом личности и собственности граждан. Чтобы успешно достичь цели обороны, можно, не определяя еще ущерба, разорять частные имущества, сжигать дома, рубить деревья, врываться в жилища, прекращать движения на улицах, налагать запрещения на средства передвижения (напр. корабли и экипажи) без предварительного согласия собственника – и это правило имеет силу как за границей, так и на родине. К этой категории прав находящегося в войне государства принадлежит также и удаление лиц, оказывающих нравственную или материальную поддержку неприятелю или даже только возбуждающих подозрение. Эти положения неоспоримы, насколько они относятся к непосредственному театру войны. На мысль, из которой они выходят, не имеет влияния местность. Общественная власть должна осуществлять права и обязанности, указанные ей целью войны, несмотря на затруднения, представляемые пространством относительно того места, где происходят военные действия. Она обязана сделать невозможными события в отечестве, которые затрудняют достижение мира. Мы ведем теперь войну, чтоб добиться таких условий, которые прекратили бы дальнейшие нападения неприятеля; неприятель противится принять эти условия, и в своем сопротивлении он поддерживается и ободряется заявлениями немцев, объявляющих эти условия ненужными и несправедливыми. Брауншвейгским манифестом рабочих и кенигсбергской резолюцией воспользовались как нельзя лучше французская печать и республиканцы, стоящие теперь у кормила правления, они укрепились этими заявлениями еще больше в своем мнении, что они верно понимают положение дел, отклоняя наши условия; французские республиканцы измеряют влияние своих соумышленников в Германии на политику немецких правительств по их собственному опыту и истории. Впечатление, произведенное этими демонстрациями в Брауншвейге и Кенигсберге, вероятно, не имеет само по себе значения, но дело здесь идет о впечатлении, произведенном ими на Париж, и оно таково, что дальнейшие заявления подобного рода совершенно немыслимы и их виновники должны быть устранены».
До обеда я посетил дворец. Большая часть стройного здания была превращена в лазарет. В залах, наполненных картинами, нижний ряд их был забит досками, и около них стояли кровати с ранеными и больными, расставленные у больших бассейнов между парком и дворцом, статуи богов и группы нимф были чрезвычайно красивы. У второго бассейна перед широкой лестницей внизу и у бассейна, идущего еще далее в глубину парка, длиною по крайней мере в 1/4 мили, видны были подобные же художественные произведения. По моему мнению, из них наиболее замечательны некоторые из мраморных колонн, стоящих по бокам аллей, которые ведут ко второму бассейну. Только пирамидально и конусообразно обстриженные деревья и кустарники на террасе не радуют глаз.
За обедом не было графа Бисмарка-Болена. Одни говорили, что у него прострел, другие – грыжа. Еще прежде Кейделль заявил мне, что наше пребывание в Версале не продлится более трех недель. Мец, вероятно, скоро сдастся, там еще осталась только конина, а соли уже нет. Но в Париже, говорят, настроение еще очень бодро, хотя, оттого что они кормят лошадей прессованным сеном, многие из животных умирают, что подтвердил Борнсайд, бывший незадолго в этом городе. Министр рассуждал теперь более хладнокровно. Речь снова зашла о форме секретарей. И шеф высказал при этом, что война может продлиться еще долго, быть может, до Рождества, возможно также, что и до Пасхи, и часть солдат будет принуждена остаться еще год во Франции. На 18-е сентября должен был быть штурм. Он сказал тогда своему камердинеру: «Послушайте, Энгель, велите прислать мне из Берлина мою шубу – или лучше обе, тяжелую шубу и легкую, нетолстую». Разговор вертелся о жизни, которая велась в Hôtel des Reservoirs при занятии его царственными особами, и о вопросе, платит ли издержки король, или они сами, или город.
В «Daily Telegraph» какой-то англичанин сообщал из главной квартиры в Мо, что шеф в конце своего разговора с Малле выразился: «Меня и короля заботит более всего действие, производимое Французской республикой на Германию. Нам очень хорошо известно, какое влияние имел американский республиканизм на Германию, и если французы будут бороться с нами посредством республиканской пропаганды, то они принесут этим больше вреда, чем своим оружием». Министр написал сбоку статьи: «Нелепая ложь».
Пятница, 7-го октября . Сегодня утром на рассвете я слышал несколько залпов из тяжелого орудия в расстоянии отсюда не более полумили. Впоследствии я донес в Берлин, что наши потери в последних стычках не были больше, как уверяло французское легкомыслие, но гораздо меньше, чем у французов. По их словам, они потеряли около 400, а мы 500 убитыми и ранеными; в действительности те оставили только на поле сражения 450 человек 12-й дивизии, а всего 800 человек, тогда как у нас было 85 человек убитыми.
Греческий посланник в Париже, как рассказывал Гацфельд за завтраком, прибыл к нам с «семейством», состоявшим из 24–25 человек, чтобы отправиться к делегации правительства национальной обороны в Тур. Маленький сын его сказал графу, что Париж ему нисколько не нравится, и на вопрос «почему?» отвечал, потому что там нельзя есть много говядины.
Выработаны следующие руководящие мысли для печати: мы ведем войну не ради вечной оккупации Франции, но лишь для того, чтобы достичь мира на поставленных нами условиях. Поэтому необходимо вести переговоры с правительством, которое представляло бы волю Франции и обязательства которого имели бы цену. Настоящее правительство не таково. Оно должно быть утверждено народным собранием или заменено другим. Для этого необходимы всеобщие выборы, и мы вполне готовы допустить их в занятых нами местностях, насколько это дозволят стратегические соображения. В настоящих парижских владыках, кажется, нельзя заметить стремления к этому. Таким образом, они ради личных интересов вредят интересам своей родины, которой приходится продолжать нести бремя войны.
После обеда опять – в дворцовый парк; но на этот раз уже не по авеню де Сен-Клу и площади d’Armes, а по бульвару Делярейн к бассейну Нептуна, сидящего над ним с своей супругой и всевозможными странными водяными чудовищами. Неподалеку оттуда, в совершенно уединенном месте, мы встретили канцлера с Гацфельдом верхом. Никого из свиты. Куда они все делись?
Гацфельд жаловался, что греки, которым очень хотелось уехать, надоели ему своими жалобами. Из дальнейшего разговора было видно, что они и в другой визит из Парижа возбудили сомнение насчет своих намерений. Разговор свелся после этого на печальное финансовое положение города Версаля, которому в последние две недели пришлось делать большие расходы, и его новый мэр, некто Раму, попросил сегодня у шефа аудиенцию и получил ее. Последний сказал ему: «Надо сделать заем». Да, отвечал он, но тогда он принужден просить – отпустить его в Тур, потому что ему надо разрешение правительства на подобную меру. «Этого, конечно, я не мог обещать, да и трудно было бы там добиться желаемого позволения. Вероятно, они в Typе думают, что их (версальцев) обязанность голодать, чтобы и мы с ними вместе умерли с голоду. Но они не подумали о том, что мы сильнее и берем себе все, что нам нужно. Вообще они не имеют представления, что такое война». Потом заговорили о созвании учредительного французского собрания в Версале, но сомневались в осуществимости этого. Здесь нет достаточно обширной залы, потому что дворец занят ранеными. Собрание 1789 заседало в полном составе сначала в церкви, затем заседания каждого отдельного сословия происходили в разных местах. Под конец представители дворянства собрались в бальной зале, которой теперь уже не существует [7] . Затем министр говорил о дворце с его парком, причем он хвалил прекрасную оранжерею на террасе с двумя громадными лестницами, ведущую влево от площади ко дворцу. Он прибавил, впрочем: «Но что эти деревья в кадках в сравнении с апельсинными деревьями в Италии!»
Под конец кто-то заговорил о веротерпимости, и канцлер повторил сказанное им в Сен-Авольде. Он очень решительно стоял за терпимость в делах веры. «Но, – продолжал он, – свободные мыслители также нетерпимы. Они преследуют верующих, разумеется, не кострами – что невозможно, – но насмешками и издевательством в печати, а что касается до неверующей части народа, то чернь так же нетерпима, как и всегда. Я хотел бы быть свидетелем того злорадства, с каким они казнили бы пастора Кнака». Кто-то заметил, что старый протестантизм тоже не придерживался веротерпимости, и Бухер обратил внимание на то, что, по словам Бокля, гугеноты были ярыми реакционерами, что это можно сказать и обо всех реформаторах… «Собственно, не реакционерами, а маленькими тиранами, – сказал шеф, – каждый пастор был маленьким папой». В подтверждение этого он привел поступок Кальвина с Серветом и прибавил: «Лютер был таков же». Я позволил себе упомянуть о его отношении к Карлштадту, о мюнстерском и о последующих виттенбергских богословах и о канцлере Крелле. Бухер рассказал, что шотландские пресвитерианцы в конце прошедшего столетия присудили к 21 году ссылки и тотчас же заковали человека, который дал прочесть кому-то книгу Пена о человеческих правах. Я снова указал на пуритан новой Англии с их нетерпимостью по отношению к людям других убеждений и с их тираническим liquorlaw. «А соблюдение воскресенья, – прибавил шеф, – это тоже ведь ужасная тирания. Я помню, что приехав в первый раз в Англию и высадившись в Гулле, я свистнул на улице. Один англичанин, с которым я познакомился на корабле, заметил мне, что я не должен свистать. Pray, sir, don’t whestle. Я спросил о причине и не запрещено ли это здесь. «Нет, – отвечал он, – но сегодня воскресенье». Это взбесило меня до такой степени, что я тотчас же взял билет на другом пароходе, отправлявшемся в Эдинбург, – так мне не понравилось не сметь свистеть, когда мне вздумается. Но перед тем я имел случай научиться и кой-чему хорошему, toasted cheese – welsh rabbet. Мы тогда пошли в гостиницу. «Я, собственно, не против воскресных дней, – продолжал он после того, как Бухер заметил, что воскресенья в Англии вообще не так стеснительны и что ему, напротив, всегда очень нравилась воскресная тишина после суматохи и шума лондонского рабочего дня, начинающегося очень рано. Напротив, как помещик, я делаю для этого, что могу. Я только не желаю принуждать людей. Каждый должен знать, как готовиться к будущей жизни. По воскресеньям не следовало бы работать не столько из опасения нарушить заповедь, как ради отдыха». «Это не относится к государственной службе, особенно дипломатической, на которой получаются в воскресенья депеши, требующие исполнения. Тоже ничего нельзя сказать против того, что наши крестьяне во время жатвы, после продолжительного дождя, при признаках хорошей погоды, вечером в субботу убирают свой хлеб и сено – в воскресенье. Я не мог решиться запретить это моим арендаторам. Но себе – другое дело, потому что я в состоянии перенести некоторый ущерб от дождя в понедельник. У наших помещиков считается неприличным заставлять работать людей в воскресенье». Я заметил, что в Америке богобоязненные люди по воскресеньям не варят даже пищи; в Нью-Йорке меня пригласили раз обедать и подали только холодные кушанья. «Да, – возразил шеф, – когда я был еще во Франкфурте и не так был занят, мы всегда по воскресеньям обедали запросто, и я ни разу не приказывал закладывать лошадей, чтобы не тревожить прислугу». Я позволил себе сделать замечание, что в Лейпциге по воскресным дням закрыты все лавки, исключая булочных и некоторых табачных. «Да, так и должно быть, – сказал он, – но я никого не хочу принуждать. В деревне я мог бы, вероятно, устроить так, чтобы ничего не покупать в этот день, – можно было бы заблаговременно сделать запасы. Но следует иметь в виду, чтобы все шумные ремесленные заведения, например кузницы, не работали бы по воскресеньям, и особенно вблизи церквей».
Вечером меня позвали к нему. «Вот мне пишут, что в северогерманской газете появилась ужасная статья против католиков. Не ваша ли?» «Я не знаю которая, ваше сиятельство, в последнее время я несколько раз обращал внимание на действия ультрамонтанов». Он стал искать и нашел вырезку из газеты, затем прочел до половины вслух и сказал: «Гм! Все это, однако, верно и справедливо. Статья очень хороша. Но что особенно хорошо – это то, что Савиньи совершенно опутан. Он вне себя оттого, что мы не спасли папу».
Суббота, 8-го октября. Рано поутру, до выхода министра, я совершаю прогулку ко дворцу Бурбонов, наверху которого развеваются бело-черный прусский флаг и флаг с красным крестом. Я нахожу, что мраморные французские герои, стоящие на дворе перед ним, если вглядеться в них хорошенько, представляют очень посредственные произведения. Между ними находятся Баярд, Дюгесклен, Тюрен, Кольбер, Сюлли и Турвалль. Морские герои поставлены, точно театральные картонные куклы, – точно опасались, чтобы они при этом не упали со своих подножий и не расшиблись бы о мостовую. Гораздо красивее бронзовая статуя Людовика XIV, но я все-таки предпочитаю ей Шлюттерскую статую великого курфюрста в Берлине. Утро свежо и пасмурно, и осень начинает заметнее обозначаться. Листья на верхушках аллей уже краснеют и желтеют, и скоро надо будет разводить огонь в камине.
Сегодня несколько раз меня звали к шефу. Снова послано было в Германию четыре статьи. За завтраком я заявил, что сентиментальный и отчасти жалобный тон донесения Жюля Фавра об Haute Maison и Феррьер – просто комедия. «Ах нет, – отвечал Кейделль, – вы ошибаетесь, он действительно так думает. Это министерство de honnètes gens; в характере французов к тому же всегда имеется легкая примесь слабонервности». Канцлер обедал сегодня у короля. Обыденный разговор поэтому представлял для меня мало интереса.
Воскресенье, 9-го октября. Дурная погода, холод и дождь. Листья сильно падают. Резкий северный ветер дует по возвышенности. Несмотря на это, я отправляюсь гулять по городу, чтобы с ним мало-помалу ознакомиться. Иду по улице Saint-Pierre к префектуре на avenue de Paris, где живет король Вильгельм, затем вниз по другой улице до памятника, который поставлен учителю глухонемых, аббату Лепэ. На возвратном пути я встречаю Кейделля и спрашиваю, не слышал ли он, когда начнется бомбардировка Вавилона. Он полагает, что только на следующей неделе, т. е. 18-го числа, заревут наши осадные орудия. Днем был у шефа 3 раза. Его поручения исполнил после обеда. За завтраком у нас снова Дельбрюк, чем, кажется, министр очень доволен. Мы пьем между другими превосходными вещами «старку» (uralter Korn); президент союзного совета произнес ей остроумный панегирик; очевидно, он мгновенно и в совершенстве постиг науку о том, что вкусно. Рассказывают, что эскадрон фленсбургских гусар того полка, который спешился при Вонке и взял штурмом позицию, защищаемую пехотой, постигло несчастье. При Рамбуллье на него напали вольные стрелки и рассеяли его; он потерял при этом 60 лошадей.
За столом у нас было сегодня 13 человек, между прочим доктор Лауер. Вчера вечером приехал офицер с депешей, которая заставила меня потревожить шефа, гулявшего в саду. Сегодня узнали, что было письмо из Парижа, в котором иностранные дипломаты, оставшиеся там, высказывают притязание на право корреспондировать через наши линии и самим получать корреспонденцию. Канцлер, судя по его словам, не захочет признавать этого права. Недавно он дал версальскому мэру утешительное обещание сложить с города наложенную на него контрибуцию в 400 000 франков.
Понедельник, 10-го октября. Рано утром, в восьмом часу, снова слышно было около дюжины выстрелов из тяжелых орудий; Виллишу послышался даже ружейный огонь. Утром два раза меня звали к канцлеру. Позднее он отправился к наследному принцу; у него он остался завтракать. За обедом говорили сначала о беседе короля с Наполеоном в замке Бельвю близ Седана, о которой подробно было сообщено Росселем в «Times», хотя она происходила с глазу на глаз, и о которой сам канцлер знал только, что при этом не было говорено ни слова о политике, как передал король. Затем кто-то, не помню, по какому поводу, завел разговор об опасных и отважных подвигах, и министр рассказал несколько анекдотов о различных отчаянных предприятиях.
«Я помню, – говорил он, – я был в одном обществе, в котором находились и Орловы, в южной Франции около Пуан-де-Гар. Там есть древний римский водопровод, идущий в несколько этажей через долину. Княжна Орлова, женщина живого характера, выразила желание перейти через него. Это была очень узенькая тропинка около канавы, не более полутора фута ширины, а на другой стороне опять возвышалась стена из каменных плит. Было над чем задуматься, но я не мог же допустить, чтобы женщина превзошла меня в храбрости. И мы решились совершить этот подвиг вдвоем. Ее муж пошел, однако, вместе с другими внизу по долине. Некоторое время мы шли по плитам, затем по узкому краю над пропастью в несколько сот футов глубиной. Далее плиты отвалились, и нужно было идти по одной узкой стене. Несколько шагов далее мы снова добрались до плит, но затем – снова неверная стена с ее узкими камнями. Тогда я решился: быстро подошел к ней, схватил ее за руку и спрыгнул с ней в канаву глубиною от 4 до 5 футов. Те, которые находились внизу и которые вдруг потеряли нас из виду, были в ужасном страхе, пока наконец не увидели нас снова наверху».
Другой раз ему пришлось с несколькими спутниками во время путешествия по Швейцарии – если я не ошибаюсь, во время прогулки на Розенлауглетчер, – перебираться через узкий горный хребет. Одна дама и один из ее двух проводников уже перешли. За ними шел француз, потом Бисмарк, а за ним другой проводник. На средине гребня француз сказал: «Je ne peux plus» – и ни за что не хотел идти далее. Я шел непосредственно за ним и спросил проводника: «Что же нам делать?» «Перелезьте через него, потом мы ему просунем палки под мышки и перенесем через хребет». «Очень хорошо, – сказал я, – но я не полезу через него, он чувствует себя нездоровым и в отчаянии схватит меня, и мы оба полетим вниз». «Так вернитесь!» Это было очень трудно, но я попробовал – и мне удалось, а проводник счастливо произвел маневр с альпийскими палками с помощью своего товарища».
Я рассказал мою поездку верхом по злополучному месту к скале Каки между Мегарой и Коринфом. Он испытал еще большую опасность, я уж не помню, где-то в горах. Это тоже было на узком краю горы, около которого с одной стороны идет крутизна, с другой – перпендикулярно зияет пропасть. «Я хотел перейти его с женою по дороге шириною в локоть. На одном месте земля отчасти обвалилась, отчасти нетверда. Я сказал, что пойду вперед по стене, держась за кусты, и исследую это место. Когда я стану твердо на ноги, ты пойдешь за мной. Только что я начинаю исследовать опасное место, как она вдруг подходит ко мне и обнимает меня. Я страшно испугался, но, к счастью, куст выдержал, и мы вышли на твердую почву. Ничто не может меня так рассердить, как если меня испугают».
Вечером шеф позвал меня к себе в комнату, чтобы дать инструкции относительно Гарибальди, который, судя по телеграмме, переехал в Тур и предложил свои услуги французской республике. Затем канцлер продолжал: «Скажите, пожалуйста, с какой стати вы наполняете ваши писания грубыми выходками? Я не знаю дословно телеграммы о… Но и то, что вы недавно писали об ультрамонтанах, отличалось сильными выражениями». Я позволил себе ответить, что могу быть и вежливым, и, если захочу, сумею написать с тонкою насмешкою. «Ну, так пишите тонко, но без насмешки, дипломатически; дипломаты даже при объявлении войны бывают вежливы», – возразил он. В половине десятого снова явился Борнсайд с своим спутником и оставался до половины одиннадцатого у канцлера, который затем дал мне еще поручение. Потом можно было видеть, как он долго бродил по саду при лунном свете, до полуночи, между тем как в стороне Парижа гремели и ревели пушки и раз даже послышался глухой шум как бы от взрыва.
Вторник, 11-го октября. Рано поутру узнали о взрыве прошлой ночью; говорили, будто бы взорвали (мы?) с нашей стороны два моста. Не только в Англии, но и на родине находятся люди, которые горят желанием принять участие своими советами в установлении мира. Сегодня поутру пришло в бюро тяжеловесное письмо из западного Дитмарса, в котором г. Р. «всеподданнейше, с глубочайшим почтением» приносил просьбу похлопотать о напечатании объявления в «Times», которое отклоняло бы французов от «дальнейшего возмущения», для каковой цели он приложил 30 талеров 10 зильбергрошей. В десять часов я мог снова телеграфировать о новой победе: вчера фон дер Танн имел стычку с регулярными французскими войсками, захватил три пушки, до подачи телеграммы взял в плен около 1000 человек и преследовал неприятеля по направлению к Орлеану.
После обеда, как только канцлер предпринял свою обычную прогулку верхом, я быстро пробежал большие залы по той стороне дворца, где находится церковь, и осмотрел увековеченные здесь кистью и резцом «доблестные подвиги Франции», которым, судя по надписи над входной залой, посвящено это крыло здания. Внизу находятся картины, большею частью относящиеся к древней истории Франции, между ними очень хорошие вещи рядом с посредственными произведениями времен Людовика XIV и Наполеона I: битвы, осады и т. п. Наверху – огромные полотняные плоскости, которые Горас Вернэ исписал алжирскими «славами» своих соотечественников, а также и новые картины из эпохи Крымской и Итальянской войн; рядом – мраморные бюсты командовавших тогда генералов. Дни Верта, Меца и Седана, вероятно, не будут фигурировать здесь. Может быть, нам удастся любоваться этим впоследствии, в более свободное время. Но уже сегодня можно заметить, что есть известная система в галерее, и, в общем, она напоминает скорее склад тщеславных и надутых шовинистов, чем художественный музей, где можно было бы встретить великие произведения и насладиться ими.
Судя по разговорам, с некоторого времени замышляют созвать в Версале конгресс немецких монархов. Надеются, что приедет баварский король, и Дельбрюк полагает, что из части исторических комнат дворца можно устроить приличную резиденцию для его величества. Ему замечают на это, что это невозможно, так как большая часть дворца – теперь под лазаретом и в нем царствует тиф. Шеф обедал сегодня у наследного принца и вернулся лишь в 10 часов, после чего еще беседовал с Борнсайдом.
Среда, 12-го октября. Туманный, пасмурный день. Утром переведены два письма английского гусарского генерала и сделаны из них выписки для короля; генерал советует нам запрудить севрским мостом Сену и затопить таким образом Париж. Затем сделано извлечение из донесения одного немецкого иоаннита, выражающего свою признательность бельгийскому населению Булони за обращение с немецкими ранеными. Наконец, написана статья о враждебном положении, принятом ультрамонтанами относительно нас в этой войне. Когда я ее представил шефу, он выразился: «Вы пишете все еще недостаточно вежливо. Вы говорили, что вы мастер пустить в ход едкую насмешку, но здесь только насмешка, а едкости мало. Поступайте наоборот. Вы должны писать политично, но в политике оскорбление не есть цель».
Вечером к канцлеру сумел найти доступ какой-то испанский дипломат, приехавший из Парижа, но которого, так же как и других, обратно не отпускали. Он просидел у него некоторое время. Кое-кому из нас он показался подозрительным. Во время чая приехал Борнсайд. Он хотел уехать в Брюссель, чтобы отвезти находящуюся в Женеве жену. Он передавал, что Шеридан также уезжает в Швейцарию и Италию. Вероятно, американцам здесь нечего делать. Генерал желает сегодня вечером сделать шефу визит. Я отклоняю его, говоря, что канцлер хотя и примет его, чувствуя симпатию к американцам, когда ему доложат о нем, но пусть он обратит внимание на то, что у этого государственного человека времени очень мало. Ему и без того недостает 5–6 часов для своих занятий, так что он принужден сидеть далеко за полночь и сокращать переговоры даже с коронованными особами.
Четверг, 13-го октября. Очень ясное, но ветреное утро, все почти листья были сбиты с деревьев. Было прочитано донесение из Рима; им воспользовались; из происходившего голосования можно сделать заключение, что в Риме нет папистской партии. Можно сказать, как говорится приблизительно в донесении, что вся политическая организация папского государственного строя, которая, будучи в продолжение 1000 лет разобщена с чистым воздухом, при первом прикосновении с ним распалась, как труп. От нее ничего не осталось – ни воспоминания, ни пробела. Голосование, которое должно было происходить по нормам государственного права Италии, имеет цену добровольного выражения мнения, ради которого, не считая эмигрантов, не было принесено ни одной или мало жертв. Что касается желания римлян быть и остаться подданными итальянского короля, то продолжительность его зависит от манеры управлять.
Если судить по письму, отправленному из Сен-Луи 13-го сентября, о настроении немцев в Соединенных Штатах, то там вследствие войны и ее успехов удовлетворенное и усилившееся национальное чувство значительно пересилило республиканизм. «Немец, живущий здесь 20 лет, который прежде был вашим смертельным врагом и чьим идеалом вы теперь стали», немец, не ослепленный республиканской формой, в которую вылилась французская жизнь, воодушевленно взывает к канцлеру: «Вперед, Бисмарк! Ура, Германия! Ура, Вильгельм I, император германский!» Кажется, нашим демократам сначала следовало бы отправляться за границу, если они желают научиться испытывать естественные чувства.
Французы теперь также обращаются к нашему канцлеру, чтобы склонить его к дарованию мира. Но только в другой форме, и к тому же их предложения не согласуются с нашими потребностями. «Un Liegeois» заклинает шефа, au nom de Ihumanité, au nom des veuves et des petits enfants de France et d’Allemagne, victimes de cette affreuse guerre», отозвать Жюля Фавра и «увенчать славу» заключением мира за возмещение военных издержек и срытие крепостей. Eh! Que ne peut on les renverser toutes et anéfutir tous les canons!!! и т. д.
За завтраком Гацфельд представил нам гусарского лейтенанта фон Услара, который пришел с форпоста и рассказал, что парижские форты туда, где он стоит, посылают каждый раз по полдюжине бомб, чуть только заметят голову пруссака или прусского всадника, но почти никогда не причиняют нам вреда. Судя по этому, можно думать, что у них нет недостатка в военных припасах.
В час пошел дождь. Затем я был в замке Petit Trianon. Верхушки дерев идущей вправо отсюда аллеи покрыты были сотнями омел. Мы осмотрели покои королевы Марии-Антуанетты, различные портреты, представляющие ее ребенком, с ее сестрами и королевой, портрет ее супруга, ее старую мебель стиля рококо, ее спальню; добросовестность нашего проводника подвергла нашему осмотру различную другую утварь и посуду.
Вечером меня пять раз звали к министру, так что работы было вдоволь.
Пятница, 14-го октября. До обеда прилежно писал письма. Затем телеграфировал в Лондон и Брюссель относительно ложных заявлений Дюкро в «Liberté». Затем доложил, что генерал Бойе, первый адъютант Базена, приехал из Меца в Версаль для переговоров. Шеф, кажется, ничего не говорил с ним серьезно. Он сказал в бюро: «Какое у нас сегодня число?» «14-е, ваше сиятельство». «Да это день Гохкирха и Иены. Теперь не надо кончать никаких дел». При этом следует заметить, что сегодня пятница.
Во время обеда шеф после недолгого размышления, улыбаясь, заметил: «Я лелею любимую мысль относительно заключения мира. Это – учредить международный суд над теми, кто подстрекал к войне, – над журналами, депутатами, сенаторами, министрами». Абекен прибавил к этому, что Тьер принадлежит сюда непосредственно и даже преимущественно перед другими благодаря своей шовинистской истории консульства и империи. «Император тоже не невинен в этом, как он хочет казаться, – продолжал министр. – Я хотел бы, чтоб было равное число судей от каждой державы: Америки, Англии, России и т. д., причем мы должны быть обвинителями. Может быть, англичане и русские не согласились бы на это, и тогда можно было бы составить суд из наций, которые более всех пострадали, из французских и немецких депутатов». Он заявил далее: «Я читал статью в «Indépendance», которую приписывают Грамону. Он порицает то, что мы не выпустили Наполеона при Седане, и ему не нравится наш поход на Париж; вместо этого следовало бы нам в виде залога занять Эльзас и Лотарингию. Я думал сначала, что это статья Бейста или другого какого-нибудь австрийского друга. Но я все-таки убедился, что автор ее – француз». Он привел основания этого предположения и продолжал: «Он был бы прав, если бы его предположение было справедливо, что мы хотим только денежного вознаграждения, а не Эльзаса. Но все-таки лучше, если мы будем иметь в залоге, кроме Эльзаса, еще и Париж. Если хочешь чего-нибудь основательного, то залог никогда не может быть велик».
Заговорили о Бойэ, который произвел большое впечатление в городе давно невиданным французским генеральским мундиром; массы народа встречали его с громким криком «Vive la France!» и рассказывали, что он признался, что армия в Меце осталась верна императору и не хочет знать республики парижских адвокатов. То же заявил и сам канцлер. Затем он прибавил: «Генерал, впрочем, принадлежит к людям, которые вдруг худеют, если их что-нибудь волнует. Он еще способен к тому же краснеть».
Он сообщил затем – надо принять в соображение при этом, что Гамбетта проповедовал, между прочим, войну а outrance, – что парижская печать предлагает почти ежедневно новую мерзость [8] и что в последнее время совершались опять различные жестокости, что все это следствие того, о чем говорит пословица: «Как аукнется, так и откликнется», и что пощада вероломных вольных стрелков – «достойная порицания леность». «Это изменники». «Наши хорошо прицеливаются, когда стреляют, но не тогда, когда расстреливают. Следовало бы все деревни, где только появляется измена, тотчас же сжигать, а все мужское население – вешать». Граф Бисмарк-Болен рассказывал затем, что «дочиста сожжена» деревня Габли, где восемь дней назад вольные стрелки, стакнувшись с жителями, напали на шлезвигских гусар, которые вследствие того вернулись только с 11 лошадьми; шеф отозвался с похвалой об этой энергии. Под конец речь шла о том, что незадолго перед тем в сумерках около нашей квартиры раздались два выстрела, и был послан полицейский осведомиться о причине их.
– Это, вероятно, патруль, – заметил шеф.
– Быть может, и было усмотрено какое-нибудь подозрительное лицо. Я помню, третьего дня гуляя ночью по саду, я увидел лестницу, и мне ужасно захотелось подняться по ней на стену. Стоял ли там патруль?
– Я недавно разговаривал с часовым у дверей. Он сделал кампанию шестьдесят шестого года и уже составил себе мнение о настоящей войне. Я спросил у него, как он думает – можем ли мы войти в Париж. Он ответил, что это было бы нетрудно, если бы не большой форт налево от Сен-Клу. Я ему возразил, что и форт не поможет, когда в городе откроется голод.
Вечером полицейский с длинной бородой рассказал мне, что в этот день был арестован испанец. На мой вопрос: «Какой это испанец?» – он объяснил, что это тот самый, который вчера или третьего дня являлся к его сиятельству. Он проезжал вместе со своим слугой. Он оказался шпионом: при нем нашли план расположения наших войск. Я узнал, кроме того, что этого человека звали Анхело де Миранда.
Около десяти часов пришел Мольтке вместе с каким-то высоким офицером – кажется, военным министром, – к шефу для какого-то совещания (вероятно, по поводу поручения Бойе).
Суббота, 15-го октября. Рано утром написал статью о разрушении замка Сен-Клу, который французы подожгли без всякой разумной причины, тогда как наши солдаты заботились о спасении находившихся там драгоценных вещей и произведений искусства. Потом написал другую статью об аресте Якоби в духе предыдущей, но с тем дополнительным разъяснением, что этот образ действий не может вести к заключению о важности этого чрезвычайного случая.
Около трех часов Бойе опять явился к шефу. Перед входной дверью, за решеткой, его ждало множество народа; при отъезде его (в 4 часа) они сняли шапки и крикнули: «Vive la France!», что, как говорили у нас за столом, министр «едва ли им простит». В это время я прошелся по парку и на одной мраморной вазе прочел следующее поэтическое излияние чувств какого-то галла, недовольного единодушием немцев:
Badois, Saxons, Bavarois,
Dupes d’un Bismarck plein d’astuce,
Vous le faits bucher tous trois
Pour le Roi de Prusse.
J’ai grand besoin, mes cbers amis,
De mourir empereur d’Allemagne.
Que vos manes en graissant la campagne
Mais que mes voeus sont accomplis [9] .
Такое же настроение было высказано и на мраморной скамейке недалеко от этого места; вообще здесь оказывалось, по-видимому, много охотников чертить карандашом и мелом на стенах, скамейках и пьедесталах. По стенам города более нежели в десяти местах я видел надпись: «А bas les Prussiens!» и другие – еще хуже.
После четырех часов явился с тем, чтобы представиться министру, какой-то статный, элегантно одетый негр. На его карточке стояло: «Генерал Прейс, посланник Республики Гаити». Шеф извинился, что по причине безотлагательных занятий не может принять его (Мольтке и Роон опять были у него), и просил изложить письменно, что тот имеет сообщить ему. В пять часов прибыл наследный принц и принял участие в совещании канцлера и генералов. По-видимому, между главной квартирой и Мецем существовало некоторое разногласие. Политические стремления канцлера подвергались давлению и с другой стороны. За столом он высказал: «Весьма тяжело каждый план, который мне приходит в голову, обсуждать с пятью или шестью лицами, иногда мало понимающими дело, и выслушивать их мнение с тем, чтобы потом со всевозможной вежливостью опровергать их. Таким образом, недавно мне пришлось просидеть целых три дня за делом, которое при других обстоятельствах сделал бы в три минуты. Это то же самое, если бы я вмешивался в постановки батарей на том или другом месте и заставлял командиров отдавать отчеты мне, ничего не смыслящему в их специальности. «Даже очень умный человек, который, наверно, достиг бы высшего положения на великом поприще, – прибавил он, – но занимаясь долгое время одним и тем же, может быть судьей только в своем деле». – О своих переговорах с Бойе и их результатах он ничего не сказал. Даже Гацфельд и Кейделль ничего не знали об этом, однако подавали по этому поводу какие-то советы.
Воскресенье, 16-го октября. Рано утром опять получил письмо от В. из Л. Он отзывался одобрительно о поступке с Якоби, но высказывал мнение, что Бисмарку можно было бы все дозволить, если бы он проводил здравую немецкую политику, т. е. «если бы он в настоящую минуту осуществил и скрепил единое германское государство». «В Германии, – продолжал он, – твердо уверены, что решение этого вопроса находится в руках союзного канцлера, и поэтому всякое противодействие этому решению общественное мнение ставит ему в счет. У нас толкуют, что, если бы Бисмарк не поощрял тайно такого противодействия, оно едва ли осмелилось бы выразиться, ввиду важности совершающихся событий». Затем он спрашивал, следует ли ему приехать. По желанию В. я прочел министру некоторые наиболее важные места из его письма. Министр высказал, что приезд Б. был бы для него весьма желателен, так как он может быть полезен своим знанием Парижа, когда мы займем город. «Возвратясь отсюда, – прибавил канцлер, – он может также разъяснить в своих кружках многое, о чем писать неудобно. Что касается до их предположений, будто я не хочу объединения Германии, это весьма комично. Дело не двигается как следует совсем по другим причинам. Эти же причины, даже и тогда, когда мы придем к концу, могут заставить нас отказаться от многого».
Сегодня утром в avenue de St. Cloud я встретил Борка в майорском мундире; он объявил мне, что Суассон пал и 28-го начнется бомбардирование Парижа. Осадный парк уже почти весь на месте, и через три дня можно надеяться (т. е. он надеется) открыть огонь. Толстяк прибавил, что, по его мнению, мы никак не позже 1-го декабря вернемся в Берлин. Он сообщил еще, что конгресс государей в Версале имеется в виду, и что для баварского короля приготовляют Трианон.
Ходят слухи, что в Париже царствует разногласие; красные, руководимые Бланки и Флурансом, не желают видеть синих республиканцев во главе правления, они энергично нападают на них в своих газетах, и 9-го перед Hôtel de Ville слышны были крики: «Vive la commune!». Говорят также, что Зеебах, который, если я не ошибаюсь, был прежде саксонским посланником в Париже и находится в дружественных отношениях с Трошю и Лефло, намерен предложить канцлеру свои услуги для переговоров с Парижем.
За кофе Кейделль играл министру какие-то сладкозвучные мелодии на пианино, стоящем в гостиной. Когда его спросили потом, понимает ли шеф толк в музыке, он мне ответил, что понимает, хотя сам не играет. «Вы должны были заметить, – прибавил он, – что министр всегда тихонько напевает играемый мотив. Это полезно для его нервов, которые сегодня очень возбуждены».
Вечером приехал нунций Киджи в сопровождении другого также духовного лица. Он долго говорил с канцлером и намеревался на другое утро отправиться в Тур. Из посланников, как говорят, остались в Париже только бельгийский, голландский, португальский, швейцарский, северо-американских штатов и несколько важных лиц из Южной Америки. Полное имя недавно арестованного испанца – Анхело де Вальехо-Миранда; как оказывается, его арестовали за то, что он явился в Версаль в качестве секретаря испанского посольства, тогда как он служит при испанской комиссии погашения долгов. В его спутнике, которого он выдавал за своего слугу, узнали некоего Освальда, одного из редакторов весьма враждебного нам «Gaulois». Такие ложные показания навлекли на этих господ подозрение в шпионстве. Говорят, он близок к Приму; это довольно хорошо согласуется с тем, что Штибер указал на него вчера в бюро как на человека со связями [10] .
После одиннадцати часов пришли еще две важные телеграммы: одна о том, что Бурбаки, бежавший из Меца в Лондон, не намерен возвратиться, а предлагает свои услуги правительству национальной обороны, и другая, что в следующую среду Брай и Пранк с разрешения короля Людвига отправляются в Версаль.
Понедельник, 17-го октября. Утром написал две статьи. Перед обедом ездил в Трианон и видел там в большой зале прекрасную группу: Италия благодарит Францию за помощь, оказанную ей против австрийцев. Эта группа была поднесена миланцами императрице Евгении. За обедом находились Дельбрюк и Лауер. Шеф опять энергически высказывался за беспощадное наказание деревень, оказавшихся виновными в измене. «Они ответственны уже за то, – сказал он, – если в них происходит изменническое нападение; ведь это нашему бедному солдату и в голову не придет». Впрочем, разговор более касался гастрономических вопросов, причем было замечено, что канцлер ест с удовольствием хорошую баранину, а из говядины охотнее всего ест так называемую грудинку; он не большой любитель филе и жареной говядины.
Вечером ходили слухи о том, что нам следует укладываться, и, на случай если ночью будет тревога, повозкам отдано было приказание стоять готовыми к отъезду перед королевской квартирой в префектуре. Уже со вчерашнего дня ожидают вылазки.
Вторник, 18 - го октября. Ночью ничего не произошло. Утром прекрасная осенняя погода. Составили опровержение французских известий, будто наши войска намеревались бомбардировать Орлеан. Сегодня день рождения наследного принца; шеф и члены совета в 12 часов отправились к нему с поздравлением. Нам прислали номер газеты «Kraj», в котором утверждают, что министр имел недавно с одним галицийским дворянином разговор, в котором давал совет полякам отвернуться от Австрии. На мои расспросы по этому поводу я узнал, что это – неправда, так как министр давно уже не видался ни с каким галичанином и вообще ни с каким поляком. Опровергнул это в печати. Шеф завтракал сегодня с нами и признался, что он охотно ест крутые яйца (мы не будем опускать даже и таких незначительных подробностей), но что он теперь не может съесть больше трех, тогда как прежде мог съедать их по одиннадцать штук. Бисмарк-Болен брался съесть их до пятнадцати. «Я стыжусь признаться в том, до чего я дошел в этом деле», – заметил его кузен. Он же давал советы Дельбрюку, который собирался в Берлин, запастись на дорогу крутыми яйцами, но тот отверг это предложение, как неподходящее к его вкусу. После того шеф прочел несколько назидательных секретных писем к императору Наполеону, обнародованных временным правительством; он присоединил к ним свои комментарии, бросавшие свет на некоторые берлинские личности.
Потом он говорил по поводу известия, помещенного в газете «Kraj», и в связи с этим вообще о поляках. Он долго останавливался на победах великого курфюрста на востоке и на его союзе с Карлом Х, королем Шведским. К несчастью, его отношения с Голландией помешали ему воспользоваться этими выгодами. Но он положительно имел в виду распространить свою власть на западную Польшу. Когда Дельбрюк заметил, что тогда Пруссия не была бы немецким государством, шеф возразил ему: «Ну, до этого бы не дошло. Во всяком случае, большой беды в этом не было бы; Пруссия на севере была бы тем же, чем теперь Австрия на юге. То, что для нее Венгрия, для нас была бы Польша!» Это замечание было в связи с его прежним сообщением о том, что он советовал наследному принцу учить своего сына польскому языку, чего тот, к сожалению, не исполнил.
Среда, 19-го октября. Утром была пасмурная, а потом ясная погода. Написал в редакцию «Nouvelliste de Versailles», маленькой газеты, основанной немецкими корреспондентами «Kölnische-Zeitung» и «Allgemeine-Zeitung», изгнанными из Парижа и находившимися в общении с Браухичем. Предлагаю им вступить с нами в сношения для получения известий и т. п. Перед обедом и после обеда несколько раз был у шефа. Он находился, по-видимому, в самом лучшем расположении духа, и, между прочим, показывал мне французскую телеграмму, которая гласила о том, что герои Лютеции совершали против нас исполинские подвиги, если б это хвастовство к чему-нибудь вело!
За столом, за которым присутствовал граф Вальдерзее, министр заметил: «Было бы вполне разумно, если бы из каждой местности, в которой стреляют в наши обозы из-за кустов, развинчивают скрепления у рельс и кладут на них камни, взять жителей с нескольких квадратных миль, перенести их в Германию и там поселить под хорошим присмотром». На рассказ Бухера, что на пути его сюда около одного места один офицер велел подать себе револьвер и маневрировал им, так как бездельники-французы имели привычку плевать с моста, шеф заметил: «К чему тут играть? Ему надо было дождаться, пока они посмеют плюнуть, и тогда в них выстрелить!»
Вечером был Л. с несколько сконфуженным г. Г., который принимал участие в редактировании «Нувеллиста» до 4 номера, но затем отказался от этой работы, потому что ему хотелось, чтобы о «парижанах отзывались менее жестко»; объяснил, что наши предложения вполне подойдут им. Не далее как на следующее утро он обещал принести письмо такого содержания:
«Начальствующие лица национальной обороны в Париже не хотят созывать избирателей. Почему же? Г. Жюль Фавр и его товарищи обязаны своим положением «патриотической» ярости, которая овладела частью парижского населения после несчастного седанского дня. Они подлежали общему закону для всякого рода политической власти, формулированному латинским историком в следующих словах: «Каждое правительство зиждется на том принципе, из которого оно произошло». С самого первого дня члены парижского правительства оказались вынужденными по отношению к условиям мира вступить в область невозможного. Теперь, когда они окружили себя разрушением, содействовали всеми средствами возбуждению обитателей Парижа и его защитников и вложили и внутри, и вне его жестокое оружие в руки революции, им менее всего возможно выйти из рокового круга, в который они себя замкнули. С другой стороны, общественное мнение провинции, в особенности в открытых местностях, по-видимому, вовсе не возвышалось до этой героической точки зрения. Провинция тяжелее всего ощущает бедствия войны, она начинает сомневаться в успехе дальнейшего сопротивления, она боится дальнейшего хода общественного разложения, она видит факты и более уже не слушает фраз. Некоторые провинциальные газеты обнаруживают уже достаточно мужества, чтобы громко требовать мира. Поэтому едва ли вероятно, чтобы большинство французских избирателей было одного мнения с Гамбеттой, будто «следует похоронить себя под развалинами отечества», или чтобы у них было желание последовать его призыву, высказанному в прокламации от 9-го октября: «Mourons plutot, que de subir la mort du démembrement!» В этом и заключается причина, почему парижское правительство не хочет выборов и не может их хотеть. Эти люди, взывавшие в течение всей своей жизни к праву и к верховной власти народа, осуждены теперь быть самовольными властителями своей страны и вести ее к гибели».
Четверг, 20-го октября. И утром, и после обеда много работал: составил несколько статей и телеграмм. За столом, между прочим, опять была речь об аресте Якоби военными властями; шеф высказал так же, как и прежде, сильное сомнение в уместности этой меры. Граф Бисмарк-Болен со своей стороны был очень рад тому, что «засадили праздного болтуна». Канцлер ответил ему возражением, весьма характерным для его образа мыслей: «Я этому нисколько не радуюсь. Человек партии может делать все, что может удовлетворить его чувство мести. Политический же деятель и политика подобных чувств иметь не должны. Это еще вопрос – приносит ли нам пользу такое крутое отношение к политическим противникам».
Вечером опять был Л. В завтрашнем номере «Нувеллиста» будет помещено письмо, полученное кем-то в Версале из Парижа. В этом письме содержатся следующие подробности о положении современного Вавилона:
«Клубы уже собираются завладеть управлением Парижа от имени коммуны; прибиваются красные афиши, чтобы созвать национальную гвардию для выбора парижского муниципалитета. Когда эти выборы состоятся, вооруженной силой дан будет сигнал с целью установить парижскую коммуну, т. е. господство террора. Эта последняя уже властвует в Бельвиле, главной квартире партии террора, и члены ее приняли решение лишить должности шефа 19-го округа и заместить его кем-нибудь из своих. Тот же клуб постановил заключить под стражу некоего Годильо, фабриканта офицерских вещей, и завладеть его мастерской, так как он оказался виновным в государственной измене». Далее в письме было сказано: «Между тем как газеты утверждают, что на этих днях Парижу предстоит жестокий штурм, друзья генерала Трошю распускают слух, будто генерал получил достоверные сведения, что неприятель отказался от попытки штурмовать Париж и в Версале принят план вынудить город к сдаче голодом. Прусская армия, разделенная на сильные отряды, занимает крепкие позиции на различных пунктах кругом Парижа. Ее многочисленная кавалерия служит для связи между этими позициями и для воспрепятствования всякому подвозу и всякому подкреплению изнутри страны. Парижское население, увеличенное лишенными всяких жизненных средств жителями окрестностей, скоро начнет испытывать голод, и не пройдет недели, как оно оставит Париж и создаст правительству непредвиденные затруднения, которыми неприятель легко может воспользоваться». «Чем смелее выступает террористическая партия, тем слабее оказывается правительство; если оно не сумеет принять немедленно энергичные меры, оно будет выброшено за борт и пожрано этими дикими зверями. Вождями террористической партии решено устранить генералов Трошю и Лефло, адмирала Фуришона и гг. Жюля Фавра, Тьера, Жюля Симона и Кератри, так как все они подозреваются в роялизме. Если генерал Трошю не выкажет усиленной энергии, Париж очутится вскоре во власти террора».
Немецкая либеральная печать все еще не может успокоиться по поводу ареста Якоби. Шеф, по-видимому, особенно настаивает на том, чтобы взгляд его на это дело был выяснен и чтобы он имел как можно больше сторонников. Полученный сегодня номер «Weser-Zeitung» содержит в себе следующую статью.
«Союзный канцлер, признавая арестование д-ра Якоби и купца Гербига мерой вполне основательной, вместе с тем объяснил, что она противозаконна. Наставление, которое он по поводу этого обстоятельства препроводил через посредство обер-президента фон Горна кенигсбергскому магистрату, имеет для всех немцев, живущих по эту сторону Майна, высокий практический интерес. В самом деле из него видно, что участь д-ра Якоби может постигнуть каждого из нас, кто, по мнению военного начальства, совершит поступок, могущий, так или иначе, посредственно или непосредственно способствовать французам продолжать их сопротивление, – и против такой меры нечего рассчитывать на охрану со стороны законов. Независимо от только что изложенного это наставление имеет еще интерес совершенной новизны воззрений, в нем развиваемых.
Прежде всего союзный канцлер указал как на заблуждение, но до сих пор, вероятно, всеми разделяемое, на мнение, будто означенная мера на основании закона об осадном положении, следовательно – военном положении, установлена генерал-губернатором. По этому закону подобная мера лишена была бы правового основания, что, конечно, и очевидно, зато, напротив, «в случае действительного ведения войны он не может считать ее неприменимой». Тут ведь дело не в уголовном судопроизводстве, а только в «действительном устранении сил, проявлением которых затрудняется достижение цели самой войны».
В этом определении мы не можем найти другого смысла, кроме того, что «военные присутствия дома имеют те же права, как военные чины в неприятельской стране». Нам по крайней мере не было известно, какая другая граница могла бы быть указана власти последних, кроме «действительного устранения сил, проявлением которых затрудняется достижение цели войны». Обсуждение же, какие это силы и какими средствами они должны быть устраняемы в неприятельской стране и вообще на театре положительных враждебных действий, предоставлено исключительно военной власти. Права ее совершенно неограниченны. Если военное ведомство у себя дома имеет такое же полновластие, в таком случае изречение «Inter arma silent leges» приобретает совершенно неожиданное и ужасное значение. Рассуждая последовательно, тогда уже нельзя будет отрицать, что генерал-губернатор в Ганновере, так же как и его товарищ в Нанси, может без околичностей поставлять военно-судебные приговоры к расстрелянию, по-видимому, и союзный канцлер, хотя не делает этого конечного вывода, но прямо указывает на него. Он перечисляет целый ряд весьма неприятных действий, на которые государственная власть имеет право на театре войны, как, например, сжигание домов, отнятие частной собственности, делание безвредными лиц только подозрительных и т. д., и присовокупляет, что правовое понятие, лежащее в основании этих исключительных прав, независимо от местности, «независимо от пространственного отдаления, на коем происходят более явные военные действия». Это довольно ясно сказано.
После этого мы должны сказать: если теория графа Бисмарка верна, то для нас непонятно, для какой цели существует особый закон о военном положении и зачем применение этого закона провозглашалось в прибалтийских провинциях, в Ганновере и в ганзейских городах. Если военная власть уже сама по себе в продолжение войны «независимо от местности» имеет стоящее выше законов право на всякие меры, которые окажутся полезными в интересах ведения войны, то, очевидно, нет никакого смысла в провозглашении закона, который присваивал бы ей это право с известными ограничениями. Поэтому мы и не можем прийти к убеждению, что по северогерманскому и прусскому государственному праву подобное всепоглощающее полновластие военной власти создается одним тем фактом, что началась война.
По нашему мнению, следует различать два случая, смотря потому, идет ли дело о действительном театре неприятельских военных действий или об областях, лежащих вне района войны. В первом случае обыкновенное право исчезает и вступает в силу право войны – pur et simple в том виде, как нам его очень наглядно излагает союзный канцлер. Во втором случае военная власть либо сохраняет за собою свои обыкновенные права, либо же в случае объявления военного положения она облекается теми исключительными правами, которые для этого случая присваиваются ей законом о военном положении. И этот последний случай в настоящее время обнаруживается в восточной Пруссии. Если арест д-ра Якоби не был дозволителен по закону о военном положении, то он и вообще не был дозволителен, и этого нисколько не изменяют отговорки, будто манифестации Якоби внушили французам новое мужество, даже если бы эти отговорки были более обоснованы фактами, чем они нам кажутся при ежедневном и довольно обстоятельном изучении французских журналов. В самом деле будь оно действительно так, то не оказалось бы вовсе недостатка в законных средствах для воспрепятствования подобным манифестациям. Но ведь закон о военном и осадном положении предписывает прямо, что свобода слова, свобода печати и свобода сходок могут быть запрещены и в каких именно формах.
В Кёнигсберге же ни одно из этих прав законным путем не было отмечено, что, во всяком случае, должно было бы произойти прежде, нежели власть была употреблена в отношении одного человека, вся вина которого заключалась в осуществлении сообразного с конституцией права публичного выражения своего мнения. Мы, конечно, отнюдь не желаем утверждать, что было бы благоразумно поступить таким образом. Французы из подобной меры извлекли бы точь-в-точь столько же яду, сколько они извлекают теперь из заключения д-ра Якоби, в сущности, гораздо больше яду, чем они когда-либо могли бы извлечь из речей и решений кенигсбергского апостола будущности.
Вообще мы вовсе не склонны принимать рассматриваемые здесь приключения в слишком трагическом виде. Мы отнюдь не думаем, что мы практически так же бесправны, как это выходит по теории союзного канцлера, и что опасность быть наказанным военным судом в Северной Германии больше, чем опасность быть съеденным крокодилом. Но мы и не идолопоклонники буквы закона; мы легко можем представить себе случаи, когда мы очень охотно не только вотировали бы вознаграждение, но и выразили бы благодарность за не совсем законное заключение негодного нарушителя священной войны. Но при всем этом мы все-таки питаем весьма глубокое уважение к статьям закона, и нам очень досадно, если они игнорируются без, видимо, настоятельной нужды. Это чувство усиливается еще соображением, что д-р Якоби был задержан за выражение мнения, о котором (выражении) тогда, когда он сделал его, никто еще не знал, что оно противоречит мирной программе правительства. Тогда еще не было официального объяснения, что мы желали бы оставить за собою Эльзас и Лотарингию. Вопрос оставался открытым, и это вовсе не тайна, что тогда еще очень консервативные люди в Берлине жестоко противились присоединению вышепоименованных «враждебных элементов».
Подведем итог: мы должны остаться при том мнении, что с д-ром Якоби поступлено несправедливо, и если мы и не ждем ужасных последствий от этого, мы все-таки сожалеем об этом эпизоде весьма славной истории тем серьезнее, чем славнее сама история».
Ответ на нее гласил:
«Weser-Zeitung» от 16 декабря содержит передовую статью, которая высказывается о наставлении, препровожденном союзным канцлером по делу Якоби
. . . . . .
об уместности мер, применяемых в отдельном случае, например, в случае с Якоби, – но что он только высказал свой взгляд на теоретический вопрос, может ли, между прочим, во время войны и в интересах ведения войны быть допущено задержание отдельных лиц, действия которых по усмотрению власти вредны собственному ведению войны и полезны неприятелю.
Поставленный в этой общей форме вопрос едва ли может быть отрицаем политиками-практиками и воинами, если он даже с теоретической и юридической точек зрения, подобно всем положениям права войны, содержит много сомнительного. Конкретный же вопрос, следовало ли применять это право войны – государственной власти, если она обладает таковым, именно в отношении Якоби, – так же неподсуден министру, как, положим, и вопрос, нужно ли и целесообразно ли при сражении, даваемом внутри страны, сжечь известную деревню или в пятидесяти милях от поля битвы арестовать частного гражданина, со стороны которого опасаются благоприятного отношения неприятелю, если даже нельзя было бы доказать этого юридически. Каким образом военачальник может быть ответственным за решение этого вопроса – по мнению участников, ошибочное, поспешное или несправедливое, – это не относится к настоящему обсуждению, в коем мы старались только показать, что власть министров, принадлежащая им на основании государственного права, не облекает их авторитетом – непосредственного воздействия в подобных случаях».
Пятница, 21-го октября. Сегодня утром в восемь часов слышна была пальба из крупных орудий, которая была сильнее и продолжительнее, чем прежде. На это никто не обращал внимания. Приготовлялись разные статьи, между которыми в одной говорилось об отъезде из Парижа нунция и прочих дипломатов. За завтраком Кейделль сообщил слух, будто французы разрушили выстрелами фарфоровую фабрику в близлежащем Севре. Гацфельд рассказал, что его теща (американка), остававшаяся в Париже, сообщила ему благоприятные известия о пони, о которых он часто говорил нам. Они стали прежирные. Не пришлось ли бы им съесть и их? Он хотел ответить: с Богом, только он сохраняет за собою право – стоимость животных при заключении мира поставить на счет французскому правительству.
Между тем пушки продолжали все греметь, и между часом и двумя казалось, как будто бы перестрелка происходила там в лесу, на севере от города. Огонь становился сильнее. Пушечные выстрелы следовали один за другим, слышны были также и картечницы; казалось, будто развернулось настоящее сражение и будто оно приближается к нам. Шеф велел оседлать себе лошадь и поскакал. Мы все тоже отправились по тому направлению, откуда слышен был шум схваток. Влево над лесом, через который дорога идет в Жарди и Воскрессон, видно было, как подымались вверх и разрывались известные гранатные облачка. Ординарцы неслись туда по дороге. Один батальон шел на театр битвы. Бой продолжался до пятого часа, потом слышны были еще только отдельные выстрелы из большого форта на Мон-Валерьян, наконец замолчал и этот. Теперь мы узнали, что французы вовсе не были так близко от нас, как это казалось: их вылазка имела значение для наших позиций возле Ла-Селля, Сен-Клу и Буживаля – сел, из которых одно отстоит от Версаля приблизительно на один, другое – на полтора часа ходьбы. В городе после обеда между французами, понятное дело, существовало большое волнение, и группы, образовавшиеся перед домами, ожидали, когда шум стал приближаться все более и более, вероятно, с каждой минутой, как наши войска в полном бегстве будут спасаться от красных панталонов. Потом физиономии у них вытянулись, и они только пожимали плечами.
За столом шеф, между прочим, сказал, что ему либо сегодня, либо в один из этих дней можно будет отпраздновать свой парламентарный юбилей. Пятьдесят лет назад, в это же время, он вступил в померанский провинциальный ландтаг. «Я припоминаю, – так продолжал он, – что там было ужасно скучно. В виде первого предмета мне пришлось там заняться обработкой вопроса об излишнем употреблении свечного сала в богадельне».
– Как подумаешь, сколько глупых речей тогда и потом в соединенном ландтаге я выслушал и, – прибавил он после паузы с улыбкой, – сказал сам.
Говорили о роскошной обстановке здешней префектуры и о том, что она стоила два миллиона.
– Да, с ней нельзя сравнить ни одно из наших министерств в Берлине, – заметил канцлер, – даже и военное министерство, хотя еще на что-нибудь похожее. У нас еще сносно министерство торговли. А мы-то! Редко министры живут так тесно. Все наши спальни вместе разве только вдвое больше этой комнаты; их там сделано три: одна побольше для меня, другая поменьше для жены и третья – для сыновей. Когда у меня бывают гости, я, как мелкие провинциалы, должен сам заботиться о том, чтобы стулья были на местах и чтобы все было в порядке, даже в моей рабочей комнате.
Кто-то подшутил над китайскими коврами, которыми обита в Берлине большая зала.
– Ах, оставьте их в покое, – возразил шеф, – когда они больше не понадобятся государству, я бы желал их иметь в Шенгаузене, я многое с ними пережил, и они в своем роде очень хороши.
Между восемью часами и половиной девятого мэр города опять был у министра. Позднее мы получили статью о поведении нашего негостеприимного хозяина в Феррьере. В этой статье говорилось:
В письме, обозначенном Paris, place de la Madeleine, 70, между прочими нелепостями, адресованными графине Мустье, говорится: пруссаки требовали от нас фазанов. Ротшильд рассказывал мне, что они их взяли у него. Но они хотели высечь управляющего за то, что фазаны были без трюфелей.
Для каждого наблюдавшего пребывание короля в Феррьере бросались в глаза необыкновенная простота жизни и тщательное охранение имущества Ротшильда; ввиду этого еще неприятнее выступает образ действий этого миллионера, защищенного счастьем пребывания у него его величества от неизбежных ущербов, доставляемых войной даже и бедным людям. Его величество постановил, что пребывание короля распространяет свою охрану на все, даже и на дичь в парках, а следовательно, и на фазанов. А барон Ротшильд, бывший недавно прусским генеральным консулом и в надежде на победу Франции довольно неловко отказавшийся от этой должности, не выказал настолько такта, чтобы во все время пребывания короля в Феррьере хоть бы один раз осведомиться через своих служащих о желаниях своего высокого гостя. Никто из немецких обитателей Феррьера не может сказать, чтобы он хотя бы куском хлеба воспользовался от своего хозяина, получившего в наследство по расчету штемпельного сбора около 1700 миллионов франков. Если барон Ротшильд действительно заявил кому-то упоминаемую в письме несправедливую жалобу, мы можем только пожелать ему, чтобы он после пребывания короля получил такой постой, который бы ясно выказал ему разницу между скромными требованиями двора и военным правом враждебного постоя, насколько оно может простираться на владельца тысячи семисот миллионов.
Суббота, 22-го октября. Отправил несколько телеграмм и статей об исходе вчерашней встречи, об отправлении Кератри в Мадрид и прочее.
Нападение парижан с двадцатью батальонами линейных солдат и подвижной гвардией под прикрытием огня Мон-Валерьяна было направлено по преимуществу на деревню Буживаль на Сене, занятую нашими аванпостами. Эти последние отступили, и французы завладели местечком, но вскоре были атакованы дивизией пятого германского корпуса и опять выгнаны оттуда, причем они оставили в наших руках значительное число пленных и два орудия. Пленные числом около ста прошли сегодня через город, где, говорят, произошли беспорядки, вследствие чего желтые драгуны вынуждены были разгонять теснившуюся толпу ударами сабель плашмя.
Шеф говорил вчера, что не должны быть терпимы собрания людей на улицах в случаях, подобных происшедшему недавно, и от жителей следует требовать, чтобы они оставались в своих домах, а патрулям должно быть вменено в обязанность стрелять в сопротивляющихся этому приказанию. Сегодня комендант Версаля объявил, что после сигнала тревоги все жители города должны немедленно отправляться в свои дома и что войскам отдан приказ употреблять против непокорных оружие.
Парижский полицейский префект Кератри приехал в Мадрид, чтобы сделать генералу Приму два предложения, из которых первое заключает в себе приглашение к оборонительному и наступательному союзу между Францией и Испанией, в силу которого последняя должна дать первой армию в пятьдесят тысяч человек. Целью этого союза должна была быть общая защита интересов народов латинской расы против могущества германских. Прим отклонил эту странную мысль (действительно странную, потому что поддерживание Франции Испанией, которой первая три месяца назад навязывала свою волю самым энергическим образом, было бы отрицанием и непониманием своих собственных интересов). Тогда французский посол выразил желание, чтобы Испания по крайней мере декретировала свободный вывоз оружия во Францию, но Прим не согласился и на это.
Перед обедом я вместе с Бухером предпринял поездку через рощу Фос-Репоз к городку Вилль-д’Аврэ, расположенному между Севром и Сен-Клу с целью посетить виллу Стерн, откуда прекрасный вид на Париж. Стоявшая там стража не пустила нас, но мы нашли на другой стороне долины, на краю парка, павильон, крытый соломой, вполне удовлетворивший нашей цели. Уже простым глазом можно было видеть здесь в желтоватом освещении вечера, за предместьями Парижа, большую часть города с белой прямой линией стен укреплений, Дом инвалидов, собор Парижской Богоматери с его тупыми башнями, купол Пантеона и на правой стороне Валь-де-Грас. Пока мы рассматривали эту картину, железнодорожный поезд прошел через виадук около стен.
Во время пути в Вилль-д’Аврэ я видел Бенингсена, спускавшегося с улицы де Прованс. После нашего возвращения он послал шефу свою карточку. Последний обедал сегодня в четыре часа с королем, но на полчаса появился и за нашим обедом. Говорили о том, что Мец, вероятно, сдастся в течение следующей недели. В городе господствовал голод и чувствовали большой недостаток в соли. Перебежчики, рассказывал министр, едят ее ложками, чтобы восполнить недостаток ее в крови. Принц Фридрих Карл требует, как мне кажется, капитуляции на условиях Седана и Туля. Канцлер же настаивает из политических причин на более мягком обхождении с гарнизоном; король, по-видимому, колеблется между этими двумя предложениями.
Версальскому мэру шеф говорил вчера: не будет выборов не будет и мира. Но парижские господа ничего не хотят об этом слышать. Американский генерал, который недавно был здесь, говорил мне, что с ними нельзя ничего поделать. Только Трошю будто бы говорил, что они не настолько подвинулись, чтобы начать переговоры. Другие ничего не хотят знать, а тем более об уступке территории. Я сказал ему, что нам останется тогда только войти в соглашение с Наполеоном и опять восстановить его на троне. Он заметил, что мы этого не сделаем, что это было бы самым тяжелым оскорблением. Я возразил ему, что в интересе победителей лежит оставить побежденных под такою властью, которая опирается на войско, потому что тогда нечего уже думать о наступательной войне. В заключение я посоветовал ему не предаваться заблуждению, будто Наполеон не имеет корней в стране. За него вся армия. Бойе вел со мною переговоры от имени императора Наполеона. А насколько далеко пустило корни в стране теперешнее парижское правительство – это еще вопрос. В открытых местностях едва ли многие разделяют мнение, будто не следует думать о мире. Он высказал далее свои мысли относительно мира, уничтожения своих и уничтожения наших укреплений, взаимного обезоружения по числу населения и т. д. Народ действительно не имеет, как я уже сказал в начале, достаточного представления о том, что такое война.
«Нувеллист» здесь в пренебрежении, так как это единственная газета в Версале и от нее, конечно, немного требуют. Л. сообщал, что число продаваемых экземпляров различно; некоторые номера не идут совсем, другие продаются от двадцати до пятидесяти; только предпоследний был продан в количестве ста пятидесяти экземпляров. Но по-видимому, издатели не терпят убытка.
Вечером написал статью, в которой высказывается мысль, что первое условие, которое союзный канцлер должен поставить различным партиям, ведущим с ним переговоры о мире, должно быть – выбор представительства воли Франции. Он высказал то же требование послам республиканской, императорской и еще какой-то третьей партии. Такое обращение к народу он желал бы облегчить всеми возможными способами. Форма правления для нас не имеет значения. Мы должны только иметь дело с правительством, признанным народом.
Воскресенье, 23-го октября. «Нувеллист» сегодня высказывает следующие мысли во французской форме: «Во Франции в настоящее время беспрерывно совершаются вещи, бьющие в глаза здравому смыслу и чувству нравственности. Прежние папские зуавы, и даже не те именно, которые по своей национальности – французы, принимаются безо всяких околичностей в войска республики, управляемой вольтерианцами. Гарибальди стоит в Туре и говорит, что все, что от него осталось, он отдает на службу Франции. Он, вероятно, не забыл, что эта Франция двадцать лет тому назад разгромила силою оружия Римскую республику и, вероятно, у него должны быть еще свежи в памяти раны, полученные им при Монтане. Он может ясно вспомнить то обстоятельство, что его родной город Ницца этою самой Францией был оторван от итальянского отечества и что только осадное положение мешает ему в настоящую минуту отказаться от французского владычества».
В час дня вюртембергские министры Митнахт и Зукоф посетили канцлера.
Уже несколько раз в послеобеденные часы видел я похоронные процессии, отправлявшиеся из лазаретов на кладбище: третьего дня – три, вчера – две сразу. Сегодня тянулся длинный кортеж из замка через Place d’armes в улицу Гош. Несли пять гробов, из которых в одном под черным покровом были останки офицера сорок седьмого полка, а в других под белыми покровами простые солдаты. Им предшествовал хор музыки, наигрывавший похоронный марш, а за ним слышались глухие удары барабана. В процессии находился также и священник. При проходе гробов французы надевали шляпы и шапки. Прекрасный обычай!
За столом Дельбрюк обратил внимание на то, что прусские чиновники, получая здесь назначение, испытывают желание посвятить себя сохранению вверенных им вещей и сделать все возможное в интересах порученных им обывателей, даже в таких сферах, которые не касаются наших собственных интересов. Так, например, Браухич выходит из себя от беспощадного воровства, совершающегося в здешних лесах, и хочет энергически противодействовать ему к выгоде французского лесного управления. Дальше я узнал, что на этих днях следует ожидать из Бадена Фрейдорфа, Жоли и еще третье лицо, имя которого я забыл и о котором говорил Узедом. Как упомянул Дельбрюк, Бавария в переговорах о новой организации Германии выразила претензию на совместное представительство союзного государства с границей, которое должно состоять в том, что в случае отсутствия немецкого посла баварский заступает его место. На это шеф заметил: «Никогда! Все, что угодно, только не это; здесь дело не в послах, а в инструкциях, которые они получают. Тогда, следовательно, нам нужно иметь двух министров иностранных дел для Германии». Он развил эту мысль и опроверг ее примерами.
Понедельник, 24-го октября. В телеграмме из Англии, предназначенной для замка Вильгельмсхёе, между прочим, говорилось: «Я боюсь, что будет потеряно слишком много времени». На полях ее шеф написал карандашом: «Оно уже потеряно». Я послал заметку о происшедшем в Рошфоре умерщвлении капитана Цилке с германского корабля «Флора» в английские газеты. Из Марселя поступают странные известия. Красные, по-видимому, получили там перевес. Эскирос, тамошний префект устьев Роны, принадлежит к этому оттенку французских республиканцев. Он приостановил издание «Gazette du Midi», потому что клуб его партии находит, что эта газета поддерживает кандидатуру графа Шамбора, напечатавши его прокламацию. Далее он изгнал иезуитов. Декрет Гамбетты отрешил префекта от должности и прекратил действия мер против этой газеты и против иезуитов. Но Эскирос, опираясь на рабочих, не повинуется этому приказанию отделения правительства в Tyре; он сохраняет свой пост и «Gazette du Midi» не выходит, а иезуиты не возвращаются. Так же мало имело успеха распоряжение Гамбетты о распущении гвардии из жителей города, принадлежащих к красным республиканцам, образованной наряду с марсельской национальной гвардией. Шеф высказал по этому поводу: «По-видимому, у них скоро возгорится гражданская война, и весьма возможно, что скоро образуется республика юга». Я переработал эти известия в статьи сообразно смыслу его замечания.
Около четырех часов канцлеру представился некто Готье, едущий из Чильгерста. С нами сегодня обедал граф Вальдерзее, а шеф обедал у короля. Вечером между семью и восемью часами нам сказали, что в Париже большой пожар; вся северная часть неба залита красным отблеском; и действительно, за деревьями северной части города я увидал свет большого пожара. Тем не менее мы, кажется, ошиблись. Красные приобретают власть. Описываемое явление есть северное сияние, распространяющееся на горизонте. Поэтому скоро должна наступить зима и холода.
Вторник, 25-го октября. До нас доходят хорошие известия. Вчера капитулировало укрепление Шлетштадт, и за день перед этим генерал Виттих вступил с двадцать второй дивизией в Шартр. В остатках французской Луарской армии, согласно письму из Тура, царствует большая распущенность. Часто случается, что пьяные солдаты отказываются повиноваться своим офицерам и упрекают их в неспособности и в измене. Передача Меца совершится завтра или послезавтра, и часть удерживаемой там германской армии через неделю может подкрепить войско, сражающееся в области Луары. Сегодня утром шеф сказал по поводу известия «Pays», будто мы потребуем два с половиной миллиарда военных издержек: «Пустяки, я потребую с них гораздо больше».
За обедом, я уже не знаю почему, зашел разговор о Вильгельме Телле, и министр сказал, что он его еще в детстве терпеть не мог и потому именно, что тот стрелял в своего сына, а потом предательским образом умертвил Гесслера. «Естественнее и благороднее было бы, по моим понятиям, если б он вместо того, чтобы целить в мальчика, в которого легче было попасть, чем в яблоко, лучше прямо застрелил бы ландфогта. Это был бы справедливый гнев за грубое насилие. Всякое притворство мне не нравится; это нейдет к герою, даже если он вольный стрелок».
«Нувеллист» ежедневно прибивается в двух экземплярах к различным углам города, и прохожие, читающие его группами, когда вблизи находятся немцы, кричат: «Mensonge» или «Impossible»; тем не менее они все-таки читают. Сегодня один из них на экземпляре поблизости префектуры написал: «Blague», но служители Штибера или другие блюстители порядка поймали его на этом. Он оказался мастеровым и, как говорят, будет отправлен в Германию.
В Буживале, как рассказывали за завтраком, при недавнем нападении отчасти разыгралась Базейльская трагедия. Когда наши аванпосты оставили деревню, некоторые из жителей подумали, что немецкие войска в этом месте желают совсем очистить страну. Поэтому они сочли патриотическим долгом выстрелить в отряд солдат, шедших около знамени сорок шестого полка. Но наказание последовало тотчас же за этим изменническим образом действия. Наши солдаты бросились в дома, из которых раздались выстрелы, и арестовали девятнадцать крестьян, которые на другой же день были преданы военному суду. Вчера, как говорят, виновные из них были расстреляны. Община должна заплатить чрезвычайную контрибуцию в пятьдесят тысяч франков, дома, из которых были сделаны выстрелы, сожжены, и, по-видимому, все жители будут вынуждены оставить деревню.
Среда, 26-го октября. Рано утром перевел депешу Бранвиля к королю, а потом сделал из нее извлечение для печати. Это последнее сопровождалось замечанием, что мы уже два раза предлагали французам через Фавра и девятого октября через Борнсейда перемирие на выгодных условиях, но они его не захотели, потому только, что мы его желали. Потом послал телеграмму в Лондон, что Тьер просил свободного пропуска в нашу главную квартиру и позволение возвратиться оттуда в Париж.
Далее – что граф Шамбор и граф Парижский имели свидание в Топпе.
После полудня шеф выехал с англичанином Бл., корреспондентом «Inverness Courier» и с американским корреспондентом одной газеты, издаваемой в Чикаго, на ферму, находящуюся вблизи замка Борегар, чтобы навестить X., недавно только оправившегося от раны, полученной им при Верте, в сражении, и за несколько дней перед тем вступившего в свой полк – 46-й. Там встретили мы много офицеров, прекрасных молодых людей, с которыми живо завязалось знакомство. Бл. между тем уехал с адъютантом фон X. в Буживаль, и так как они возвратились позднее, чем обещали, то я пропустил домашний обед, что вообще не особенно нравится шефу. За столом он осведомился обо мне; вечером возвратившись от короля, еще раз спросил «где Бушенька» и при этом выразил свое беспокойство о том, что с постов могли попасть в меня выстрелы.
Вечером вышла статья, в которой говорилось, будто ходит слух, что венская дипломатия стремится к тому, чтобы убедить немцев согласиться на перемирие с французами. Трудно верить подобной молве. В настоящее время перемирие было бы благодеянием для французов, оно усилило бы их сопротивление и в то же время затруднило бы заключение признанного необходимым мирного договора. Неужели Австрия в этом видит достижение своей цели? Следующие размышления наводят на это. Если в Вене огорчаются плодами наших побед, если нам будут препятствовать приобрести верные границы на западе, к занятию которых мы стремимся, тогда может возгореться новая война или возобновится прерванная. Ясно, в ком французы искали бы тогда себе союзника и, вероятно, нашли бы. Не подлежит сомнению, что Германия в таком случае не ждала бы, пока Франция выйдет из хаоса, в который ввергла ее настоящая война. Германия должна прежде всего стараться найти этого будущего союзника Франции и сделать его безопасным; оставшись изолированным, он нес бы ответственность за то, что помешал нам в достижении нашей цели.
Четверг, 27-го октября. Капитуляция Меца, вероятно, будет подписана в продолжение сегодняшнего дня. Вся тамошняя армия, не исключая офицеров, взята в плен, и вместе с 60 000 сборным французским войском будет отправлена в Германию. Утром получена телеграмма, что наши войска, стоящие около Парижа, заметили пушечную пальбу из Монмартра, в предместье Вильете, и что в продолжение нескольких часов слышны были ружейные выстрелы на улицах. Может быть, восстание радикалов? Потом написал вторую статью, в которой упомянул о вмешательстве Бейста в наши переговоры с Францией. Гацфельд рассказывал вечером, что, находясь сегодня у форпостов, он видел много американских семейств, выезжающих из Парижа: они решились покинуть обложенный город, в котором становилось жить довольно беспокойно. Было до двенадцати подвод с белыми знаменами; все они следовали по дороге через Вилльжюиф. Члены португальского посольства тоже покинули Париж и отправились в Тур.
Пятница, 28-го октября. После полудня Мольтке прислал шефу телеграмму, которой уведомлял, что капитуляция Меца подписана сегодня в 12 ч. 45 м. Взятая в плен французская армия состоит из 173 000 человек, между которыми 16 000 больных и раненых. За обедом присутствовали фон Бенигсен, фон Фриденталь и фон Бланкенбург – последний – друг шефа. Разговор о пленных офицерах, взятых в Меце, и о предстоящем отправлении их в Германию перешел на генерала Дюкро и на постыдное бегство его из Понт-а-Муссона. «Да, – сказал министр, – он мне прислал длинное письмо, в котором говорит, что упрек, который мы ему делаем за нарушение им данного слова, неоснователен; несмотря на это, я все же своего мнения о нем не изменил». Шеф сообщил нам также, что его посетил «посредник Гамбетты, который в конце переговоров спросил, «признаем ли мы республику?». На что я ему ответил: «Без сомнения. И не только республику, но если хотите, то даже и династию Гамбетты, лишь бы она доставила нам выгодный и прочный мир». «В сущности, не все ли нам равно, какая будет династия: Блейхредера или Ротшильда!» – прибавил он, вследствие чего эти два господина сделались на некоторое время предметом разговора.
От Л., который пришел вечером, по обыкновению, за приказаниями я узнал, что советник посольства Замвер, некогда премьер «герцога Фридриха VIII», с некоторых пор находится здесь и сообщает о разных событиях корреспондентам газет. «Нувеллист» должен перестать выходить, и вместо него появится большая газета под названием «Moniteur Officièl de la Seine et Oise». Она будет издаваться за счет правительства.
Суббота, 29-го октября. В преобразованном «Нувеллисте» некоторые события или неточно переданы, или же тут кроется интрига. Сегодня рано утром, во время моих занятий, некто Теодор N, «colloborateur du Moniteur Officièl de la Seine et Oise», прислал свою карточку, и вслед за ней вошел молодой человек, присланный префектом для получения от меня наставления для составления передовой статьи. Я ему заметил, что Д. может отлично заменить меня, тем более что он остается во главе издания, я же могу вступить с ним в сношения не иначе как по приказанию союзного канцлера, вследствие чего он меня спросил, следует ли ему передать об этом префекту и следует ли этому последнему лично переговорить с графом Бисмарком. Я ответил, что префект должен сам знать, как ему надо поступить.
За завтраком Сен-Бланкар сообщил нам, что завтра нас посетит Тьер, а Бельзинг выразил мнение, что мир близок, в чем, однако, мы усомнились, пока шеф сам не подтвердил слов Бельзинга. До нас дошло, что Мольтке получил графское достоинство и что король произвел кронпринца и своего племянника, бывшего при осаде Меца, в фельдмаршалы.
В начале обеда шеф, убедившись в справедливости этого слуха, нашел награды эти совершенно справедливыми, с чем вполне согласился и Дельбрюк. Затем зашла речь о последствиях мецского дела. Министр сказал, что капитуляция Меца удвоила число наших пленных. «Нет, даже более чем удвоила, так как у нас в плену все войска, которые Наполеон держал в Вейсенбурге, Верте и Саарбрюкене, за исключением, конечно, убитых нами. У французов остались только вновь сформированные и прибывшие войска из Алжира и Рима, к которым прибавился Дюнуа с несколькими тысячами человек, бежавших из-под Седана. Их генералы также почти все в плену». Шеф сообщил далее о том, что Наполеон просил возвратить ему в Вильгельмсхёе запертых в Меце бывших маршалов Базена, Лебефа и Канробера. «Дайте мне партию для виста, – сказал он. – Я ничего не имею против этого, и король дал на это согласие». К этому он прибавил, что теперь совершаются такие странные вещи, о которых прежде и не помышляли. «Между прочим, может случиться, что мы созовем имперский сейм в Версале, тогда как Наполеон в то же время соберет для совета о мире сенат и законодательный корпус в Касселе. Он объявил нам, что вызвал сюда для переговоров представителей партий: Фриденталя, Бенигсена и Бланкенбурга, чтобы выслушать их мнения о созыве нашего сейма в Версале. «На либеральную партию я не обращаю никакого внимания; они хотят невозможного, – продолжал он. – Они как русские, которые зимой едят вишни, а летом требуют устриц. Когда русский входит в лавку, то требует «чего-нибудь» (kak nje bud), что, собственно, значит: дайте мне того, чего нет».
К первому блюду приехал принц Альбрехт-отец с своим адъютантом и сел по правую сторону шефа; он сначала выпил стакан магдебургского пива (приношение – и очень хорошее), а потом стал пить сект. Старый полководец, как настоящий прусский принц, храбрый и верный своему долгу, пробрался с своей кавалерией по ту сторону Орлеана. «Сражение при Шатодене было постыдное», – говорил принц. В заключение он отнесся с большой похвалой о герцоге фон Мейнинген, который также не останавливался ни перед какими опасностями и лишениями. «Смею ли спросить, – сказал принц, обращаясь к Бисмарку, – как здоровье графини?» «О, она теперь совсем здорова, так как сын совершенно оправился, но до сих пор питает ненависть к галлам, которых она желала бы видеть всех перебитыми даже до последнего ребенка, хотя они, в сущности, и не виноваты в том, что имеют таких гнусных родителей». Потом он сообщил, что в ране, полученной графом Гербертом, врачи признали присутствие ядовитой материи.
Вечером говорено было о том, что несколько экземпляров «Нувеллиста» № 13, заказанных Абекеном, будут отосланы в Париж, дабы сообщить парижанам подробности о капитуляции Меца.
Глава X
Тьер и первые переговоры о перемирии в Версале
30-го октября рано утром, прогуливаясь вблизи Сен-Клу, я встретил Бенигсена, который в этот день намеревался вместе с Бланкенбургом отправиться на родину. На мой вопрос он мне сообщил, что там господствует полнейшее единодушие, и настроение народа не оставляет желать ничего лучшего. Возвратясь домой после 10 ч., я узнал от Энгеля, что незадолго до моего возвращения был Тьер. Он приезжал из Тура за получением пропуска для проезда через наши линии в Париж. Гацфельд, рассказывая о том, что завтракал с Тьером в Hôtel des Reservoirs и провожал его до экипажа, в котором он с лейтенантом фон Винтерфельдом должен был доехать до французских форпостов, прибавил, что Тьер по-прежнему остроумен и любезен. Он первый узнал Тьера, провел его в зал и уведомил министра о его прибытии. Министр тотчас же вышел к нему, и между ними наедине завязался разговор, продолжавшийся не более двух минут, после чего шеф позвал Гацфельда и дал ему поручение сделать необходимые приготовления для скорейшего доставления Тьера в Париж. Он сообщил ему также, что после приветствия Тьер сказал ему, что он приехал не затем, чтобы вести с ним переговоры. Гацфельд нашел это совершенно естественным, так как Тьер неимоверно честолюбив и охотно заключил бы с нами мир уже для того только, чтобы этот мир назывался миром Тьера, – но не знает, что скажут о том в Париже.
Между тем шеф отправился со своим двоюродным братом на смотр, который делал в это утро король 900-му отряду гвардейского ландвера. Во время нашего завтрака шеф возвратился и привел с собой маленького, кругленького, гладко выбритого господина, который оказался саксонским министром фон Фризеном.
Он придвинул себе тарелку, и так как тут присутствовал и Дельбрюк, то мы имели честь сидеть за столом с тремя министрами. Шеф начал разговор о вновь прибывших сегодня гвардейцах и сказал, что лица и широкие плечи их внушат страх парижанам. Потом, обратясь к Гацфельду, спросил: «Надеюсь, что в разговоре с Тьером вы не упоминали о Меце?» «Нет, он ничего не говорил о Меце, хотя, без сомнения, все знал». «Конечно, он знает все». Гацфельд заметил еще раз, что Тьер по-старому был очень любезен, но все еще тщеславен и самолюбив; например, он ему рассказывал, что на днях, встретив мужика, спросил его: желает ли он мира? – «Конечно». – «Знает, с кем говорит?» – «Нет». – Тьер назвал себя и спросил: не слыхал ли он чего о нем? Мужик и на это отозвался незнанием. В это время подошел другой и, когда мужик спросил пришедшего: кто такой Тьер, то он ответил, что он – член палаты. «Очевидно, что Тьер сердился на то, что о нем так мало знали», – заметил Гацфельд.
Его превосходительство фон Фризен указал на неосторожную поспешность бежавших версальцев и на честность немецких солдат. Открывая сегодня комод в своей квартире, которая, вероятно, уже раза три или четыре отводилась под постой войска, он нашел между разными женскими нарядами, чепцами, платками и лентами сначала один, а потом и другой сверток с 50 наполеондорами в каждом. Эти 2000 франков он хотел передать консьержу, но тот предложил ему сберечь их самому. Как кажется, деньги эти были препровождены в одно из присутственных мест, назначенных для хранения подобных находок.
Шеф, выйдя на короткое время, возвратился, неся футляр, в котором лежало золотое перо, поднесенное ему одним ювелиром для подписания мира. Оно было очень красиво, особенно бородка. Когда это художественное произведение, величиною около 6 дюймов и украшенное с обеих сторон маленькими бриллиантами, обошло всех и когда им достаточно налюбовались – чего оно вполне заслуживало, – шеф, отворяя дверь в гостиную, обратился к Дельбрюку и Фризену и сказал: «Теперь, господа, я к вашим услугам». «Итак, – возразил Фризен, смотря на Дельбрюка, – я уже переговорил с вашим превосходительством обо всем относящемся к делу, между тем…» – тут они вошли в гостиную. Опять возобновился разговор о Тьере, и Гацфельд заметил, что через день или два он вернется и что он не хотел въехать в Париж через Шарантонские ворота. «Потому что народ его там повесит, – сказал Болен. – Я бы хотел этого». Но за что же, подумали мы про себя.
Вечером разгулялась погода, все время очень пасмурная, и прояснилось голубое небо. На одной лесистой возвышенности, над Ласель-Сен-Клу, был прекрасный вид на форт Мон-Валерьян, который наши солдаты называли Бальдрианом или Буллерьяном, и, когда шеф уехал, решили мы, Бухер и я, отправиться в экипаже к описанной местности.
Дорогою по ту сторону деревни Пти-Шеснэ в разных местах были проложены засеки и устроены в стенах парка бойницы. Направо от далеко тянущейся каменной стены, которая окружает имение Борегар, были устроены на возвышенном поле для защиты маленькие шанцы. Далее находился артиллерийский парк. Один офицер описал нам дорогу к форпостам через Ласель, оттуда виден форт, но мы сбились с пути и, взяв влево, очутились против Буживаля, опять в той же местности. Вторая попытка попасть на настоящий путь – нам также не удалась. Мы поехали мимо деревни Ласель, попали в лес на перекресток и приняли еще худшее направление. О близости форпостов, в цепи которых мы теперь находились, мы и не подозревали. И так мы подвигались наудачу далее, спустились по лесной долине, которая открыла нам местность Мальмэзон. Форт не был виден, нас окружал лес; кругом господствовала тишина, солнце садилось, и уже наступили сумерки. Наконец у подошвы долины, которую пересекала песчаная дорога и где были устроены баррикады, подскакали к нам три офицера, требовавшие, чтобы мы вернулись, так как с канонирских лодок в немцев же могли попадать снаряды, почему здесь и запрещено было ездить в экипажах. Они указали нам путь в Вокрессон, куда мы и направились по глубоко изрытой дороге и откуда уже через прекрасный буковый лес добрались домой. Форта, к сожалению, мы так и не видели, но зато могли осмотреть местность, бывшую театром военных действий 21-го октября.
За столом шеф говорил подробно о возможности созыва немецкого сейма в Версале и французского законодательного корпуса в Касселе в одно и то же время. Дельбрюк заметил, что зал собрания слишком мал, чтобы вместить всех, на что канцлер возразил, что в таком случае сейм может собраться и в другом каком-либо городе, в Марбурге, например, или же в Фрицларе.
Понедельник, 31-го октября. Утром я написал несколько статей, между прочим указал на французского батальонного командира Гермье, который как Дюкро, не сдержав данного честного слова, бежал из лазарета и разыскивается теперь как беглец. В 12 ч. прибыл Готье и имел большую аудиенцию у шефа. За завтраком рассказывали, что деревня Ле-Бурже, которая лежит на западе от Парижа, за день до этого взята нашими приступом. Битва была ожесточенная. В плен взято более 1000 человек, но и мы потеряли около 300 человек убитыми и ранеными, причем 30 офицеров оставили на месте. В числе убитых должен быть и брат графа Вальдерзее. Речь зашла опять о Тьере, и Гацфельд сообщил нам, что этот последний должен вернуться ночью в Версаль. Разыскивая вечером кого-то в Hôtel des Resevoirs, он случайно узнал о приезде одного старого господина. Тьер в разговоре сказал ему, что от 10 часов вечера прошедшего дня до 3 часов пополудни он имел совещание с министрами временного правительства, в 6 часов утра был уже на ногах и до 2-х принимал различных посетителей, после чего приехал сюда для свидания с союзным канцлером. Он сообщил также о начавшихся вчера беспорядках в Париже, и когда у Гацфельда вырвалось радостное «неужели!», то он тотчас умолк.
Через несколько дней мы узнали подробности об этих беспорядках, начавшихся из-за того, что французское правительство объявило ложным известие от 30-го октября о капитуляции Меца и пустило слух, будто нейтральные государства требуют мира. Все это взволновало умы парижан точно так же, как и весть о взятии Ле-Бурже, стоившем им стольких людей, и в удержании которого, как объявил теперь французский правительственный орган, не представлялось необходимости. Этим настроением воспользовались радикалы. В полдень 31-го вооруженная толпа собралась перед Hôtel de Ville, и в 2 часа предводители их ворвались в здание, требуя низвержения правительства 4-го сентября и провозглашения коммуны; но после 10 или 12 часов мятежники были отброшены батальоном национальной гвардии.
Мы возвратились в Версаль 31-го октября, и мне дано было поручение озаботиться, чтобы напечатанный в официальной газете приказ от 27-го числа Фогелю фон Фалькенштейну был бы перепечатан и в остальных наших газетах. Точно так же следовало опубликовать о дурном обращении французов с нашими пленными. Наконец, была написана вторая статья против вмешательства Бейста в нашу борьбу с Францией, которая, однако, не была опубликована вследствие изменившихся за это время некоторых отношений. Я привожу отрывок из нее, характеризующий тогдашнее положение дел. В нем говорится следующее:
«Когда в борьбе двух держав одна из них оказывается более слабою и близкою к падению, то во вмешательстве третьей нейтральной державы в эту борьбу, требующей перемирия, весьма понятно видно опасение за участь слабейшей, но никак не одинаковое доброжелательство по отношению к обеим сторонам. В настоящее время перемирие было бы выгодно для побежденных и невыгодно стране, одерживающей верх. Если еще, кроме этого, третья держава старается подстрекнуть на то же и другие державы, то тем уже она сама нарушает нейтралитет. Ее пристрастное напоминание превращается в пристрастное притеснение, ее обращение принимает характер насилия и угрозы».
«В таком положении находится теперь Австро-Венгрия; если справедливо говорят венские официозные газеты, она приняла на себя посредничество и подстрекает нейтральные державы к установлению перемирия между воюющими. Всем известно, что граф Бейст нарушил состоявшееся прежде соглашение Венского кабинета с делегатами временного правительства, подстрекаемый к тому Шадорди, помощником Фавра. Еще яснее разоблачилась игра австро-венгерской дипломатии в речи, сказанной австро-венгерским уполномоченным в Берлине, в которой он поддерживал представления Англии. Член британского посольства говорил в дружелюбном тоне, не менее объективно отнеслась к войне и Италия, Россия совсем воздержалась от вмешательства. Эти три державы усердно работают в Туре, желая беспристрастно обсудить настоящие дела. Депеша, читанная г. фон Вимпфеком в Берлине, о предложении, сделанном Австро-Венгрией в Typе, нам не известна – но написана, во всяком случае, в тоне для нас почти враждебном. В ней говорится, что Австрия видит в этом деле общеевропейский интерес и что нейтральные державы будут осуждены историей, если они позволят разыграться у Парижа приближающейся катастрофе».
«Депеша открыто принимает оскорбительный и колкий тон, говоря, что человеколюбие требует, чтобы побежденной стране были облегчены условия перемирия, между тем как Германия душит Францию, не позволяя ей сказать ни слова. Во всей депеше сквозит ирония, которая весьма мало отличается от английской.
Обсудил ли австрийский канцлер последствия, которые могут произойти от этой игры?
После падения Меца невероятно, чтобы Австрия препятствовала нам в заключении мира, необходимого в интересах наших на западе. Тогда мы постараемся припомнить ей все – и это вмешательство, и эти обиды. Хорошее впечатление, произведенное вначале нейтралитетом Австро-Венгрии, изгладится, готовившееся чистосердечное сближение будет прервано и, вероятно, на долгое время. Предположим другой случай: допустим, что благодаря вмешательству графа Бейста мы должны будем уменьшить наши требования, допустим, что мы должны будем отказаться отплатить ей за все старые и новые оскорбления. Уверен ли государственный канцлер в том, что мы не задумаемся при первой возможности воздать сторицею недоброжелательному соседу нашему за то, что он нам был помехой на западе? Мы поступили бы неблагоразумно, отложив наш расчет с разоблачившимся вновь неприятелем до тех пор, пока покровительствуемые им французы окрепнут и в благодарность за оказанную им услугу вступят с ним в союз против Германии».
Вторник, 1-го ноября. На рассвете опять слышна была сильная артиллерийская пальба. В 11 часов посетил меня депутат Бамбергер, приехавший из Нантейля в Париж только на третьи сутки. За завтраком обсуждали сражение при Ле-Бурже, причем говорили, что французы поступили бесчестно, сделав вид, что желают сдаться, и когда наши офицеры простосердечно приблизились, то стали по ним стрелять. Из числа 1200 человек, взятых нами в плен, – часть вольных стрелков, почему шеф сказал: «Вольные стрелки! Неужели их еще берут в плен? Их следовало бы расстреливать!»
За обедом около Дельбрюка сидел красный иоганнит – граф Ориола, мужчина с резкими восточными чертами лица, с черной окладистой бородой. После обеда он и Бухер отправились на Марлинский водопровод, откуда они при лунном свете любовались прекрасным видом Парижа и форта, тщетно разыскиваемого нами вчера. Князья Веймарские и Кобургские выехали туда же из Hôtel des Reservoirs. Кто-то вспомнил о находке Фризена и о приказе военного министра или коменданта города, по которому списки всех ценных вещей, найденных в домах, покинутых хозяевами, должны быть предварительно опубликованы; если затем, по прошествии некоторого времени, эти вещи не будут востребованы, то их следует конфисковать. Шеф одобрил это распоряжение и при этом заметил, что такие дома надо сжигать, охраняя лишь дома тех благоразумных жителей, которые остались. От него мы узнали, что граф Брей предупредил его о сегодняшнем своем посещении. Немного спустя он сообщил нам о приезде Тьера, который пробыл у него более 3-х часов, условливаясь насчет перемирия, но что на предложенные им условия согласиться невозможно. Во время этого разговора Тьер вскользь упомянул о провиантном запасе Парижа. Шеф остановил его и сказал: «Извините, уж об этом мы знаем лучше, так как в Париже вы пробыли только один день. Парижане имеют продовольствие до конца января. Я хотел только выведать правду», – прибавил шеф, он так смутился, что я тотчас же понял, в чем дело».
За десертом шеф упомянул о том, что сегодня много ел. «Сегодня съел два с половиной куска бифштекса и два куска фазана. Это не мало и не много, потому что я положил себе за правило есть один раз в день. Я завтракаю, да, но съедаю только два яйца и выпиваю две чашки чая без сливок, и до вечера это все. С детства я привык ложиться не ранее 12 часов. Обыкновенно я засыпаю тотчас, но затем просыпаюсь в час или два и уже долго не могу заснуть. В это время я обдумываю разные дела, мысленно составляю депеши – конечно, не вставая с постели. Прежде, вскоре после моего назначения министром, я действительно вставал и занимался ночью, но утром все это казалось мне никуда не годным, тривиальным. На рассвете я засыпаю и сплю до 10 часов утра, а иногда и долее».
В эту ночь французская артиллерия работала опять усердно, в особенности в полночь выстрелы следовали один за другим.
Среда, 3-го ноября. Прошедшую ночь во время сильной канонады шеф вставал, говорил нам Энгель; но в этом нет ничего необыкновенного. В девятом часу я прогулялся через Монтрель по дороге в Севр до железного водопровода, поддерживаемого четырьмя колоннами. Между тем за мной присылал министр. Войдя в десять часов к нему, я застал у него офицера генерального штаба Бронзара, который пришел просить его к королю. Возвратившись от короля, министр приказал мне телеграфировать в Берлин и Лондон о том, что Тьер пробыл у него вчера три часа, и вследствие их переговоров сегодня перед обедом был собран у короля военный совет, на котором присутствовал и он. В 2 часа Тьер уже показался во дворе. Это мужчина среднего роста, с умным выражением лица, похожий и на купца, и на профессора. Так как визит его, по всей вероятности, продлится долго, дела же у меня никакого нет, то я вторично предпринял утреннюю свою поездку мимо деревень Монтрель, Вирофле и Шавилль, которые составляют почти одну сплошную улицу, примыкающую к Севру; отсюда я хотел пробраться до батареи или шанцев; но на том месте, где дороги расходятся, я был остановлен караулом, не пропустившим меня далее. Действительно, для пропуска надо было иметь особое разрешение генерала. Несколько минут я разговаривал с солдатами, бывшими в сражении при Верте и Седане. Одному из них неприятельским выстрелом разорвало патронташ и обожгло все лицо. Другой рассказывал, что они недавно застали врасплох в своих домах французских солдат, которых не пощадили. Полагаю, что это были вольные стрелки. В этих деревнях видно много кабаков. Из жителей большая часть осталась. Народ почти без исключения бедный. Никаких точных сведений я не мог собрать о разрушениях, произведенных французскими войсками в Севре, а также об обстреливании фарфорового завода. Последнее даже считают вымыслом, и, как говорят солдаты, в завод попали только три бомбы, разбившие вдребезги несколько окон и дверей.
Возвратясь домой около половины пятого, я узнал, что Тьер только за несколько минут вышел от шефа с весьма довольным лицом. Шеф же вышел прогуляться в сад. С 4 часов опять началась страшная канонада.
К обеду нам подан был сегодня паштет из форелей – подарок одного берлинского ресторатора, который в то время прислал канцлеру бочку венского мартовского пива и… свою фотографическую карточку. О Тьере министр сказал: «Он весьма дельный и любезный человек, не сентиментален и не похож на дипломата. Без сомнения, он стоит выше Фавра, но не только не годится в посредники, но даже и в лошадиные барышники… Его очень легко озадачить, и он тотчас же выскажется. Так, в разговоре я между прочим узнал, что у них провианту достанет только на 3 или 4 недели». Берлинский паштет послужил ему темою для рассказа о том, как несколько лет назад в Варцине поймана была в прудах 5-фунтовая форель «такой величины» (показал он руками); появление ее все окрестные лесничие считали чем-то сверхъестественным.
По поводу того положения, которое мы должны были создать себе в предстоящих французских выборах, я считаю не лишним указать на следующий прецедент, дававший нам основание к «беспримерному» воздержанию Эльзаса и Лотарингии от подачи голосов. Один американец сообщил нам, что во время последней войны Соединенных Штатов с Мексикой было заключено между ними перемирие с той целью, чтобы дать возможность этой последней стране выбрать себе новое правительство, которое бы могло заключить мир с Соединенными Штатами; но при этом было постановлено, чтобы те провинции, уступка которых требовалась, не были допускаемы к выборам. Этот случай как нельзя более подходит к настоящему.
Четверг, 5-го ноября. С утра была прекрасная, ясная погода. С 7 часов сильно гремят на Мон-Валерьяне железные львы, потрясая окрестные долины. Я делаю для короля выдержки из двух статей – «Morning Post» от 28 и 29-го октября. В них говорится об императрице Евгении, и они написаны, вероятно, Персиньи или принцем Наполеоном. Из них явствует, что в условии с депутатами императрицы было упомянуто только о Страсбурге и об узкой полосе земли по берегу Саары с народонаселением в четверть миллиона. «Это произошло, вероятно, по недоразумению», – заметил шеф. – Мне поручено было телеграфировать, что канцлер вследствие вчерашнего совещания предложил Тьеру перемирие на 25 дней на основании военного status quo. В 12 часов пришел опять Тьер для переговоров, которые продолжались до трех часов. Требования французов неслыханны. Кроме двадцативосьмидневного перемирия, в продолжение которого должно быть созвано национальное собрание для выбора временного правительства, они требуют, чтобы им не препятствовали снабдить провиантом не только Париж, но и крепости, находящиеся в осадном положении, а также дать восточным департаментам, которые впоследствии должны отойти к нам, право участвовать в выборах.
Когда пришел Тьер, мы отправились – я, Виллиш и Вир – прогуляться мимо Глатиньи, Шеснэ и Роканкур на Марлинский водопровод, на платформе которого вскоре показались также Дельбрюк и Абекен. В ясную погоду далеко видна окружающая местность. Впереди – развалины домов; далее через лес и парк – деревни, Ласель и Буживаль, и светло-голубая Сена, по берегам которой цепью расположены деревни. Над этим ландшафтом, правее, возвышается на небольшой безлесной горе форт Мон-Валерьян, окна которого, освещенные вечерним солнцем, ярко горели. Еще дальше, правее, виднеется восточная часть Парижа и купол Дома инвалидов. Левее, между островами и столбами перекинутых мостов, струится Сена. По сю сторону, на расстоянии часа ходьбы от того места, где мы находились, виден город и замок Сен-Жермен, позади Версальский дворец и множество дач и деревень. В телескоп, взятый нами у солдат, ясно можно было разглядеть толпу людей, копающих как будто картофель на полях, ниже форта, а также около одного белого дома – марширующих французских солдат, ружья которых ярко блестели на солнце.
Возвратясь в Версаль в 4 часа, мы узнали, что на этот раз Тьер, прощаясь с шефом, был не так весел, как прежде; что Бельзинг, который в последнее время все болел, просил у шефа позволения возвратиться в Берлин и что на его место уже назначен Вольманн. Шеф поручил мне телеграфировать в Лондон, чтобы вперед все прокламации Гамбетты сообщались ему не по телеграфу, потому что он совсем не интересуется так поспешно узнавать суждения этого господина.
За обедом, между прочим, рассуждали о предстоящих выборах в Берлине. Дельбрюк был того мнения, что они будут лучше прежних, если Якоби не будет опять выбран. Граф Бисмарк-Болен с ним не соглашался, он не надеялся на перемену. «Берлинцы, – сказал канцлер, – всегда делают оппозицию, и притом по-своему. Они имеют свои добродетели – разные и очень уважаемые; они храбро сражаются, но считают себя глупцами, если не противоречат правительству. Но в этом, – продолжал он, – недостаток не одних берлинцев. В больших городах делается то же, и в некоторых отношениях даже хуже. Вообще они не так практичны, как жители равнин, жизнь которых и деятельность ближе соприкасаются с природою и которые вследствие этого сохраняют больше здравого смысла. В больших городах, где народонаселение густо, индивидуальность скоро исчезает, – продолжал он. – Различные мнения, схваченные как бы на лету по слуху, перетолковываются толпою, передаются газетами и за пивом так укрепляются, что искоренить их совершенно невозможно. Второе зло – это народная вера или, лучше сказать, народное суеверие. Верят в то, чего не существует, считают долгом оставаться при своем убеждении и потом восторгаются абсурдами. То же самое и во всех больших городах – в Лондоне, например, где уличная чернь составляет особенную, отличную от других англичан касту, Нью-Йорке и особенно в Париже. Парижане своим политическим суеверием составляют отдельный народ во Франции, пристрастный и ограниченный в своих понятиях и ничего не имеющий за душой, кроме пустых фраз».
Министр сообщил нам, что сегодня по окончании переговоров с Тьером он неожиданно предложил ему вопрос, уполномочен ли он на дальнейшие переговоры. «Он удивленно взглянул на меня, – продолжал министр, – и я сказал ему, что с форпостов мы получили уведомление о начавшейся во Франции революции и о провозглашении в Париже нового правительства. Он, видимо, был этим огорчен, из чего я мог заключить, что он считает делом возможным победу красных и падение Фавра и Трошю».
Л., который теперь состоит постоянным корреспондентом «Moniteur», отказался поместить статью из «Norddeutsche Allgemeine-Zeitung» о капитуляции Меца, так как он признает Базена изменником. Он готов был подчиниться моим требованиям, но с тем, что он сейчас же сложит с себя редакцию, так как он «не может отказаться от своих убеждений».
В самом деле?
От девяти до десяти часов Тьер опять был у шефа.
Пятница, 4-го ноября. С утра стоит прекрасная, ясная погода. По желанию министра я исправил статью «Daily News» о его переговорах с Наполеоном при Доншери. Он три четверти часа разговаривал с ним в верхней комнате ткацкой и только самое незначительное время под открытым небом. Далее, он никогда не ударял указательным пальцем левой руки о правую, чего у него и в привычке нет, а также никогда с ним не говорил по-немецки. К хозяевам обращался на немецком языке, так как муж и жена порядочно объяснялись на нем.
С одиннадцати часов Тьер опять у министра. Вчера он послал в Париж некоего г. Кошери узнать, существует ли правительство 4-го сентября, и ответ, как говорили за завтраком, получен утвердительный. После того как Бланки с красными занял ратушу и продержал в ней в плену несколько часов регентов, Пикар освободил их с помощью 106 батальонов, как сообщает Абекен (вероятно, 106-го батальона), – и правительство устояло.
Рано утром меня уведомили о том, что по направлению к югу летит над городом воздушный шар. Ветер был благоприятный; после обеда за ним последовал и второй; первый был белый, а второй – трехцветный. За обедом в присутствии Бамбергера шеф сказал между прочим: «Насколько я замечаю, газеты обвиняют меня в том, что я не принимаю серьезных мер, а также и в том, что Париж до сих пор не бомбардируют. Вздор! Впоследствии они меня будут обвинять в понесенных нами потерях, которые, во всяком случае, незначительны. Мы потеряли в маленьких стычках гораздо больше людей, чем бы нам стоило большое сражение. Я желал того – но тщетно».
Речь зашла о том, что офицеры генерального штаба прежде утверждали, что два или три форта, выбранные для первоначальной атаки, могут ее выдержать только 36 часов.
Затем было говорено о созыве имперского сейма и таможенного парламента. Кроме того, небезынтересно было сообщение, сделанное за обедом Боленом, о том, что один служащий в Версале, кажется, он сказал – государственный прокурор, – пойман и уличен в письменном сношении с Парижем. Каким путем – еще неизвестно; может быть, через какой-нибудь подземный ход, который, пожалуй, тянется под Сеной до противоположного берега. Вечером я получил известие от Л., что Бамбергер, назначенный прусским консулом в Париже до окончания войны, взял на себя редакцию «Moniteur».
Ровно в 9 часов в переднюю вошел Тьер, где я его еще раз увидел прежде, чем он взошел в гостиную шефа, у которого он пробыл до 11 часов. Говорят, что он завтра опять хочет ехать в Париж. Во время их разговора получена телеграмма, в которой Бейст уведомляет, что если Россия не будет противиться решению Пруссии по отношению к Франции, то и Австрия поступит точно так же, но не иначе. Эта телеграмма тотчас была подана шефу в гостиную.
За чаем граф Бисмарк-Болен занял нас следующим рассказом: «На форпосты, – говорил он, – несколько дней назад пришел какой-то человек к дежурному офицеру, с которым и взошел в дом, но вскоре вышел переодетый вольным стрелком, проскользнув в кустах, и потом стремглав пустился бежать. С форпостов пустили в него несколько выстрелов, но он благополучно добрался до Севрского моста; он прыгнул в воду и, таким образом, бегом и вплавь добрался до противоположного берега, где был принят французами как соотечественник. Это один из наших лучших шпионов», – заключил свой анекдот рассказчик [11] .
Суббота, 5-го ноября. Погода была с утра пасмурная, но потом на несколько часов тучи рассеялись.
Мы узнали, что несколько офицеров из находящихся в Риме папских зуавов отправились из Швейцарии во Францию, чтобы сразиться при Шаретте с немцами, т. е. с врагами ультрамонтанского стана, но не за республику, как старались распространить газеты. Около часа продолжалось совещание канцлера и Дельбрюка с другими немецкими министрами, которым шеф докладывал о своих переговорах с Тьером, а также о скором приезде всех немецких высочайших особ. Кейделль в 4 часа пополудни отправился в Берлин. Целый день была слышна пальба, но не такая сильная, как в предшествующие дни. За нашим обедом из генералов присутствовал только Дельбрюк, но потом присоединился к нам также и канцлер, возвратившийся от короля, у которого он завтракал. Пока по просьбе канцлера Энгель наливал ему рюмку водки, он вспомнил следующую милую поговорку, которую он слышал от одного генерала: «Детям следует пить красное вино, взрослым гражданам – сект, а генералам – водку».
Затем канцлер сообщил нам, что некоторые известные лица чересчур назойливо обращаются к нему с вопросами и разными другими требованиями. В эту минуту ему была подана депеша следующего содержания: «Фавр и другие представители Парижа объявляют, что об уступке владений теперь не может быть и речи, но что вся забота их должна состоять в защите отечества». «Ну, так теперь мы избавлены от всяких переговоров с Тьером», – заметил шеф. «Да, – подтвердил Дельбрюк, – с такими упрямыми и тупоумными людьми после этого действительно не может быть и речи о мире». Потом министр сказал Абекену, что принц Адальберт намеревается писать императору (какому?) приветственное письмо, называя его «mon cousin», что вовсе не идет. Тальони заявил, что император письменно сам называл его так. «Я полагаю, что принц все-таки не имеет права называть его кузеном, – продолжал министр, – а должен назвать его «mon oncle». Кто-то заметил, что многие немецкие князья, которые и не состоят в родстве с королем, называют его «мой дядя». Наконец канцлер приказал телеграфировать в Берлин, чтобы узнать, какая в данном случае должна быть наиболее приличная форма.
Кто-то рассказал, что в замке Борегар найдено великолепное вино, которое конфисковано для войска. Бухер заметил, что это прелестное имение император Наполеон хотел купить для мисс Говард. Кто-то другой вставил, что теперь оно пока принадлежит герцогине или графине Бофремон. «Бофремон! Это напоминает мне Тьера, – сказал министр. – Он затягивает наши переговоры тем, что вмешивает в них совсем посторонние вещи, рассказывает, например, о том, что он тут и там делал или советовал, спрашивает, как поступить в том или другом случае, что бы сделали при тех или других обстоятельствах. Так, он мне напомнил один разговор мой с герцогом Бофремоном в 1867 году, когда я будто бы сказал, что император в 1866 г. не воспользовался представлявшимися ему выгодами, – он мог бы сделать приобретение, хотя и не на немецкой земле и т. д. – В сущности, это правда! Я припоминаю. Мы были в Тюильрийском саду, где в то время играла военная музыка. Наполеон летом 1866 г. не имел только храбрости взять то, на что с его точки зрения, он имел право. Он должен был бы ухватиться за предложение Бенедетти, когда мы двинулись против Австрии. В то время помешать мы ему не могли; невероятно также, чтобы и Англия была тогда против него. Но, – сказал он, обращаясь к Дельбрюку и покачиваясь то взад, то вперед (что в подобных случаях составляет его привычку), – он всегда был и остался…» Относительно Бофремона министр сказал следующее: «Бофремон происходит из старинной богатой и известной бургундской фамилии Руэ. Это великолепный канканер, любимец парижских гризеток и кокоток, остроумный, но распутный. Промотав все свое состояние, он женился на очень богатой женщине и начал мотать и ее деньги, но она выхлопотала развод».
После разговора на Севрском мосту Фавра и Дюкро с Тьером последний имел опять конференцию с шефом, которая продолжалась от половины девятого до половины десятого. За чаем говорили о том, что Фавр и Дюкро объявили невозможным согласиться на наши условия о перемирии, но что им необходимо все-таки узнать мнение своих коллег. Завтра Тьер должен представить решительный ответ.
На этом месте я прерываю хронику дневника, чтобы несколько пояснить вышесказанное о Наполеоне и Бельгии в 1866 году.
* * *
Что Франция хотела приобрести Бельгию, хотя бы и другим путем, чем выше было изложено, – известно всем. Неопровержимым доказательством того был относящийся к этому проект договора, переданный Бенедетти союзному канцлеру; договор вскоре по окончании войны был опубликован иностранным министерством. В своей книге «Ма mission en Prusse» Бенедетти старается опровергнуть это. На странице 197-й он говорит:
«Всем памятно, что 5-го августа 1866 года я предложил Бисмарку заключить договор относительно Майнца и левого берега Верхнего Рейна, и мне незачем пояснять, что г. Руэр во втором параграфе письма своего от 6-го ссылается на это сообщение; но необходимо противопоставить уверениям г. Бисмарка тот факт, что в Париже никому и не снилось признаваться в том, что на Бельгию смотрят как на средство для уплаты необходимой со стороны Франции контрибуции».
Графу Бенедетти было неизвестно, когда он это писал, что немецким войскам попались в руки некоторые секретные бумаги, которые его компрометируют. Иностранное министерство не замедлило защитительную его речь направить против него же самого.
Он возразил на это 20-го октября 1871 года приблизительно так: «Он (Бенедетти) хочет этим и последующими объяснениями помешать прусскому президенту министров вести с ним переговоры в двух различных фазах, которые продолжаются уже несколько лет. Требование уступки немецких владений со включением Майнца, которое он представил министру президентов 5-го или 7-го августа 1866 года, соединяет он с позднейшим требованием Бельгии и желает письмами, найденными в Тюильри и готовыми к обнародованию, указать на первое». Тогда как письмо императора к маркизу де ля Валетт, о котором он упоминает на странице 181, опровергает его. Около 5-го августа 1866 года он написал доклад о майнцском эпизоде, в котором в первой части говорится следующее:
«Господин министр! По возвращении моем я застал вашу депешу, в которой вы меня знакомите с текстом секретного договора, предлагая признать новое прусское правительство. Ваше превосходительство, можете быть уверены, что я не оставлю усилий ходатайствовать, чтобы это предложение было принято благосклонно, как бы сильно ни было сопротивление, которое я надеюсь встретить. Я убежден в том, что царствование императора окажется совершенным, если оно на будущее время ограничится достигнутым расширением Пруссии и поручится за безопасность сохранения договора. Я того мнения, что при подобного рода прениях твердость есть самое лучшее, я бы мог сказать, что это единственный аргумент, применимый в настоящем случае, и приму твердое намерение отклонить каждое предложение, которое я не буду в состоянии принять. При этом, однако, я постараюсь доказать, что Пруссия, если бы она нам захотела отказать в поручительствах, которые ввиду расширения ее границ мы вынуждены у ней выговаривать, оказалась бы виновной в незнании того, чего требуют справедливость и осторожность, – подобная задача мне кажется уж слишком мелкой. Но я, из благоразумия приняв во внимание настроение министра-президента, решился не быть свидетелем первого впечатления, которое должна была произвести на него уверенность в том, что мы овладеем не только берегами Рейна, но даже и майнцским округом. С этой целью я дослал ему нынешним утром список ваших предложений и еще написал особенное письмо, с которого прилагаю здесь копию. Я постараюсь завтра его увидать и уведомлю вас о его расположении духа».
После этого письменного сообщения происходила беседа, о которой Бенедетти в своей записке упоминает очень коротко, стараясь, насколько возможно, не говорить от своего имени. Поступая иначе, он не мог бы умолчать о том, что требования своего министра он находил законными и горячо их поддерживал. На замечание министра-президента, что эти требования означают войну и что Бенедетти хорошо бы сделал, если б отправился в Париж для предупреждения ее, он возражал, что в Париж он поедет и по своему собственному убеждению и будет советовать государю настаивать на своих требованиях, потому что он считает династию в опасности, если общественное мнение во Франции не будет успокоено подобным признанием Германией.
Последняя инструкция, с которою министр-президент отправился в Париж, была следующего содержания: «Обратите внимание государя на то, что такая война может иметь революционный оттенок, и ввиду революционных опасностей немецкая династия докажет, что она прочнее наполеоновской». На это заявление последовало от императора 12-го августа предварительное письмо, где он заявлял притязание на уступку немецких владений. Через четыре дня после этого наступил 2-й акт драмы, в котором шла речь о Бельгии. Письмо от 16 августа, посланное графу Бенедетти из Парижа через некоего г-на Шови, заключало в себе самый короткий и самый точный конспект его инструкций; там было сказано: 1) переговоры должны иметь дружественный характер; 2) отличительной чертой переговоров должно быть взаимное доверие договаривающихся сторон, для чего будут избраны немногие лица для ведения их; 3) сообразно с шансами на успех ваши требования должны пройти через три последовательные фазы. Вы должны, во-первых, включив в одно требование вопрос о границах 1814 г. с присоединением Бельгии, настаивать официально на уступке Ландау, Саарбрюкена и Саарлуи, равно как и герцогства Люксембургского и, заключив с ними тайно оборонительный и наступательный союз, пользоваться им в видах достижения вышеупомянутых уступок и упрочить, таким образом, наше окончательное сплочение с Бельгией. Во-вторых, если достижение этих главных требований вам покажется невозможным, то откажитесь от Саарлуи, и Саарбрюкена, и даже Ландау, этого старого гнезда, потеря которого восстановила бы против нас немцев, и ограничьтесь официальным соглашением на соединение герцогства Люксембургского и тайным – на слияние Бельгии с Францией. В-третьих, если совершенное присоединение Бельгии к Франции поведет к большим затруднениям, то составьте ноту, по которой бы согласились для избежания противодействий со стороны Англии сделать Антверпен вольным городом. Но вы не должны ни в каком случае допускать присоединения Антверпена к Голландии или Маастрихта к Пруссии. Если г. Бисмарк спросит, какие выгоды принесет ему подобный договор, ответьте просто, что он обеспечивает ему могущественного союзника и подкрепляет все его недавние приобретения, требуя взамен только его согласия на отдачу того, что ему не принадлежит, и затем за все добытые выгоды от него не потребует ни одной значительной жертвы. Итак, нам нужны: официальный договор, который бы нам по меньшей мере доставил Люксембург; тайный договор о наступательном и оборонительном союзе и право для Франции сплотиться с Бельгией; причем нужно своевременно заручиться обещанием помощи, даже с оружием в руках со стороны Пруссии: вот главные статьи нашего договора. На эту инструкцию из Парижа Бенедетти отвечал 23-го августа из Берлина собственноручным письмом; в нем он представил и проект договора, который был уполномочен заключить. Его же рукой написан и весь проект: последний снабжен собственноручными заметками на полях, сделанными в Париже императором с этими изменениями, и он согласуется вполне с экземпляром, который Бенедетти вручил прусскому министру-президенту, обнародовавшему этот последний в 1870 г. Вступление письма Бенедетти 23 августа 1866 г. следующее: я получил написанное вами и стараюсь по мере сил содействовать стремлениям, предначертанным вами; прилагаю при сем проредактированную копию проекта договора.
«Не буду распространяться, почему не упоминаю там ни о Ландау, ни о Саарбрюкене; я убежден, что, настаивай мы на них, мы бы натолкнулись на непреодолимые препятствия, и потому я ограничился Люксембургом и Бельгией».
В другом месте говорится: «Итак, мы остановимся на том, что я вам пошлю первый проект, который мы изменим, если будет нужно». В другом месте письма значится:
«Вы заметили, конечно, что мы вместо двух контрактовых условий заключили только одно. Редактируя его, я удостоверился, что было бы весьма трудно включить требования относительно Люксембурга, который можно было бы обнародовать. Я бы предложил 4-му параграфу, касающемуся Бельгии, придать характер и форму тайного придаточного параграфа и поставить его в конце; но не полагаете ли вы, что 5-й параграф должен будет соблюдаться в таком же секрете, как и имена договаривающихся сторон? Ответ на это письмо графа Бенедетти находился в министерстве иностранных дел и также написан на официальном бланке. Из него видно, что проект гр. Бенедетти в Париже понравился, но там сочли нужным подвергнуть его новому обсуждению. Заходила речь о том, что нидерландский король должен получить что-либо из прусских владений в вознаграждение за Люксембург. Взвешивались денежные жертвы, требуемые условием, проводилась мысль, что прежние права крепостей союза содержать свой гарнизон, предоставлявшиеся им старой союзной конституцией, недействительны, так как сохранение их несовместимо с независимостью южногерманских государств. Но на Ландау и на Саарлуи уже не настаивали более, но называли это уступкой «acte de courtoisie» и в благодарность надеялись, что Пруссия сроет верки в обеих крепостях, чтобы уничтожить их враждебный характер в отношении Франции. При сем упоминалось, что объединение Германии – явление неизбежное и состоится в скором времени. На счет VI статьи говорилось, что она несовместима с III, Франции весьма выгодно расширение владычества Пруссии за Майном, оно ставит ее в необходимость завладеть Бельгией; но так как могут к этому представиться и другие случаи, то и следует еще воздержаться от окончательного обсуждения этого вопроса; ясная и точная формулировка этого предложения должна развязать руки Франции. Затем снова повторяется, что приобретение Люксембурга должно быть непременным результатом сделок с Пруссией, приобретение же Бельгии предоставляется только желательным; и необходимо, чтобы этот вопрос, равно как оборонительный и наступательный союз, содержался в тайне. Далее следующее соображение: подобная комбинация все примирит, она успокоит напряжение общественного мнения Франции приобретением Люксембурга и обратит общее внимание на Бельгию; кроме того, она даст возможность сохранить желаемую тайну как в отношении союзного договора, так и проектируемых присоединений. Но если вы полагаете, что даже присоединение Люксембурга должно остаться тайной, пока мы не наложим руки на Бельгию, то я бы просил подкрепить ваше согласие подробными доводами, так как неопределенность вопроса об обмене и присоединении территории может причинить нежелательное ускорение в разрешении бельгийского вопроса. В конце письма Бенедетти уполномочивается ехать на некоторое время в Карлсбад, если он сочтет это нужным. Граф Бенедетти 29-го августа ответил на это письмо. Здесь в первый раз выразил он сомнение насчет искренности Пруссии в этом деле. Он заметил недоверие графа Бисмарка, который заподозрил: не намерен ли Наполеон воспользоваться этой сделкой, чтобы восстановить Англию против Пруссии. «Какое мы можем оказывать доверие людям, которые приписывают нам такие виды?» – замечает по этому поводу император. Он опасается, что миссия генерала Мантейфеля в Петербурге даст Пруссии заручку со стороны русского двора и тогда она может пренебречь сближением с Францией. Уверяют, будто Бисмарк говорил королю, что Пруссии нужен союз могущественного государства; если от Франции отказываются, то это значит, что пруссаки или уже заручились подобным союзом, или заручатся им в скором времени. Для разъяснения этого вопроса Бенедетти считал нужным съездить на 14 дней в Карлсбад, откуда готовиться вернуться в Берлин тотчас по получении телеграммы от Бисмарка.
Но в его отсутствие и министр-президент уехал из Берлина и не возвращался до сентября. Таким образом, тайные совещания прекратились на несколько месяцев. Впоследствии Бенедетти возобновлял их, и если на 85-й странице своей книги утверждает, что Бисмарк ошибочно относит негоциации относительно Бельгии к 1866 и 1867 годам, то из этого только следует заключить, что французский посланник возобновил в 1867 году переговоры, прерванные в 1866-м, и, потерпев фиаско в своих поползновениях на Люксембург, ограничился Бельгией. Бисмарк же не противился этим переговорам, желая только замедлить разрыв с Францией. Тактика Франции во время войны относительно бельгийских железных дорог придает еще более вероятности тому предположению, что она и тогда еще теряла надежды заручиться согласием Северной Германии на свои излюбленные мечты.
Теперь мы опять вернемся к 1870 году и к отрывкам из хроники нашей версальской жизни.
Версаль, 6-го ноября . Рано разнеслась весть, что некоторые из воздушных шаров, пролетавших над городом вблизи Шартра, попали в руки наших гусар. Солдаты стреляли по ним, и один из них упал. Оба воздухоплавателя взяты в плен; письма и бумаги их конфискованы и будут отосланы на рассмотрение к нам. Я узнал, что Бухер специально выписан Бисмарком для обработки немецкого вопроса, но ему много возиться с ним не придется, так как Дельбрюк взял на себя большую часть занятий по этой отрасли. В три часа снова посещение Тьера, и я пользуюсь случаем, чтобы посетить офицеров 46-го полка, квартировавших в Гран-Шеснэ. Они очень веселы: смех и шутки не умолкают у них, хотя сигнал тревоги каждую минуту может призвать их в битву. После моего возвращения узнаю, что Тьер за полчаса виделся с канцлером; они беседовали в последний раз, и отчаяние было написано на лице Тьера, когда он уходил от графа.
За столом были граф Лендорф и гусарский офицер – кажется, граф Шретер. Канцлер рассказывал, что пишет ему Иоанна (жена его), и прочел выдержку из ее письма, смысл которой был следующий: «Я боюсь, что вы во Франции не найдете Библии, и потому я пошлю тебе Псалтырь, чтобы ты мог вычитать пророчество против французов». «Безбожников должно искоренить», – значилось далее. Граф Герберт, теперь уже поправившийся, тоже написал своему папб «отчаянное письмо» по поводу перевода его в запасный эскадрон. «Сын пишет, – сказал министр, – что теперь для него вся война пропала; всего 14 дней проходил он со своими товарищами, а потом пролежал три месяца. Я пытался что-нибудь сделать для молодого человека и виделся сегодня с этою целью с военным министром, но тот отсоветовал вмешиваться в это дело мне и сказал со слезами на глазах, что он сам также горячо относился к делу прежде и благодаря этому потерял сына». После этого министр вдруг неожиданно обратился к Абекену и спросил его: «Что вы декламировали сегодня в саду с таким одушевлением, господин тайный советник? Я не мог разобрать, на каком языке держали вы свой монолог». «По-немецки, ваша светлость, из Гете, я читал «Wanderers Sturmlied», мое любимое стихотворение»; и он с чувством и силой продекламировал в заключение одну строфу.
Потом была речь о недавних стычках при Ле-Бурже, и канцлер нашел неуместным поступок генерала Будрицкого, схватившего знамя и бросившегося вперед вместе с солдатами. «Генерал, – сказал он, – должен находиться не в рядах солдат, а позади них, откуда он может за ними хорошо наблюдать и управлять ими. Здесь же Будрицкий пытался подражать Вильгельму при Шверине, рисовался даже хуже». Под конец говорили о том, что Франции грозит распадение. На юге la Ligue du Midi со своим президентом Эскиросом надеется на отпадение от земель, управляемых Парижем. Здесь составляют план принудительного займа у богатых людей; затем Мирославского потребуют в Марсель, чтобы превратить в батальоны красных, которые только произносят здесь речи. Вечером читали прокламацию графа Шамбора к французам. В ней говорится, что он, как и другие, желает посвятить себя служению на благо Франции, что он намерен управлять народом, не льстя его порокам, а наоборот, опираясь на его добродетель.
Вместо того чтобы заискивать у народа при помощи таких пошлых общих мест, годных только для парижских адвокатов, он лучше бы сказал народу, как ему выйти из настоящего положения. Если политические и социальные замешательства, распространившиеся после 4-го сентября не только в Париже, но даже далее, не прекратятся в короткое время, то порядок, которого желают Германия и вся Европа, трудно будет восстановить. Все равно, какое бы правительство ни утвердилось во Франции после республики, если настоящее положение будет продолжаться еще долее, оно застигнет страну в полной анархии, и дело придется иметь правительству не с добродетелями, а со страстями народа.
Понедельник, 7-го ноября . Канцлер велел мне рано утром послать в Лондон следующую телеграмму: «Во время пятидневных переговоров с Тьером предложено ему было на основании status quo военного положения перемирие на срок до 28 дней, распространенное на все местности Франции, занятые нашими войсками; в случае если перемирие не состоится, мы не только не препятствуем, но даже сами требуем выборов. Парижское правительство не уполномочило его ни на то, ни на другое; ему поручено было прежде всего добиться снабжения Парижа провиантом, не предоставляя нам никаких военных выгод взамен такой уступки. Так как мы по военным соображениям не могли согласиться на это, то Тьер получил вчера предписание из Парижа прекратить переговоры».
Из других источников об описываемых событиях и об общем положении французских дел узнали мы следующее: предписание о прекращении переговоров было написано Тьеру в очень кратких и сухих выражениях Жюлем Фавром. Депешу эту Тьер отправил в Тур, куда он сам сегодня уехал. Он был очень опечален безрассудным упрямством парижских правителей, которому ни он сам, ни очень многие из членов временного правительства вовсе не сочувствовали. Фавр и Пикар, особенно последний, желают мира, но они слишком слабы для того, чтобы сломить упорство остальных. Гамбетта и Трошю не хотят выборов, потому что они, по всей вероятности, положат конец их владычеству и без того уже весьма шаткому; в Париже его могут ежеминутно свергнуть, да и в провинции оно весьма сомнительно. На юге Марсель и Тулуза и много других департаментов уже не признают правительства национальной обороны, так как оно им кажется недостаточно радикальным, т. е. коммунистическим; а между тем здесь, как и всюду, все принадлежащее к богатым классам с каждым днем все более и более примыкает к императорской партии.
Я написал статью в таком духе: они готовы на возможные уступки, но из честолюбия Фавр и Трошю не идут ни на какие компромиссы; они боятся, что законные представители народа заставят их выпустить из рук власть, которую они захватили, пользуясь народным волнением; только одно тщеславие их мешает прекращению войны, так как мы со своей стороны безграничной уступчивостью доказали, что желаем мира.
После обеда я провел целый час у офицеров в Шеснэ; они каждую минуту готовы к тревоге и с нетерпением ждут начала бомбардирования. За столом были майор фон Альтель, флигель-адъютант Кенигс, граф Билль и лейтенант Филипп Бисмарк, племянник министра. Заговорили о том, что бомбардирование все еще откладывается. Канцлер назвал «бессмысленным и ничем не объяснимым распущенный газетами слух, где его выставляют противником бомбардировки, на которой настаивают военные. «Совсем наоборот, – продолжал он, – никто более меня об ней не хлопочет, но военные еще не желают ее начинать. Я всеми силами стараюсь устранить сомнения и колебания военных по поводу этого вопроса».
Оказалось, что артиллерия требует значительных подготовлений: у ней недостаточно амуниции, говорят, что потребуется 19 вагонов груза. Но то же было и под Страсбургом, требовали всего с излишком, так что, несмотря на ужасное количество истребленного пороха и снарядов, все-таки еще осталось 2/3 всего доставленного. Альтен возразил, что если бы у нас были сооружены предполагаемые укрепления, то можно бы открыть огонь по предместьям и начать атаку спереди.
«Это возможно, – ответил министр. – Но ведь это должно было прежде предвидеть, так как никакая крепость нам не была так хорошо известна, как Париж».
Кто-то рассказал, что пойманы два воздушных шара, в которых захвачены 5 человек. Канцлер заявил, что их следовало бы без всякого рассуждения казнить как шпионов. Альтен сказал, что они будут подвергнуты военному суду, на что министр заметил: «В таком случае они будут оправданы».
После этого он заговорил о том, что граф Билль полон сил и здоровья, сам же он в эти лета был очень худощав, «в Геттигене я был худ, как спица», сказал он. Когда было рассказано то, что прошлую ночь из виллы, занимаемой кронпринцем, кто-то стрелял в часового и ранил его, за что город обязался заплатить несчастному 5 тысяч франков, канцлер заметил, что на своих вечерних прогулках он заменит кинжал револьвером: «Я, пожалуй, готов дать себя убить, если это неизбежно, но не хочу умирать неотомщенный». Вечером по желанию канцлера я вновь телеграфировал в несколько измененных выражениях об неудавшихся переговорах с Тьером. Когда я позволил себе заметить, что эта вторая депеша тожественнее первой, он ответил: «Не совсем, тут написано: граф Бисмарк предложил и т. д. – Вы должны обращать внимание на подобные тонкие оттенки, если хотите служить в иностранном министерстве».
Позднее меня опять позвали к нему. Нужно телеграфировать: «По частным сведениям из Парижа, Фавр и большинство было за выборы и за перемирие, предложенное Тьером, но Трошю восстал против этого, и его мнение приняли».
Вторник, 8-го ноября. Рано утром была послана телеграмма, после чего лица, захваченные в воздушных шарах, были отосланы в прусскую крепость и там преданы военному суду; там оказалось, что письма, найденные при них, компрометируют дипломатов и других лиц, положению и честности которых доверяли настолько, что позволяли им сношения из Парижа. В статье, написанной по поводу этих открытий, объяснялось, что на будущее время подобные сношения ни в каком случае допускаемы не будут.
В половине первого во время завтрака канцлер принимал какого-то пожилого господина в шелковой одежде, красной шапочке и того же цвета перевязи. Это был архиепископ из Познани, объявивший, что папа желает, ввиду нашей пользы, вмешаться в дела Франции. Конечно, подобным вмешательством папа надеется подкупить наше правительство в свою пользу.
Архиепископ пробыл у канцлера часов до трех; после его отъезда министр отправился к королю, потом он вместе со вновь прибывшим великим герцогом обедал у кронпринца. Я же опять навестил X. и его лейтенантов, квартировавших около Шеснэ в маленьком замке, принадлежавшем известному парижскому доктору Д. Рикорду. Все были по-прежнему веселы и с нетерпением ожидали начала бомбардировки.
Среда, 9-го ноября. Пасмурный, облачный день. Я написал сегодня статью. После, по обыкновению, читались газеты, из которых отмечалось и извлекалось, что надо. При этом в «Кёльнской газете» наткнулся на оригинальную аллегорию, которую и записал: «Зуб времени коснулся стен, и они покрылись мхом». А один любитель картинного написал: «Седан – большая могила, темная пасть которой сомкнулась над величием Франции: Well roared lion!»
Министр желает, чтобы я справился о прошедшем американца О’Сэльван, который здесь ничего не делает и тем возбуждает к себе подозрение. Тотчас расспрошу об этом Д., который с охотой снабжает меня сведениями о всех здесь проживающих. Вчера во время обеда получили мы известие о сдаче Вердена. У канцлера обедали сегодня Дельбрюк, генерал Шовен и полковник Мейдам, начальник полевого телеграфа. Заговорили о том, как непозволительно знатные люди злоупотребляют электрической проволокой для своих частных нужд. Кто-то заметил тогда, что при Эпернэ вольные стрелки и мужики перерезали проволоку и наделали много подобных этому беспорядков. Министр на это заметил: «Да, вам бы следовало послать два-три батальона и тысяч шесть крестьян вывести в Германию до прекращения войны». На это Дельбрюк заметил, что достаточно было бы четырехсот или шестисот; страх оказал бы свое действие на остальных.
Потом министр заговорил о французской прессе, сказал, что в некоторых газетах нас поносят невероятной бранью: «Я недавно несколько опрометчиво послал королю подобный листок, в котором и о нем отзываются дурно, а про мою частную жизнь рассказывают неслыханные ужасы: я бью жену плетью; любой знатной девушке в Берлине угрожает опасность очутиться в моем гареме; я запятнан разными обманами, спекулировал на бирже государственными тайнами и т. п. Таких чудес не придумать в Германии. «Гарем, вероятно, за садом в домике, где стоят полицейские, – заметил Дельбрюк. – Если бы только французские журналисты знали про этот домик, что за таинственные диковинки они об нем рассказали бы!»
К вечеру Л. доносит, что Шатоден опять оставлен нашими людьми и занят французским авангардом, кроме того, он уверял, что парижане сделали нападение на линию, занятую баварцами. Про О’Сэльвана он только и знал, что он – бывший американский дипломат и приверженец невольничества, что он перед своим переездом в Версаль непрошено явился для попыток посредничества к великому герцогу Мекленбургскому и что отсюда приехал с рекомендацией к кронпринцу, у которого вчера обедал с нашим канцлером. Вероятно, он и тут предложил свои услуги в качестве дипломата-любителя. Подобные ему докучливые пришельцы теперь довольно часто появляются сюда, они весьма тревожат Hôtel des Réservoirs своими проектами и своим пролазничеством. Даже канцлер не всегда напрямик может от них отделаться, когда они лезут к нему с своими услугами. Иные предлагают поистине удивительные вещи вроде, например, нейтрализации Эльзаса и Лотарингии или присоединения их к Бельгии или Швейцарии, восстановления Наполеонидов или Орлеанского дома, преподнесения Бельгии французам, чтобы они не очень огорчались утратой Меца и Страсбурга, занятие Люксембурга немцами с подобной же целью и т. д. Право, хорошо бы издать закон, который воспрещал бы этим полезным людям соваться с своими услугами.
За чаем вспомнили о пронесшемся слухе, по которому при замедлении бомбардировки влияние дам играло значительную роль. После половины одиннадцатого наш начальник вышел к нам из гостиной, где он беседовал с баварским генералом фон Ботмером и, как казалось, обсуждал с военной точки зрения вопросы о более тесном объединении Германии; посидев с нами около часу, он велел подать себе бутылку пива и, вздохнув слегка, сказал: «Ах, я опять подумал о том, о чем уже не раз раздумывал: если бы у меня хоть раз было столько власти, чтобы сказать: это должно быть так, а не эдак; чтобы не мучиться словами «почему» и «потому», не доказывать и не просить о самых обыкновенных вещах! Как мне надоело это вечное выпрашивание и уговаривание». Гацфельд спросил его: «Читали ли вы, ваше превосходительство, что итальянцы вторглись в Квиринал?» Канцлер отвечал: «Да, и мне любопытно знать, как тут поступит папа – уедет? Но куда? Он уже просил нашего посредничества, чтобы мы спросили итальянцев, можно ли ему будет уехать и дозволят ли ему уехать с подобающей его положению пышностью. Итальянцы на наш запрос отвечали, что они уважают его сан, и если он хочет уехать, то они поступят в отношении его как следует». Они его неохотно отпустят, возразил Гацфельд, их интересы требуют, чтобы он остался в Риме. Канцлер отвечал: «Да конечно, но он, вероятно, все-таки принужден будет уехать. Но только куда? Во Францию нельзя – там Гарибальди. В Австрию – не может. В Испанию разве? Я ему предлагал в Баварию». Затем министр немного подумал и сказал: «Ему остается только Бельгия или Северная Германия. Действительно, нам уже был запрос. Можем ли мы дать ему убежище? Я против этого ничего не имею. Кёльн или Фульд? Конечно, это был бы неслыханный оборот дела, но довольно понятный; и для нас было бы очень полезно показать католикам, как на самом деле оно и есть, что мы единственная власть, которая может и хочет защитить главного представителя их церкви. Штофле, Шаррет и их зуавы тотчас же отправились бы домой. Ни в Бельгии, ни в Баварии не было бы уже никаких поводов к ультрамонтанской оппозиции. Малинкрат перешел бы на сторону правительства. Сверх того при виде великолепия курящихся перед ним фимиамов, папы на троне, раздающего свои благословения коленопреклоненной толпе, у людей с развитой фантазией, особенно у женщин, может легко возникнуть желание перейти в лоно католической церкви. В Германии же, где все на него будут смотреть как на беспомощного старика, как на одного из епископов, который так же, как и все, ест и пьет, нюхает табак и даже курит сигары, конечно, он не будет опасен. Да наконец, если некоторые люди (только уже не я) и перешли бы снова в католицизм, то это не имело бы большого значения, лишь бы они оставались христианами. Вероисповедание ничто, главное, была бы вера. Надо быть веротерпимым». И он очень увлекательно говорил на эту тему; тут разговор переменился. Гацфельд упомянул, что его высочество принц Кобургский упал с лошади; к счастью, он нисколько не ушибся, прибавил весело Абекен, входя. Этот эпизод дал повод нашему начальнику рассказать о подобных же несчастных случаях, произошедших с ним. «Я думаю, – начал он, – что не прибавлю, сказав, что с лошади мне случалось падать раз 50 в моей жизни. С лошади упасть ничего, но, если седок попадет под лошадь, вот это плохо, это случилось со мной в Варцине, тогда я сломал себе 3 ребра. Опасности было меньше, чем казалось; я думал, что тут и конец мне будет; боль была страшная. Но раньше со мной был удивительный случай, который показал мне, насколько мысль человека зависит от мозга. Однажды вечером мы с братом возвращались верхом домой и скакали во весь опор. Вдруг брат услышал позади себя сильный треск. Это я хватился головой о шоссе. Моя лошадь испугалась света фонаря встретившегося нам экипажа, опрокинулась со мной назад и тоже ударилась головой. Я потерял сознание, и когда снова опомнился, то понимал только вполовину, т. е. одна часть моего мозга могла действовать, другая была парализована. Я осмотрел лошадь и нашел седло сломанным; тогда я позвал конюха, сел на его лошадь и поскакал домой. При въезде мои собаки, встретившие меня радостным лаем, показались мне совсем чужими, и я очень сердился на их лай. Потом я сказал, что конюх упал с лошади, распорядился, чтобы взяли носилки; я очень сердился, когда по знаку брата мне не хотели повиноваться; неужели они намерены оставить бедняка на дороге, думал я. Я не сознавал свое я, не понимал, что нахожусь дома, конюх и я соединились со мною в одно лицо. Я попросил есть и тут же улегся спать; проспавшись, я почувствовал себя совершенно здоровым. Это было удивительное падение: я осмотрел седло, велел подать другую лошадь, одним словом, все, что надо было, я делал разумно. Это падение не причинило ровно никакого расстройства рассудку. Оригинальный пример того, как мозг совмещает совсем различные душевные силы; только одна из них была несколько отуманена. Мне вспоминается еще одно падение. Ехал я далеко от дома по большому лесу через молодой кустарник. Стал перескакивать через ров, свалился туда с лошадью и потерял сознание. Вероятно, я пролежал там без чувств часа три; уже смеркалось, когда я опомнился. Лошадь стояла около меня. Место было, как я сказал, далеко от нашего дома и совершенно мне незнакомо. Мысли еще не пришли у меня в порядок, но все необходимое в данном случае я сделал: снял подпругу, разорвавшуюся пополам, и поехал, как я после узнал, по самой короткой дороге к ближайшему соседнему имению. Жена арендатора, увидев перед собой человека большого роста с окровавленным лицом, испугалась и убежала. Муж ее смыл мне кровь с лица, я ему назвал себя и, сказав, что не в состоянии уже сделать 3 или 2 мили верхом, попросил его отвезти меня, что он и сделал. Я, должно быть, ударился головою об ствол дерева, пролетев верных 15 шагов от жаворонка, которого подстрелил. Когда доктор осмотрел мою рану, то заметил, что я поступил против всех правил искусства, не сломав при этом себе шеи.«Еще раза два моя жизнь была в опасности, – продолжал граф. – Вот, например, когда еще железная дорога в Зоммерингене не была закончена, мне кажется, это было в 1852 г., я с обществом поднимался вверх по одному из туннелей; помнится, тут же был граф Октавий Кинский; как теперь помню, он был несколько старше меня, и волосы его были завиты. В туннеле было совершенно темно. Я шел впереди всех с фонарем, вдруг вижу посреди туннеля перед собой расселину глубиною по крайней мере 50 футов и в полтора раза шире этого стола. Через него была положена доска с перилами по бокам, чтобы тачки не съезжали с нее. Вероятно, эта доска подгнила; только я ступил на середину ее, как она подломилась и я полетел вниз; но при этом я невольно размахнул руками и ухватился за перила. Шедшие за мною, думая, что я, наверно, уж скатился вниз, потому что фонарь выпал у меня из рук, немало удивились, услыхав на вопрос: жив ли я? голос мой не из глубины рва, как предполагали, а около них. Я же уцепился между перилами ногами и спросил, куда мне лучше лезть – назад или вперед. Проводник посоветовал перелезть вперед, и так я выкарабкался. Работник, который нас вел, зажег свечку, нашел другую доску и по ней перевел остальное общество. Из истории с этой доской видно, как легко иногда сходят с рук подобные вещи. Потом, когда мы вышли из туннеля, мы помчались на низенькой тележке вдоль по полотну дороги. У нас были толстые палки, которыми мы тормозили, когда нам угрожала опасность сойти с рельс; но раз мы должны были употребить неимоверные усилия, чтобы наша тележка не полетела в одну из пропастей, зиявших по обеим сторонам, из которых наименее глубокая имела до 60 футов глубиной».
Канцлер рассказал еще случай, как старый барон Мейндорф решился один раз подвергнуть опасности свою жизнь. В Гаштейне он приказал поднять себя в винтовом вагоне по подъемной дороге, ведущей, если не ошибаюсь, по кратчайшему расстоянию на гребень горы, где находятся старые золотые прииски. Высота достигает тут, по словам канцлера, до 3-х тысяч футов, и дорога возвышается под углом 40°; вагон, в который садятся, едет по желобу. Если бы оборвалась веревка, то Мейндорф слетел бы с ужасной быстротой с вершины 10 тысяч футов, причем, конечно, не уцелело бы ни одной косточки его.
Четверг, 10-го ноября. Настала зима; стоит порядочная стужа, и снег идет в продолжение нескольких часов. Министр пожелал, чтобы я телеграфировал, что во Франции происходят беспорядки из-за того, что временное правительство растратило на военные издержки фонды сберегательных касс для бедных и имущества корпораций. Затем я должен остановиться на актах, касающихся неудавшихся переговоров о перемирии.
Тьер представил документ, в котором изложены условия перемирия, соображаясь с желаниями французского правительства, которого он является уполномоченным. Содержание этого меморандума следующее.
В случае соглашения возможно скорое прекращение кровопролития и созвание национального собрания, которое могло бы в глазах Европы служить выражением воли всей Франции раньше или позже заключить мир с Пруссией и ее союзниками. Перемирие должно продолжаться 28 дней, из которых 12 необходимы на созвание избирателей, один – собственно, на переговоры, 5 – на съезды избранных в каком-нибудь определенном месте и 10 – для поверки выборов и устройства бюро. Местом совещаний может пока служить Тур. Выборы должны быть всюду, также и в занятых немцами местах, происходить совершенно свободно и непринужденно. С обеих сторон должны прекратиться военные действия, но противники могут набирать рекрутов, строить укрепления и разбивать лагеря. Армии могут запастись провиантом, сообразуясь с законными мерами; реквизиции же, как меры военного времени, с прекращением враждебных действий не должны быть допускаемы. Укрепленные места должны быть снабжены провиантом по числу их обитателей на все время перемирия. Согласно этому, Париж должно снабдить посредством 4-х поименованных в меморандуме железных дорог скотом и другими жизненными припасами приблизительно в следующих размерах; требуется: 34 000 быков, 80 000 баранов, 8000 свиней, 3000 телят, 100 000 центиметров солонины, корм, нужный для всего этого скота, и 8 миллионов центиметров сена и соломы, затем 200 000 центиметров муки, 30 000 центиметров сухих овощей, 100 000 тонн угля, 500 000 куб. метров дров, причем население Парижа считалось в размере от 2 700 000 до 2 800 000 душ, включая сюда 400 000 защитников его и обитателей предместий.
Невозможно было согласиться на эти требования французов. Если бы мы приняли эти условия, то потеряли бы большую часть выгод, которые мы в последние 7 недель приобрели ценой стольких жертв и трудов; одним словом, мы бы вернулись вновь к тому положению, в котором находились 19-го сентября, когда наши войска окончили оцепление Парижа. Мы должны снабдить провиантом Париж, уже страдающий от недостатка съестных припасов, когда ему скоро представится альтернатива или сдаться, или терпеть голод. Мы должны отказаться от действий именно в тот момент, когда падение Меца освободило армию принца Фридриха и мы можем довести предприятие до конца. Мы должны допустить вербование рекрутов, что даст возможность французам создать себе новые войска; мы же в рекрутах вовсе не нуждаемся. От нас требуют согласия на снабжение провиантом Парижа и других французских крепостей, а мы должны прокармливать свои войска, не прибегая к реквизициям, допускаемым в неприятельской земле. Наше согласие требовалось на все эти пункты, а между тем противники наши не предлагали нам взамен ни одного военного или политического эквивалента, например, за снабжение провиантом – уступку одного или двух фортов, которыми укреплен Париж.
За всем тем мы не могли даже рассчитывать на скорый мир.
План назначить выборы во время перемирия и привести в порядок свои дела при помощи признанного всей страной правительства Тьер выставляет как ближайшую цель временного прекращения военных действий; но это обстоятельство, без сомнения, гораздо важнее для французов, чем для нас. Но кроме того, принимая во внимание тактику временного правительства, постоянно возбуждающего народные страсти зажигательными прокламациями, этому намерению нельзя придавать серьезного значения. Наконец при серьезном желании временное правительство могло бы выполнить свой план и без всей этой процедуры с перемирием. Эти предложения не сулят немцам ровно ничего. Дело могло состояться лишь при иных условиях, и канцлер предложил Тьеру перемирие на основании военного status quo; оно должно было продолжаться от 25 до 28 дней; в течение этого времени французы должны спокойно заняться выборами и созвать национальное собрание. И это предложение уже было уступкой с нашей стороны в пользу французов. Если, как утверждает Тьер, Париж снабжен провизией на многие месяцы – в чем нельзя и сомневаться, судя по заявленному им в условии требованию насчет муки, – то совершенно непонятно, почему временное правительство не хочет принять перемирие без снабжения города провизией. При этом громадную выгоду французам представляла приостановка дальнейшего беспрепятственного занятия французских областей нашей освободившейся из-под Меца армией. Оно было бы ограничено известной демаркационной линией. Тьер, однако же, не хотел принять этих весьма умеренных условий без согласия на подвоз провианта к Парижу; на этом он упорно настаивал, а взамен не мог даже обещать нам какой-нибудь военной уступки вроде занятия одного из фортов Парижа.
Когда мы шли к столу, канцлер сказал нам, что военный министр серьезно болен. Он чувствует себя очень слабым и, вероятно, раньше двух недель не поправится. Потом принялся острить по поводу воды для умывания, употреблявшейся в доме. «Обитатели здешних водопроводов, должно быть, тоже наблюдают свои сезоны. Сперва появились в ней сороконожки, которых я терпеть не могу – разом шевелят своими тысячами суставов. Затем пожаловали глисты, животные, конечно, безобидные, но я скорее примирюсь со змеями, чем с ними. Теперь нахожу там пиявок. Сегодня я нашел одну маленькую, свернувшуюся совершенно в клубок. Я старался заставить ее развернуться, но тщетно – клубок так и оставался клубком. Полил я на нее колодезной водой, она вытянулась в нитку и попыталась уползти». Затем разговор перешел к разным простым, но тем не менее заслуживающим внимания предметам гастрономии. Говорили о свежих и соленых сельдях, молодом картофеле, сливочном масле и т. д.; под конец министр сказал Дельбрюку, который тоже оказал свою долю внимания этим предметам: «Есть рыба, которой пренебрегают совершенно напрасно, – это осетр; но в России его умеют ценить; встречается он и у нас. В Эльбе, в Магдебургской округе, он ловится довольно часто; но там его, кроме рыбаков и простого народа, никто не ест». Он разобрал все достоинства осетра и заговорил об икре, различные сорта которой он характеризовал как знаток. Немного погодя он продолжал: «Мне сегодня, когда шел снег, снова пришло в голову – как много общего между галлами и славянами. Те же широкие улицы, те же тесно жмущиеся друг к дружке дома, часто те же плоские крыши, как и в России. Недостает только луковицеобразных колоколен. Зато версты и километры, аршины и метры те же самые; а вот еще более разительное сходство – это наклонность к централизации, к общему единомыслию и, наконец, эти коммунистические черты в народном характере».
Тут стал он изумляться удивительным вещам, совершающимся ныне на свете: все перевернулось вверх дном и вызвало невиданные события. «Стоит только подумать о том, – продолжал он, – что папа может очутиться в маленьком протестантском городке («В Бранденбурге при Гавеле! – воскликнул тут Болен»), рейхстаг в Версале, законодательный корпус в Касселе, а Гарибальди, превратившийся во французского генерала после Ментаны, сражается, командуя папскими зуавами»; и граф еще довольно долго говорил на эту тему.
«Сегодня и Меттерних мне писал и просил, – сказал он вдруг, – чтобы мы впустили Гойоса, с тем чтобы он вывел из Парижа австрийцев. Я ему ответил, что уже 25-го октября им позволено выйти, но мы никого не впускаем, не исключая и дипломатов! Мы их и в Версале не принимали; только для него я сделал бы исключение. Тогда он, пожалуй, вновь поднял бы вопрос об австрийских притязаниях на союзное имущество в немецких крепостях».
Потом заговорили о врачах и о том, как иногда сама природа помогает больному; канцлер рассказал по этому случаю, что однажды он охотился у герцога (имени которого я не понял) и ему тогда очень нездоровилось, так что ни два дня охоты, ни свежий воздух нисколько не помогли. «Вот прихожу я к кирасирам в Бранденбурге; они только что получили кубок; кажется, они в это время праздновали свой юбилей. В кубок вмещалась целая бутылка. Я должен был, – рассказывал канцлер, – первым его обновить, и затем передать другим. Я произношу спич, беру кубок, осушаю его до дна и передаю его пустым. Это всех весьма удивило, никто не мог ожидать такого удальства от кабинетного человека. Я же приобрел эту способность еще в Геттингене. Но что удивительно, а может, и вполне естественно, после этого в течение четырех недель мой желудок был так здоров, как никогда. Я пробовал и позже лечиться таким же образом, но уже никогда не имел подобного успеха». «Да, вот еще помню, однажды при Фридрихе Вильгельме II во время охоты пришлось пить из кубка времен Фридриха I; это был олений рог, вмещавший две трети бутылки; его нельзя было захватить губами, а между тем не дозволялось при питье пролить ни одной капли. Я взял рог и мгновенно осушил, несмотря на то что в нем было прехолодное шампанское; моя белая жилетка свидетельствовала, что я не пролил ни одной капли. Общество было в великом изумлении. Я же попросил вновь наполнить для меня рог. Но король воскликнул: «Нет, не бывать!» – и я должен был отказаться от своего намерения».
«Прежде подобные подвиги были необходимой приправой дипломатии; непривычных спаивали, выспрашивали у них все нужное, заставляли их соглашаться на условия, на которые они не были уполномочены, и тотчас же их подписывать; а когда хмель проходил, несчастные приходили в ужас от своей оплошности».
«Я не знаю, – заметил канцлер потом, – отчего все семейства, которым давали в Померании графский титул, вымирали. Я бы мог насчитать десять или двенадцать таких примеров». Некоторых он назвал тут же. Затем продолжал: «Я тоже вначале боялся подобной же участи, но наконец примирился с ней, хотя и теперь опасения мои не совсем улеглись». Когда подали жаркое, канцлер спросил: «Что это, конина?» Кто-то из присутствующих ответил, что это говядина; он возразил: «Странно, что едят конину не иначе как из нужды, подобно осажденным в Париже, у которых скоро не останется ничего другого. Это, верно, происходит оттого, что лошадь особенно нам, наездникам, ближе других животных. Всадник и лошадь составляют некоторым образом одно целое. (Ich hatt’ einen Kameraden als wär’s ein Stück von mir» – цитировал канцлер.) «Лошадь и по уму ближе других зверей к людям. Вот и с собаками то же; собачина, должно быть, очень вкусна, а все-таки мы ее не едим». Один из гостей отнесся неодобрительно к собачине, а другой похвалил, после чего канцлер опять продолжал: «Чем более животное на нас походит, тем неприятнее нам употреблять его в пищу. Должно быть, обезьяны препротивны в жарком, так как их руки очень похожи на человечьи». Вспомнили, что дикие едят обезьян, после чего речь перешла на людоедов: «Да, – возразил граф, – но к людоедству первоначально принуждала нужда, да и тут я, помнится, читал, что мужчины предпочитают есть женщин; да, вообще мы неохотно питаемся плотоядными животными: волками, львами; исключение – медведи, но и те употребляют больше растительную пищу. Я вот не могу взять в рот не только курицы, кормленной мясом, но даже и яиц ее».
Вечером, пришедши за справками, Л. сказал, что О’Сэльван, прежний посол Американских Штатов в Лиссабоне, получил совет удалиться, что он уже и сделал, далее этот расторопный Л. разузнал по моей просьбе все касавшееся до нью-йоркского «Таймса»; оказалось, что у них два корреспондента: один г. Скоффрен, квартирующий у егерского полковника фон Штранца в Вилль-д’Аврэ, а другой Голт-Вайт, живущий постоянно в Сен-Жермене. После 8 часов граф Брей был у канцлера в маленькой приемной.
Пятница, 11-го ноября. Сегодня утром, судя по пушечной пальбе с северо-запада, 46-пушечный «Bullerian» опять расходился, мы же сидим себе смирнехонько. Канцлер заставил меня телеграфировать о занятии Ней-Брейзаха; затем он пожелал, чтобы я повидался с англичанином Робертом Конигсби, просившим у него аудиенции в качестве корреспондента нескольких английских газет. Я должен был ему передать извинение канцлера, не имеющего времени исполнить его желание. Перед моим уходом канцлер сунул мне брюссельский листок «Indiscrète», говоря: «Вот чудесная моя биография, пресмешная. Вы сами увидите, как она правдива; хороши и картинки, украшающие текст; тут может и наша печать кое-чем поживиться». (Фридрих Великий тоже распространял в публике пасквили на свою особу.)
Я исполнил все возложенные на меня поручения и нашел в Конигсби милого, умного человека, хорошо к нам расположенного. Хотя у него жена немка, но он еще не освоился с нашим языком. По возвращении я принялся за «Indiscrète»; это и был тот самый листок, в котором, по словам самого графа, на него возводили неслыханные обвинения. Я многое записал, как образчик постыдных, грубых, бессмысленных клевет, служивших тогдашней французской прессе орудиями в борьбе с нами.
Там, между прочим, говорилось следующее о нашем канцлере: «Он бесцеремонно пользовался для личных целей дипломатическими сведениями о событиях, еще не имеющих совершиться, равно как и тем влиянием, которое эти достоверные известия должны были производить на биржу. Таким образом, заручась верным успехом, он заставлял играть в свою пользу на всех европейских биржах. Для этой постыдной спекуляции общественным доверием он стакнулся с господином Блеихредером, еврейским банкиром в Берлине. Алчность Бисмарка собрала, таким образом, колоссальную сумму денег, которую он поделил с этим банкиром и его наперсниками. Бисмарк, как вельможа с порочными наклонностями, нередко развлекал себя, обольщая красивых женщин. Как в юности, так и позже, он уводил не раз через своих агентов дочерей от отцов и жен от мужей».
«Таким же образом, была насильственно похищена в Бреславле одна дама поразительной красоты. Ее заключили куда-то вроде гарема, принадлежавшего графу, а когда она ему наскучила, он обратил свои алчные взоры на другую. Между прочим рассказывают еще такой случай: он влюбился в монахиню дивной красоты, велел ее увезти из монастыря и взял к себе в наложницы».
«В Берлине насчитывают до 50 незаконных его детей. Как бесчеловечный муж, он беспрестанно огорчает свою достойную жену и дает ей чувствовать всю тяжесть его горячего, злобного и грубого нрава. Забыв свое высокое положение, он обходится с ней, как истый прусский мужик, т. е. угощает ее плетью, что, впрочем, не составляет редкость в Германии. В 1867 году им овладел демон ревности, когда он услыхал, что одна из его наложниц поехала в театр с одним красивым русским аристократом. Годовое содержание, выдаваемое им этой г-же, давало ему неоспоримое право кулака, и вот он отправляется в ее ложу и тут же наделяет плечи красавицы жестокими ударами плетью. Когда этот огнедышащий дипломат находился в Париже в июне 1867 года, он часто вечером инкогнито, в статском платье, отправлялся на охоту за ночными красавицами; раз он был узнан в bal Mabille».
«Если же мы проследим частную жизнь Бисмарка, то увидим, что он постоянно обращает политику в сплетение интриг, и всю затаенную злобу, плутовские проделки и преступные домыслы, на которые только способен человек, все это он обратил на удовлетворение своего деспотического самолюбия. Так, в 1863 году он лишил свободы прусский народ; в 1864-м он разорил слабую Данию, отняв у нее два герцогства; в 1866-м он унизил Австрию, захватив у нее королевство Ганновер, курфюрство Гессен, герцогство Нассау, вольный город Франкфурт и страшно притеснял все эти земли; наконец, в 1870 году он задушил Францию и не хочет дать ей мира. Этот высокопоставленный надменный и грубый человек относится совершенно бесчувственно к судьбам народов и являет миру пример того, до чего может дойти утонченная жестокость».
«С 1867 года Пруссия ревностно готовилась к войне с Францией, которая предвиделась в будущем. Безостановочно шли вооружения и подготовлялись факторы, считавшиеся необходимыми условиями успеха. Бисмарк в качестве канцлера нового Северо-Германского союза, Роон – военного министра и Мольтке – начальника штаба армии помогали тайным планам честолюбивого деспота, царствовавшего в Пруссии. Мольтке и его офицеры генерального штаба лично объездили часть Франции, чтобы на месте убедиться, насколько точные сведения сообщаются о ней прусскому правительству. Они снимали планы французских крепостей, делали топографические съемки и чертежи моделей новых систем вооружения. (Сообщают просто невероятные вещи об этих разысканиях слабых и сильных сторон французской армии.) Целая туча шпионов из переодетых офицеров и статских, получавших хорошие деньги и имевших свою собственную иерархическую организацию, аккуратно сообщала Бисмарку и Роону результаты своих тщательных разведок обо всей Франции. Высшим чинам военного министерства и внутренних дел перепадали баснословные суммы за сообщение каких-нибудь подробностей, интересовавших прусскую армию. Только благодаря легионам предателей, пробравшихся в ряды французской армии, пруссаки могли так свободно маневрировать со своими войсками и в подавляющем численном превосходстве нападать на отдельные корпуса французской армии. Это тайное предательство во время кампании 1870 года мало-помалу обнаружилось, и у французского правительства нет недостатка в доказательствах подобного способа действий».
Можно ли лгать так бесстыдно и вместе с тем так грубо? Какова должна быть публика, у которой можно рассчитывать на доверие к такому лганью?
За завтраком рассказывалось, что Орлеан снова очищен нашими войсками и что баварцы с фон дер Танном находятся там лишь в числе 16 000, тогда как французов насчитывают 40 000 человек. «Нужды нет! – воскликнул Болен. – Послезавтра там будет принц Фридрих Карл, и галлов всех перекрошат!»
В этот день канцлер не закусывал с нами. Погода целый день была переменчивая: то хмурилась, то снова снег, то проясняло и показывалось солнце.
Вечером является Л. и сообщает известие, что писатель Гофф, с которым он прежде издавал вместе «Nouvelliste», отравился и завтра будут его хоронить. Он получил от коменданта приказание немедленно покинуть Версаль, так как он в своей корреспонденции с театра войны в «National-Zeitung» пишет, что в главной квартире английским корреспондентам отдают предпочтение перед немецкими; это, в сущности, было вполне верно, но только инициатива подобных отношений исходила не из rue de Provence.
Гофф – сын одного из выдающихся баварских депутатов и брат дюссельдорфского художника.
Он участвовал в «Hamburger Nachrichten» и в «Augsburger Allgemeine-Zeitung»; уже с 1864 года в его статьях начало преобладать патриотическое направление.
Герцог Баденский или его приближенные, к которым он обратился в данном случае, ответили ему, что ничего сделать для него не могут. Бедняк считал себя опозоренным и не мог пережить того, что вместе с отсылкой из армии он лишается и места корреспондента. Министр, которому сообщили об этом случае, заметил: «Это очень жалко, но он – дурак; обратился бы ко мне, я бы ему все устроил».
За чаем Гацфельд и Бисмарк-Болен высказали также свои сожаления по поводу Гоффа, а граф Сольмс хвалил его, как очень полезного для нас и благонамеренного человека. Болен по поводу этой истории с высылкой из армии сообщил нам подробности об эпизоде с достопочтенным О’Сэльваном. Канцлер, когда он в последний раз обедал у кронпринца, сидел за столом рядом с американцем и завел с ним разговор. При этом ему пришла в голову мысль, что его собеседник, носящий ирландское имя, политический шпион. Во время послеобеденного разговора с кронпринцем министр спросил его, кто рекомендовал ему американца. «Герцог Кобургский, – был ответ. – Он производит на меня впечатление шпиона и проходимца». «Вы не рассердитесь на меня, ваше королевское высочество, если я его арестую или вышлю его из армии?» – спросил министр. «Нисколько», – отвечал кронпринц, и затем Штиберу было приказано потщательнее разведать об американце. После отчета соглядатая Блюменталь передал О’Сэльвану приказание немедленно удалиться из армии и настоял на его исполнении, несмотря на то что, по уверениям жены американца, последний был нездоров. Болен, на которого в этот день почему-то напала откровенность, рассказал еще несколько анекдотов об обитателях Hôtel des Reservoirs и между прочим один о нашем министре. Мы сообщим его читателям, хотя нельзя не заподозрить, что рассказчик прибавил тут кое-что свое, или по крайней мере придал событию свою собственную окраску.
Впрочем, за что купишь, за то и продашь; граф же рассказал нам, что в Коммерси к министру явилась какая-то женщина и жаловалась на то, что арестовали мужа, который поколотил какого-то гусара. «Министр с приветливой миной на лице слушал рассказ женщины, – продолжал далее наш рассказчик, – и, когда она окончила, он так же приветливо ответил ей: «Успокойтесь, ваш муж, – при этом он очертил указательным пальцем вокруг шеи, – будет повешен в самом непродолжительном времени».
Новая империалистическая газета «Situation», несмотря на свои недостатки, оказывает также и услуги обществу. Все, что она говорит об участии в войне Гарибальди, вполне справедливо: «Присутствие Гамбетты в Туре снова возбудило там некоторые надежды. Полагают, что он вдохнет новую жизнь в организацию народной обороны.
«Однако же первый акт деятельности этого юного диктатора не производит особенно благоприятного впечатления. Этим первым актом было назначение Гарибальди командиром вольных стрелков восточной армии. Во Франции никогда серьезно не относились к Гарибальди. На него привыкли смотреть как на генерала из комической оперы, и теперь все с нетерпением спрашивают, неужели мы в самом деле пали так низко, что должны прибегать к помощи театральных героев политической сцены? Желая воодушевить народ и поднять дух его, мы вместе с тем наносим глубокое оскорбление его национальному самолюбию. Но не надобно забывать, что люди, собравшиеся управлять нами, – адвокаты – громкие речи, трескучие фразы, театральные эффекты для них первое дело. Мысль о назначении Гарибальди – один из эффектных и наиболее действительных коньков оратора в речах; в устах же правительства народной обороны это назначение должно служить символом соединения свободных народов, республиканской солидарности. Может быть, впрочем, господину Гамбетте не понравились манеры Гарибальди, и он, находя неудобным для себя его пребывание в Туре, боясь, как бы Гарибальди не сделался источником недоразумений, счел более удобным отделаться от него и спровадил его на восток. Подлежит сильному сомнению, что он сделает там что-либо путное; но люди, у которых на все есть готовые аргументы, говорят: «Имя его пользуется всеобщей известностью» – и полагают, что этим уже сказано все.
Суббота, 12-го ноября. Утро ясное. Военная музыка играла сегодня в честь канцлера. После меня позвали к нему за получением приказаний. Я собираю сведения о прошлом Клюзерэ, старого солдата революции, которому поручено организовать военные силы возникающей теперь южной лиги, и свожу счет французским пленным, попавшим в наши руки после сдачи Меца.
Уже около 14 000 человек сдалось нам в Шлетштаде, форте Мортье, Нюбризахе, Ле-Бурже, Монтро, Вердене и после разных мелких стычек. Их всех уже препроводили в Германию.
За завтраком появился недавно приехавший Вольманн. За обедом у нас присутствовал в качестве гостя доктор Лауер. Подавали, между прочим, копченых мурен, померанских гусей, изобретение Бухера, который, в свою очередь, получил их в виде дружеского подарка от Родбертуса; потом магдебургскую кислую капусту и лейпцигских жаворонков – тоже все, разумеется, гостинцы из отечества. За рыбой вызвали из-за стола министра. Он вышел через зал и через дверь, ведущую на лужайку во дворе, вернулся в столовую, сопровождаемый офицером с бородой в прусском мундире. Через столовую они прошли в зал. Утверждают, что этот офицер – великий герцог Баденский. Спустя минут десять министр опять присоединился к нам. Зашел разговор о прежнем министре Арниме-Бойценбурге. Канцлер сказал, что знал его в Аахене и характеризовал его как человека светского, любезного, но не способного ни к какой упорной и энергической деятельности. «Это гуттаперчевый мячик, – характеризовал он его, – он подпрыгнет раз, другой, третий, но с каждым разом все слабее, наконец совсем остановится. Сперва поддерживает он одно мнение, но ослабляет его собственными возражениями; против прежних возражений у него являются новые аргументы, пока наконец он не побьет самого себя вконец». Дельбрюк хвалил своего зятя, считая его человеком образованным, талантливым, но пассивным, лишенным инициативы. «Да, – подтвердил канцлер, – в нем мало перцу. Потом прибавил: – Вообще у него хорошая голова; но донесения его – сегодня одно, завтра другое, часто в один и тот же день два противоположных сообщения – на него положиться невозможно». С вопроса о недостатке честолюбия в Арниме разговор перешел на ордена и чины. При этом Абекен, большой знаток и любитель по этой части, все время молчавший с сосредоточенным видом, опустив «очи долу» и лишь изредка украдкой взглядывавший на министра, принял живое участие в общей беседе.
«Первый орден, который я получил, – рассказывал министр, – была медаль за спасение погибавших. Мне дали ее за то, что я вытащил из воды лакея. Чин превосходительства получил только в Кенигсберге в 1861 году, – продолжал он. – Во Франкфурте я был, конечно, превосходительством, но превосходительством германского союза, а не прусским. Немецкие князья решили тогда, что всякий посол бундестага должен носить титул превосходительства. Впрочем, я и не хлопотал особенно о чинах, не придавал им особенного значения – я и без того был достаточно высокопоставленным лицом».
После обеда закончил статью для Л. и приготовил другую к печати.
Воскресенье, 13-го ноября. Министр сегодня встал необыкновенно поздно и не пошел в церковь. Как кажется, он не в духе еще со вчерашнего вечера. Закончив обычные утренние занятия, я отправился в la Celle Saint-Cloud, где занимал форпост Г. с своим первым лейтенантом, на тот пункт, откуда виден Мон-Валерьян, который мы тщетно разыскивали в прошлый раз. При этом мне приходилось делать обходы и избегать просветов между деревьями, так как меня могли заметить из форта, и уже по этому направлению стреляли оттуда несколько раз.
Форт отсюда сквозь зеленую пелену леса представляет собой очень грозный вид. Среди лагеря и бивуака ружья в козлах, новые деревянные бараки, как громадные собачьи конуры, выглядывают из-за стволов деревьев, дальше белеют палатки, и повсюду непролазная грязь.
Около красивого, окруженного зеленью домика, к которому вел мостик из оконных ставней и досок для перехода через грязь, я встретил первого лейтенанта Кр., который провел меня к Г. Последний жил в квартире, о которой он пламенно мечтал еще три месяца назад, вместе с двумя офицерами, из которых младший выказал громадный талант в Шенэ, канканируя за даму, и с военным врачом. Общество жило в тоске императрицы, и я застал их в комнате направо от входа за обедом, причем мне Г. сказал, что они уже несколько недель не знают другой животной пищи, кроме баранины. Перед домом стоят в пирамидах ружья 6-й роты 46-го полка, а рядом, на выломанных дверях и ставнях, разложили солдаты свои вещи, чтобы не пачкать их в грязи. Двери, из которых сделан помост через грязь, местами позолочены. Большая зала полна солдатами польского происхождения: они лежат на соломе и курят отвратительный табак. Первый лейтенант Г. ожидал меня, стоя перед софой в комнате.
Сегодня он для себя сделал неприятное открытие.
Местность оказалась не вполне безопасной от неприятельских выстрелов. Мон-Валерьян посылает свои снаряды по направлению к Лувесьену как раз через тот холм, на котором стоит киоск Евгении; было положительным чудом, что французы не послали в него до сих пор ни одной гранаты. Пока мы сидели за бутылкой, было сделано два выстрела с форта. Встав из-за стола, Г. повел нас на обсервационный пункт аванпоста среди высоких каштановых деревьев. Отсюда проклятый «Baldrian», находившийся по ту сторону лесистого спуска, виден простым глазом до такой степени ясно, что можно сосчитать все в больших зданиях. Над Парижем стоит черное облако дыма – не пожар ли там? Нам советуют быть осторожнее. Мы должны, по возможности, прятаться за стволами деревьев, а через открытые места переходить по выкопанным ровикам. Нам сообщают, что передовые роты наши стоят внизу по опушке леса, шагов на 800 впереди нас, а за ними – вторая цепь часовых. Киоск страстно ждет начала бомбардировки и не понимает, почему она не начата до сих пор; по мнению его обитателей, тут замешивается влияние женщин. Я опасаюсь, что киоск прав.
Час спустя я отправился назад; начинало уже смеркаться, а потому мне сообщен был сегодняшний пропуск – Fressbeutel – Berlin. Вчерашний пропуск был – Erbswurst. Paris. Дурацкий казус! По дороге в деревню попался мне мушкетер, сопровождавший пленного улана. Отсюда до rue de Provence расстояние около мили, я прошел с небольшим за час.
Канцлер отведал сегодня с нами только супа и рагу, а потом, в генеральской форме, каске и орденах отправился к королевскому столу. Вечером же он хотел еще послать опровержение неверного сообщения одной южногерманской газеты о том, что граф Арним возвратился уже из своей поездки в Рим в главную квартиру.
Третьего дня я занес в памятную книжку образчик французских ругательств против нас. Сегодня в газетах встретил я ряд примеров лживости их сообщений о нынешней войне. Кто-то подвел общую цифру наших потерь в текущей войне по французским источникам и прислал в газету «Post». Просто не веришь своим глазам, читая о тех чудесах, которые натворили в рядах наших войск Шасспо и митральезы. По этим данным мы с начала войны до конца октября потеряли ни больше ни меньше как около двух миллионов солдат. Среди убитых немало знаменитостей. Принц Альбрехт, принц Карл, принц Фридрих Карл и наследный принц Прусский – все погибли уже кто от пули, кто от болезней. Тресков умер, Мольтке уже погребен. Даже принц Нассауский погиб геройской смертью за отечество, хотя он вовсе не принимал участия в кампании. Союзный канцлер погиб под пулями или под ударами сабель в тот момент, когда он пытался остановить обратившихся в бегство баварцев. Наконец, король, мучимый угрызениями совести за свою попытку перенести войну на священную почву Франции, сошел с ума. Читая эту беспутную ложь, невольно припоминаешь плохой каламбур Л., и хочется назвать «Moniteur» menteur’ом.
Понедельник, 14-го ноября. Министр не совсем здоров и вплоть до обеда никому не показывался. В 12 часов дня Бельзинг возвращается на родину через Нантейль, Нанси и Франкфурт. За обедом присутствовал граф Мальцан, рослый человек с котлетообразными бакенами и в синем мундире, иоганнист. Последний рассказывал, что в одной деревне, недалеко от нас, наши гусары натолкнулись на вольных стрелков. Баварские стрелки, находившиеся при этом, выбили вольных стрелков из домов, и гусары гнались за ними и положили при этом от 120 до 170 человек. «Ну а трое остальных где? – спросил канцлер, вероятно, не разобрав хорошенько, в чем дело. – Они не застрелены? О, это нехорошо, напрасно так церемонятся с этими разбойниками. Помню, в Сент-Аво я настаивал на исключении целого ряда случаев, за которые в прокламации об осадном положении полагалась смертная казнь. Мое предложение не прошло, говорили, что нужно удержать смертную казнь во всех упомянутых случаях в силу обычаев военного времени; я берусь набрать с полдюжины случаев, для которых совершенно излишне было устанавливать смертную казнь. Теперь же все это осталось лишь на бумаге. Кого солдаты не пристрелят или не повесят на поле сражения, тот, наверное, останется цел. Это преступление против наших же солдат». А. передавал за верное – утверждая, что слышал это от П., – будто герцог Кобургский заказал Блейбтрену большую картину, на которой он, герцог Кобургский будет изображен во время сражения при Верте в пороховом дыму, среди сражающихся, и солдаты приветствуют его как победителя. Если это правда, картину надобно будет повесить рядом с картиной Экернферда. Почему, однако ж, и не появиться такой картине? Поэтические вольности нравятся нам, отчего же не допустить вольностей в живописи? Художник не историк.
За чаем Гацфельд заявил, что его озабочивает поведение России; ему кажется, что она, пользуясь нынешней войной, обнаруживает желание уничтожить мирный договор 1856 года, а это может вызвать осложнения и затруднения. Как думает об этом министр?
По приведенным выше образчикам суждений французских газет можно бы, пожалуй, заключить, что французы потеряли всякий политический смысл и что ими руководят только страсти и ослепление. Однако же попадаются как исключения, может быть, даже довольно многочисленные лица, владеющие вполне своими пятью чувствами и находящиеся в здравом уме и твердой памяти. Письмо, опубликованное на этих днях в «Moniteur», указывает на подобные исключения. Написано оно не без претензии на риторический блеск, но содержание его полно смысла.
«Как выйти нам из той западни, в которую попала Франция? Громадная страна раздроблена и разбита, обессилена внешним врагом и еще более внутренними раздорами, нация без правительства, без верховной власти; нет ни центрального управления, ни лица, способного заместить его – таково наше положение! Может ли так идти дальше? Разумеется, нет. Но где выход? Вот вопрос, который предлагают все благоразумные люди, вопрос, который слышится со всех сторон; но на него, как кажется, ни у кого нет ответа. А между тем найти его нужно, и нужно найти его скоро, и ответ должен быть решительный.
Обращаясь к вопросу о том, что осталось еще целым после громадного крушения, чей авторитет еще не поколеблен, – мы находим одно, одно-единственное учреждение, за которое нация может схватиться, как за последний якорь спасения, – это генеральные советы. Около этих представителей власти только и может еще группироваться страна в отчаянном положении; так как в настоящее время они одни только представляют собой выражение воли нации. Генеральные советы по существу своему, по своей опытности и высокому уважению к их сочленам, по своему знанию потребностей, интересов и образа мыслей населения каждого из своих департаментов, из среды которого избираются члены генеральных советов и среди которого они живут, они одни только могут оказать неоспоримое нравственное влияние на своих доверителей.
Какую же роль должны играть генеральные советы при нынешних обстоятельствах? Роль эта определяется, очевидно, самим положением вещей. Пусть соберутся они, каждый в своем департаменте, вместе с депутатами, избранными во время последних выборов. Пусть постараются они всеми возможными мерами как в свободных, так и в занятых немецкими войсками департаментах, завести взаимные сношения, чтобы прийти к общему решению. Пусть они решительным и разумным заявлением о своей деятельности постараются привлечь на свою сторону все здоровые и разумные силы нации. (Что, конечно, как и соглашение во взглядах и планах такой массы отдельных учреждений, потребует немалого труда и времени.) Пусть организуется всенародное голосование и нация выразит свою волю. Нация, к самодержавному голосу которой обращалось правительство, три раза торжественным голосованием признавала его власть над собою. Ей одной принадлежит право высказаться насчет своих прежних решений и избрать новое правительство, если она найдет это нужным. Кто осмелится оспаривать ее права? Кто отважится без утверждения нации принимать меры и действовать от имени страны и без ее полномочия решать ее судьбу?
Я знаю, что мне могут возразить. Я знаю, какими трудностями и опасностями обставлено выполнение грандиозного проекта обращения генеральных советов к нации. Но несмотря на это, оно должно быть приведено в исполнение, потому что другого исхода нет. Я убежден, кроме того, что в департаментах, занятых немецкими войсками, голосование будет выполнено полнее и свободнее, чем где-либо, – это очень печальная истина, но нужно высказать ее, потому что это истина.
Дело в том, что сами немцы не менее нашего заинтересованы в скором заключении прочного окончательного мира; и одно уже присутствие немцев в состоянии будет удержать агитаторов от попыток к насилованию и искажению народной воли. Но в других департаментах? Что будет в тех частях Франции, где теперь выступают на первый план элементы анархии и общественного брожения?
. . . . . .
Вечером читали письма, захваченные на аэростате, и между ними одно от 3-го ноября, служащее выражением мыслей человека с общественным положением о состоянии дел в Париже, годное для напечатания в «Moniteur» или какой-нибудь другой газете. Вот оно, без адреса и подписи в немецком переводе.
«Любезный Жозеф!
Надеюсь, что тебе аккуратно доставлены мои последние письма. В одном из них сообщил я тебе о своих опасениях, которые с тех пор успели уже осуществиться; в другом извещал я тебя о моем возвращении в Париж, откуда я удалился было при первых известиях о предстоящем обложении столицы; в третьем я тебе сообщаю, что никогда мы не были менее свободны, чем теперь среди дружин свободного войска, когда невозможно выйти из дому, не подвергаясь опасности быть принятым за шпиона, когда, наконец, люди из простого народа считают теперь себя вправе оскорблять каждого из граждан под тем предлогом, что нынче все равны. Теперь я намерен говорить обо мне лично и об осаде, хотя об ней ты, вероятно, знаешь не менее моего.
Звание национального гвардейца, в котором я теперь состою, далеко не из самых приятных. Часто случается мне в течение двадцати семи часов подряд отправлять караульную службу в черте укреплений; при этом приходится ночью с ружьем в руках прогуливаться взад и вперед по бастиону. Это очень скучно, а в дождливую погоду просто невыносимо: тем более что, вернувшись в будку, приходится ложиться спать на соломе, кишащей разными гадами, и иметь своими ночлежными товарищами мелких лавочников, содержателей харчевен, лакеев и т. д.
Мое имя и мое положение в обществе нисколько не защищают меня от неприятностей; наоборот – это вредит мне, вызывая зависть и нерасположение, которых никто не дает себе труда скрывать. Если, кроме того, в карауле окажется где-нибудь неудобное место, угол, где солома особенно грязна или где протекает крыша – я уверен заранее, что оно достанется мне: мне никто не желает делать каких-либо облегчений. Несмотря на это, благодаря сознанию своего долга я выше всех этих неприятностей. Но всего более противна мне караульная служба около пороховых мельниц. Мне кажется, это должно бы лежать на обязанности новых полицейских, но они предпочитают ничего не делать из боязни нарушить блаженное спокойствие граждан.
Недавно в шесть часов утра по страшному холоду отправился я в Венсенский полигон упражняться в стрельбе, а на другой день в пять часов утра надобно было быть уже в мэрии, где моего дворника выбирали в капралы. Наконец 29-го октября в течение 27-ми часов были мы на посту в цирке императрицы, который превращен теперь в капсюльную фабрику. Я думал, что после всего этого наконец мне удастся отдохнуть, как вдруг вечером 31-го октября раздался набат, мне пришлось надеть свой мундир и бежать в Hôtel de Ville. Здесь мы пробыли с 10 часов вечера до 5 часов утра. Мне пришлось стоять напротив той знаменитой двери, шагах в 15 от нее, в которую пытались ворваться мобили. Удайся им это, непременно завязалась бы битва и я, вероятно, был бы убит при первом ружейном залпе. К счастью, удалось проникнуть в Hôtel de Ville через подземный ход, и мы этой же дорогой вышли оттуда; при этом нам пустили вдогонку несколько пуль, но никого ими не задели. Наш 4-й батальон был все время в действии; им командует твой товарищ М. Я счастлив, что содействовал успеху этого дня, который со временем будет знаменит в истории.
Вечером часов в пять на другой день вышел я на площадь Hôtel de Ville подышать чистым воздухом. Там среди довольно густой толпы стоял какой-то свирепый крикун, который указывал рукою на Notre Dame de Paris и возбуждал народ против духовенства. «Там наш враг, – говорил он, – враги не пруссаки, а церковь, попы и иезуиты, развращающие и отупляющие наше молодое поколение! Надобно разрушить собор и вымостить им улицы». Сегодня все спокойно благодаря солдатам и артиллерии (мобилям и национальным гвардейцам). Они занимают всю линию Елисейских полей и Тюильри.
Какая война, дорогой Жозеф! В истории нет ей подобной. Цезарь для покорения Галлии в варварские времена должен был воевать в течение семи лет. Мы же разбиты и уничтожены в три месяца.
Для императорской фамилии здесь, кажется, все кончено навсегда. Одной партией меньше – быть может, это к нашему же благу.
До сих пор мне еще не приходилось пробовать лошадиного мяса, но говядина у нас страшно жесткая; буйволовое мясо из ботанического сада, которое мне доставили недавно, еще хуже. Здесь я одинок совершенно, что наводит невольно на грустные мысли; но благодаря музыке и чтению, чем я очень усердно занимаюсь, мне еще не приходилось скучать.
Если наступит перемирие и у тебя явится возможность писать ко мне – пиши непременно, мне очень важно знать твое мнение обо всем происходящем.
Я бы хотел произвести тебя в чин французского дипломата, если б это звание не стало теперь посмешищем».
Я дошел до самой средины войны и моих воспоминаний относительно этой эпохи, содержащихся в моем дневнике, – мне кажется, теперь будет уместно представить характеристику тех лиц из свиты канцлера, которые мне и тогда, и после казались наиболее заслуживающими внимания. Я скажу еще два слова в дополнение к предыдущему о том лице, которое, по моему разумению, занимает второе место после канцлера, и этим закончу первую часть моего повествования. Более или менее подробные характеристики остальных лиц я представлю впоследствии.
Глава XI
Лотар Бухер и тайный советник Абекен
Редко случается, чтобы на людей, которые по политическим причинам вынуждены покинуть свою родину и место своей деятельности, долгое пребывание в чужих краях оказывало благоприятное влияние. Только особенно хорошие натуры и на чужбине сохраняют свои отличные качества, развивают и очищают их и устраняют иллюзию, которая по тем или другим причинам в пережитые ими дни овладевала ими и направляла их деятельность на ложные дороги. Обыкновенно беглец – я сужу по личным наблюдениям, собранным мною в Соединенных Штатах и в Швейцарии, – по-видимому, очень скоро утрачивает чувство, связывающее его с жизнью родной стороны, и, таким образом, пословица: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» оправдывается в отношении его только в своей первой половине. Не заботясь о времени, изменяющем все, почти или вовсе чуждый пониманию выступающих вновь из глубины жизни сил, потребностей и стремлений, он хранит в себе образ, запечатленный в нем его прошлой жизнью в то время, когда он переступал через границу. Ожесточенный неудавшимися попытками произвести изменение в порядке вещей в смысле своих убеждений, с досадой в душе, погруженный в свой «принцип» и выведенные из него догмы, он, не имея уже более возможности действовать на родине, ограничивается критикой, которая знает все лучше, хотя в действительности она не знает более ничего порядочного. Некоторые погибают, таким образом, в духовном одиночестве в мире иллюзий. Большинство примыкает к партиям, членов которых постигла приблизительно такая же участь, как и его, оно культивирует вместе с ними принесенные с собою из дому фразы и предается вместе с ними бессильным заговорам. Вследствие этого многие становятся вполне и навсегда неспособными к правильному и плодотворному политическому мышлению и действию. Некоторые гибнут в непроверяемой критической идеологии и фантастичности, другие забывают свою родину и присоединяются к новому народу, который в их глазах далеко превосходит их соотечественников, некоторые опять, хотя по миновании необходимости жить в изгнании возвращаются на родину, но они смотрят на жизнь, которая между тем успела здесь сложиться известным образом, глазами сонной белки, ничего не понимают и потому не могут радоваться тому, что жизнь изменилась и стала лучше помимо боготворимого ими идеала.
Однако же, как сказано, бывают и исключения, и с ними-то происходят иногда потом на родине замечательные вещи. Они, кроме горячего сердца, приносят с собою вполне ясный и острый ум, хороший запас знания, желание увеличить его и самостоятельный, не расплывшийся в политической стадности характер, и все это служит им теперь на пользу. Невольный досуг дает им возможность обсудить прошлое, испытать чужую страну, сравнить ее со своим отечеством, познать недостатки и преимущества того и другого и, таким образом, ведет их к постепенно совершенствующемуся уяснению суждений в разных направлениях.
. . . . . .
онемечена. В равнину они сами вызвали немецких сельских хозяев из нижней Саксонии и просили их привезти с собою немецкий тяжелый плуг, для того чтобы туземец узнал, что такое пахание. Кеслин, подобно всем этим прививным городам, лежит у изгиба реки и на западном ее берегу; таким образом, река образует естественный ров, ограду против угрожающих с востока неприятелей; но и без того восточная сторона особенно хорошо защищена, так как племена, жившие дальше по направлению к Азии, составляли неприятное соседство». Город построен кругообразно. В центре его находится рынок, посредине которого стоит ратуша. От рынка идут широкие улицы, соединенные между собою узкими переулками. «Дома обращены на улицу своей узкой стороною, остроконечным шпицом и смотрят ночью, как ряд ландскнехтов с плотно прижатыми друг к другу плечами».
Кто умеет читать между строк, тот найдет здесь кое-что такое, что может привести к заключению о политических взглядах, которых держался Бухер в то время, когда он сочинял эту «сказку».
Рано, по-видимому, у нашего мальчика зашевелилась способность к наблюдению вещей и к размышлению о них. Равным образом и фантазия, должно быть, скоро проснулась у него и начала действовать с жаром. Особенное впечатление произвел на него рассказ Кампе о завоевании Перу – Писарро, который он получил когда-то в виде рождественского подарка. Меньше удовольствия, по-видимому, он находил в Робинсоне того же автора. Ту книгу он берег еще в 1861 году в виде воспоминания о неопределенных чувствах детства. «Только близким друзьям показывалась она, и им обыкновенно приходилось выслушивать следующие замечания: длинный ряд томов, к которым относится и этот, повествует о действиях и приключениях испанцев, португальцев, англичан, французов и русских. Только первый посвящен немцу, Робинзону Крузо, и что делает это дитя в Гамбурге? Ему, конечно, присуща страсть к странствованию, которая привела германцев в Европу и которая все еще продолжает жить в них там, где они живут у великой воды. Но ему приходится убегать тайно, так как мать внушала ему: «Оставайся на родине и живи честно»; и отец говаривал ему: «Если ты хочешь идти в чужие края, то тебе надо прежде очень-очень много учиться». И что он поделывает там? Он не завоевывает страны, не основывает города, не приобретает богатства. Он как трус убегает от следов дикарей, заключает дружбу, которая сильно напоминает Жан-Жака Руссо, натыкается на глыбу золота, теряет ее по дороге на родину и для себя и для своего отечества не приносит ничего более, кроме детской сказки. Он живет, кажется, в Гамбурге, в качестве содержателя меблированных комнат и ходит каждый вечер в кабачок».
Перейдем от Писарро и Робинзона к настоящему предмету нашего рассмотрения и поспешим заключить период его отрочества. Из того, что давала школа, ничто не доставалось так легко, как математика и естествознание. В свободные часы он что-то вырезывал и точил, если не бегал по лесу. Но когда наконец родители находили своевременным спросить его, кем он хочет быть, то он сперва хотел быть моряком, а потом, когда мать воспротивилась тому, он пожелал быть архитектором. И на это родители не согласились. Решено было, чтоб он занимался науками, и так как теперь ему пришлось избрать какой-нибудь из четырех факультетов, то он высказался в пользу юриспруденции, «которая дает возможность быть референдарием, танцующим со всеми хорошенькими девицами, а потом советником юстиции, директором ресурсов, кавалером ордена Красного орла, охотником за волками и вообще великим человеком».
Бухер окончил гимназию во время самых сильных преследований буршества. Многие из прежних его сотоварищей были замешаны; один принимал участие в франкфуртском покушении. В маленьких университетских городах эта непопулярная связь все еще не была вполне искоренена, так что нашему новичку приходилось против своего желания поступить в берлинский университет. Он явился туда среди спора, возникшего тогда между исторической и философской школами юристов, Савиньи и Ганса. Если я не ошибаюсь, он примкнул сперва к философской и старательно изучал своего Гегеля. Потом он потерял охоту к философии и забросил ее на долгое время ради юриспруденции, которую ему нужно было серьезно изучить и впоследствии применять на практике. С 1838 года он занимался в высшем земском суде в Кеслине, а спустя пять лет он был заседателем в земском и городском судах в Штолпе. Тут он заведовал одновременно несколькими патримониальными судами, что дало ему возможность ознакомиться с положением провинции.
После некоторого времени служба в Штолпе начала его тяготить, так как тогда судья бывал обременяем множеством дел неюридического характера. Для того чтобы приобрести и другие познания, он, подобно многим хорошим и в своем роде умным людям того времени, изучал Роттэка и Велькера, воззрения которых на историю и политику он усваивал со свойственной основательностью и энергией и превратил их в плоть и кровь. Он только что кончил эту работу, когда наступили берлинские мартовские дни, и вскоре после этого состоялось прусское национальное собрание.
Бухеру дано избирателями Штолпа 1848 г. поручение в помянутое собрание, а в следующие годы этот же город отправил его в качестве своего представителя в образовавшийся между тем парламент. До 1840 года в Пруссии не было никакой публичной жизни; новый делегат из западной Померании был юрист главным образом с частноправовым образованием; ему недоставало опытности в делах государственных. Если мы прибавим к этому еще влияние воззрений Роттэка и Велькера на дела политические и исторические и припомним, что Бухер был молодой человек энергического ума и воли, то мы не только не будем удивляться, но найдем это вполне естественным, почти необходимым, что он примкнул в палате к радикалам, – конечно, не к тем, которые заняли там свои места ради прекрасной формы, а равно и не к тем, которым нравились патетические фразы.
«Я никогда не слыхал, – так говорится в одном отрывке из записок генерала Брандта, – чтобы кто-нибудь говорил талантливее и сдержаннее, чем Бухер в этом случае» – именно при обсуждениях комиссии, имевшей целью выразить свое мнение о так называемых актах Хабеас-корпус, любимом детище Вальдека. «Его белокурые волосы, его бесстрастность живо напоминали мне виденные мною изображения св. Юстина. Бухер был беспощадным разрушителем всего существующего, всех сословий и государств, один из последовательнейших членов национального собрания, готовый решиться на каждый шаг, который ему покажется ведущим к его цели: честности в принципах и братской любви в учреждениях. Не зная общества, погруженный в бесплодные юридические отвлеченности, он был вполне убежден в том, что спасение мира может произойти только от неожиданного, энергического и мощного сокрушения всего существующего. Он способствовал организации открытого сопротивления и распространял главным образом ту мысль – эта мысль принадлежала в особенности ему, – чтобы подзадорить честолюбивую и неугомонную Францию в национальном собрании к образованию диктатуры. Ироническое презрение, с которым он относился к существующей власти, с которым он открыто выражал свою ненависть к старому государственному строю, и его догмат о суверенитете народа, радикальными причудами которого он опьянял этот народ и с тем вместе развивал свои способности для роли демагога – все это при более продолжительном существовании дало бы ему возможность превзойти всех своих приверженцев в его строго логических стремлениях».
Какие воззрения Бухер высказывал в национальном собрании и как он уже тогда намеревался сложить с себя звание юриста в делах политических, это может показать одно место из его речи, в которой он защищал предложение Штейна. Дело в том, что 9-го августа 1848 г. Штейн внес предложение, которое потом было передано комиссии и принято наконец в несколько смягченной форме. Это предложение имело цель потребовать от военного министерства, чтобы оно предостерегло офицеров армии от реакционных стремлений и посоветовало бы им оказать искреннее содействие при осуществлении конституционного законоположения. Министр дал уклончивый ответ, и вот 4 сентября Бухер защищал означенное предложение против Ганземанна и ораторов правой. Обращаясь к тем, которые оспаривали законное право национального собрания в этом деле, так как избирательный закон от 8 апреля предоставляет ему только право согласовать конституцию с короной, он заметил, что подобное понимание он должен отметить как очень наивное. «Всемирная история, – продолжал он, – вряд ли остановится перед пределами, поставленными избирательным законом. Новое время требует совсем не таких оснований, как страницы сборника законов. Я сам принадлежу к сословию юристов и симпатизирую ему, но я уже не раз имел повод сожалеть о том, что из нас здесь так много представителей. Мы приносим с собою лишь слишком непродуманную точку зрения судьи, мы прилагаем только слишком ограниченную мерку судьи к громадным вопросам, которые, хотя и не решаются нами сразу, но разрешению которых в будущем мы тем не менее способствуем. Мы не можем, мы не смеем поступать так, как судья, который после какого-то совестливого испытания выводит свой приговор из наличных, неприкосновенных для него законов, – напротив, мы должны познать нужды умом государственного человека, мы должны уразуметь наше призвание, которое, быть может, и беспримерно, именно призвание – вызвать путем мирного законодательства последствия не успевшей состояться революции. Если мы будем стоять твердо на том, мы тогда легко узнаем: объем наших прав или, лучше сказать, наших обязанностей. Поскольку речь идет о наших правах. Но нам нужно, наконец, поговорить хоть раз и о наших обязанностях относительно народа, который истекает кровью из тысячи ран». Оратор перечислил недостатки и вред государства, оставленного старым правительством, и спросил: может ли при этом быть речь о каком-то боязливом отыскивании формы помощи? Старые органы правительства во многих случаях не могли изобразить министерству верной картины о положении вещей, но это может сделать собрание, которое и представляет настоящий народ. Министр-президент пытался было доказать, что взгляды правительства и большинства национального собрания приводят, собственно, к одному; но подобная задача ему не по силам. 9-го августа состоялось определение; оно спустя два дня препровождено было в министерство. Последнее не сочло нужным ответить на него. Если б оно по крайней мере высказало свои сомнения, и заявило бы о том, что оно не согласно на резкую форму требуемого от него постановления, и побудило бы собрание обсудить дело еще раз и смягчить форму определения, тогда положение дела было бы совсем другое, более счастливое для собрания и страны. Но ничего этого не было сделано. Национальное собрание обязано было обратить внимание министерства на то, что оно не оценивает правильно положения и потребностей минуты, и так как оно не последовало этому совету, то от собрания должно исходить предложение исполнить определение; ибо учредительное собрание, пока в нем нет исполнительного комитета, не имеет другого органа, кроме министерства. Что касается содержания определения, то об изменении его могла бы быть речь лишь в том случае, если бы теперь изменились те обстоятельства, которые продиктовали его четыре недели назад, – но такой перемены не случилось. Министр финансов будто сказал, что не следует обращать внимание на политическое настроение офицеров, так как армия представляет собою повинующуюся силу. Но именно потому не может быть терпимо, чтобы отдельные начальники армии открыто преследовали бы тенденции, противные господствующей системе и имеющие цель низвергнуть ее. Указывая на опасность, поставленную на вид министром финансов, оратор заключил: «Я признаю, конечно, всю трудность минуты; но я знаю одно – и об этом я заявляю вместе и от имени моих друзей – мы, верные нашим убеждениям, идем прямым путем и не страшимся и того, что г. министр дал нам сегодня почувствовать, ибо мы знаем, что ответственность, ужасно тяжелая ответственность, не падает на наши головы».
В палате депутатов Бухер главным образом был занят составлением организационных законов. Он играл важную роль в качестве докладчика предложения Вальдека, имевшего целью побудить министерство к снятию осадного положения в Берлине, объявленного 12 ноября 1848 года – предложения, которое, когда оно было принято, имело своим последствием распущение палаты депутатов. Бухеру нетрудно было доказать незаконность осадного положения. Ибо не могло быть и сомнения в том, что оправдания к его объявлению нельзя было вывести из статьи 110 – конституции, вошедшей в силу только спустя три недели, тем более еще и потому, что эта статья касалась только отмены известных основных прав в случае войны или восстания. Но 12-го ноября в Берлине не было ни войны, ни восстания, и к тому же министерство не только отменило основные права, но и учредило для граждан военные суды, о которых статья 110 ничего не упоминала и о которых, как могущих быть допущенными в подобных случаях, и более давние законы не содержали никакого определения.
Следствием вызванного этим путем постановления было распущение палаты депутатов, за которым 4-го февраля 1850 года последовал так называемый процесс по поводу отказа от уплаты налогов, который закончился только 21-го. Министерство Бранденбург-Мантейфеля приказало возбудить обвинение в покушении на восстание против с лишком сорока членов национального собрания, которые распространяли постановление, состоявшееся 15-го ноября 1848 года и гласившее, что правительство не вправе распоряжаться государственными суммами и взимать налоги, пока народное представительство не будет иметь возможности продолжать без помехи свои обсуждения в Берлине, – и которые распространяли прокламацию от 18-го ноября, назначавшуюся для того, чтобы означенное постановление было принято страной к руководству.
Процесс представлял собою дело кабинетной юстиции. Что уголовный суд в Берлине не был компетентен, это ясно как божий день, так как председатель не мог иначе выйти из такого положения, как только тем, что он запретил подсудимым и их защитникам жаловаться на неподсудность. Особенная ненависть к Бухеру в высших сферах, обнаружившаяся при этом процессе, имела свое основание в только что упомянутом сообщении о незаконности объявленного для Берлина осадного положения. Судебное разбирательство кончилось освобождением большинства подсудимых. Зато Бухер, бургомистр Плате из Лэбы, мельник Кабус из Швадемюля и домовладелец Нештиль из Пейскречама были признаны виновными, причем Бухер и Плате приговорены к пятнадцатимесячному тюремному заключению и сопровождающему его обыкновенно лишению национальной кокарды, удалению от должности и проч.
Этот приговор побудил Бухера отправиться за границу и, наконец, в Лондон. Он, должно быть, хорошо понял, что по отбытии пятнадцатимесячного заключения в крепости его не преминули бы выслать административным порядком. В Лондоне он жил первое время, посвящая себя преимущественно политико-экономическим и политическим наукам, наблюдению положения дел Англии и ее особенностей, а также рассмотрению и анализу парламентских особенностей и характерных черт Англии – занятию, при котором он в делах и людях, во многих местах высоко прославленных и возбуждающих в Германии удивление, встретил лицемерие, испорченность и обман, которые возбудили в нем навсегда гнев, отвращение и презрение. Из лиц, с которыми он тут познакомился, известен Уркгарт; с ним он разошелся впоследствии. Только в последние годы своего пребывания в Лондоне он познакомился благодаря английским общественным связям с другими именитыми политическими эмигрантами, как Маццини, Ледрю Роллен и Герцен. Эти последние способствовали его дальнейшему просвещению в делах политики, т. е. он узнал, как все эти господа при помощи принципа национальности хотели вырезывать полосы из шкуры честного и верного своим принципам немецкого медведя или, выражаясь яснее, подумывали ради своего принципа национальности оторвать кусок Германии, например, Прирейнскую границу, сплошную возвышенность Альп или Польшу в пределах 1772 года. И либеральные немецкие газеты из глубокого уважения к «принципу», т. е. к самой этой вокабуле сильно занимались тем, как бы им устроить химически чистую Германию. Так, например, «Volks-Zeitung» требовала, чтобы «выдана» была Познань, конечно, не обозначая, кому именно из имеющих право на это. Против такого нелепого бесправия зашевелились в Бухере здравый смысл и патриотическая жилка, которая никогда не переставала биться в нем.
Во время своего пребывания в Англии Бухер сотрудничал в разных немецких газетах. Он писал в течение многих лет в «National-Zeitung» за подписью знаком □ богатые содержанием известия и богатые мыслями политические соображения, которые своим глубоким и уклоняющимся от обыкновенной рутины воззрением на вещи возбуждали всеобщее внимание. Он доставил, между прочим, прекрасное описание первой всемирной выставки в Лондоне, сообщения об устройстве домов и о нравах, о вентиляции, о турецких банях, виденных им в путешествии в Константинополь, и о других практических вещах. Но совершенно особые услуги он оказал либеральным немецким политикам своими письмами об английском парламентаризме. Ими он положил конец предубеждению, что немецкие народные представительства во всех отношениях должны быть созданы и обставлены по образцу британских, и вместе с тем убедительно доказал, что конституционный строй и обычаи никоим образом не могут быть везде одни и те же, но что они должны быть приспособлены к характеру, историческому развитию и средствам страны и народа, существующих в данное время. Далее вполне достойным благодарности следствием этих писем о парламенте явилось сознание, сделавшееся с тех пор почти общераспространенным, что английская политика с внешней стороны имеет чисто торговый характер, чуждый великих исторических точек зрения, а равно и каких бы то ни было идеальных побуждений и целей. Наконец, эти письма бросили свет на Пальмерстона, Гладстона, на «doctor’a super naturalis», на Кобдена и на все лицемерное, эгоистическое апостольство английских фритредеров, обнаруживших как при освещении электрическим светом всю свою наготу. Это было такое изобличение, какое до сих пор едва ли случалось где-либо.
Эти и некоторые другие работы блестящего пера Бухера иногда не вполне согласовались с направлением той газеты, в которой они появлялись, а также и в отношении Евангелия манчестерцев, которые распоряжались там по своему произволу, а равно и в отношении решения немецкого вопроса, корреспондент высказывал решительно еретические суждения.
Утомленный, надо полагать, и пресыщенный писанием в газеты, Бухер около 1860 года стал подумывать об основной перемене своих обстоятельств. Как указывает статья под заглавием «Nur ein Märchen», я имею основание считать достоверным, что он хотел основать себе новую родину в тропической Америке под пальмами и мангровыми деревьями и – сделаться кофейным плантатором. Эта фантазия с практическим, а может быть, даже и непрактическим пошибом, по-видимому, скоро исчезла – и слава Богу, как это мы позволим себе прибавить, – конечно, с его позволения. Еще менее, чем в Англии, место его было среди полудиких туземцев Коста-Рики и Венесуэлы. Ему нужно было возвратиться назад в Германию, и амнистия 1860 г. открыла ему границу к возвращению на родину.
Очутившись снова в Берлине, Бухер возобновил свою дружбу с Родбертусом и познакомился с Лассалем, которого потом с своей стороны познакомил с первым социалистическим агитатором, о котором нам известно, что он был совершенно в ином роде, чем его преемники Либкнехт и Мост, что он был хороший патриот, человек с громадными способностями, очень выдающийся ученый, но и вместе с тем личность, исполненная самого жгучего беспощадного честолюбия, – стоял тогда на поворотной точке жизни. Партия прогресса отказалась от него и отклонила от себя его старания – побудить ее к более последовательной и более энергичной оппозиции. Он подумывал оттеснить ее в сторону через посредство партии рабочих, вождем которой он хотел сделаться, и для этой цели он ревностно добивался соглашения с Родбертусом, который, конечно, чувствовал все обаяние этой гениальной натуры. Но хотя он, подобно Лассалю, считал неоспоримым непреложный закон о заработной плате, тем не менее выразил, что не может согласиться на политическую агитацию, цели которой лишены экономического основания. В это время лейпцигский рабочий союз обратился к Лассалю, Родбертусу и Бухеру с просьбой о совете относительно средств, как бы улучшить положение рабочих классов, которое предполагали обсуждать на предстоящем конгрессе рабочих. Лассаль на основании своего непреложного закона о заработной плате ответил, что улучшение может быть достигнуто не посредством рекомендуемой Шульце-Деличем самопомощи, а только посредством государственного кредита с целью учреждения обществ производителей, для достижения которого рабочие должны организовать из себя политическую партию. Родбертус не советовал последней меры. Бухер писал: «Я не теряю времени, чтобы высказать мое убеждение, что учение манчестерской школы, будто государство должно заботиться лишь о личной безопасности, представляя все прочее его собственному течению, не может устоять перед наукой, перед историей и перед практикой». Он, очевидно, не питает доверия к практическим предложениям Лассаля, которые, впрочем, и этому последнему, как это видно из обнародованной теперь переписки его с Родбертусом, так мало пришлись по сердцу, что он с радостью выразил готовность «оставить» эти средства, как только Родбертус придумает другое. Что касается Бухера, то он, сколько мне известно, еще и теперь держится того же отрицательного взгляда, и я могу лишь выразить ему по этому поводу мое согласие.
Далее Бухер застал в Берлине агитацию в пользу «прусского верховенства». Но господа, участвовавшие в ней, не желали «братской войны». Согласно их речам и передовым статьям, следовало бороться, побеждать и завоевывать «нравственно», как об этом можно теперь вспоминать – с некоторым покачиванием головой и пожиманием плечами. Само собою разумеется, и Бухер тоже желал более прочного единства немцев ввиду сильных стремлений чуждых элементов, но он не мог достигнуть той силы веры, которая была для этого потребна, не имея надежды на исключение Австрии из Германии, а также и на возможное подчинение средних государств и маленьких городов этой последней посредством учреждения празднеств гимнастических и стрелковых обществ, чернил, типографской краски и решений благонамеренных народных собраний, – вышеозначенному прусскому верховному шлему или даже хоть шляпе. Даже знаменательные слова г. Бейста «И песнь есть сила» не могли убедить его, что он находится в заблуждении. Без войны – это он ясно видел и так же ясно высказывал словесно и письменно, – мыслимы были только три шляпы, другими словами, в лучшем случае, могло быть достигнуто нечто вроде «Tpiaca», и упрек, будто Бухер занятием известного положения под начальством Бисмарка отказался от своего убеждения, лишен всякого основания. Особенно это уж не к лицу людям, которые не хотели разрешить и гроша, даже в том случае, если бы Кроаты стояли под Берлином, и которые могли еще воодушевляться аугустенбургским фарсом в последней сцене его заключительного действия. В чрезвычайное восхищение приводить просмотр списка господ, которые в палате прусских депутатов подали голос в пользу замечательной меры, выраженной в непосредственном адресе, вследствие которой прусская политика при этом министерстве могла бы достигнуть только того результата, что герцогства были бы снова переданы датчанам.
Во время словесной борьбы с Бисмарком Бухер уже обнаруживал страшную деятельность. Тогда многие сожалели о нем, что он мог так ошибочно действовать; теперь многие ненавидят его, так как им приходится сознавать, что он действовал правильно. Присоединение же его к политике руководящего министра произошло следующим образом: некоторое время после возвращения в Берлин Бухер еще сотрудничал в «National-Zeitung». Затем сотрудничество его кончилось, так как он во многих пунктах все более и более расходился с партией этого органа и он занимался несколько месяцев в телеграфном бюро Вольфа. Весьма скудное содержание, получаемое им там за много труда и, без сомнения, также и отвращение к подобному занятию, возбудили в нем мысль – снова обратиться к юриспруденции и сделаться адвокатом. Он говорил об этом плане с одним знакомым Бисмарка, который отговаривал его от этого. Вскоре после того министр, который, чуждый всяких предубеждений, как оно и есть, пригласил его к себе, отсоветовал его тоже, сказав ему, что он мог бы предоставить ему другой случай – заняться полезным делом. Таким образом, Бухер в 1864 году сначала сверхштатным, потом с званием советника при посольстве – штатным поступил на службу в министерство иностранных дел. Спустя год после того на него было возложено разрешение довольно трудной задачи – управление Лауенбургом – который в силу Гаштейнской конвенции достался Пруссии и который Бухеру до 1867 года пришлось под руководством своего шефа очищать и приводить в порядок. Это маленькое герцогство представляло собой юридическую редкость, в сравнении с другими государствами – уродливость, оно представляло правоположение семнадцатого века в состоянии окаменелости; место его было в германском музее. В этом маленьком государстве не было вовсе кодифицированного законодательства, и в нем действовало только обычное право. В последние годы до 1865 года оно находилось сперва под управлением германского союза, а потом им управляли австро-прусские комиссары. Обыкновенно порядок вещей состоял в эксплуатации многочисленных доходных мест несколькими «прекрасными семействами», которые арендовали также и громадные домены. Бухеру пришлось совершить черную работу, во многих отношениях пресечь злоупотребления и предоставить справедливости должные ей права. К счастью, это должно было происходить под руководством министра, который, однако же, именно в это время довольно долго лежал в тяжкой болезни в Путбусе на Рюгене, так что его советник был приведен в затруднение: нужно было управлять, не имея на то полномочий.
О дальнейшей деятельности Бухера я скажу в коротких словах. Он находился большею частью среди непосредственно окружавших канцлера. Этот последний неоднократно обращался к нему за подготовкой и обработкой самых важных дел, и можно сказать, что данные ему поручения он исполнял всегда как человек, знающий дело и владеющий формой, и что в работах, порученных ему его шефом, этот последний редко не находил или же находил в измененном виде – того, что он думал и что ему было желательно. Бухер именно понял его сразу и скоро освоился с его способом смотреть на вещи и обращаться с ними. В 1869 году и весною 1870 года он прожил с министром несколько месяцев в Варцине в качестве посредника в сношениях между союзными и прусскими властями и их шефом. Во время войны с Францией он, как было сказано выше, в последнюю неделю сентября был вызван в великую главную квартиру, в которой и оставался с канцлером до конца кампании. В 1871 г. он находился во Франкфурте при переговорах о заключении мира. И в последующие годы он следовал за князем как необходимый ему человек, когда князь удалялся в свое померанское поместье. Он, по-видимому, избегал придворной атмосферы.
Я должен еще прибавить, что Бухер остался неженатым и что он, сколько мне известно, в сравнении с другими, несмотря на свое положение, имеет мало знакомых. Личность его производит впечатление молчаливого, трезвого, рассудительного человека, который, однако ж, обладает некоторыми поэтическими чертами, а равно и здравым юмором. Его мысли, его симпатии и антипатии выражаются в тихой речи, не обнаруживая тем не менее недостатка энергии. Холодная голова с теплым сердцем – тихая вода, но глубокая.
Моя картина готова, и когда я окидываю ее теперь взором, мне представляется, как будто, несмотря на глубокое уважение к самому оригиналу, я не рисовал ее розовыми, а только правдивыми красками истины. И если теперь в виде подписи картины я выражу большую похвалу, то я должен сказать, что она исходит из других уст. Он «истинный перл», сказал имперский канцлер о Бухере, когда я прощался с ним в 1873 году.
Когда Лотар Бухер избран был канцлером в свои сотрудники, он наследовал в этом случае тайному советнику Абекену. Гейнрих Абекен был во всех отношениях чиновник старой школы. Он принадлежал всем своим существом той эпохе нашей истории, которую можно назвать литературно-эстетической, тому времени, когда политические интересы отступали на задний план перед занятиями поэзией и философией, филологическими и другими научными вопросами. Он чувствовал себя наилучше в кругу идей, которые до наступления новой эры господствовали в сферах двора и высшего чиновничества. Он никогда не выдавался в политике, напротив, какой-нибудь вопрос по эстетике часто в глазах его имел больший вес, нежели важное действие в области государственной. Нередко случалось, что, в то время как другие беспокоились об исходе решительной минуты в том или другом важном процессе, голова его была занята тем или другим стихом какого-нибудь старого или нового поэта, потом он обыкновенно произносил этот стих с пафосом; но это поэтическое произведение не находилось в связи с действительным положением дел.
Абекен происходил из Оснабрюка и родился в 1809 г. Его подготовкой к университету руководил дядя его, филолог и эстетик Людвиг Абекен, который во времена Шиллера вращался в веймарских кружках и усвоил себе тамошний образ мыслей. Племянник изучал потом богословие, и в тридцатых годах при Бунзене он сделался проповедником при посольстве в Риме, где он женился на англичанке, которую, однако, смерть похитила у него по прошествии нескольких месяцев. Находясь в дружеских отношениях с Бунзеном, воззрения и стремления которого в области религиозной были им разделяемы, он перешел около 1841 года к занятиям дипломатическими делами, причем прежде всего написал записки об основании евангелического епископства в Иерусалиме – между прочим, идея, которая в настоящее время едва ли могла бы занимать кого-либо в Берлине. Потом мы встречаем его с Лепсиусом в Египте, откуда он отправился путешествовать по Святой земле. При Гейнрихе Арниме он поступил в министерство иностранных дел, в котором оставался до самой смерти, последовавшей осенью 1872 года, хотя в этот промежуток там происходили весьма существенные перемены.
Соглашаясь с советником при посольстве Мейером, воздвигнувшим ему памятник дружбы в «Allgemeine-Zeitung», можно усмотреть в нем «кроткую добродетель, сообразующуюся с долгом и добросовестным продолжением служебной верности и служебной готовности», равно как и доказательства в пользу того, что политика никогда не была близка его сердцу, по меньшей мере не настолько занимала его сердце и совесть, как другие вещи. Мы найдем возможным вывести отсюда и другое заключение, а вышеупомянутому его биографу и не подобает делать этот вывод. Абекен, так приблизительно начинает он, представляет отчасти врожденное, отчасти усвоенное сходство с Бунзеном, учеником которого он был и жизнь которого он описал; он обладал живым темпераментом и многосторонним умом. Зато это не была самобытная, творческая натура. Вследствие этого «он ушел», так говорится дальше, «от опасности, чтобы в преследовании новой смелой идеи, убеждения не попасть в борьбу с водоворотом обстоятельств времени вследствие нового хода государственного механизма и не быть выброшенным на берег. Вот почему при своей легкой и мало самостоятельной политической подвижности он был в состоянии в продолжение двадцати четырех лет, когда переменилось семь различных министерств и систем, держаться постоянно на своем фарватере, не испытав ни внешнего, ни внутреннего толчка, И если б захотели сделать нашему другу упрек за его лавирующую эластичность, за его невольно приспособляющуюся к ветру и погоде непоколебимость в должности и положении, то такой стоический укор, во всяком случае, менее поразил бы отдельный образ действий и мыслей покойного, нежели все его существо, которое с ними находилось в неразрывной связи». Если мы станем читать между строк и если мы представим себе, что то и другое выражено менее аллегорически и точнее, то мы не обидим покойного тайного советника, если подпишемся под этим мнением.
О его способности к делам и о пределах этой способности было говорено выше. Равным образом о необычайной силе, с которой его привлекало все, что имеет связь с двором. Как в этом он представляет противоположность Бухеру, так и в том, что он был чрезвычайно общителен и разговорчив. Свои потребности в сношениях со знатными людьми он, между прочим, удовлетворял тем, что вращался часто в кружках, которые собирались во дворце у Радзивилла. Этих посещений он не был в состоянии прекратить даже и тогда, когда в них образовалась ультрамонтанская оппозиция против церковной политики имперского канцлера. Но оставляя в стороне эти и другие знатные кружки, он чувствовал себя наиболее счастливым в еженедельных собраниях общества «Gracca», состоявшего большею частью из так называемых римлян. Это общество, согласно уставу, исключало всякие политические разговоры и, кроме общественных целей, преследовало лишь цели филологические и эстетические. Здесь он был в своей настоящей стихии. «Но и среди служебных занятий», так сообщает Мейер, и я мог бы рассказать то же, даже и в своем министерстве он умел еще находить время для эстетико-филологических интермедий и занимать своих сослуживцев, утомленных гессенским или шлезвиг-гольштинским вопросом, то какими-нибудь из своих воспоминаний о Риме или Востоке, то приводить их в изумление целым потоком цитат из немецких и чужих поэтов, Гете и Софокла, Гейнриха Клейста, Шекспира и Данте, но, быть может, чаще – я позволю себе прибавить это, – возбуждать иные ощущения. До чего это доходило, мы можем видеть из одного анекдота, который Мейер рассказывает нам о своем приятеле, не чувствуя сам, какой он вздор говорит.
«Когда Абекен в ноябре 1850 года, как это он часто рассказывал, сопровождал своего тогдашнего шефа из Берлина в Ольмюц – для заключения того несчастного соглашения, в котором он, конечно, всегда желал видеть только счастливое дипломатическое спасение Пруссии, – они вдруг увидали оба после ночного переезда подымавшееся перед ними зимнее утреннее солнце, и они приветствовали его, сперва министр, известной им обоим хоровой песней из Антигоны: Αχτιζ ’Αελιου! Луч Гелиоса, ты!»
Я полагаю, это не нуждается в комментарии, и потому скажу только: счастлив Абекен, что министра, присутствовавшего при этом странном взрыве чувств, должно быть, не впервые им обнаруженных, звали фон Мантейфелем, а не фон Бисмарком. Я желал бы видеть гнев этого последнего, если бы покойный затянул при нем свою хоровую песню к восходящему солнцу в то время, когда солнце Пруссии закатывалось на целые годы.
Часть вторая
Глава ХII Усиленное ожидание развязки в разных направлениях
В половине ноября я писал домой: «Возможно, что мы вернемся на родину до Рождества. Некоторые считают это вероятным, основываясь на отзывах, выраженных на днях королем; я, однако же, не вполне уверен в этом, хотя дела наши и идут хорошо, и Парижу, по всем вероятиям, через какие-нибудь три-четыре недели придется питаться лишь мукой и кониной, и он, следовательно, будет вынужден оказать и с своей стороны некоторое содействие нашему желанию, в особенности же если крупные гиндерзиновские пушки помогут укрощенному голодом правительству принять скорейшее решение. Что наш друг С. находит такую историю скучной – это понятно. Но война не для того ведь, собственно, ведется, чтобы доставлять препровождение времени ему и людям, разделяющим его образ мыслей. Поэтому он сделает хорошо, если вооружится терпением еще на некоторое время; для этого я рекомендую ему взять в пример наших солдат, которые обречены ожидать окончания, голодая, и в грязи, не так, как он и другие господа, которые ждут конца в Берлине, развалившись на покойной софе, имея сытный обед и вдоволь вина. Эти премудрые пивные и винные склады, вечно сетующие и ворчащие, представляют какое-то особенное общество, недовольное ничем до смешного».
В этих словах, несомненно, была и некоторая доля правды; но когда оказалось, что парижане запаслись провизией на более продолжительное время, чем предполагалось мною, когда огромные пушки генерала Гиндерзина пребывали в молчании еще целые недели и когда германский вопрос, по-видимому, еще не приближался к желаемому решению – в то время в дом, находящийся на rue de Provence, мало-помалу проникло уныние, тем более что слухи, будто какое-то незваное вмешательство замедляет начало бомбардировки, с каждой неделей распространялись упорнее.
Насколько эти слухи действительно были основательны – этого я решать не берусь. Достоверно, конечно, и то, что существовали и другие причины, которые препятствовали переходу к обстреливанию города в том именно скором времени, как это многие желали, и что даже обложение Парижа представлялось делом необыкновенным. Для объяснения этого обстоятельства я предпошлю дальнейшему моему изложению описание майора Блюме, сделанное им в 1871 году.
«Обложение Парижа, прежде чем оно действительно приведено было в исполнение, считалось иностранными военными специалистами делом просто невозможным, и этот взгляд мог найти себе оправдание в весьма серьезных основаниях. В Париже до его оцепления находилось почти четыреста тысяч вооруженных людей, в числе которых было около шестидесяти тысяч человек регулярного войска, приблизительно сто тысяч подвижной гвардии, набранной в самом городе и в соседних департаментах. Регулярное войско и подвижная гвардия были вооружены ружьями Шасспу, и какие недостатки ни заключались бы в военной выправке этих войск, они все-таки были достаточно сильны для того, чтобы с успехом защищаться под прикрытием валов и рвов и при хороших начальниках делать энергические вылазки. Главная линия обложения Парижа простиралась на четыре мили; соединительная линия фортов была длиною семь с половиною миль; линия обложения, долженствовавшая быть занятой немецкими передовыми постами, простиралась даже на 11 миль, а прямая телеграфная линия, соединявшая между собою главные квартиры разных армейских корпусов, была длиною не менее чем двадцать миль. Сила же немецкой армии, окружившей 19-го сентября город, состояла не более как из 122 000 человек пехоты, 24 000 человек кавалерии при 622 орудиях. Действительная сила отдельных отрядов этого войска весьма значительно уменьшилась вследствие происходивших сражений и походов. Так, например, гвардейский корпус имел в своем составе только 14 000, пятый армейский корпус – только 16 000 человек пехоты. Таким образом, в действительности обложение являлось предприятием смелым, гораздо более смелым, чем сами французы представляли его себе в тогдашнее время, и, если бы они обладали хоть некоторою долею самопризнания, им следовало бы и теперь заявить, что громкие фразы о славной защите их столицы имели мало оснований. В продолжение четырех недель на каждый шаг громадной линии обложение приходилось только по одному немецкому пехотинцу. Потом мало-помалу стали подходить одиннадцатый северогерманский и первый баварский армейские корпуса, а равно и вновь набранные войска для пополнения слившихся вместе кадр; с падением Страсбурга освободилась дивизия гвардейского ландвера, и, таким образом, ко времени последней недели октября обе наши армии перед Парижем усилились до 202 000 человек пехоты и 33 800 человек кавалерии при 898 орудиях. Несмотря, однако же, на значительные силы, требовавшиеся службой на передовых постах и для необходимого фортификационного укрепления линии обложения, эти армии должны были выделять из себя тотчас же сильные отряды, для того чтобы сделать свободным тыл осаждающих войск. А поэтому число непосредственно осаждавших город немецких войск едва ли составляло когда-либо более двухсот тысяч человек».
Блюме приводит далее причины, почему, по его мнению, не произведены были попытки взять силою Париж в сентябре, а позднее не была предпринята формальная осада его. От намерения взять силою Париж надобно было отказаться ввиду недоступности фортов и вала, защищавших город. Для осады же и даже для артиллерийской атаки отдельных фортов, независимо от незначительности имевшегося в распоряжении войск, прежде всего недоставало соответственного осадного парка. Доставка же парка могла быть произведена не ранее как по падении Туля и открытии железнодорожного движения до Нантейля, значит, не раньше последней недели сентября. А когда открылось железнодорожное сообщение до этого места, отстоящего от Парижа на одиннадцать миль, ближайшею и настоятельнейшей потребностью сделалась забота о достаточном продовольствии войск. В окрестностях Парижа в лучшем случае можно было найти винные склады, но, кроме них, не было никаких других запасов, заслуживающих внимания. Армия кормилась только тем, что могли доставать руки. Приходилось учреждать и наполнять запасные магазины, и вследствие этого откладывалась доставка осадных орудий. Но даже и тогда, когда подвоз их до Нантейля сделался возможным, все-таки предстояли еще большие затруднения. Около трехсот пушек самого крупного калибра и по пятьсот зарядов на каждую из них «в виде необходимейшего боевого снаряда» нужно было доставлять на телегах на расстояние одиннадцати миль, «по скверным дорогам»; требующихся же для этого четырехколесных фур нельзя было найти во Франции, так что, наконец, пришлось выписать из Германии целые вереницы транспортных повозок. Эти-то и другие затруднения, по уверению майора Блюме, были причиной, что даже и в декабре, когда уже были сделаны приготовления к артиллерийской атаке на Мон-Аврон и форты южной стороны, имелся на лицо только осадный парк умеренной силы, а именно: за вычетом 40 нарезных шестифунтовых орудий – только 235, в числе которых около половины нарезных двенадцатифунтовых. С этими средствами, полагает Блюме, на город едва ли возможно было произвести что-либо большее, чем известное нравственное давление. «Но большего и не было нужно: о действительной осаде и закладывании параллелей с целью овладения фортами при существовавших обстоятельствах нельзя было и думать».
«В половине января против южного фронта Парижа действовали 123 орудия. Они бросали ежедневно в город от двух до трехсот гранат, что было достаточно для того, чтобы держать в тревоге части города, лежащие на левом берегу Сены, и выгнать оттуда большую часть населения. Собственно, большой материальный вред, во всяком случае, они не могли причинить; но после падения Мезьера число тяжелых орудий могло быть значительно увеличено, а затем успехи наших батарей на севере дозволяли подготовить решительную атаку на Сен-Дени и отсюда открыть огонь по северной половине Парижа. Однако к тому времени сила сопротивления города уже истощилась. Вскоре после последней неудачной вылазки 19-го января он сложил оружие, а с падением его наступило перемирие, а вслед за тем и мир».
Теперь мы возвратимся снова ко времени половины ноября и продолжим, насколько возможно, рассказ дневника.
Среда, 16-го ноября. Начальник все еще нездоров; как на одну из причин болезни, указывают на неприятности по поводу переговоров с некоторыми южнонемецкими государствами, казавшихся, что они вскоре приостановятся, а равно и вследствие поведения военных чинов, которые несколько раз не находили нужным справляться с его мнением, хотя дело, собственно, касалось не одних только военных вопросов.
После трех часов пополудни я снова посетил тех офицеров 46-го полка, которые из передовых постов только что возвратились сюда отдохнуть на шесть дней и наслаждались покоем в небольшом замке близ Шинэ. Г., который, вероятно, вскоре получит орден Железного креста, рассказывал прекрасный анекдотец, относящийся к действиям последних недель. В стычке, происходившей по соседству с Мальмэзоном, они должны были пробраться через брешь в стене, окружавшей парк; но брешь была так невелика, что Г. не мог пролезть в нее иначе как опустив обнаженную шпагу. Находясь поэтому случаю в затруднении, он увидал стоявшего по ту сторону француза, красивого, бодрого малого, взятого недавно в плен и безоружного. Г. подозвал его к себе и попросил его подержать ему шпагу. Француз исполнил это, улыбаясь, и затем возвратил ему оружие с выражением обязательной услужливости. Подобным же образом он помог и взбиравшемуся за Г. фельдфебелю. Солдаты, конечно, застрелили бы молодого человека, если бы он только подал вид, что хочет оставить у себя шпагу.
Галлы, как полагает Г., теперь охотно сдаются в плен, что, однако же, нельзя объяснить себе недостатком пищи в парижской армии. Недавно сержант зуавов, перебежавший на передовые посты при Ласели, имел очень дородный вид. Все ждут здесь с нетерпением начала бомбардировки, и все утверждают с уверенностью, будто она до сих пор не состоялась потому, что некоторые высокопоставленные дамы ходатайствовали о пощаде города. Сегодня ждали – я не позаботился спросить, на основании каких это известий или признаков, – большой вылазки парижан. Я утверждал, что подобная попытка теперь уже не имеет более такого значения, как на прошлой неделе, так как принц Фридрих Карл прибыл уже со своими войсками в Рамбуллье.
За обедом присутствовал граф Вальдерзее. Шеф опять жалуется, что военачальники не хотят извещать его обо всех важных обстоятельствах. Только после долгих просьб он добился, чтобы ему по меньшей мере сообщали о тех делах, о которых телеграфируют в немецкие газеты. В 1866 году было иначе. Тогда его приглашали всякий раз к обсуждению дел.
– Так и следует, – закончил он свою речь. – Этого требует мое звание; я уже потому должен знать о всех военных делах, чтобы мог своевременно заключить мир.
Четверг, 17-го ноября. Дельбрюк, живший через два или три дома от нас, на avenue de Saint Cloud, сегодня после завтрака у нас уехал обратно в Берлин, где должно произойти открытие рейхстага. За завтраком сделалось также известным, что Кейделль избран в рейхстаг, но он вскоре опять приедет сюда. Раньше я просмотрел несколько французских писем, отправленных на аэростате, а равно и несколько парижских газет, между прочими, «Patrie» от 10-го числа, содержавшую интересную полемику Абу с временным правительством, – в ней приблизительно те же мысли, которые недавно развивали «Figaro», «Gazette de France» от 12 числа и «Liberié» от 10-го числа. Потом я послал в Берлин перевод письма, присланного президентом римской юнты газете «Allgemeine-Zeitung». После обеда мы узнали, что принц Фридрих Карл стоит уже близ Орлеана.
К обеду приехали гости начальника: Альтен и князь Радзивилл. Говорили, что носится слух, будто Гарибальди с 13 000 своих волонтеров попал в плен, на что министр заметил: «Это ведь было бы действительно прискорбно – взять в плен 13 000 вольных стрелков, которые даже не французы, – отчего это их не расстреливают?» Потом он опять жаловался на то, что военачальники мало спрашивают его мнения. «Вот, например, капитуляция Вердена, – продолжал он, – я, конечно, не посоветовал бы ее. Обещано возвратить оружие по заключении мира, и притом французским властям предоставлена полная свобода действий. Первое условие – еще ничего, потому что при самом заключении мира можно выговорить, что оружие не будет возвращено. Но эта librement – тут ведь мы в промежутке времени до заключения мира ничего не можем сделать, и они нам могут делать во всем наперекор – могут действовать так, как будто и нет войны. Они могут совершенно открыто произвести восстание в пользу республики, и мы, согласно договору, не можем запретить им этого».
Затем кто-то заговорил о статье дипломата, помещенной в «Independence Belge», в которой пророчится возвращение Наполеона. «Конечно, – заметил канцлер, – нечто подобное может прийти в голову тому, кто прочел эту статью. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы это было совершенно невозможно. Если бы он заключил с нами мир, то с войсками, которые он имеет в Германии, он мог бы возвратиться. Они составляли бы что-то вроде венгерского легиона в большем размере. До сих пор он все-таки представляет законное правительство». «После восстановления порядка для поддержания его потребовалось бы самое большее – двести тысяч человек. Облагать войсками большие города, кроме Парижа, не было бы надобности. Пожалуй, пришлось бы еще облагать Лион и Марсель. Остальные города он мог бы отдать под защиту национальной гвардии. Если бы республиканцы восстали, их можно бы бомбардировать».
Подают телеграмму, содержащую мнение Гранвилля о русской декларации относительно Парижского мира, и шеф читает телеграмму вслух. Телеграмма гласит приблизительно так: Россия намеревается отказаться от части трактата 1856 года, но она тем самым присваивает себе право единолично устранить весь трактат, между тем как это право принадлежит только всей совокупности лиц, подписавших его. Англия не может допустить такого произвольного поступка, влекущего за собою сомнение в действительности всех договоров. В будущем надо опасаться усложнений. Министр улыбается и говорит: «Будущие усложнения! Парламентские ораторы! Не посмеют ничего». Слово «будущие» он подчеркнул. «Так обыкновенно говорится, когда не имеется в виду сделать что-нибудь. Нет, их нечего бояться, так же как месяца четыре назад от них нечего было ждать». «Если б англичане до начала войны сказали Наполеону: войны не бывать, то не было бы теперь ее». Минуту спустя он продолжал: «Существовало всегда мнение, что русская политика особенно хитра – все увертки, пронырства и уловки, но это неправда. Будь они нечестны, они не стали бы давать подобных объяснений, а преспокойно строили бы корабли на Черном море и ждали бы, пока их не спросят об этом. Затем они могли бы сказать, что они ни о чем не знают, но они справятся и, таким образом, продолжали бы свое дело. Подобное положение вещей могло бы долго продолжаться и наконец к нему бы и привыкли». – Бухер замечает: «У них ведь теперь уж имеются военные корабли на Черном море; севастопольские уже вытащены, и если б им сказали: “Вы не вправе иметь здесь корабли”, они могли бы ответить: “Верно, но мы ведь не можем вывести их отсюда, так как в 1856 году запрещен проход военных кораблей через Дарданеллы”».
Другая телеграмма извещает об избрании герцога Аоста королем Испании. Шеф говорит: «Мне жаль его и ее. Он избран, впрочем, незначительным большинством – не двумя третями, как требовалось первоначально. За него подано около 190 голосов, а 115 против». Альтен радуется, что монархический принцип в Испании все-таки наконец одержал победу. «Ну уж эти испанцы, – возразил министр, – нашелся ли хотя один из этих кастильцев, считающих, что они безраздельно обладают чувством чести, который выразил бы свое негодование относительно причины настоящей войны, хотя причины эти проистекали, собственно, из их прежнего выбора короля и заключались в том, что Наполеон вмешался в их свободное решение, трактовал их как своих вассалов?» Кто-то заявляет, что теперь кончилась кандидатура принца Гогенцоллерна. «Да, – возразил шеф, – потому только, что он сам не захотел. Еще недели две назад я сказал ему: пока еще есть время; но у него уже охота пропала».
Вечером, за чаем, рассказывали, что Борк чрезвычайно радуется известию, что мы еще до праздников возвратимся домой. Он сказал, будто королю надобно подумать о рождественских подарках для королевы.
– А сколько остается еще до Рождества? – спросил его величество.
– Пять недель, ваше величество.
– Д…а, к тому времени мы будем дома.
Что это такое: басня или недоразумение? Все-таки запишем это.
Пятница, 18-го ноября. Утром густой туман, к одиннадцати часам проясняется, после обеда опять поднялся туман. За завтраком я узнал, что генерал фон Тресков выбил из Дрё семь тысяч французских мобилей (подвижной гвардии) и занял город. Я спросил, можно ли мне телеграфировать об этом, на что получил утвердительный ответ, и телеграмма была отправлена. Потом отправился с Вольманном в Вилль-д’Аврэ, чтобы снова взглянуть на Париж. Когда мы вернулись домой, мы застали у шефа, в зале, баварского военного министра фон Пранка.
В канцелярии говорят о том, что Кейделль прибудет завтра или в воскресенье и что против позиции баварцев сделана небольшая вылазка, подробности о которой, однако, еще неизвестны. Вечерний номер «National-Zeitung» от 15-го ноября под заглавием «Великобритания» содержит заметки о Рейнье и его визитах к нам, в Мец и к Евгении. Он богатый помещик, женат на англичанке, мадам Лебретон, которая находится в свите императрицы и в большой дружбе с нею и до войны бежала из Франции. Он, по-видимому, волонтер в дипломатии и, как у нас прежде предполагали, принял на себя роль посредника по собственной инициативе. За столом присутствовали гости: граф Брай, министр фон Луц и вюртембергский офицер фон Мауклер. Брай – большого роста, худощавый господин с длинными, гладкими волосами на висках, за уши причесанными, за исключением коротеньких и жиденьких бакенбард, весь выбрит, с тонкими губами, очень худыми руками и необыкновенно длинными пальцами. Говорит он мало, от него веет холодом; он чувствует себя здесь как чужой. В другом месте его легко приняли бы за англичанина. Иезуит, изображаемый в наших сатирических журналах, обыкновенно приблизительно так же выглядит, как он. Луц совершенно противоположен ему: он среднего роста, круглолицый, красный, с черными усами, темными волосами, спадающими со лба на маковку, в очках, веселый и разговорчивый. Мауклер – молодой, чрезвычайно красивый господин. Шеф, по-видимому, сегодня в хорошем настроении и общителен, но на этот раз разговор не имел особенного значения; он вращался главным образом около пивного вопроса, в разъяснении которого Луц принимал участие в качестве знатока.
Суббота, 19-го ноября. Утром, кроме чтения газет, больше нечего делать. Шеф, вероятно, занимается баварским делом. Брай и Луц опять у него с часу времени. Вечером, когда министр ужинал у короля, с нами ужинали графы Мальтцан и Лендорф и какой-то господин Завидский. Последний из зеленых гусаров; у него белая повязка с красным крестом, иоаннит [12] , Железный крест на белой ленте, полное красное лицо, усы. Из разговоров записывать нечего. Предлагают держать пари, что завтра будет сделана большая вылазка. Кто-то еще слышал, будто версальцы хотят нам сегодня устроить Варфоломеевскую ночь. Никто, по-видимому, не приходит от этого в ужас.
Воскресенье, 20-го ноября. Утром оркестр тюрингенского полка играл шефу серенаду. Он выслал им пива, потом сам подошел к дверям, взял стакан и сказал: «За здоровье! Выпьемте за скорое возвращение к нашим матерям!»
Затем дирижер спросил его, скоро ли это случится. Министр ответил: «Д…а, Рождество мы не будем праздновать дома; может быть, резервы будут дома, мы же останемся еще у французов, так как от них нам придется получить много денег. Мы получим их скоро», – заметил он, улыбаясь.
После обеда я совершил прогулку в Вилль-д’Аврэ, в Севр. Между обеими местностями, наверху возвышенности у железнодорожного моста, открывается чрезвычайно красивый вид на Париж, который расстилался теперь передо мною, освещенный самым ярким светом полуденного солнца. Обратный путь лежал на Шавилль и Вирофле. В первой из названных деревень я видел проездом солдатскую шутку. Фигуры, стоящие на столбах по обеим сторонам проезжих ворот, были превращены солдатами в карикатуры. На рыбака или носильщика со штанами, отвороченными до самых колен, надели муфту, навесили манерку, наложили на плечи красные эполеты, надели ранец, на затылок сдвинули кепи, вооружили ржавым ружьем и, таким образом, сделали из него нечто вроде ярого республиканца первой республики. Что должен был означать аббат, стоявший на противоположной стороне, которому на голову нахлобучили треуголку с трехцветной кокардой, сунули в руки и в рот валторну, навесили на него бутылку и спереди фонарь, – этого второпях я не мог разгадать.
За обедом в качестве гостя присутствовал генерал фон Вердер, прусский военный агент в Петербурге, большого роста господин с темными усами. Вскоре после его прихода шеф сказал ему радостно: «Очень возможно, что мы еще сговоримся с Баварией».
– Да, – подхватил Болен, – что-то в этом роде сказано в телеграмме одной из берлинских газет – «Volks-Zeitung», «Staatsbürger-Zeitung» или в чем-то похожем. – На это министр заметил: «Это ведь неприятно мне, это слишком преждевременно. Но конечно, где куча знатных людей, которым делать нечего и которые скучают, – там ничто не остается тайной». – Затем он перешел – я не помню уж каким образом – к следующему воспоминанию о детстве: «Когда я был еще очень мал, у нас как-то давали бал или что-то в этом роде, и, когда общество уселось за стол, я сыскал себе тоже место и поместился где-то в углу, где сидело несколько взрослых. Они удивились появлению маленького гостя и заговорили по-французски: «Откуда этот ребенок?» «C’est peut-étre un fils de la maison, on un fi». Тогда я сказал совершенно смело: «C’est un fils, monsieurs», что привело их в немалое изумление.
Затем заговорили о вине и о графе Бейсте; при этом шеф заметил, что тот извинился перед ним за недавнюю грубую ноту: автор ее не он, а Бегилебен. Потом разговор зашел о Гагернах и, наконец, о некогда прославленном Гейнрихе.
. . . . . .
Из того что я слышал, нельзя ознакомиться с путем, которым достигнуты означенные результаты. Достоверным кажется лишь то, что результат выразится в компромиссе, в котором мы с своей стороны удержим только существенное, а от всех других желаний и притязаний придется отказаться. В этом случае, наверное, не было произведено ни малейшего давления. Можно, однако, думать, что вопрос: удержать ли за собою Эльзас и Лотарингию или нет, заявленный в форме представления, мог бы содействовать решению дела. Эльзас и Лотарингию можно потребовать от Франции только именем всей Германии для Баварии. Северная Германия не нуждается непосредственно в этих провинциях, но Южной – а также, как доказывает история, и партикуляристам они необходимы, как хлеб насущный. Бавария не исключается отсюда. Только в тесном соединении ее с Северной Германией, которая может принять в соображение и всевозможные пожелания Баварии, можно найти средство для того, чтобы создать для Баварии эту охранительную ограду на западе. Впрочем, не особенно было бы красиво, если бы вследствие неподатливости мюнхенских политиков относительно более тесного соединения с остальной Германией потерпело бы крушение столь желаемое и ожидаемое общественным мнением обратное приобретение старых немецких провинций. Наконец, возможно и то, что северные немцы способствовали тому, чтобы сделать баварцев менее сговорчивыми. Я не знаю, сколько правды в том, что мне сказали сегодня за завтраком: «Мы могли бы скорее расположить их в нашу пользу, но тут замешался такой-то: он послал в Мюнхен своих друзей и единомышленников, а они вступили с баварцами в переговоры и удовольствовались меньшими уступками, и вот, может быть, Брай при совещании с министром вытащил из кармана бумагу и сказал: «Видите ли, вот такие-то и такие-то, которые все-таки достаточно проникнуты национальным чувством, требуют ведь лишь вот сколько. На это, конечно, нельзя возразить много».
Кейделль опять здесь. Он выглядит очень хорошо. В час пополудни у шефа происходило совещание с Одо-Росселем, который до сих пор занимал в Риме пост поверенного в делах сент-джемского кабинета. Вероятно, он переговаривается с министром о притязаниях России относительно Черного моря. После трех часов, когда шеф поедет к королю, я пойду с Г. в Hôtel de Chasse, где мы в обществе офицеров и военных врачей будем пить посредственное французское пиво и разговаривать со словоохотливой хозяйкой, которая, сидя на кафедрообразном возвышении в черном шелковом платье, управляет заведением. Мне кажется, что министр велит раздать полученные им в подарок из Бремена три тысячи сигар, и тогда и я получу свою долю. Эти сигары Prensados – очень порядочные. Шеф не обедает с нами. В качестве гостя прибудет Кнобельсдорф.
Вечером Л. откуда-то узнал, будто Гарибальди нанес нам громадное поражение, причем убито шестьсот наших кавалеристов. Какая глупая шутка! Отчего не шесть тысяч? Ведь для этого стоит только перевести дух лишний раз. Л. полагает, что завтра должно произойти что-нибудь близ Орлеана, так как наши окружили французов. Вечером, незадолго до девяти часов, Россель приехал опять к канцлеру и оставался у него почти до одиннадцати часов.
Вторник, 22-го ноября. Утром отвратительная дождливая погода. В то время как мы сидим за завтраком, Лутц совещается с шефом в зале. Вдруг последний отворяет дверь и спрашивает:
– Господа, не знает ли кто-нибудь из вас, сколько депутатов от Баварии в Таможенном парламенте?
Я иду, чтобы справиться о том в «Иллюстрированном календаре» Вебера, но не нахожу желаемых сведений в этом, впрочем, для подобных вещей очень хорошем источнике. Надо полагать, их будет 47 или 48.
После трех часов русский генерал Анненков сидел у министра около часа с четвертью. За обедом присутствуют князь Плесс и Штольберг. Речь идет о большой находке хороших вин, сделанной в недрах горы или подвала в Буживале и конфискованной нами, так как по праву войны вино принадлежит к категории питательных веществ. В., наш главный стольник, жаловался, что нам с этого склада ничего не досталось. Вообще об чинах ведомства иностранных дел заботились очень мало; начальнику всегда старались указать самые неудобные помещения, и мы считали счастьем, если даже могли найти их всегда.
– Да, – сказал шеф, улыбаясь, – действительно, некрасиво, что со мною так поступают. Притом какая неблагодарность со стороны военачальников в отношении меня, который в рейхстаге всегда заботился о них! Но они увидят, как я переменюсь. Я пошел на войну с благоговением к войску, но вернусь домой парламентарным человеком.
Князь Плесс хвалил вюртембергские войска; как солдаты, они произвели на него прекрасное впечатление и будто по своей выправке всего ближе подходят к нашим. Канцлер разделяет это мнение, но он желал бы распространить такой похвальный отзыв и на баварцев. Ему, кажется, особенно нравится в них то, что они «тотчас готовы расстрелять вольных стрелков».
– Наши северные немцы слишком придерживаются приказов. Когда такой разбойник, – заметил он примерно, – стреляет в гольштинского драгуна, этот прежде всего слезает с коня, бежит за ним с своей тяжелой саблей и ловит его; пойманного приводит к своему лейтенанту, и этот отпускает его или сдает другому на руки, что одно и то же, так как его все-таки отпускают. Баварец поступает иначе: он знает, что идет война, он придерживается еще добрых старых обычаев. Он не станет дожидаться, пока в него выстрелят сзади, а стреляет раньше.
За обедом у нас икра и паштет из фазанов. Первая доставлена нам старанием баронессы фон Кейделль, последний – графини Гацфельд. Подают также шведский пунш.
Вечером для нашей печати приготовлена заметка Бернсторфа, что французский фрегат «Desaix» захватил в английских водах немецкий корабль, а также и письмо к Ленди по поводу вывоза англичанами оружия во Францию; далее – приняты меры, чтобы наши газеты не защищали более Базена против делаемых ему упреков в измене, «так как это вредит ему», а равно отправлена и телеграмма о том, что французское правительство уже несколько дней перестало выпускать из Парижа иностранцев, со включением дипломатов, которых мы и теперь, как и прежде, готовы принять на наших линиях.
Л. извещает, что префект фон Браухич приказал версальскому магистрату под опасением штрафа в пятьдесят тысяч франков устроить к третьему декабря склад необходимых вещей, в которых начинает чувствоваться недостаток в городе. Гарибальди действительно имел незначительный успех над нашими войсками, но наша потеря убитыми, ранеными и взятыми в плен составляет, как говорят, не более 120 человек.
За чаем говорилось, что Г., который был у нас в Мо, опять приехал и принят шефом. По словам Болена, это несколько загадочная личность: он агент Наполеона и в то же время участник или даже совладелец весьма радикальной демократической газеты в Прирейнской провинции. В Пруссии он выдает себя успешно за республиканца, проникнутого чувством благородства и патриотизма. Такую рекомендацию дал о нем при его представлении правительственный президент фон… Что связывает обе стороны этой двойственной натуры, а равно какая цель настоящего посещения – остается покрытым мраком неизвестности. Затем речь шла о каком-то господине, который, придя в отчаяние от поведения известных личностей в Hôtel des Reservoirs, хотел примкнуть к демократам или уже соединился с ними.
Среда, 23-го ноября. Сегодня утром я спросил у одного из советников:
– Не знаете ли вы, в каком положении дело о баварских договорах? Нынче вечером, вероятно, уже выяснится это.
– Да, – отвечал он, – если еще что-нибудь не помешает; впрочем, и помехи-то, в сущности, не должно быть важной. А знаете ли, по какому поводу еще недавно договор чуть-чуть не потерпел крушения?
– По какому?
– По поводу вопроса: воротники или эполеты.
Так как после этих слов меня отозвали, то я не мог тотчас же попросить объяснения загадки. Потом я узнал, что дело касалось вопроса, носить ли баварским офицерам в будущем, как до сих пор, значки на воротниках или же, подобно северогерманским, на плечах.
За столом между нами сидели два лица: одно – в гусарской форме с женевской перевязкой, другое – в пехотной с аксельбантом; первое был силезский граф Франкенберг, большого роста красивый господин с рыжеватой окладистой бородой, второе – князь Путбус. Оба награждены за свои заслуги орденом Железного креста. Гости говорили о том, что в Берлине сильно желают бомбардировки и сетуют на ее замедление. Слух, будто высокопоставленные дамы являются одной из причин замедления, теперь, по-видимому, представляется общераспространенным.
Потом, когда разговор коснулся обращения с французским сельским населением, Путбус рассказал, что один баварский офицер сжег целую красивую деревню и приказал выпустить вино, хранившееся там в подвалах, потому что тамошние крестьяне вели себя вероломно. Кто-то другой еще заметил, что солдаты где-то ужасно исколотили священника, пойманного в измене. Министр снова хвалил энергию баварцев, но затем в отношении второго случая он прибавил:
– С этими людьми нужно или обращаться с возможно большим вниманием, или же делать их безвредными. Одно из двух. – И несколько подумав, он прибавил: – Их надобно вешать с учтивостью, соблюдаемой до последней ступеньки виселицы. Грубо можно обращаться только с их друзьями, когда можно предполагать, что они не сердятся за это. Как грубо обращаются, например, с их женами в сравнении с другими женщинами.
Разговор идет о герцоге Кобургском, потом о марлиском водопроводе и о том, что в него не попадают ядра с форта; наконец, по инициативе князя Путбуса, о какой-то маркизе делла Торре, у которой, по его словам, было несколько бурное прошлое; она любила лагерную жизнь, была с Гарибальди под Неаполем и с некоторого времени находится здесь и ходит с женевским (красным) крестом. Кто-то упомянул о картине, заказанной у Блеймтрей, и это подало повод другому застольному гостю заговорить о другой картине, долженствовавшей изображать генерала Рейля, передающего королю на горе перед Седаном письмо от Наполеона. Картину порицали за то, что на ней генерал снимает фуражку так, как будто намеревается кричать «ура» или «виват». Шеф заметил:
– Он вел себя, во всяком случае, прилично и с достоинством. Я тогда сам говорил с ним, именно в то время, когда король писал ответ. Он уговаривал меня не ставить крутых условий армии, столь великой и в то же время столь мужественно сражавшейся. Я пожимал плечами. Тогда он сказал, что раньше, чем сдаться, они взорвут себя с крепостью на воздух. Я сказал: «Ну что же, и взрывайте себя – faites sauter!» – Потом я спросил его, уверен ли еще император в армии и офицерах. Он дал утвердительный ответ. – Имеют ли еще значение слово и приказание императора в Меце? Рейль и на это ответил также утвердительно, и, как мы видели, тогда он был еще прав. Мне кажется, заключи он тогда мир, он был бы теперь еще уважаемым правителем. Но он… я сказал это уже шестнадцать лет назад, когда никто не хотел верить мне!.. глуп и сентиментален.
Вечером Л. объяснил, что с одним из журналистов, пишущим отсюда корреспонденции, случилось несчастье. Рассказывают, будто Д. Кейслер, посылающий известия в берлинские газеты, приблизительно дней восемь назад исчез по дороге в Орлеан, и опасаются, не убит ли он вольными стрелками или по меньшей мере не попал ли он в плен [13] . Было бы менее прискорбно, если бы это случилось с враждебным Пруссии корреспондентом венской или франкфуртской газеты, известным Фогтом, который, как кажется, воображает, что имеет привилегию писать отсюда под охраной немецких властей всевозможные клеветы. Еще в начале войны, при Саарбрюкене, он завел, говорят, ссору с нашими офицерами, а теперь он осмелился обнародовать, будто пруссаки под Орлеаном не явились своевременно на помощь баварцам, предоставили последних их собственной судьбе, следовательно, некоторым образом были причиной поражения. Прогнать с театра войны такого господина было бы приятнее, чем история с несчастным корреспондентом.
Около десяти часов я сошел вниз к чаю и застал там еще Бисмарка-Болена и Гацфельда. Шеф был в зале с тремя баварскими уполномоченными. Приблизительно четверть часа спустя он отворил одну половинку двери, высунул голову с очень веселым лицом и затем, заметив, что у нас еще есть общество, он подошел к нам с бокалом и уселся за стол.
– Итак, договор с Баварией заключен и подписан, – сказал он растроганным голосом. – Создано единство Германии, а с этим вместе и император.
С минуту царило молчание. Потом я попросил позволения взять себе перо, которым он подписался.
– С Богом! В добрый час, возьмите себе все три пера, – возразил он, – но золотого там нет между ними.
Я пошел и взял себе три пера, которые лежали возле документа и из которых два еще были мокры. (Как мне после говорил В., канцлер подписывал тем пером, которое имело бородку по обеим сторонам.) На столе стояли две пустые бутылки шампанского.
– Дайте нам еще одну вот этого, – сказал шеф служителю. – Это – событие.
Потом, после некоторого раздумья, он заметил:
– Газеты не будут довольны, и кто пишет истории по обыкновенному шаблону, может порицать нашу сделку. Он может сказать (я привожу здесь, как и всегда между кавычками, в точности его собственные слова), этому дураку следовало бы требовать больше, он и добился бы большего, они должны были бы уступить, – а насчет того что «должны были бы», то он, пожалуй, и будет прав. Я же заботился больше о том, чтобы это дело доставило людям внутреннее удовлетворение; в самом деле, что это за договоры, которые заключаются по принуждению? А мне известно, что участники ушли совершенно довольные. Я не хотел прижимать их, не хотел воспользоваться положением дел. Договор имеет свои недостатки, но в таком виде он прочнее. Я считаю его важнейшим из всего того, что нами достигнуто в нынешнем году… Что касается дела об императоре, то я в переговорах заставил их признать его тем, что выставил им положение их короля, которому все-таки удобнее и легче уступить известные права германскому императору, нежели соседнему с ним королю Пруссии.
Потом, за второй бутылкой, которую он распил с нами и с подошедшим к нам в это время Абекеном, он заговорил о своей смерти, в точности определил лета, до которых ему назначено дожить.
– Я знаю это, – сказал он в заключение после сделанных ему возражений, – это мистическое число.
Четверг, 24-го ноября. Утром работал долго и написал несколько заметок в смысле мнения, высказанного вчера вечером шефом о договоре с Баварией. После обеда, когда мы гуляли с В. в дворцовом парке, он рассказал мне, что некий полковник К. в каком-то месте в Арденнах приказал арестовать адвоката, поддерживавшего изменнические сношения с шайкой вольных стрелков. Военный суд произнес над этим человеком приговор – смертную казнь. Говорят, он просил о помиловании, но об этом узнал будто шеф и сегодня велел написать военному министру, что он будет ходатайствовать у короля, чтобы не препятствовали ходу правосудия.
За обедом были гости шефа: полковник Тилли из генерального штаба и майор Гилль. Шеф, снова жалуясь на то, что военачальники сообщают ему слишком мало и слишком редко спрашивают его мнения, говорил: «Так оно было и с назначением Фогеля фон Фалькенштейна, который теперь приструнил Якоби. Если бы мне пришлось высказаться по этому предмету перед рейхстагом, то моя совесть была бы чиста. Больших хлопот и нельзя было бы причинить мне». «Я пришел, – повторяет он, – на войну, благоговея перед войском; в будущем я буду держать себя парламентарно, а если они дальше будут делать мне неприятности, то я велю поставить себе стул на крайней левой стороне рейхстага».
Упоминают о договоре с Баварией и говорят о том, что во встреченных при его заключении затруднениях причастны и люди, проникнутые чувством национальности, на что министр замечает: «Удивительное дело, бывают ведь очень умные люди, которые, однако, ничего не смыслят в политике». Далее, переменив вдруг тему, он заявляет: «Англичане выходят из себя, их газеты требуют войны вследствие письма, содержащего только изложение известного обсуждения права, так как то, что в нем излагается дальше, – это уже нота Горчакова».
Потом он еще раз заговорил о замедлении бомбардировки, которое по политическим соображениям возбуждает в нем сомнение. «Вот теперь доставлен громадный осадный парк, – говорил он, – весь мир ждет того, что мы будем обстреливать город, и между тем до сегодняшнего дня орудия бездействуют. Это, наверное, повредило нам у нейтральных держав. Действие седанской победы этим весьма значительно умалено и из-за чего?»
Пятница, 25-го ноября. Телеграфировал утром о капитуляции Тионвилля, последовавшей между вчерашним и нынешним числом; приготовил для короля статью из «Neue Freie Presse», выставляющую ноту Гранвилля робкой и бесцветной, и хлопотал о том, чтобы во всех наших газетах, получаемых во Франции, были перепечатаны телеграммы, в которых в прошлом июле выражалось Наполеону одобрение со стороны французского населения по поводу отправленного нам объявления войны.
После обеда я пошел с В. на один час во дворец, осмотрел галерею исторических картин, которая в своем роде имеет громадное значение и содержит, между прочим, весьма интересный бюст Лютера. Потом мы прошлись по главным улицам города, завернули в обе большие церкви и к памятнику Гоша, причем, как и всегда, мы встретили много священников, монахинь, а также и монахов и удивлялись громадному числу винных лавочек и кафе в Версале. Одно из этих заведений имело странное название «Au chien qui fume», и на вывеске была изображена собака, державшая в морде трубку. Находившийся на улице перед наружными дверями народ был везде учтив, в особенности женщины. Хотя газеты и говорят, что матери и няньки отворачивались, когда кто-нибудь из нас гладил их ребятишек по щечкам, но этого я на основании моего личного опыта подтвердить не могу. Они были этим точно так же довольны, как это и всюду бывает, и говорили детям: «Faites minette а Monsieur». Высший класс, конечно, никогда почти и не показывается на улице, а если это и случается, то дамы являются в трауре – по случаю отечественного горя – и черная одежда делает их очень изящными.
При своем обычном вечернем посещении Л. рассказывал, что Самвер уже с некоторого времени опять исчез, следовательно, вопреки газетным известиям он никуда не назначен префектом; далее – что город имеет удовольствие давать у себя приют другой интересной личности, именно американскому спириту Юму, который, если я не ошибаюсь, приехал из Лондона и именно с рекомендациями, доставившими ему вход к наследному принцу.
Суббота, 26-го ноября. Я написал несколько заметок; из них одна касалась странного похвального списка лиц, помещенного Трошю в «Figaro» от 22-го ноября. Шеф, прочитывая отчасти вслух отмеченные им места, сказал мне:
«Геройские подвиги этих защитников Парижа отчасти до такой степени заурядны, что прусские генералы и не сочли бы их даже заслуживающими упоминания, отчасти же это хвастовство, отчасти это, очевидно, невозможно. Прежде всего «храбрецы Трошю», если сосчитать, сдались в большем числе в плен, чем французы во все время осады Парижа вообще». «Далее, в числе их фигурирует капитан Монбриссон, которого удостаивают отличия за то, что он, идя во главе атакующей колонны, велел поднять себя на каменную ограду парка для того, чтобы оттуда произвести рекогносцировку, чту, собственно, было только его долгом и обязанностью. Затем это театральное тщеславие по поводу того, что солдат Глетти par la fermeté de son attitude взял в плен трех пруссаков. Какая твердость выдержки! А наши померяне перед этим покоряются! В парижском бульварном балагане или в цирке оно на месте, а в действительности-то!»
Далее говорится о Гоффе, который в разных combats individuels убил ни более ни менее как двадцать семь пруссаков. Надо полагать, он – жид, этот убийца три-надевяти душ – быть может, двоюродный или троюродный брат «мальц-экстракта – Гоффа», жительствующего по старой или новой «Wilhelmstrasse» – во всяком случае, miles gloriosus. И наконец, еще Терру, взявший fanion и вместе с тем portefanion. Это значок, служащий для построения войск; у нас и нет таких. И подобные вещи официально сообщает старший генерал. В самом деле этот похвальный список что-то совершенно вроде картин сражений под общим заглавием «Toutes les gloires de la France», где для потомства изображен каждый севастопольский или маджентский барабанщик потому только, что он там барабанил.
За обедом в качестве гостей канцлера присутствовали: граф Шиммельманн (голубой гусар с несколько восточным типом лица, на вид ему лет под тридцать) и шурин Гацфельда (американец веселого нрава, смелый). Последний, между прочим, рассказал вот что: «Вчера со мною произошел целый ряд неудач. Одна вытекала из другой. Прежде всего со мною желает говорить один человек, у которого ко мне важные дела (Одо-Россель). Я велел попросить его подождать несколько минут, так как я еще занят неотлагательной работой. Когда я потом, спустя четверть часа, спросил о нем, он уже ушел, а от этого, может быть, зависит европейский мир. В двенадцать часов я отправился к королю, и это послужило причиною того, что я попадаюсь в руки человеку, который заставляет меня выслушать письмо и задерживает меня, таким образом, долгое время. Таким образом, я потерял час времени, и только теперь могли быть отправлены весьма важные телеграммы, так что они сегодня уже не будут получены на месте, куда назначены, а между тем могут быть приняты решения и могут сложиться обстоятельства, которые вызовут весьма серьезные последствия для всей Европы и совершенно изменят положение дел в политике».
– Но всему этому виною – пятница, – прибавил он, – пятничные переговоры, пятничные мероприятия. – Потом он спросил: – Побудил ли кто-нибудь из вас, господа, мэра устраивать в Трианоне все нужное (для короля Баварии)?
Гацфельд возразил, что он сам говорил с ним об этом деле. Шеф ответил: «Tres bien, если б он только пришел. Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь буду играть роль маршала в Трианоне. А что сказали бы на это Наполеон, Людовик XIV?» Потом говорилось еще о том, что американский спирит Юм находится здесь уже несколько дней и что он был приглашен наследным принцем к обеду. Бухер выставил его как человека опасного и заметил, что он был осужден в Англии за обманное домогательство наследства. После обеда он передал мне, что, по газетным сведениям, несколько времени назад он выманил у одной богатой вдовы завещание в свою пользу, но впоследствии наследники подали на него жалобу, и наконец он был приговорен судом к уплате большой суммы в виде вознаграждения за убытки. Следует опасаться, не прислан ли он теперь кем-нибудь действовать на влиятельные лица в смысле вредном нашим интересам, и потому ему хотелось бы похлопотать у шефа, чтобы этот молодец был выслан.
Вечером я сделал для короля извлечение из нескольких статей «Монитера» и прочел в «Прусских ежегодниках» трактат Трейшке о «Люксембурге и о Германской империи». С половины одиннадцатого до половины двенадцатого ночи снова происходит весьма жаркая пальба с фортов и канонирских лодок. По этому поводу шеф заметил: «Они долго молчали; допустим же им теперь это удовольствие».
Воскресенье, 27-го ноября. Утром я получил речь, которою открыт был рейхстаг. Я послал ее тотчас к Л., чтобы перевести ее и напечатать. После двенадцати часов Россель является снова. Шеф приказывает просить его подождать минут десять, а между тем сам гуляет в саду с Бухером. Так как мне делать нечего, я спать отправился к Г. в Ласель; на пути туда я был три раза остановлен пикетами, чего прежде никогда не бывало. Поболтав с часок с удовольствием с Г. и другими офицерами, жившими в великолепном дворце у рынка, я отправляюсь домой, снабженный паролем: «Zahlmeister, Hermann». Один интендантский чиновник, ехавший в город в красивой коляске, посадил меня с собою. Он нашел экипаж с лошадью «в заложенной стеною конюшне, в Буживале, и извлек их оттуда». Он же, кажется, нашел также и заведовал большим винным складом, который теперь, вероятно, уже приходит к концу.
За столом присутствуют граф Лендорф, а также лицо в баварской офицерской форме, граф Гольнштейн; это красивый, бодрый господин с полным красным лицом; на вид ему лет под тридцать, приятен и прост в обращении. Он, как говорят, обер-штальмейстер короля Людвига и принадлежит к числу его приближенных. Шеф заговорил сперва о русских делах и сказал: «Вена, Флоренция и Константинополь еще не высказались, но заявление сделано Петербургом и Лондоном, а в настоящем случае они – самые важные места. Но тут все обстоит хорошо». Потом он рассказывал разные анекдоты из своей охотничьей жизни: об охоте за сернами, «для которой у него все-таки не хватает духу», о самом тяжелом кабане, которого он убил, «одна голова которого весила от 99 до 101 фунта», и самом большом медведе, которого он застрелил. Затем темой разговора сделались мюнхенские дела, причем Гольнштейн, между прочим, заметил, что французское посольство, однако, до начала войны очень ошибалось относительно поведения Баварии.
– Оно заимствовало свое мнение, – сказал он, – от двух или трех ревностных католических и враждебных Пруссии салонов; победу патриотов считало делом верным и даже верило в перемену престола.
– Что баварцы пойдут с нами, – возразил шеф, – в этом я никогда не сомневался; но что они решатся так скоро, этого я все-таки не ожидал.
Затем речь шла о расстреливании вероломных африканцев, и по поводу этого Гольнштейн рассказал, что один сапожник в Мюнхене, из окон которого хорошо видно было шествие доставленных туда пленных тюркосов, выручил много денег за места в его помещении, oтдaвaвшиеcя для смотра процессии, и представил 79 гульденов в кассу для раненых. Даже из Вены прибыло много зрителей на это торжество. На это шеф заметил:
– Что они вообще брали в плен этих чернокожих, это было против нашего уговора.
– Мне и кажется, – заметил Гольнштейн, – они теперь уже не делают этого.
– По мне, – прибавил шеф, – надобно подвергнуть аресту каждого солдата, который возьмет в плен и предоставит подобного пленника. Это – хищные звери, их надо убивать. Лисица, например, может найти извинение себе в том, что природа одарила ее таким нравом, а они? Это наиотвратительнейшие чудовища. Они самым ужасным образом мучили наших солдат до смерти.
После обеда, когда, по обыкновению, началось курение табаку, министр велел предложить обществу тяжелые, но превосходные сигары, упомянув при этом название их «Pass the bottle». Кажется, благодарные современники в последнее время особенно щедро наделили его сигарами – у него на комоде нагромождены ящики с надписью: «Weeds»; у него, значит, слава Богу, довольно того, что доставляет ему удовольствие по курительной части.
Л. известил, что Юм уехал, если я не ошибаюсь, вчера еще. Юм просил присылать ему газету «Moniteur» в Лондон, так как он подписался на нее на месяц. Быть может, это, да и все его путешествие в главную квартиру, относится только к его фокусу-покусу с духами и привидениями. Но все-таки подозрительным кажется то, что этот Калиостро из страны «янки» спрашивал, может ли он видеться с пойманным на одном из аэростатов сыном Ворта, знаменитого парижского портного, который «у себя в саде заставляет ждать герцогинь». Впрочем, говорят, будто он хотел опять приехать. – Судя по дальнейшему рассказу Л., наши версальцы уже несколько дней наслаждаются обильным запасом приятных известий. Тьер и Фавр, а по словам других, и Трошю находятся в городе, для того чтобы вести переговоры с королем Вильгельмом. Гарибальди, которого наши генералы принудили очистить город Доль, по версальским мифическим источникам, опять занял Дижон и при этом взял в плен не менее двадцати тысяч немецких солдат. Один немецкий принц или князь в окрестности Парижа попал будто в руки французов, и король якобы за освобождение его предложил освободить маршалов Базена и Канробера; но это предложение было отклонено. Далее говорят, будто принц Фридрих Карл разбит под Рамбуллье, Дрё и Шатоденом; между тем как справедливо прямо противоположное известие и т. д. «И у могилы он не теряет еще надежды!»
Глава XIII Затруднительное положение по поводу договора с Баварией устранено на рейхстаге. Бомбардировка все еще замедляется
Понедельник, 28 ноября . Я телеграфировал утром о капитуляции города Лафер, где находилась тысяча человек гарнизона, потом о победе Мантейфеля на берегах Соммы, под Ладоном и Мезиером. Затем опять написал статью о соглашении с Баварией. Шеф спрашивал про Юма, и я ответил ему, что Юм уехал, но он, кажется, хотел опять приехать. Он приказывает мне написать тотчас военному начальству, чтоб Юма, буде он вернется без дозволения, прямо арестовать и известить его, шефа, об этом. Если же он явится с дозволения, то на него надобно смотреть как на опасного мошенника и шпиона и о его прибытии довести до сведения министра.
После обеда мы совершили с Бухером поездку в Сен-Сир. За обедом в качестве гостей присутствовали князь Плесс и граф Мальтцан. Министр заговорил сперва об американском спирите и сообщил, какого он мнения о нем и какое приказание дано им относительно его.
– А знаешь ли, ведь и Гарибальди досталось тоже на орехи! – вскрикнул Болен.
Кто-то сказал, что если его возьмут в плен, то он будет, конечно, расстрелян как человек, который вмешался в войну, не имея на это никакого права.
– Сперва их посадят в клетки и будут публично показывать, – заметил Болен.
– Нет, – возразил министр, – я предложил бы другой план. Следовало бы доставить пленных в Берлин, повесить им там на шеи картон с надписью: «Благодарность», и в таком виде следовало бы водить их по городу.
– А потом и в Шпандау [14] , – прибавил Болен.
– Или же, – возразил шеф, – можно было бы написать на карточке: Венеция – Шпандау.
Далее говорилось о Баварии и о положении дел в Мюнхене. Потом кто-то, я уж не помню, по какому случаю, снова заговорил о том, при каких обстоятельствах случилось появление Рейля под Седаном, и о том, что будто тогда казалось, что король ждал большего от письма императора Наполеона, на что он, согласно прежнему замечанию министра, имел полное основание. Императору не следовало бы отдавать себя там в плен бесцельно, но он должен был заключить с нами мир. В этом случае генералы последовали бы за ним. Потом беседа шла о бомбардировке и в связи с этим об епископе Дюпанлу, а также о его теперешней интриге по поводу роли, которую он играл в рядах оппозиции на духовном соборе в Риме.
– Мне при этом приходит в голову, – сказал канцлер, – что папа написал очень любезное письмо какому-нибудь французскому епископу, а может быть, и нескольким, чтобы они не связывались с гарибальдийцами.
Кто-то заявил, что он очень желал бы чего-то. На это шеф заметил:
– Для меня теперь самое важное – то, что станется с виллой Кублэ. Пусть бы предоставили мне на двадцать четыре часа главное начальство, и я приму на себя ответственность. Я отдал бы тогда только одно приказание: спалить.
Вилла Кублэ – местность, находящаяся недалеко отсюда; там все еще находится доставленный осадный парк, который должен быть распределен в окопах и батареях; а канцлер в одном представлении просил об ускорении бомбардировки.
– У них всего триста пушек, – так продолжал он, – и пятьдесят или шестьдесят мортир, и на каждое орудие по пятьсот зарядов. Этого, конечно, достаточно. Я говорил с артиллеристами; они говорят, что под Страсбургом им не пришлось употребить и половины того, что уже понавезли сюда, а Страсбург в сравнении с Парижем – Гибралтар. Следовало бы, может быть, сжечь выстрелами казармы на Мон-Валерьяне, а форты Исси и Ванвр осыпать в надлежащей мере гранатами, что заставило бы гарнизон бежать – сам вал не особенно сильно укреплен, ров прежде был не шире, чем длина этой комнаты. Я убежден, что если мы в продолжение четырех или пяти дней будем бросать гранаты в самый город и они увидят, что мы стреляем дальше их, именно на девять тысяч шагов, – то парижане сделаются несколько уступчивее. Конечно, на этой стороне находятся лучшие дома, а для обитателей Бельвилля совершенно все равно, будут ли эти дома разрушены; они, пожалуй, будут даже радоваться тому, что мы уничтожаем дома богачей. Мы могли бы вообще оставить Париж в покое и пойти дальше. Но если мы уже начали, то к делу следует отнестись серьезно. Морение голодом может еще долго продолжаться, пожалуй, до весны; во всяком случае, муки хватит у них по январь. Если бы мы начали бомбардировать четыре недели назад, то теперь, по всему вероятию, мы были бы уже в Париже, а это самое главное. Теперь же парижане воображают, что Лондон, Петербург и Вена запретили нам стрелять, а нейтральные державы думают, что мы ничего не можем сделать. Настоящие причины сделаются когда-нибудь известны.
Вечером я телеграфировал в Лондон, что рейхстаг опять вотировал сто миллионов на продолжение войны с Францией, и именно большинством против восьми голосов социал-демократов; далее, что Мантейфель осаждает Амьен. Потом составлено несколько статей, из которых одна защищает умеренные требования канцлера во время переговоров с Баварией, внушенные справедливостью, а равно и благоразумием. Дело касается, так говорю я там приблизительно, не столько той или другой желаемой уступки со стороны мюнхенцев, сколько того, чтобы южногерманские государства чувствовали себя хорошо в новом государственном организме Германии. Стремление или принуждение к большим уступкам было бы неблагодарностью, а так как баварцы исполнили свой патриотический долг, то и того более; но прежде всего заявление больших притязаний было бы неполитично в отношении к нашим союзникам. В действительности неудовольствие, которым сопровождалось бы подобное принуждение, имело бы несравненно большее значение, чем полдюжины более благоприятных для нас статей договора; оно очень скоро указало бы нейтральным державам, Австрии и др., на пробел, куда можно было бы вбить клин, посредством которого ослаблялось бы и, наконец, могло бы быть разрушено достигнутое таким образом объединение.
Л. слышал, будто на этих днях во дворце обокрали галерею исторических картин, и именно оттуда утащили две картины: одну, изображающую принцессу Марию Лотарингскую, и другую – Лавалльер. Из произведенного тотчас следствия оказалось, что вор, должно быть, употребил поддельный ключ и знал привычки сторожей, чего нельзя предположить со стороны чужих людей. Несмотря на то, можно положительно сказать, что французы будут утверждать, что картины увезены нами.
С половины десятого до второго часа ночи снова слышна с северной стороны сильная пушечная пальба.
Вторник, 29-го ноября. Утром французские жерла гремят с такою яростью, как они никогда не гремели до сих пор; между тем я имею удовольствие телеграфировать о новых победах немецкого оружия. Гарибальди именно вчера понес чувствительную потерю под Дижоном, а войска принца Фридриха Карла вчера под Бон-ла-Роландом нанесли поражение превосходному числу французов. Когда я показал шефу вторую отправляемую телеграмму, он заметил:
– Много сотен пленных – выражение, ничего не говорящее. Много сотен составляет по меньшей мере тысячу, а если мы потерю с нашей стороны покажем в тысячу человек, о неприятеле же только скажем, что на его стороне потеря больше, то это будет неловкостью, которую другие могут себе позволить, но не мы. Я прошу вас вперед составлять телеграммы политичнее.
За завтраком мы узнали, что гром пушек, который был слышен сегодня утром, находился в связи с вылазкой парижан, предпринятой по направлению к Вилльневу, где стоят баварцы, и что вылазка была отбита. Еще до начала второго часа пополудни слышатся отдельные выстрелы из фортов, по-видимому, ждали большого дела, так как на avenue de Saint-Cloud стоит несколько батарей, готовых к выступлению.
После обеда написал еще одну статью о договоре с Баварией. Она будет напечатана во многих берлинских газетах. Недовольство, по-видимому, приняло там широкие размеры. Потом я отправился в небольшой замок близ Шенэ, где мои лейтенанты проводят время в балагурстве. Они, между прочим, пели песню об одиннадцати тысячах кёльнских девах.
За обедом у нас был гость, подполковник фон Гартрот. Говорилось, между прочим, о раздаче орденов Железного креста, причем шеф заметил:
– Докторам-то следовало бы носить его на черно-белой ленте; они ведь бывают в огне, а надо гораздо больше мужества и твердости для того, чтобы оставаться со спокойным духом под выстрелами, нежели для того, чтобы идти в атаку. Блюменталь говорил мне, что он, собственно, вовсе и не заслуживает этого ордена, так как он обязан находиться вдали от опасности быть убитым; поэтому во время сражений он отыскивает себе всегда такое место, откуда ему хорошо видно, но где в него трудно попасть, и в этом он совершенно прав: генерал, который без нужды подвергает себя опасности, подлежит аресту.
Когда потом заговорили о поведении войск, он заявил, что «только смирение ведет к победе, гордость же и самомнение, наоборот, к поражению». Затем он спросил Гартрота, не из Брауншвейга ли он.
– Нет, – ответил тот, – моя родина недалеко от Ашерслебена.
– Да, я узнал это по выговору, – возразил министр, – мне так и казалось, что вы родом откуда-нибудь близ Гарцских гор, но, конечно, я не мог знать, с которой стороны.
От Ашерслебена он перевел разговор потом на Магдебург, а там заговорил о своем приятеле Дице, о котором выразился:
– Это ведь самый любезный человек, какого я только знавал, а дом его самый гостеприимный и самый радушный, в каком я когда-либо бывал. Хорошая охота, отличный прием и премилая, и прелестная женщина – его жена. В нем так и видно естественное, врожденное радушие – politesse du coeur – а не то что утонченная вежливость, которая дается воспитанием. До чего не похожа охота у него в селении, – так как сам он отправляется без ружья со своими гостями и радуется, если они много настреляют дичи, – на охоту в других местах, где, так сказать, само собою подразумевается, что владелец поместья должен настрелять дичи больше всех, в противном случае хозяин впадает в дурное расположение духа и, понятное дело, тогда достается сильно прислуге!
Абекен усомнился относительно выражения: politesse du coeur, действительно ли оно французского происхождения? Гете говорит о сердечной вежливости. Оно, вероятно, происходит от немецкого.
– Да, без всякого сомнения, оно происходит оттуда, – возразил шеф. – Такое качество бывает только у немцев. Я назвал бы его вежливостью, исходящею от благоволения, добродушие в лучшем смысле – именно – учтивостью, исходящею от намерения оказать помощь всем и каждому. Вы найдете его и у нашего простого солдата, у которого оно, конечно, выходит иногда неуклюже. У французов нет этого качества, они обладают только вежливостью, прикрывающею ненависть и зависть. У англичан, пожалуй, скорее можно найти что-нибудь в этом роде, – прибавил он.
Потом он хвалил Одо-Росселя, милое и простое обращение которого ему очень нравится. «Только одно обстоятельство сначала возбуждало во мне насчет него некоторое сомнение. Я всегда слышал и находил, что все англичане, знающие хорошо по-французски, люди сомнительные, а он говорит отлично по-французски. Однако же он выражается также очень порядочно и по-немецки».
За десертом он заметил: «Мне кажется, я ем слишком много или, вернее, слишком много за один раз. Я никак не могу отучить себя от нелепой привычки есть только один раз в день. Прежде было еще хуже. Тогда я пил только поутру чай и не ел ничего до пяти часов вечера, но за то беспрестанно курил, а это мне было очень вредно.
. . . . . .
Этот поступок, я надеюсь, будет иметь своим следствием еще более непоколебимую веру в него».
– Это забавно-комическое поведение современных французских властителей не может быть характеризовано ничем лучше, как воспроизведением этого документа, и остается только сожалеть о храбрых французских солдатах, что им приходится как сражаться за таких пустоголовых театральных героев, так равно и за продолжение их власти.
Только как пример того, какое настроение господствует у нашей прислуги вследствие замедления бомбардировки, и как образчик тех мифов, которые образуются в этих кружках, я отмечу следующее. Когда я сегодня в последний раз из занимаемого шефом этажа подымался по круглой лестнице в мою комнату, Энгель с веселым видом закричал мне вслед:
– Доктор, теперь будет ладно, теперь уже дни Парижа сочтены.
– Как так? Мне кажется, это может еще долго продолжаться. Ведь стрелять же не станут.
– Нет, доктор, я это знаю, но не смею сказать.
– Ну, говорите.
Тогда он шепотом сказал мне через перила лестницы:
– Король сегодня у военного министра сказал его сиятельству: «2-го числа начнется бомбардировка».
После десяти часов французы, неизвестно с какою целью, опять производили пальбу из пушек своих фортов. За чаем, к которому пришел и шеф, получились дальнейшие благоприятные подробности о вчерашней битве. Потом говорили на тему, выступающую теперь снова на первый план, именно о замедлении бомбардировки; далее о Женевской конвенции, относительно которой министр заявил, что от нее надо будет отказаться, ибо таким образом войну вести невозможно. Дельбрюк, кажется, не совсем ясно телеграфировал нам о том, насколько вероятно, что заключенный с Баварией договор пройдет на рейхстаге. Дело похоже на то, как будто последний не в состоянии прийти к какому-либо решению и как будто версальские договоры в одно время встретили протест и со стороны партий прогрессистов, и партий национал-либералов. По этому поводу шеф заметил:
– Что касается прогрессистов, то они в данном случае выказали только последовательность: им хотелось бы вернуть 1849 год. А национал-либералы? Да, если они не желают того, чего они еще в начале нынешнего года – в феврале – добивались всеми силами, что теперь они могут иметь, то мы должны распустить их, т. е. рейхстаг. Тогда при новых выборах партия прогрессистов сделается еще меньше, и из национал-либералов некоторые тоже не возвратятся назад. Но в таком случае и договоры не состоятся, Бавария одумается, Бейст запустит свой клин, а что будет дальше, это нам неизвестно. Туда ехать я не могу. Это очень неудобно и потребует много времени, а мое присутствие, по правде сказать, и здесь нужно.
Затем по поводу предыдущего он говорил о положении дел в 1848 году. «Тогда некоторое время обстоятельства очень благоприятствовали объединению Германии под гегемонией Пруссии, – сказал он. – Маленькие государи были большею частью без власти и потеряли всякую надежду на нее. Если бы они только могли спасти для себя порядочное количество имущества, уделов и прочее, то большинство из них изъявило бы согласие на все. Австрийцы имели дело с Венгрией и Италией. Император Николай тогда еще не противился. Если бы приняться живо за дело, до мая 1849 года выказать решимость, удовлетворить маленьких владетелей, то можно было бы приобрести и юг, при склонности вюртембергской и баварской армий примкнуть к баденской революции, чту при том фазисе вещей не было невозможно. В действительности же мешканьем и полумерами потеряно было время и, таким образом, не воспользовались удобным случаем».
Около одиннадцати часов получена еще телеграмма от Верди о вылазке нынешним утром. Он направился к Ла-Гей и взял опять в плен пятьсот красноштанников. Шеф крайне сожалел о том, что приходится брать в плен, а нельзя тотчас убивать. «Для нас это было бы более чем достаточно; парижанам же это доставило бы ту выгоду, что они освободились бы от такого большого числа едоков, которых мы должны кормить и для которых у нас едва хватает помещений».
Среда, 30-го ноября. Утром я написал обстоятельное письмо к Т. и объяснил ему основания, почему Баварии не предъявлены требования, которые он и его единомышленники считают безусловно необходимыми. Равным образом я приказал подобные же указания препроводить и С.
С половины ночи и утром происходила жаркая пальба из крупных орудий, стоящих за рощами, между нами и Парижем. Вольманн слышал будто бы и жужжание картечниц, и ружейные выстрелы. Другие не заметили этого. Шеф, по-видимому, серьезно задался мыслью просить короля освободить его от должности, и, говорят, он был уже очень близок к решению!
После обеда мы проехались с Вольманном в экипаже в Марли, куда несколько позднее тоже прискакали верхом канцлер, Абекен и Гацфельд, застав нас на горе у водопада. Мы видели отсюда, что на север от Парижа, по направлению к Гонессу, происходила жаркая пальба. Белые пороховые облака подымались вверх, и сквозь них сверкал пушечный огонь.
За обедом, за которым присутствовали князь Путбус и Одо-Россель, шеф рассказывал, что он один только раз пытался, пользуясь своими знаниями государственных тайн, спекулировать процентными бумагами, но что ему не посчастливилось. «Мне дано было в Берлине, – так сообщал он, – поручение поговорить с Наполеоном по поводу Нейенбургской [15] истории. Это было, должно быть, весной 1857 года. Мне нужно было спросить его, как он относится к этому делу. Я знал, что он выскажется в смысле благоприятном и что это означать будет войну с Швейцарией. Поэтому, проезжая через Франкфурт, где я тогда жил, я пошел к Ротшильду. Ротшильда я знал и просил его продать известные принадлежавшие мне бумаги, которые хранились у него. Они, дескать, не подымутся более».
– Я не сделал бы этого, – сказал Ротшильд, – бумаги эти подают надежду, вы это увидите.
– Так-то-так, – сказал я, – но если бы вы знали то, что я знаю, то вы переменили бы ваше мнение.
Он возразил, что, как бы то ни было, он не советовал бы продавать их. Но я знал лучше, я продал мои бумаги и уехал. В Париже Наполеон был очень мил и любезен. Он не мог, правда, согласиться на желание короля дозволить пройти войскам через Эльзас и Лотарингию, так как это возбудило бы во Франции слишком большое волнение; вообще же он совершенно одобрил предприятие. Ему было бы приятно, если б мы разорили гнездо демократов. Итак, вот насколько я имел успех. Но я не принял в расчет нашей политики в Берлине, которая между тем раздумала – вероятно, из уважения к Австрии – и, таким образом, дело не состоялось. До войны дело не дошло. Бумаги же мои с этого времени пошли все в гору, и мне оставалось только сожалеть о том, что они уже не принадлежали более мне».
Затем говорилось о бомбардировке, о вилле Кублэ и о предполагаемой невозможности доставить быстро требуемые боевые снаряды, и шеф заявил: «Я говорил уже несколько раз этим господам; у нас здесь множество лошадей, которых нужно объезжать каждый день, для того, чтобы они не застоялись. А нельзя ли этих-то лошадей употреблять для другой цели?»
Упоминали о том, что для посольства в Риме куплена вилла Кафарелли, а Россель и Абекен сообщили, что она очень красивая. Канцлер сказал: «Это так, у нас вообще красивые дома как в Париже, так и в Лондоне. Только вот лондонский дом по континентальным понятиям слишком мал. У Бернстоффа такое маленькое помещение, что ему, смотря по тому, принимает ли он у себя кого-либо, или работает, или занят каким-либо иным делом, приходится очищать комнату. У его секретаря при посольстве в доме лучшая комната, нежели у него. Дом в Париже красив и стоит на хорошем месте. Он действительно лучший из посольских отелей в Париже и имеет большую ценность. По этому поводу у меня уже в голове возникал вопрос, не лучше ли было бы нам продать его и давать посланнику в виде наемной платы проценты с капитала, который мы бы выручили от продажи. Три с половиною миллиона франков! Проценты с них составляли бы прекрасное улучшение его содержания, составляющего только сто тысяч франков. Но когда я подумал хорошенько, вижу, что дело не годится. Неловко и недостойно великой державы, если его посланники живут в наемных квартирах, если они подвергаются переездам и если при переезде государственные акты будут возить по улицам в телегах. Нам следует иметь собственные дома, и мы должны иметь их везде. – Что касается лондонского дома, то там особые обстоятельства. Дом принадлежит королю, и все зависит от той энергии, которую посланник сумеет проявить в понимании своих собственных интересов. Там может случиться, что король и не получит наемной платы, и иногда действительно так и бывает».
Шеф хвалил Нэпира, прежнего английского посланника в Берлине. «Он был очень обходительный человек, – заметил он. – И Буханан был хороший, правда, сухой, но надежный человек. Теперь у нас Лофтус. Положение английского посланника в Берлине имеет свои особенные задачи и затруднения, даже и вследствие родственных отношений. Оно требует много такта и внимания». (Это, конечно, молчаливое указание на то, что Лофтус не удовлетворяет этому требованию.) Министр направил тогда (может быть, для того, чтобы точнее определить характер тогдашнего представителя ее величества королевы Великобритании) разговор на Грамона и сказал: «Он и Оливье тоже хороши. Случись это со мною, то я, наделав таких бед, поступил бы уж по крайней мере в какой-нибудь полк, пожалуй, даже в вольные стрелки, хотя бы из-за этого пришлось даже быть повешенным. Высокий, крепкий Грамон вполне годится для военного ремесла».
Россель упомянул о том, что он видел его в Риме, на охоте, в синем бархатном костюме.
– Да, – заметил шеф, – он хороший охотник. Для этого у него крепкие мускулы. Он представлял бы собой дельного окружного лесничего. Но как министр иностранных дел – трудно даже понять, как это Наполеон мог его избрать.
Вечером Л. сообщил, что он видел сегодня, как провезли через Версаль два осадных орудия, в которые было запряжено по восемь лошадей, вероятно, это для какой-нибудь батареи близ Севра или Мэдона.
За чаем Болен рассказывал, что вчера Гацфельд был приглашен к королевскому столу. По этому поводу Абекен сказал будто с грустью:
– Вот я, например, еще никогда не удостаивался счастья быть приглашенным к обеденному столу; я прихожу туда всегда только к чаю.
В десять часов к нам пришел министр. Он опять заговорил о бомбардировании и сказал:
– Если верно, что генеральный штаб утверждал еще в Феррьере, что они могли бы форта два разрушить в три дня и потом выступить против слабо укрепленного вала, то это было бы хорошо. А теперь слишком долго тянется. До Седана – месяц, здесь уже – три месяца; завтра ведь первое декабря. Опасность вмешательства нейтральных держав растет с каждым днем. Оно начинается дружественно, а может кончиться очень скверно. Если бы я знал это три месяца назад, я ужасно беспокоился бы.
После Абекен возвратился от короля, которому он с некоторого времени вместо канцлера делает доклады. Он слышал, что сегодня были сделаны три вылазки: одна – против вюртембержцев, другая – против саксонцев, а третья – против шестого корпуса. Король полагал, будто сделана была попытка прорваться.
– Ну где же! – возразил министр. – Ведь они тогда попали бы в силки. Это было бы нам очень желательно. Если бы они пришли с восемью батальонами, то мы выставили бы против них десять, притом лучших войск. Впрочем, может быть, они имеют неопределенные сведения о приближении Луарской армии; им только еще неизвестно, что она уже отброшена назад. Да (обращаясь ко мне), можно бы вплести в телеграмму то, что сегодня сказал Путбус: раненые, которым дозволено было возвратиться в Париж, отказались от этого.
В эту ночь уже не стреляли более. Я уже раньше как-то сказал сам себе: во Франции есть еще несколько благоразумных людей. Сегодня я опять встретил одного. В передовой статье газеты «Décentralisation» в Лионе под заглавием «Голос из провинции» и за подписью Л. Дюваренна сказано, между прочим, вот что:
«Тотчас после того дня, в который пала империя, депутаты от Парижа считали своим долгом образовать правительство. Это факт, который беспристрастной историей будет точно так же разобран критически, как и отношение палаты, которая по крайней мере отчасти избрана была более в интересах династических, нежели народных. От этого факта берут свое начало временное правительство и поспешное провозглашение республики, которая еще ждет законного признания со стороны представителей страны.
Нам очень хорошо понятны движения в первое время, хотя мы их и не извиняем; для нас понятно далее и то, что французский народ, не привыкший сам заправлять своими делами, упоенный тем, что ему тогда, когда предвечная справедливость снова вступила в свои права и стала ясною для всех, казалось успехом, – мы находим, говорим мы, понятным и то, что этот народ в некоторых местностях смешивал произвол со свободой.
Мы уже много раз высказывали, кто, по нашему мнению, блaгoпpиятcтвyeт этому смешению понятий, и если можно подозревать в совершении преступления такое лицо, для кого оно полезно, то мы должны сказать, что сторонники свергнутого правительства имеют такой очевидный интерес в поддержании беспорядка во Франции, что можно обвинить их публично в стремлении произвести его всякими средствами, имеющимися у них под рукою (здесь автор ошибается).
Каково же должно быть поведение правительства, если оно поистине хочет защищать страну во время опасности? Что же оно сделало в этом направлении? Ему следовало прежде всего обратиться с воззванием к народу и через его представителей предоставить ему все меры, в которых при настоящем положении окажется надобность для обеспечения общественного благосостояния. Единство французов следовало проповедовать посредством собственного примера. Но мы должны теперь констатировать факт, что единства, которое есть вместе и послушание, нигде не было и что у нас слишком много фактических правительств, и трудно отличить, которое из них законное.
Тур назначает выборы, Париж об этом и знать ничего не хочет. Затем Париж приступает к выборам, в которых Тур отказывает Франции. Лион имеет одно знамя, Франция имеет другое. Марсель восстает, в Перпиньяне льется кровь на улицах, но Эскирос уступает наконец свое место Жанту, которого встречают выстрелами из револьверов. В Тулузе Дюпорталь, проповедующий междоусобную войну, остается назло турскому правительству на своем месте. И это единство? И это правительство? Можно ли при наличности таких фактов еще оспаривать необходимость правильно установленного правительства? Еще и другой класс граждан противится теперь выборам. Это те люди, которые стоят теперь во главе управления. Уж не боятся ли они, что страна велит им возвратиться к их прежним занятиям? Во всяком случае, то упрямство, с которым они держатся за диктатуру, заставляет нас смотреть на них с полнейшим недоверием. Они видят, что власть, которую они присвоили себе произвольно, ускользает от них; они пытаются снова утвердиться в ней и в этих сферах шепотом поговаривают о народном голосовании с целью поддержания status quo и образовании некоторого рода незаконного народного представительства на время войны. Но мы не дадим себя обманывать такими, очевидно, слишком призрачными изображениями свободы, мы требуем непрестанно для всех свободного и одинакового проявления воли. Время теперь не такое, чтобы заставить избирателей в пользу того или другого кандидата положить белый или черный шар. После комедии с плебисцитом занавес был опущен, комедия ошикана, и мы громко заявляем к чести нашей страны: к подобного рода предложению нельзя относиться серьезно! Ничто не мешает нам предпринять тотчас муниципальные выборы для того, чтобы городским и сельским общинам возвратить их святейшие права, которых они (вследствие притязаний Парижа быть опекуном Франции) несправедливо были лишены. Пусть они назначают себе муниципалитеты, пусть себе выбирают мэров, одним словом, пусть они будут свободны, и из этих общин образуется истинное представительство Франции.
При цезаре вчерашнем говорились прекраснейшие речи для того, чтобы опозорить официальные меры предосторожности относительно свободы выборов. Не был ли этот патриотизм (господ Гамбетты и Фавра) недостойной комедией? Так можно было бы действительно подумать, если бы цезарю сегодняшнему не вздумалось наконец вынудить заявления народной воли. Мы желаем настоящих выборов, т. е. общин, потому что мы желаем видеть людей, которые имеют право на решение нашей участи, – ибо мы с ужасом отворачиваемся от гидры анархии, которая уже подымает свою омерзительную голову. Вот почему мы на случай дальнейшей защиты не перестанем требовать общинных выборов и соединения их в парламент национальной обороны, во всяком же случае, в парламент, который представлял бы Францию».
Четверг, 1-го декабря. Утром форты пустили только несколько снарядов. Я телеграфировал, что вчерашняя вылазка привела к жаркому бою с вюртембергской дивизией, большей половиной 12-й и несколькими отрядами 6-го и 2-го армейских корпусов и что исходом его было отражение неприятеля по всей линии. Раненые отклонили предложенное им дозволение возвратиться в Париж. Потом занимался обычным чтением газет с отчеркиваниями и извлечениями.
К завтраку Абекен является с остриженной головой. Он спросил Бисмарка-Болена, как он выглядит.
– Чудесно, господин тайный советник, – был ответ, – но локон тут вот, с этой стороны, длиннее того, что с другой стороны.
– Это ничего. Он и должен быть длиннее, я всегда так ношу. Но кроме этого, вы не находите никакого недостатка?
– Превосходно острижено, господин тайный советник.
С довольным видом и насвистывая, ушел этот старый господин, сопровождаемый вслед удивленным взором Гацфельда.
За столом присутствует премьер-лейтенант фон Сальдерн, который в качестве адъютанта участвовал в последних боях 10-го армейского корпуса с луарской армией. По его словам, корпус этот под Бон-ла-Роландом некоторое время был окружен превосходящей силой французов, которые близ одного из флангов наших войск хотели прорваться в Фонтенбло. Он защищался в течение семи часов с полнейшей неустрашимостью и величайшей устойчивостью против нападений неприятеля. Тут отличались именно войска под начальством Воделя и больше всех солдаты 16-го полка.
– Мы взяли в плен более 1600 человек, а общая потеря французов считается от 4000 до 5000 человек, – говорит Сальдерн.
– Это хорошо, – возразил шеф, – но в настоящее время пленные приносят нам только вред, еще большее обременение.
Когда Сальдерн рассказал, что один француз лежал только в десяти шагах от защищаемой нашими игольчатыми ружьями линии, министр заметил: «Но ведь он лежал». Потом он дал Абекену поручение вместо него докладывать королю.
– Скажите также его величеству, – так закончил он, – если мы в Лондоне (на предстоящей конференции для пересмотра Парижского мира 1856 г.) допустим француза, то это бы, собственно, быть не должно, так как он представляет правительство, которое державами не признано и долго не просуществует. Мы можем сделать это в угоду России ради этого вопроса; но если он начнет говорить о других вещах, то его надобно удалить.
Шеф рассказал потом следующее происшествие: «Сегодня у Роона я сделал одну полезную прогулку. Я велел показать себе в замке комнаты Марии-Антуанетты и подумал про себя: нужно же тебе хоть раз посмотреть, что поделывают раненые? Я спросил у сторожа, хорошо ли кормят их.
– Д…а, нельзя сказать, чтобы особенно хорошо, так, немного дают супу, который считается бульоном, с накрошенным в него хлебом и с рисом, который не уварился как следует. А жиру-то в супе мало.
– Ну а вино как? – спросил я. – Дают вам вино?
– Вина дают так с полстакана в день, – сказал он.
О том же спросил я другого, но тот ничего не получал. Потом третий ответил, что три дня назад давали немного, но с тех пор больше не давали. Я переспросил тоже многих, в общей сложности около двенадцати человек, пока очередь не дошла до поляков, которые не поняли меня и только смехом обнаруживали радость, что кто-нибудь заботится о них. Итак, бедные раненые солдаты не получали здесь того, что им следовало получать, и притом в комнатах было холодно, так как не приказано топить, чтобы не попортить картин на стенах. Как будто жизнь одного нашего солдата не стоила больше, чем весь этот хлам в замке. И служитель сказал мне, что масляные лампы горят только до одиннадцати часов, что люди лежат потом впотьмах до утра. Раньше я говорил еще с одним унтер-офицером, который был ранен в ногу. Он сказал мне, что надо довольствоваться тем, что есть, хотя могло бы быть и лучше. На него, впрочем, обращают внимание; а другие-то как! Баварский кавалер, собравшийся с духом, сказал мне, что вино и хлеб доставлены, но, по всему вероятию, где-нибудь половина их или больше застряла; равным образом такую же участь испытали теплые вещи и другие пожертвования. Тогда я велел проводить себя к главному доктору. А как у вас продовольствуются больные, спросил я. Кормят ли их как следует?
– Вот обыденная карточка.
– В ней толку мало. Люди не едят же бумагу. А дают ли им вина?
– По пол-литра в день.
– Извините, люди говорят, что это неправда. Я спрашивал у них, и едва ли можно допустить, чтобы они солгали; они говорят, что им вовсе не давали вина.
– Бог свидетель, что все делается как следует и согласно предписанию. Пожалуйте со мною, я спрошу их в вашем присутствии.
– Я не буду вмешиваться, но я постараюсь, чтобы они были допрошены аудитором, получают ли они то, что отпускается для них смотрителю.
– В этом ведь заключается тяжелый упрек мне, – возразил он.
– Да, – возразил я, – конечно, но я постараюсь, чтобы дело это было официально расследовано, да и скоро!
Потом министр прибавил: «У нас в особенности два класса, производящие воровство; это мучные черви, которые имеют дело с провиантом, и строители, главным образом те, которые занимаются гидравлическими сооружениями. Теперь же, к сожалению, к числу их надобно прибавить врачей. Мне помнится, что недавно – должно быть, полтора года назад – проводилось большое следствие по поводу злоупотреблений, допущенных при поставках для войска, в котором, к удивлению моему, были замешаны тридцать врачей» [16] .
Потом он спросил вдруг: «Знает ли кто-нибудь из вас, господа, кто такой Нитгаммер? Это, должно быть, очень ученый господин».
Кто-то сказал, что он филолог; другой сообщил, что так звали приятеля Гегеля, а Кейделль заметил, что с таким именем есть дипломат, который к нам недоброжелателен. «Он находился, – пояснил шеф, – должно быть, в сношениях с Гарлессом, а этот и был баварский богослов, и наш враг».
Вечером я приготовил для короля интерпелляцию Дункера по поводу ареста Якоби в том виде, как она изложена была в «National-Zeitung».
Потом канцлер приходил к нам еще после половины одиннадцатого, когда мы сидели за чаем. Минуту спустя он заявил: «Газеты недовольны баварским договором. Я тогда же подумал это. Им не нравится то, что некоторые чиновники называются баварскими, но тем не менее они должны вполне сообразоваться с нашими законами. То же самое в существенных частях имеет место и в войске. Налог на пиво им тоже не нравится; как будто у нас этого не было несколько лет в таможенном союзе. Итак, они находят разные недостатки, в то время как все существенное достигнуто и все надлежащим образом закреплено. Они действуют так, как будто мы вели войну против баварцев, как в 1866 году против саксонцев, тогда как баварцы – наши союзники. – Чем одобрить договор теперь, они готовы лучше обождать объединения, пока оно не будет в желаемой им форме. Но им пришлось бы долго ждать. Путь их ведет лишь к затяжке дела, между тем в действительности нужно быстро действовать. Если мы будем медлить, то злой враг выиграет время и посеет раздор. Договор обеспечивает нам многое; кто желает иметь все, тот доведет дело до того, что не получит ничего. Они недовольны тем, что достигнуто, желают побольше однообразия; пусть они только подумают о том, что было пять лет назад, чем они довольствовались бы тогда? Учредительное собрание! А если баварский король не согласится на выборы? Баварский народ не может его принудить к тому и мы тоже. Да, порицать легко, если не сознавать ясно все обстоятельства».
Потом он перешел на другую тему. «Вот, – говорит он, – я прочел донесение о нападении на батальон Унна. В нем приняли участие жители Шатильона; из них другие, конечно, в свою очередь, спрятали наших. Как это они не сожгли города в первом порыве гнева! После, когда кровь остыла, это уж было неудобно».
Минуту спустя он вынул из кармана несколько золотых и играл ими несколько минут. «Удивительно, – сказал он, – как это здесь прилично одетые люди просят милостыню. Это случалось уже и в Реймсе: но здесь гораздо чаще. Как редко теперь попадаются золотые с изображением Людовика Филиппа или Карла X! Мне помнится, в моей юности, в двадцатых годах, иногда попадались монеты с Людовиком XVI и XVIII, толстым. Даже название луидор уже вышло из употребления. Желая показать важность, у нас говорят о фридрихсдорах». Потом он взвешивал наполеондор кончиком среднего пальца и продолжал: «Сто миллионов двойных наполеондоров – это составит приблизительно вознаграждение за военные издержки деньгами, потом оно обойдется дороже – четыре тысячи миллионов франков. Сорок тысяч талеров золотом составят центнер; тридцать центнеров помещаются на большой парной фуре – я знаю это, мне однажды приходилось везти из Берлина домой четырнадцать тысяч талеров; какая это тяжесть! Итак, для перевозки всей помянутой суммы потребовалось бы восемьсот фур».
– Да их скорее доставят, чем доставлялись снаряды для бомбардирования, – заметил кто-то, у которого теперь так же, как и у большинства из нас, истощилось терпение в ожидании этой меры.
– Это верно, – возразил шеф, – но Роон сказал мне на этих днях, что у него имеются в Нантейле несколько сот подвод, которые будут употреблены для перевозки снарядов. Можно бы также в фурах, в которые теперь запрягают по шесть лошадей, некоторое время запрягать по четверке, а лишнюю пару лошадей употребить для транспортных подвод. У нас там 318 пушек, но они хотят иметь еще 40, и их может еще доставить Роон; но другие генералы отказываются вообще действовать.
Потом Гацфельд заявил: «Не далее как шесть или семь недель назад, как они стали отказываться. Еще в Феррьере Бронсар и Верди сказали, что они могли бы за тридцать шесть часов разрушить до основания форты Исси и Ванвр и потом выступить против Парижа. Потом вдруг оказалось это невозможным».
Я спросил, какого мнения об этом Мольтке.
– О, он не заботится об этом! – ответил Гацфельд.
Но Бухер заявил:
– Мольтке хочет бомбардировать.
Ложась спать, я еще раз заглянул в «Moniteurs» и заметил, что один столбец был переполнен именами бывших в плену французских офицеров, которые, нарушив честное слово, убежали из тех мест, где они содержались. В числе этих господ были капитаны и лейтенанты, пехота и кавалерия, северные и южные французы. Из Дрездена убежало двое, из-под Гиршберга не менее десяти. В Париже, по-видимому, если верить известиям английских и бельгийских газет, относительно того, что поддерживать душу с телом, хотя уже довольно плохо, но все-таки еще сносно по крайней мере, у зажиточных. Пока еще нет недостатка в хлебе, в сухих овощах и в консервах. Свежая говядина очень редка и дорога. Большинство парижан заменяет ее кониной и ослиным мясом, которые, как гласит одно письмо, в действительности лучше, чем до сих пор думали. Крыса становится изысканным блюдом. Собаки и кошки – роскошное блюдо; с наступлением ночи им нельзя уже безнаказанно показываться на бульварах. Масло на исходе, древесные уголья уже вышли, и запасы каменного угля тоже скудеют. В половине ноября фунт коровьего масла стоил от 25 до 26 франков, гусь – 35 фpанков, фунт конины – от 3 до 4 франков, а свежие овощи и молоко уже не могли приобретаться людьми с небольшими средствами.
Пятница, 2-го декабря . Утром еще раз изложил в письмах и статье мнение шефа относительно договора с Баварией. За завтраком говорили, что сегодня опять была вылазка в том направлении, где стоят вюртембержцы и саксонцы, и что французы на этот раз развернули громадные массы пехоты. На улице несколько градусов мороза, что очень неприятно для раненых, находящихся на поле битвы. После обеда перевел для короля большую статью из «Times» по поводу ответа Горчакова на депешу Гранвилля.
За обедом в качестве гостей шефа присутствовали Альтен, Лендорф и один офицер в драгунской форме. Драгунский офицер был г. фон Тадден, сын фон Таддена-Триглаффа. Шеф рассказывал, что он только что, вернувшись с прогулки в экипаже, хлопотал о лучшем помещении нашего конвоя.
«Эти люди, – говорил он, – до сих пор имели помещение в холодном каретном сарае m-me Жессе. Но это помещение теперь уже не годится, а потому я приказал садовнику очистить им половину теплицы.
– Но там растения мадам замерзнут, – возразила жена садовника.
– Это скверно, – сказал я, – но все-таки лучше, нежели это случилось бы с солдатами.
Потом он заговорил о своем опасении, что рейхстаг может отменить или по крайней мере изменить договор с Баварией.
«Я ужасно беспокоюсь, – сказал он. – Люди эти и не подозревают, какое теперь положение. Мы балансируем на кончике громоотвода, и если мы потеряем равновесие, которого я добился с большим трудом, то очутимся на земле. Они желают большего, чем можно было достигнуть без давления; хотя они сочли бы за счастье, будь это до 1866 года, если б они достигли тогда хоть половину того, что досталось ныне. Хотят сделать поправку, желают побольше единства, побольше однообразия, но если они переставят только запятую в договоре, то придется начать вновь переговоры. Где же они будут происходить? Здесь в Версале? А если мы не кончим этого дела к первому января – что было бы очень приятно некоторым мюнхенцам, – тогда объединение Германии отложилось бы, может быть, на целые годы, и австрийцы устроят свои дела в Мюнхене».
После супа подали шампиньоны с двумя разными приправами.
– Их надо есть с благоговением, – сказал шеф, – так как они составляют добровольное пожертвование солдат, нашедших их в каменоломне или погребе, где было устроено искусственное разведение шампиньонов. Соус к ним повар сделал хороший, он очень вкусен. Еще благодатнее и, конечно, вполне редким было недавно другое пожертвование солдат – какой полк прислал мне розы?
– Сорок седьмой, – возразил Болен.
– Да, это был букет роз, сорванных под огнем, вероятно, где-нибудь в саду, в цепи передовых постов. Ах, я сейчас вспомнил; мне попался в лазарете солдат из поляков, не умеющий читать по-немецки. Ему очень хотелось иметь польский молитвенник. Нет ли у кого-нибудь из вас чего-нибудь подобного?
Альтен ответил, что молитвенника нет, но он мог бы дать ему польскую газету.
– Это не годится, – возразил шеф. – Он и не поймет ее, да и к тому же газеты возбуждают публику против нас. Нет ли чего-нибудь у Радзивилла? Польский роман тоже годится: «Пан Твардовский» или что-нибудь в этом роде.
Альтен заметил себе это на память.
Затем начали говорить о нынешней вылазке, когда со стороны Сены снова загремели несколько выстрелов. Кто-то сказал: «Бедные вюртембержцы, опять потеряют много людей».
– И бедные саксонцы, вероятно, тоже, – заметил шеф.
Упоминали о Дюкру, который, вероятно, командует вылазкой, и полагали, что у него есть основание избегать сильно плена.
«Конечно, – сказал министр, – он или даст себя убить в бою, или, если у него не хватит на это мужества, уйдет на воздушном шаре». Шеф оглянулся. «Где же Краусник? – спросил он. – Не забыл ли он купить для солдата яблочного квасу, который я обещал ему? Он ранен только в руку, но очень жалко выглядел и лежал в лихорадке – вероятно, происходит нагноение».
Снова заговорили о спекуляции биржевыми бумагами, и министр опять выразил сомнение, чтобы на этом поприще вообще можно было сделать многое на основании всегда только ограниченного предвидения политических событий. «Подобные события действуют только потом на биржу, и трудно предвидеть самый день, когда это случится. Да, – продолжал он, – с такими штуками можно было бы вызвать понижение , но это, разумеется, бесчестно. Французский министр Г. так и делал, как рассказывал на днях Р. Он этим удвоил свое имущество; можно бы даже сказать, что и война затеяна для этой цели. И Мустье, как говорят, занимался подобными делами – не для себя, а только ради увеличения богатства своей содержанки, и когда это начало открываться, то он умер с подозрительными симптомами. Пользуясь своим положением, можно так устроить, чтобы вместе с политическими депешами присылались бы биржевые телеграммы со всех бирж через обязательное посредство чиновников посольства. На телеграфных станциях политические телеграммы предшествуют обыкновенным, и, таким образом, выигрывается приблизительно от двадцати до тридцати минут. А потом надо иметь ловкого еврея, который умел бы воспользоваться этой выгодой. Говорят, есть такие люди, которые поступали подобным образом. Таким образом, можно зарабатывать ежедневно от полутора до пятнадцати тысяч талеров, что по прошествии нескольких лет составит прекрасный капитал. Но я не желал бы, чтобы мой сын сказал о своем отце, что он подобным способом сделал его богатым человеком. Он может разбогатеть и другим путем, если этому суждено быть».
«Прежде, когда я не был еще союзным канцлером, мне жилось лучше, чем теперь. Меня разорило мое назначение; с тех пор я очутился в стеснительном положении. Прежде я считал себя простым дворянином; теперь же, когда я некоторым образом принадлежу к пэрству, притязания увеличиваются, а имения не приносят соответственного дохода. Когда я был посланником во Франкфурте, мне жилось хорошо, и у меня всегда еще кое-что оставалось; даже и в Петербурге, где мне не нужно было жить открыто и где я и не жил открыто».
Потом он рассказывал о древесно-бумажной фабрике в Варцине, на которую он, по-видимому, возлагал большие надежды. Арендатор уплачивает ему проценты на деньги, употребленные им на устройство мельницы и другие подобные заведения. Кто-то спросил, сколько это составляет.
– От сорока до пятидесяти тысяч талеров. Он платит мне, – сказал он, – за силу воды, которая до сих пор оставалась без всякого употребления, две тысячи талеров в год; он покупает у меня сосновые бревна, которые иначе едва я мог бы сбыть, и по прошествии тридцати лет он должен сдать мне все мельницы в таком виде, в каком он принял их. Теперь имеется только одна мельница, но должна еще прибавиться другая в том месте, где вода падает с большей силой, а после и – третья. Арендатор, собственно, приготовляет картон для переплетов, для обертки, для коробочек и т. п. главным образом для Берлина и листы из сосновой муки, которые идут в Англию, где их растворяют и с примесью других веществ превращают в писчую бумагу, все это он разъяснял обстоятельно, как сведущий человек.
Суббота, 3-го декабря . Ночью на северной стороне опять происходила сильная пушечная пальба, зато в течение дня только изредка падали снаряды из тяжелых орудий. Вчера на востоке и северо-востоке от Парижа происходили, вероятно, жестокие схватки, нанесшие значительные потери и нам; и французы, по-видимому, еще к вечеру удерживали за собою возле деревень Бри, Вилльер и Шампиньи позицию, которая первоначально входила в состав нашей линии. Я отправил в Германию по телеграфу сообщение генерального штаба, относящееся к этим событиям. Это сообщение, не подтверждая того факта, что означенные пункты удержаны нашими войсками, гласит только об отражении появившихся большими массами французов саксонцами (которые потеряли будто целый батальон), вюртембержцами и 2-м корпусом и далее о победоносном сражении под Луаньи и Артенэ. Шеф едет в половине второго часа к великому герцогу Баденскому, супруга которого сегодня празднует день рождения; потом он отобедает у короля. У нас за обедом в качестве гостя присутствует граф Гольнштейн, который в прошлую субботу ночью уезжал к баварскому королю в Гогеншванген и сегодня в полдень уже вернулся сюда.
«Вы совершили всемирно-историческое путешествие», – говорит ему Болен.
Я спрашивал о смысле этих слов Бухера.
«Граф отсутствовал по вопросу об императоре и привез благоприятные известия», – возразил он.
Удивительно было сегодня то, что французы в продолжение дня раз шесть дали по четыре пушечных залпа, два с промежутками около четырех секунд, а два почти одновременно.
Куда как хороша газета «Gaulois», переселившаяся из Парижа в Брюссель! Редакторы ее, между которыми находится милейший Анджело де Миранда, поступают так, как будто бы они пишут еще в запертом Париже, где они могли находить людей, веривших самым чудовищнейшим сказкам. Так, например, эти чада отца лжи извещают, что Пруссия в половине октября выплатила через один лондонский дом 450 000 талеров известным лицам, живущим во Франции, как полагают, прусским шпионам. Далее, по их словам, Мольтке скончался и похоронен уже три недели назад, но каждый немецкий солдат, который заговорит об этом, мгновенно расстреливается. Король Вильгельм, ввиду серьезных событий, готовящихся вокруг Парижа, находится уже около двенадцати дней в Берлине, будто бы для открытия рейхстага. Они пишут наконец, что в Мутциге, возле Страсбурга, казнили 36 отцов семейств, сыновья которых присоединились к французской армии; им отрезали носы и уши, и трупы их поставлены у стены церкви, где они находятся уже месяц. Во всем прочем главный редактор Тарбэ держится довольно сносного направления. Он борется против Гамбетты, которого называет тираном и которого прежде всего упрекает за то, что тот действует не в интересах Франции, а только в интересах республики, которая, в свою очередь, – не что иное, как его диктатура, господство произвола, и что он жертвует отечеством ради своей власти. В Париже, по-видимому, он не был в состоянии высказывать этот взгляд с достаточной силой, поэтому он убрался оттуда и пытался вместе со своими тремя младшими редакторами пробраться через немецкие линии. Это им и удалось, но не удалось им продолжать издание своей газеты в каком-нибудь провинциальном городе Франции, так как и здесь не желали видеть нападений на Гамбетту, и, таким образом, они продолжают теперь бороться и лгать в Бельгии. Заметки по поводу этой лживой газеты посланы в «Moniteur» и немецкие газеты.
Потом я составил статью о нейтралитете Люксембурга и о вероломном способе, которым там пользуются своим положением, чтобы всячески поддерживать французов в их борьбе против нас. Ход мыслей был приблизительно следующий.
С нашей стороны в начале войны было заявлено, что мы будем соблюдать нейтралитет великого герцогства. При этом предполагалось молчаливое нейтральное поведение правительства и населения Люксембурга; но это предположение не исполнилось. В то время как мы, несмотря на неудобства, возникавшие по поводу отправления наших раненых, сдержали честно наше обещание, со стороны люксембуржцев нейтралитет многократно нарушался самым явным образом. Уже раньше мы могли жаловаться, что при содействии великогерцогских железнодорожных чиновников и полицейских властей в крепость Тионвиль подвозится провиант ночью. После капитуляции Меца множество французских солдат прошло через великое герцогство для того, чтобы отправиться снова во Францию и во французскую армию, оперировавшую против нас с севера. На вокзале города Люксембурга французский вице-консул устроил настоящее бюро, в котором подобные солдаты снабжались на дорогу деньгами и свидетельствами. Великогерцогское же правительство допускало все это, не сделав даже и попытки помешать такой поддержке противников Германии. Поэтому оно уже не имеет права жаловаться, если в будущем при военных операциях мы не обратим более никакого внимания на его нейтралитет, и оно не может находить несправедливым то обстоятельство, если мы потребуем от него вознаграждение за убыток, происшедший для нас вследствие непрекращения нарушений нейтралитета.
Воскресенье, 4-го декабря. Прекрасная погода. Изредка слышатся выстрелы на северной стороне. Я телеграфировал, что вчера и сегодня французы уже не делали попыток прорваться сквозь наши линии и что принц Фридрих Карл подвинулся еще дальше вперед и опять взял несколько неприятельских орудий.
За столом присутствовали бывший баденский министр фон Роггенбах, премьер-лейтенант фон Сарвадский и баварский иоаннит фон Нитгаммер, человек с необычайно благородными чертами лица, с которым шеф познакомился недавно в лазарете. Министр рассказывал сперва о том, что он сегодня снова посетил раненых в замке, потом сказал:
«Оставя в стороне Франкфурт и Петербург, никогда в жизни моей я еще не оставался так долго, как здесь, ни в одном чужом месте. Мы проживем еще здесь до Рождества, чего мы уж и не думали. И в Пасху мы будем еще сидеть в Версале и увидим, как деревья снова покроются зеленью, и все еще будем прислушиваться к известиям о луарской армии. Если б мы знали это наверняка, то приказали бы посеять в огороде целые гряды спаржи». Потом он говорил Роггенбаху: «Я сейчас просматривал вырезки из газет. Как они накинулись на договоры! Живого места не оставили в них. «National-Zeitung», «Kölnische-Zeitung», – что же касается «Weser-Zeitung», то она, как и всегда, еще самая благоразумная из всех. Ведь, конечно, с критикой-то согласиться нужно. Но мы несем ведь ответственность, если ничего не устроится, тогда как критики безответственны. Для меня все равно, если они порицают меня, лишь бы дело прошло в рейхстаге. История может сказать, что негодный канцлер мог устроить и лучше, но я был ответствен. Если изменит в договоре что-либо рейхстаг, то может изменить и каждый южногерманский ландтаг в каком-нибудь другом направлении, и тогда этот процесс затянется надолго, и из того мира, который нам желателен и нужен, не выйдет ничего. Ведь нельзя же предъявлять прав на Эльзас, если не создано политическое лицо, если не существует Германии, которая приобретает его для себя».
Говорили о мирных переговорах, которые могут быть связаны с предстоящей капитуляцией Парижа, и о тех затруднениях, которые могут возникнуть при этом.
«Фавр и Трошю, – начал шеф, – могут сказать: «Мы не правительство, мы прежде участвовали в нем, но мы сложили с себя эту власть, мы – частные люди. Я ничего более как гражданин Трошю». – Но я бы уж их принудил, этих парижан. Я сказал бы им: «Вы, два миллиона людей, отвечаете мне вашими желудками. Я заставлю вас голодать еще двадцать четыре часа, пока мы не получим от вас того, чего желаем; и еще двадцать четыре часа, все равно что бы ни вышло из этого». – Я выдержу это, но… я уже сумел бы совладать с собою; но как совладать с тем, что стоит за мною или, вернее, что давит мою грудь так, что я не могу перевести дух. Ах, если б я был ландграфом! Я считаю себя способным быть твердым; но я не ландграф».
«Только на этих днях опять обнаружилась порядочная нелепость вследствие сентиментальной заботы о горожанах. Предполагают основать большие провиантские склады для парижан. Они думают доставлять провиант из Лондона и Бельгии, и магазины должны находиться между нашими линиями; а нашим солдатам предоставляется только смотреть на эти магазины, но не прикасаться к ним, даже в случае нужды – для того чтобы парижанам не пришлось испытывать голода, если они капитулируют. У нас здесь, в доме, конечно, всего вдоволь, но войскам на поле по временам приходится перебиваться, и они страдают ради того, чтобы парижане, узнав, что о них заботятся, откладывали капитуляцию до того дня, когда уже будет съеден последний хлеб и будет зарезана последняя лошадь. Меня и не спрашивают, потому что я скорее повешусь, чем изъявлю на это свое согласие… Но я сам виноват в этом. Я был настолько неосторожен, что обратил внимание на долженствующий наступить голод (мне пришлось также заняться этим делом и в печати), конечно, только дипломатии».
Подавали швейцарский сыр, и кто-то спросил, идет ли сыр к вину.
– Известные сорта – к известным винам, – заметил министр. – Острые сыры, как горгонцола и голландский, не годятся. Другие же – хороши. Мне помнится, что в то время, когда в Померании здорово пили – лет двести или более назад, – тогда к числу лиц наиболее пивших принадлежали рамминцы. Случилось так, что один из них получил из Штетина вино, которое не понравилось ему. Он написал об этом виноторговцу. Этот же последний отвечает ему следующими словами:
«Кусочек сыра к сему вину
Советую г. Раммину;
Тогда вкус вина один,
Пьет его ль Штеттин
Или ж Раммин».
Л., пришедши в восемь часов для получения сведений, рассказал, будто посланник фон Гольц сказал ему в 1866 году, что он отправил курьера в прусскую главную квартиру, в Кениггрец, с известием, что император Наполеон не имеет ничего возразить против присоединения Саксонии, но посланный опоздал с этим известием на несколько часов (дело, как известно, происходило иначе).
Я уговорил тогда Л. написать статью в большую газету, в которую он пишет корреспонденции, о господствующем здесь воззрении на баварский договор. Против договора можно было бы кое-что возразить. Прежде всего Баварии нельзя было, подобно тому как Саксонии в 1866 году, диктовать условия ее вступления в союз наравне с остальной Германией, так как она является здесь не побежденной, а сопобедительницей. Так же как не было желательно действовать на нее принудительно во время мира, так равно нежелательно давление и теперь, когда она по каким бы то ни было основаниям, во всяком же случае, ввиду сохранения до известной умеренной степени своей самостоятельности, сражалась на нашей стороне, – еще менее можно угрожать ей. А наконец если бы рейхстаг изменил что-либо в договорах, то ландтаги Южной Германии могли бы, в свою очередь, исправить то, что для них неудобно, и, таким образом, переговорам не было бы конца, хотя для присоединения Эльзаса и Лотарингии было бы весьма желательно, чтобы договоры были вскоре окончены.
После десяти часов раздалось около шести быстро следующих друг за другом выстрелов из одного из фортов, а вскоре после того еще несколько. Говорят, что вюртембержцы отлично дрались во время большой вылазки Дюкро, предпринятой им по направлению к Марне; точно так же и саксонцы, которые при этом случае потеряли несколько сот человек пленных. Мы взяли в плен восемьсот французов.
После половины одиннадцатого я сошел вниз к чаю, где сидели Бисмарк-Болен и Гацфельд с тремя фельдъегерями, ожидавшими приказаний шефа. Но он возвратился только полчаса спустя от великого герцога Баденского. Он быстро пишет карандашом письмо командиру 4-го армейского корпуса и отдает его одному из фельдъегерей. Потом он сообщил, что великий герцог только что получил от короля известие, будто наши оставили уже позади себя орлеанский лес и стоят под самым городом. Когда другие удалились вместе с фельдъегерями, я спросил:
– Ваше сиятельство, нельзя ли мне это хорошее известие тотчас же телеграфировать в Лондон?
– Да, можно, – сказал он улыбаясь, – если генеральный штаб только дозволит нам говорить о движении армии.
Потом он читал телеграммы агентства «Рейтер» об известиях с французской стороны. Относительно слова «tardé», вероятно, ошибочно написанного, он заметил:
– Это, должно быть, телеграфировал саксонец, – и, взглянув на меня, он прибавил. – Извините, пожалуйста.
Затем пришли прочие сослуживцы вместе с Абекеном, который был у короля и удостоился чести пить у него чай. Говорили о ноте Горчакова, об Англии, о поездке графа Гольнштейна, о хороших результатах его поездки и об аудиенции графа у короля Вильгельма. Болен сказал:
– В Берлине все вне себя от радости. Завтра будет дан прекрасный спектакль в честь императора; город будет иллюминован, делаются уже грандиозные приготовления – поистине будет волшебное зрелище!
– Да, – заметил шеф, – я полагаю, это окажет хорошее действие и на рейхстаг. Впрочем, очень хорошо со стороны фон Роггенбаха, что он выразил готовность тотчас же отправиться в Берлин. (Для того, чтобы недовольным депутатам проповедовать умеренность.)
Понедельник, 5-го декабря. Очень хорошая погода, очень холодное утро. Утром шеф в постели получает от Бронсара письменное извещение, что третий и девятый армейские корпуса под начальством принца Фридриха Карла одержали большую победу; станция железной дороги и одно из предместий заняты Манштейном, великий герцог Мекленбургский занял западную часть города; нам достались с лишком тридцать пушек и несколько тысяч пленных. И под Амьеном после победоносного сражения наши войска взяли всевозможные военные трофеи, и в том числе девять орудий. Наконец, здесь, под Парижем, французы ушли назад за Марну. Я телеграфировал это по-нашему, и министр на этот раз не находит ничего, чтобы следовало исправить в этой длинной депеше.
Вскоре после этого он снова приказал позвать меня исправить ошибку в баварском деле, так как мысли, выраженные им до сих пор, были несколько иначе поняты. Эту поправку я приказал опустить в сигарный ящик, висевший на стене внизу в канцелярии, вместо письменного ящика. В поправке говорилось приблизительно вот что: «Слух, будто союзный канцлер заключил договоры с южногерманскими государствами в том виде, как они представляются теперь, в надежде, что рейхстаг отменит или только изменит их, лишен всякого основания. Эти договоры в течение декабря должны быть обсуждены и одобрены во всех пунктах, для того чтобы с 1-го января они могли войти в силу. Иначе все останется в неопределенном положении. Если их изменит представительство Северной Германии, то южногерманские ландтаги, в свою очередь, имеют право восстановить их в прежнем виде, и никто, конечно, не может знать, не воспользуются ли они этим правом. Но тогда народу придется еще долго ждать политического единства. («Быть может, с десяток лет, – сказал шеф, – и interim aliquid fit».) И мир тогда не может быть заключен так, как мы желаем. Договоры могут быть неполны, но это может быть исправлено впоследствии мало-помалу посредством рейхстага, с согласия союзного совета и посредством давления общественного мнения и господствующего в народе известного национального настроения. Спешить с этим нечего. Если же такое давление не обнаружится, в таком случае теперешнее положение германских дел представляется, очевидно, желаемым для большинства нации. Люди, проникнутые национальным чувством в Версале, очень заботятся и беспокоятся настроением Берлина относительно этого дела, однако же некоторое утешение представляется в том обстоятельстве, что «Volks-Zeitung» полемизирует против соглашения с Баварией, ибо замечено, что все люди с политическим убеждением отворачиваются вообще от всего того, чту эта газета хвалит и рекомендует, и, наоборот, расположены к тому, чту ею порицается или от чего она предостерегает».
В три часа я пошел гулять с Бухером на лесистые высоты, лежащие к югу от города, откуда я видел город на всем его протяжении. Вскоре после обеда я телеграфировал, согласно сделанному шефу донесению, что в прошлую ночь Орлеан был занят немецкими войсками. В это самое время приходит Л. и сообщает мне, что Бамберг сказал ему, что он, Л., по приказанию союзного канцлера должен передать редакцию газеты «Moniteur Officièl» ему, Бамбергу. Я очень рад, что ему дозволено для своих корреспонденций черпать у нас сведения. Он неоднократно оказывал нам этим хорошие услуги.
За столом, влево от шефа, сидел имперский депутат Бамбергер, который тоже намеревался отправиться в Берлин, для того чтобы действовать там в пользу принятия без изменений договоров с Южной Германией. Кроме него, у министра были в гостях драгунский офицер с желтым воротником, полковник фон Шенк, и лейтенант или ротмистр голубых гусар. Последний – господин с седой головой и усами – некто фон Рохов, убивший на дуэли Гинкельдея. Разговор шел сперва о врачах и их познаниях, и об них шеф высказал не особенно благоприятные мнения. Потом темой разговора сделались договоры, и поведение государей в этом деле признавалось правильным.
– Это так, – возразил канцлер, – а рейхстаги как! Мне приходится постоянно думать: «Эх вы, господа, вы портите мне всю мою махинацию». Знаете ли вы историю с императором Гейнрихом? Там под конец все-таки дело поправилось. А тут-то. Эти-то готовы убивать людей на алтаре отечества, но все-таки это ничего не поможет. – Он с минуту подумал, потом продолжал, полуулыбаясь: – Следовало бы членов ландстага и рейхстага сделать ответственными, подобно министрам, не более не менее как в равной степени. Следовало бы издать закон об ответственности депутатов, если они не признают важных государственных договоров, вследствие государственной измены, или же если они, как господа парижане, без всякого основания и легкомысленно одобрят войну. Там все стояли за войну, кроме только Жюля Фавра. Быть может, я еще предложу когда-нибудь такой закон.
Речь шла о последних стычках под Парижем, и кто-то заметил, что при этом и померяне были в огне.
– Вероятно, и мои добрые варцинцы, – сказал шеф. – Сорок девять – семь раз по семь – как их дела?
Рохов рассказывал потом о своеобразных привычках генерала фон Альвенслебена, в квартире которого он провел ночь.
Потом заговорили о капитуляции Парижа, долженствовавшей последовать не позже четырех недель.
– Да, – сказал канцлер, вздыхая, – как только дело дойдет до нее, тут-то и начнется настоящим образом мое горе.
Бамбергер полагал, что их не только следует заставить капитулировать, но и требовать от них тотчас же заключения мира.
– Совершенно справедливо, – возразил шеф, – это и мое мнение, и их следовало бы принудить к этому голодом. Но есть люди, которые прежде всего желают приобрести репутацию человеколюбивых, и этим они портят нам все дело. Эти люди не обращают внимания на то, что сперва нам нужно подумать о наших собственных солдатах и позаботиться о том, чтобы они без всякой пользы не терпели нужды и чтобы их не убивали! То же самое можно сказать о бомбардировании. И для чего это щадят искателей картофеля? Ведь их следовало бы тоже убивать, а не морить голодом.
После восьми часов меня несколько раз звали к шефу; писал две большие статьи. Вторая, написанная по поводу заметки «Indépendance Belge», указывает на то обстоятельство, что родство Орлеанских принцев через герцога Алансонского с Габсбурго-Лотарингским домом не может побудить нас, немцев, отдавать им преимущество или смотреть на них особенно благоприятно. Там сказано приблизительно вот что: «Как известно, принцы из Орлеанского дома, заявив о своем желании принять участие в борьбе против нас, получили от Трошю отказ. В настоящее время «Indépendance» извещает нас, что герцог Алансонский, второй сын герцога Немурского, который тогда вследствие болезни не мог пойти по следам своих дядей и двоюродных братьев, теперь хочет попытать свое счастье в таком же направлении, и торжественно прибавляет: «Известно, что герцог Алансонский женат на сестре австрийской императрицы». – Нам понятен этот намек, и нам кажется, что мы ответим на него в духе немецкой политики, если скажем следующее. Орлеанские принцы относятся к нам так же враждебно, как и прочие династии, добивающиеся короны Франции. Орган их в отношении нас исполнен лжи и ругательства. Мы не забыли хвалебный гимн коварным вольным стрелкам, который запел герцог Жуанвильский после битвы под Вертом. Во Франции для нас может быть приятным лишь то правительство, которое всего менее в состоянии вредить нам, так как оно всего более будет занято самим собою и задачей – удержаться ввиду своих соперников. Впрочем, для нас орлеанисты, легитимисты, империалисты и республиканцы имеют совершенно одинаковое значение. Что же касается намека на австрийское родство, то следовало бы остерегаться его. В Австро-Венгрии существует партия, которая пойдет вместе с Германией, и другая, которая пойдет против Германии, партия, которая желала бы продолжение старой политики Кауница во время Семилетней войны, политики постоянного заговора с Францией против немецких интересов вообще и главным образом против Пруссии. Это та политика, которая соединенная в последнее время с именем Меттерниха, действовала с 1815 по 1866 год и которой с тех пор пытались следовать с большим или меньшим упорством. Это та партия, к которой между другими эпигонами старого князя Меттерниха принадлежит Меттерних junior, уже много лет ревностный ходатай о франко-австрийском союзе против Германии и один из главнейших подстрекателей свирепствующей ныне войны. Если Орлеанские принцы думают, что на основании их связи с Австрией они могут питать большие надежды, то пусть они знают, что им по крайней мере от нас поэтому-то именно не на что надеяться».
Во время чая, когда я уже посидел несколько времени с Бухером и Кейделлем, пришел и шеф, а потом и Гацфельд. Последний был у короля и сообщил нам, что принц Фридрих Карл в сражении под Орлеаном и во время соединенного с ним преследования французов завладел семьюдесятью семью пушками, несколькими картечницами и четырьмя луарскими канонирками. Около десяти тысяч не раненных пленных – в наших руках. Неприятель бежал в разных направлениях. Все пункты взяты штурмом, причем и мы понесли значительную потерю, именно: тридцать шестой полк лишился многих солдат – говорят, около шестисот человек. Равным образом в последних сражениях под Парижем мы в бою с превосходной силой понесли значительную потерю. «Впрочем, на этот раз у короля не было ничего особенно занимательного, – продолжал Гацфельд. – Русский статский советник Гримм рассказывал много не особенно интересных вещей о Людовике XIV и о Людовике XV. Веймарец обращался с вопросами, на которые не могли ответить должным образом».
«В ответах на подобные вопросы Радовиц был силен, – сказал министр. – Он смело отвечал на всевозможные вопросы и этим достиг большую часть своих успехов при дворе. Он умел рассказать в точности, во что была одета Ментенон или Помпадур в тот или другой день. Она то-то и то-то носила на шее, у нее был головной убор с колибри или виноградными кистями, платье на ней было цвета gris de perles или попугаево-зеленого с такими-то или другими оборками и кружевами – совершенно точно, как будто бы он сам был при этом. Дамы с большим вниманием слушали эту лекцию о туалете, которую он читал так плавно».
Разговор перешел потом на Александра фон Гумбольдта, который, судя по тому, что говорят о нем, был также придворный человек, но не отличался занимательностью. «У нашего блаженной памяти государя, – так рассказывал шеф, – я бывал единственной жертвой искупления, когда Гумбольдт вечером занимал общество по-своему. Он обыкновенно читал вслух, иногда в продолжение целых часов, биографию какого-нибудь французского ученого или архитектора, которая никому не была интересна, кроме него самого. При этом он стоял, бывало, и держал книгу у самой лампы. По временам он выпускал ее из рук для того, чтобы сделать по поводу прочитанного ученое замечание. Никто не слушал его, но слово все-таки оставалось за ним. Королева вышивала что-то по канве и, конечно, ничего не слышала из его лекции. Король рассматривал картины, гравюры и политипажи – и с шумом перекидывал листы, очевидно, с тайным намерением ничего не слышать. Молодые люди по сторонам и на заднем плане беседовали между собою, нисколько не стесняясь, шептались и, таким образом, заглушали просто его чтение. Но это последнее журчало, не прерываясь, подобно ручью. Герлах, который обыкновенно присутствовал при этом, сидя на своем маленьком круглом стуле, через края которого опускались его толстые ягодицы, спал и храпел, так что король однажды разбудил его и сказал ему: «Герлах, не храпите же!» Я был его единственным терпеливым слушателем, то есть я молчал, делал вид, будто я слушаю его чтение, и при этом занят был своими собственными мыслями, пока наконец не подавали холодного ужина и белого вина. Старику бывало очень досадно, если ему нельзя было говорить. Мне помнится, однажды был кто-то, завладевший разговором и именно совершенно естественным образом, так как он умел хорошо рассказывать вещи, которые всех интересовали. Гумбольдт был вне себя. Ворчливо клал он на свою тарелку целую кучу – вот какую – (он показывает рукою) паштета из гусиной печенки, жирного угря, омаровый хвост и других неудобоваримых веществ – целую гору! – удивительно, что только мог съедать этот старик! Когда же он наедался вдоволь, то опять делал попытку овладеть разговором. «На вершине Попокатепетля, – начинал он. Но это ничего не помогало, рассказчик не давал себя отвлечь от своей темы. – На вершине Попокатепетля, семь тысяч саженей над… – опять ему не удалось пробиться, рассказчик спокойно продолжал говорить. – На вершине Попокатепетля, семь тысяч саженей над уровнем моря», – говорил он громким, возбужденным голосом, однако и это ни к чему не привело; рассказчик продолжал говорить по-прежнему, и общество слушало только его. Это было неслыханно – дерзость! С яростью опускался Гумбольдт на свое сиденье и погружался в размышление о неблагодарности человечества даже и при дворе».
«Либералы очень уважали его, они считали его своим человеком. Но он был такой человек, которому государева милость была необходима и который тогда только чувствовал себя хорошо, когда его освещало солнце двора. – Это не помешало ему впоследствии с Варнгагеном высказывать свои суждения о дворе и рассказывать о нем всевозможные некрасивые истории. Варнгаген потом составил из этого целые книги, которые и я приобрел себе. Они очень дороги, если принять во внимание, что на каждой странице их помещается только несколько строк крупной печати».
Кейделль полагал, что для истории они необходимы.
– Да, – возразил шеф, – в известном смысле. – В отдельности они немного стоят, но, как целое, они представляют выражение берлинской закваски в то время, когда ничего не было. Тогда весь мир говорил с таким злобным бессилием. То был такой мир, которого без подобных книг теперь вовсе нельзя и представить себе, если кто не видал его сам. Много было отведено внешней стороне, и – ничего порядочного внутри. Я припоминаю, хотя я был тогда очень мал, – это было, должно быть, в 1821 или 1822 году – тогда министры были еще очень большие звери, на них смотрели с удивлением; они были окружены какой-то таинственностью. Вот как-то раз Шукманн давал большой вечер, который тогда назывался ассамблеей. И какой это он был ужасно большой зверь в качестве министра! Моя мать тоже пошла туда. Я помню это, как будто все происходило вчера. На ней были надеты длинные перчатки вот до сих пор (он показал это на своей руке), платье с короткой талией; она носила пышные локоны с обеих сторон, а на голове – большое страусовое перо. – Он прервал на этом историю свою и опять возвратился к Гумбольдту.
– Гумбольдт, – сказал он, – умел иногда и хорошо рассказывать наедине из времен Фридриха Вильгельма III и в особенности из времени своего первого пребывания в Париже; и так как он был расположен ко мне, потому что я слушал его со вниманием, то я и узнал от него много прекрасных анекдотов. Со старым Меттернихом было то же самое. Я прожил с ним однажды несколько дней в Иоганнисберге. Впоследствии Тун говорил мне: «Я не знаю, что вы такое сделали старому князю; он ведь просто души в вас не чает и думает, что если вы не оправдаете его ожиданий, то я уж и не знаю, право, что с ним случится». Я ответил: «Я объясню вам это: я спокойно слушал его рассказы и только по временам звонил в колокольчик. Это нравится подобным словоохотливым старикам».
Гацфельд заметил, что Мольтке написал Трошю: так и так идут дела под Орлеаном. «Он предоставил ему, если пожелает, послать офицера убедиться в истине. Он выдаст ему охранительную грамоту до самого Орлеана».
– Это я знаю, – сказал шеф. – Но мне было бы более желательно, если бы он явился сам по себе. Наши линии теперь во многих местах стали редки, к тому же у них имеется голубиная почта. Если мы скажем им так, то оно будет иметь вид, как будто капитуляция нам очень к спеху.
Вторник, 6-го декабря. Утром телеграфировал в Берлин и Лондон подробности о победе под Орлеаном. Потом составил статью для «Монитера» и для немецких газет о вероломстве пленных французских офицеров, из которых некоторые опять преследуются вследствие тайного предписания. И генерал Барраль, командующий теперь частью луарской армии, убежал тоже таким же постыдным образом. После передачи Страсбурга он не только однократно, но даже двукратно дал письменное обещание под честным словом в этой войне не подымать более оружия против Пруссии и ее союзников и вообще не делать ничего такого, что могло бы вредить немецким армиям. Он поехал потом в Кольмар, а оттуда на Луару, где опять поступил во французскую армию – беспримерная бесчестность! Члены турского правительства не имели ничего против этого. Эти господа, которыми бельгийские газеты не могут нахвалиться вдоволь, будто они люди честные, благородные и т. д., пошли еще дальше; они отправили к задержанным в Бельгии французским офицерам некоего Ришара, который собрал их у Ташардa, представителя господ Гамбетты и Фавра в Брюсселе, и там под угрозами требовал от них, чтобы они нарушили данное ими бельгийским властям слово и отправились во Францию сражаться опять с немцами. И в Силезии, по-видимому, подобные эмиссары склонили на такой поступок слабохарактерных офицеров. В истории войн, конечно, найдется немного подобных случаев. Но у этого дела есть еще и другая сторона: с немецкой стороны вследствие подобных недостойных поступков является большое сомнение насчет того, можно ли вообще доверять такому правительству, как правительство народной обороны. Другими словами, с правительством, которое принуждает нарушать слово, которое по собственной инициативе принимает на службу нарушивших слово офицеров и употребляет их в дело и этим показывает, что оно разделяет и одобряет их мнение о значении торжественно данных обещаний, – мы, само собою разумеется, как с правительством в высшей степени ненадежным, не можем вступать в переговоры до тех пор, пока будут продолжаться подобные переманивания и определения на службу.
За обедом находились сегодня Д. Лауер и Одо Россель. Разговор был не особенно интересный; о политике почти ничего не говорили. Но у нас были великолепные пфальцские вина: придворный Дейдесгеймер и церковный Форстер – благородные вина, ароматные и огненные, – «из огня был создан дух». Даже Бухер, который вообще пьет только красное вино, сделал честь этой небесной росе с Гаардских гор.
Вечером посетил меня консул Бамберг, новый редактор нашей версальской газеты, – человек в летах, в морской форме, украшенный двумя орденами – он теперь будет посещать меня каждый день. Недавний осмотр лазарета в замке вызвал следствие, и шеф, если я не ошибаюсь, получил известие, что все было найдено в порядке, больные получали то, что им следовало, прислужник же, который говорил о неудовлетворительности ухода за больными, подвергнут дисциплинарному взысканию [17] . Потом написал еще одну статью, в которой я в вежливой форме выразил мое удивление медному лбу Грамона, напомнившего в брюссельском «Gaulois» о своем существовании. Он, который своей неслыханной ограниченностью, а равно своей беспримерной неловкостью вверг Францию в бедствие, должен бы, подобно своему товарищу Оливье, молчаливо скрыться куда-нибудь и радоваться, если о нем забудут, или же (как одаренный крепким телосложением и следуя традициям своего древнего рода) должен бы поступить на военную службу и, сражаясь за свое отечество, искупить некоторым образом причиненное им зло. Вместо того он осмеливается еще напоминать свету в газете о том, что он еще существует и что некогда держал в своих руках французскую политику. «Дерзкий дурак». Понятное дело, подобным людям никто не отвечает на их доводы.
После консула с орденом Христа пришел Л., принесший добрую весть, что вчера пополудни генерал Гёбен окружил Руан и что оперирующие в этой местности немецкие войска направились теперь против Гавра и Шербура. Я просил его написать и для своих газет статьи о приеме на службу нарушивших честное слово офицеров и о дерзости Грамона.
По английским известиям в Париже уже недели две назад началась довольно неприятная жизнь. Появились болезни, и смертные случаи стали значительно чаще, чем в обыкновенное время. Страх и уныние, а также и нужда способствовали этому. В первую неделю сентября насчитывали девятьсот смертных случаев, а в неделю, закончившуюся 5-го октября, приблизительно вдвое столько, в следующую – тысячу девятьсот смертных случаев. В городе свирепствует оспа, похищающая много жертв; равным образом значительное число людей умерло от брюшных болезней. Среди набранных в провинции батальонов эпидемически распространилась тоска по родине. Говорят, будто один английский корреспондент при посещении южного госпиталя в последнюю неделю октября видел над входною дверью здания записку следующего содержания: «Кто принесет с собою кошку, собаку или трех крыс, тот может принять участие в завтраке или обеде. Примечание: безусловно, необходимо, чтобы животные доставлялись живыми». Подобные объявления на дверях парижских госпиталей представляют будто явление обыкновенное.
Недостает еще пяти минут до полуночи. Министр уже в постели – в виде исключения. Свечи, поставленные в бутылочных горлах на моем столе, значительно сгорели. Мон-Валерьян дал страшный залп по долине. Зачем это? Может быть, он должен только поведать парижанам: теперь двенадцать часов ночи. Значит, это что-то вроде оклика ночного сторожа. В противном случае пальба эта имела бы смысл поговорки «Много шуму из ничего». В последние два дня боя форты, как сегодня слышал Абекен, выпустили около шестнадцати тысяч бомб и гранат, но от этого ранены из наших только тридцать пять человек, в том числе некоторые легко.
Глава XIV Виды на будущее под Парижем делаются благоприятнее
Среда, 7-го декабря. Погода пасмурная. Только изредка слышатся выстрелы с фортов и канонирок. Ложные известия, которыми Гамбетта и его сподвижники стараются прикрыть прореху, оказавшуюся в надежде населения относительно большой победы над нами после поражения красноштанников под Орлеаном, побудили меня поместить в «Монитере» следующую заметку: «Члены турского правительства обнародовали о поражении Луарской армии известия, которые имеют вид отрывков из сказок, носящих общее заглавие «Тысяча и одна ночь». Телеграмма их гласит, между прочим: «Отступление Луарской армии совершено без всяких других потерь, кроме потери тяжелых морских орудий, которые остались в укрепленном лагере заклепанными». Но ведь в этом случае немцам достались в руки двенадцать тысяч не раненых пленных. Депеша из Тура гласит дальше: «Полевая артиллерия не понесла потерь», тогда как в действительности победители взяли семьдесят семь полевых орудий и несколько картечниц. Немецкий народ ввиду воспоминаний о добродетелях Катона, Аристида и других республиканцев древности проникся той верой, что республика исключает ложь из числа своих операционных средств, – он полагал, что она по крайней мере будет менее лгать, чем империя. Но народ, как видно, обманулся. Эти катоны новейшего времени превзошли всех в искусстве выдавать ложь за правду, если дело касается того, чтобы отвергнуть что-либо; турские адвокаты выказывают больше смелости, чем генералы империи». Потом отправлена была телеграмма о новых успехах нашего оружия на севере и об оцеплении Руана.
После трех часов я пошел с Вольманном через Place d’Armes во дворец, где перед глазами конной статуи Людовика XIV и под самой надписью: «Toutes les gloires de la France», как будто в виде иронического комментария этого выражения галльского самомнения и хвастовства, выставлены четырнадцать бронзовых орудий, взятых под Орлеаном. Они частью двенадцати, частью четырехфунтовые; позади них стоят принадлежащие им лафеты и зарядные ящики. Французские орудия имеют собственные имена. Так, одно из выставленных называется «Le Bayard», другое – «Le Lauzun», третье – «Le Bucheron», между тем как другие окрещены «Le Maxant», «Le Rapace», «Le Brise-tout» или тому подобными страшными именами. На некоторых выскреблено, что они взяты четвертым гусарским полком.
За обедом присутствуют графы Гольнштейн и Лендорф. Пили опять превосходный Дейдесгеймер. Шеф, между прочим, рассказывал свои франкфуртские воспоминания.
«С Туном можно было ужиться, – сказал он. – Он был приличный господин. Рехберг, в общем, был тоже не дурной человек, по крайней мере лично честный, хотя и очень горячий и вспыльчивый – он из горячих светло-блондинов», о которых он потом распространялся много. «В качестве австрийского дипломата тогдашней школы он, конечно, не мог смотреть так строго на правду. Третий же, Прокеш, был вовсе не по мне. Он привез с собою с востока самые скверные интриги. Он был совершенно равнодушен к правде. Мне помнится, однажды в большом обществе говорилось о каком-то уверении Австрии, которое не согласовалось с истиной. Тогда он сказал громким голосом, чтобы я мог слышать: «Будь это неправда, то мне пришлось бы лгать (он сильно ударял на это слово) от имени императорско-королевского правительства!» При этом он взглянул на меня. Я посмотрел на него и сказал спокойно:
– Конечно, ваше превосходительство.
Он очевидно смутился; и когда он осмотрелся кругом и увидел потупленные взоры и глубокое молчание всех присутствующих, отдававших мне справедливость, он тихо отвернулся и ушел в столовую, где был накрыт стол. Но после обеда он оправился. Тогда он подошел ко мне с полным стаканом – иначе я мог бы подумать, что он хочет меня вызвать на дуэль, – и сказал:
– Ну, давайте пить мировую.
– Отчего и не выпить? – сказал я. – Но протокол все-таки надо изменить.
– Вы неисправимы, – возразил он улыбаясь, и этим дело кончилось.
Протокол был изменен, и этим было признано, что он содержал неправду».
Заговорили о Гольце, и шеф еще раз рассказал бомонтскую историю о том, как он был нелюбим своими людьми; после того он спросил Гацфельда, приходилось ли и ему терпеть от него. Последний сказал, что нет, но что вообще чины посольства его не жаловали, – это верно.
После обеда пришел ко мне консул Бамберг и получил статью о неправдивости в Туре. Я говорил с ним также о Л., способности которого я хвалил, между тем как, по его мнению, он и хороший патриот и уже прежде заявил себя с хорошей стороны. Потом является сам Л. и рассказывает, между прочим, о том, что Hôtel des Reservoirs начинают называть Hôtel des Preservoirs. (Не особенно блестящая острота, подумал я; но об этом каждый волен иметь свое мнение, и всякому, кто был тогда в Версале, должно быть известно, какое именно.)
За чаем Гацфельд передавал, что сегодня провезли множество пленных, и при этом дело доходило до беспорядков и бесчинств, так как граждане, в особенности женщины, стали тесниться к ним, и конвойные принуждены были прибегнуть к употреблению прикладов. Говорили о бомбардировании, и все мы согласились, что король желает этого совершенно серьезно и что есть надежда, что оно скоро начнется. Прибавляли также, что и Мольтке стоит за него. Последний получил, впрочем, от Трошю ответ на свое предупредительное письмо, который можно выразить вкратце приблизительно следующими словами: «Покорно благодарю, а впрочем, все остается по-прежнему».
Четверг, 8-го декабря. Выпало много снегу, на дворе довольно холодно, и камин не нагревает моей комнаты как следует, несмотря на то что в нем горят большие буковые поленья. Во время обеда из чужих участвовал князь Путбус. Нам подавали, кроме других вкусных блюд, яичницу с шампиньонами и, как уже случилось несколько раз, фазанов с кислой капустой, варенной на шампанском. Были также опять вина: Форстер и Дейдесгеймер, о которых министр выразил мнение, что первое следует предпочесть другому. «Форстер, – сказал он, – вообще лучшее вино, чем Дейдесгеймер». Наконец между такими благородными напитками явилась и достопочтенная старая водка, так как Путбус полагал, что кислая капуста не здорова, на что шеф возразил:
– Не думаю. Я ем ее именно для здоровья. Энгель, дайте нам водки к ней.
Министр показал потом Путбусу меню, и о нем завязался разговор, причем упоминалось, что один молодой дипломат в Вене старательно собирал все меню своего начальника, велел переплести их в два изящных тома, и что там встречались очень интересные комбинации.
Потом министр заметил, что у французов, должно быть, в одном из фортов на нашей стороне – одно или два очень крупных орудия. «Это заметно по звуку, который гораздо сильнее других. Но этим они вредят только сами себе. Если они положат довольно сильный заряд, то дуло либо обернется и выстрелит им в город, либо же его разорвет; конечно, может и посчастливиться, и тогда ядра долетят до нас, в Версаль».
Потом спрашивали начальника, в каком положении находится вопрос о германском императоре; он, между прочим, сказал: «У нас было по этому поводу много хлопот с телеграммами и письмами. Но самые важные переданы графом Гольнштейном. Он очень ловкий человек».
Путбус спросил, кто он, собственно.
Обер-шталмейстер. Он совершил поездку в Мюнхен и обратно за шесть дней. Для этого при настоящем состоянии железных дорог нужно много доброй воли. Конечно, у него и крепкое телосложение. – Да, не только лишь в Мюнхен, но и в Гогеншвангау. – Впрочем, король Людвиг существенным образом содействовал быстрому окончанию дела. Он тотчас же принял письмо и, не откладывая, дал на него решительный ответ».
Я не помню содержания промежуточного разговора, после которого речь зашла о понятиях «swells», «snobs» и «cockneys», которые обсуждались весьма обстоятельно. Шеф обозначил одного дипломата эпитетом «swell» и потом заметил: «Это ведь прекрасное слово, которого мы не можем выразить по-немецки. Положим, мы сказали бы щеголь, но ведь swell выражает вместе с тем высокую грудь, надменность. Snob означает совсем другое, чту по-немецки тоже нельзя выразить совершенно точно. Оно означает разные свойства и качества, преимущественно же односторонность, ограниченность, пристрастие к местным или сословным воззрениям, филистерство. Snob приблизительно то же, что мещанин. Но это слово не совсем идет. Оно обозначает также еще пристрастие к семейным интересам – узкий взгляд в суждениях о политических вопросах, – облеченное в усвоенные воспитанием мысли и манеры выражаться. Snobs бывают и женщины, и очень знатные. Можно еще говорить и о партионных snobs – тех, которые в широкой политике не могут подняться выше положений частного права, – это будут snobs прогресса». Cockney же совсем другое. Оно идет больше к лондонцам. В Лондоне есть люди, которые никогда не выходили из своих домов и улиц, из brick and mortar, никогда не видали никакой зелени, которые всегда знакомились с жизнью только на этих улицах и слышали звон Bow Bells. У нас есть берлинцы, которые тоже никогда не выезжали из города. Но Берлин ведь небольшой городок в сравнении с Лондоном и Парижем, в нем есть также свои cockneys, но они там иначе называются. В Лондоне найдутся сотни тысяч людей, которые никогда не видели ничего другого, кроме города. В подобных больших городах слагаются воззрения, которые распространяются, и крепнут, и становятся предрассудками жителей их. В таких больших центрах населения, которые не познали на опыте ничего такого, что существует вне их пределов и, следовательно, не имеют об этом надлежащего представления – а о существовании некоторых вещей даже и не предполагают, – образуется такая ограниченность, простота. Простоту без самомнения еще можно переносить. Но быть простым, непрактичным и при этом много о себе думать – это невыносимо. Деревенские жители скорее способны смотреть на жизнь так, как она есть и слагается. Они, пожалуй, менее образованны, но то, что они знают, они знают надлежащим образом. Бывают, впрочем, snobs и в деревнях. Видите ли (обращаясь к Путбусу), какой-нибудь порядочный охотник ведь убежден в том, что он – первый человек в мире, что охота, собственно, составляет все на свете, и что люди, не понимающие ее, – ничто. Или же какой-нибудь господин в отдаленном поместье, где он старше всех и остальные люди вполне от него зависят, – если он приезжает из деревни на шерстяную ярмарку и если он тут, среди горожан, не имеет такого значения, как дома, – то он впадает в дурное настроение, садится на свой мешок с шерстью и ни о чем больше не думает, кроме как о своей шерсти».
Потом беседовали о лошадях и качествах их. Шеф рассказывал о своей гнедой кобыле, о которой сперва не был высокого мнения, но которая под Седаном носила его на себе тринадцать часов кряду, пробежав «по меньшей мере двенадцать миль», и которая на следующий день все еще годилась для езды. Потом рассказывал разные случаи из верховой езды; например, как он однажды, катаясь верхом со своей дочерью, очутился перед канавой, через которую он сам на своей лошади не мог перескочить, но графиня отлично перепрыгнула, и лошадь ее неслась без остановки и т. д.
Вечером меня звали несколько раз к шефу, и я написал несколько статей, между которыми одна была по поводу похвалы, которую французский консул в Вене, Лефевр, воздал имперскому социалистскому депутату Бебелю за его симпатии к французской республике. Мораль статьи Лефевра следующая: Германия как в прошлом, так и в будущем должна думать и повиноваться, Франция – действовать и господствовать. Из «Frankfurter-Zeitung» в Берлине более уже не делают вырезок, так как даваемые ею образчики французской глупости читать не стоит.
За чаем Кейделль заявил, что мне следовало бы, собственно, просматривать не только известия и статьи политического содержания, даваемые мне шефом, но все вообще; и что он намерен переговорить об этом с Абекеном, исправляющим здесь должность статс-секретаря. Я принял это предложение с благодарностью. Бухер рассказывал мне, что сегодня министр в гостиной, за кофеем, говорил очень интересную речь. Князь Путбус говорил будто о своей склонности к путешествиям в очень отдаленные страны. Шеф будто заметил:
«Да, для этого вы могли бы получить пособие, вам могли бы поручить уведомить китайского императора и японского тайкуна об основании Германской империи». Но затем он, разумеется, в отношении своего гостя повел довольно длинную речь об обязанностях немецкой аристократии в будущем. «Высшее дворянство должно быть проникнуто чувством государственности, сознавать свое призвание, поддерживать незыблемость государства при борьбе партий, сдерживать порывы, и т. п. Нельзя, конечно, возразить против вступления в компанию со Струсбергом, но в таком случае господам дворянам следует уж лучше сразу сделаться банкирами».
Согласился ли князь вполне с этим и будет ли он в случае надобности действовать в этом смысле?
Пятница, 9-го декабря. Я телеграфировал о победе, одержанной нашей 17-й дивизией третьего дня под Божанси над французским корпусом, состоявшим приблизительно из шестнадцати батальонов при двадцати шести орудиях, и доказывал лживость рассказа «Gazette de France» о перувианском посланнике Гальвеце.
За завтраком упоминали о том, что князь Трубецкой, родственник Орлова, требует охранения своей виллы нашими армейскими жандармами и даже обратился к союзному канцлеру с требованием распорядиться, чтобы наши войска были удалены из соседства его владений, так как от скопления войск в этой местности дорожают съестные припасы. Это требование, разумеется, – материал корзины для ненужных бумаг.
За обедом присутствовал версальский комендант, генерал Фойгтс-Ретц, мне кажется, брат того, который в 1866 году был генерал-губернатором в Ганновере и теперь выиграл сражение под Бон-ла-Роландом; большого роста господин с темной бородой и орлиным носом. Разговор, вращающийся большею частью около последних битв между Орлеаном и Блуа, не представляет ничего такого, что заслуживало бы быть занесенным в дневник. Шеф отсутствует, он нездоров; говорят, что у него болит нога – приступ подагры.
Вечером приходит Бамберг, потом Л., который узнал будто из верного источника, что в весьма скором времени начнется бомбардирование и что король будто «разразился страшными перунами против Гиндерзина» за то, что еще нет достаточного количества снарядов; говорят, будто он возьмет теперь дело в свои руки.
Потом я делал для короля извлечение из замечания «Observer» по поводу речи, читанной в Лондоне месье де Фонфиеллем о бомбардировании. Там говорится, что оратор смеялся над тем мнением, будто король Вильгельм из человеколюбия не велит обстреливать Париж, – и утверждал, что король не делает этого потому, что не в состоянии, так как его батареи храбрыми моряками фортов удерживаются на почтительном расстоянии. Он хочет будто вынудить город сдаться голодом, что ему, однако, тоже не удастся, так как имеются съестные припасы более чем на два месяца, и серьезное изучение вопроса о питании привело к тому, что можно употреблять в пищу кожу, кровь и кости убиваемых животных. Париж не страшится опыта – голода. Его мнение такое: ни за что не сдадимся! Его единственное желание – вымести неприятеля из Франции, и теперь он уже взял в свои руки метлу для совершения этой операции.
Суббота, 10-го декабря. Утро туманное; за ночь выпало много снегу, и небо сегодня облачное. Шеф все еще болен. Я телеграфировал подробности сражения у Божанси, в котором принимали участие с нашей стороны 1-я баварская, а 8-го декабря – и 22-я северогерманская дивизии, со стороны же французов – два новых армейских корпуса; мы взяли в плен более тысячи пленных и шесть орудий.
Журнал «Militärwochenblatt» опять сообщает о бегстве 7-ми французских офицеров, вероломно нарушивших данное ими честное слово; о них мы хотим сообщить в газету «Moniteur» для общего сведения. За обедом отсутствовали: начальник, Бисмарк-Болен, страдающий уже три дня ревматическими болями в пояснице, и Абекен, удостоившийся приглашения к столу кронпринца. Вечером делал для короля извлечение из газеты «National-Zeitung», которая передает, что в рейхстаге говорят о замедлении бомбардирования, и при этом выражает желание узнать причины. Позванный по делу к начальнику, я позволил себе спросить его, в каком положении находится дело о договорах в рейхстаге. Он ответил: «В очень хорошем; соглашение с Баварией либо сегодня уже принято, либо будет завтра вотироваться; точно так же, как и адрес королю».
Далее, я позволил себе спросить об его здоровье.
«Здоровье немного поправляется. Все это от жилы ноги», – ответил он.
Я осведомился, долго ли будет продолжаться боль.
«Может пройти за день, а может быть, и через три недели».
За чаем Кейделль сообщил, что рейхстаг решил отправить большую депутацию в Версаль, для принесения поздравлений королю по случаю объединения Германии и восстановления императорского достоинства. Это не понравилось Абекену, и он сказал с сердцем: «Рейхстаг хочет прислать к нам тридцать молодцов – это ужасно! Депутация из тридцати молодцов – это ужасно!» Но почему это задело его за живое, он не объяснил. Депутация из тридцати мудрых жрецов с титулами тайных советников, без сомнения, не была бы ужасна, а из тридцати гофмаршалов была бы отрадна. Гацфельд высказывал опасения относительно нашего будущего в военном отношении. Он думает, что наше положение на западе возбуждает серьезные опасения. Фон дер Танн из числа своей 45 000 армии сохранил едва 25 000 человек, а созданные Гамбеттою армии продолжают все прибывать как будто из-под земли. В канцелярии получено известие, что французы комплектовали две большие армии и что местопребывание их правительства перемещено из Тура в Бордо.
Что эта энергия Гамбетты в создании новых армий будет черпать еще долго средства во вспомогательных источниках и доброй воле страны, конечно, весьма сомнительно. В южных департаментах, кажется, недовольны такою энергией и продолжительностью изнурительной войны. «Gazette de France» приводит письмо из Тура от 1-го декабря, в котором, между прочим, говорится: «Уже давно я не видел ничего такого, что можно сравнить с тем подавляющим действием, которое произвел последний огромный набор на сельское население. Принудительный налог на снаряжение и вооружение мобилизированной национальной гвардии в последние три месяца превратил наше дурное расположение в гнев и наше изумление в уныние. Причина в том, что наши добрые поселяне, правда, менее хитры, чем их характеризуют Бальзак и Викторьен Сарду, но зато и гораздо менее простодушны, чем желал их видеть г. Гамбетта для успеха своих республиканских проповедей. Инстинкт, который можно бы считать непогрешимым, подсказывает им, что набор отцов семейства, вероятно, будет иметь место только на бумаге, но налог даст чувствовать себя либо в виде непосредственного требования его, либо в форме займа, который ляжет на них еще тяжелее. «В тот день, когда наша мобилизация закончится, мы не будем иметь рубашки на теле», – говорят поселяне.
«Этот чрезвычайный налог, который явился как снег на голову в начале тяжелого времени, не имеет никакого отношения к источникам дохода наших несчастных сельских общин. Из четырех правил арифметики остались только два: сложение наших потерь и умножение несчастий, постигающих нас. Немцы взяли себе вычитание, а демагоги – деление. На обитателей наших юго-восточных департаментов и берегов Ардеша, Дюрансы и Роны обрушились голод и беды не только с началом войны, вторжением неприятеля и республикою. Засуха, сделавшая в некоторых местностях воду предметом роскоши, совершенный недостаток трав и подножного корма, принуждающий продавать скот за треть цены, болезнь шелковичных червей, переставшая быть любопытною, так как сделалась хроническою, вредные насекомые, заступавшие место друг друга с такою же охотою, с какою Кремье заступил место Людовика Бонапарта, обесценивание наших товаров, достигшее такого предела, какого никогда не достигало, – все это вместе уложило нас в постель задолго до рокового дня, в котором сосредоточились ослепление, тщеславие, легкомысленность, неосторожность, хвастовство и неспособность, и предало Францию немцам. Мы были уже больны, война довершила болезнь, а республика доведет нас до могилы».
Воскресенье, 11-го декабря. Утром, в 9 часов, было 5 градусов холода, и нижний сад покрылся инеем; на ветвях дерев и кустарников туман смерзся в тонкие иглы. Я посетил больного Бисмарка-Болена, у которого ревматические боли превратились в страдание почек. Начальник также не совершенно здоров, хотя ему, кажется, лучше, так как он выезжает в 2 часа. Через полчаса я вышел из дому, прогуляться по парку, где на одном из бассейнов катались на коньках до 50 особ, в том числе несколько сомнительных и 3 или 4 совершенно несомнительных дам. На возвратном пути домой я услышал, что кто-то сильно ругается по-французски. Я осмотрелся и увидел, что то был мужчина в летах, шедший за мною, немного хромавший, а ругательства относились к расфранченной и сильно нарумяненной женщине, которая, припрыгивая, опередила нас.
– Бесстыжие, они внедряют в наши семейства недовольство, губят нашу молодежь; их надобно бы выгнать из города, – сказал он, обращаясь ко мне, как будто желая завязать со мною разговор.
Затем он пошел возле, продолжая ругаться, дошел от мужского пола до губителя Франции и высказал свое мнение, что небо вопиет о том, в какое несчастье эти люди ввергли страну, что это страшная картина. Я возразил, что Франция сама желала войны, поэтому должна принять ее такою, какая она теперь. Он согласился со мною для того, чтобы поносить республику и ее руководителей, в особенности Гамбетту, Трошю и Фавра. Гамбетта и вся его компания, по словам моего спутника, «кровопийцы», «негодяи»; республика – государство для мерзавцев, которые смотрят завистливыми глазами на благосостояние соседей, желают разделить, разрушить его. Он желал бы лучше видеть короля прусского повелителем Франции, скорее готов страну видеть разоренною на клочки, изувеченною, чем иметь республику. Впрочем, и император не годился никуда; он был узурпатором. Точно так же ему не нравился Людовик Филипп: «он не был законным наследником». Но республика всего хуже и т. д. С раздражительным легитимистом я дошел до Place Hoche, где я простился с ним; он сообщил мне свое имя и жительство, взяв с меня обещание, что я его навещу.
На аллее, ведущей в Сен-Клу, я встретился с надворным советником и майором Борком, который расспрашивал меня, не знаю ли я причины, почему вчера, после доклада Абекена, король был так сердит. Я не мог ему объяснить причины.
За обедом присутствовал шеф, но говорил мало и жаловался на головокружение. Гацфельд рассказывал, что Гартрот сейчас сообщил ему, что 4000 лошадей и 1000 телег находятся на пути из Германии для транспортных надобностей армии. Бомбардирование Парижа начнется через 8–10 дней. Шеф ответил: «Это могло раньше случиться; а что касается 8-ми дней, то уже не раз так говорилось».
Вечером я вырезал несколько статей из немецких газет, трактовавших об этом же обстоятельстве, и статью из бельгийской газеты «Echo du Parlament», которые Абекен завтра утром должен представить королю.
Наш «Moniteur» снова приводит список убежавших французских офицеров, нарушивших данное ими честное слово. Их не менее 22: из них 10 убежали из Гиршберга. Из этой же газеты я узнал, что «Pall Mall Gazette» приняла шутку вроде мюнхгаузенской [18] за чистую монету и, в свою очередь, выдала ее за истину. Вследствие неудач, постигших многие воздушные шары, поднявшиеся в Париже, французы приложили палец ко лбу, чтобы таким способом додуматься до разрешения задачи, как управлять такими поездами. Между тем дело очень простое, ларчик просто открывается: стоит только впрягать орлов. Корреспондент газеты пишет: «Как ни странною кажется мысль заставить птиц тащить воздушный шар до его цели, но этою мыслью занялись серьезно в Париже. Там произведены удовлетворительные опыты с орлами из ботанического сада, которых припрягали к гондоле воздушного шара. Такие опыты произведены в присутствии генерал-почтмейстера Рампона, и г. Шассина, начальника почтового управления в департаменте Сены, и главного сборщика Матте. К воздушному шару припрягли четыре или шесть сильных птиц; воздухоплаватель манил их летать с помощью куска сырой говядины, укрепленного на конце длинного шеста и который держал перед клювом орла. Жадные птицы тщетно стараются завладеть куском, так как он движется в воздухе с тою же скоростью, что и сами орлы. Воздухоплаватель, желая дать шару другое направление, дает требуемое направление шесту с бифштексом либо вправо, либо влево; желая снизиться, он наклоняет шест, а желая подняться, он поднимает шест вверх». Редакция «Moniteur» сделала к этому следующее замечание: «Мы опасаемся, что эти орлы не утки ли?»
За чаем Гацфельд рассказывал много интересного о событиях и наблюдениях своих времени своего пребывания в Париже. «В 1866 году, относительно Саксонии Наполеон говорил Гольцу, что он не может согласиться на полное присоединение Саксонии; но если останется название Саксонии, например Дрезден, с несколькими квадратными милями в окружности, то он этим удовольствуется». Если это правда, то я имею основание думать, что шеф отсоветовал сделать употребление из этого предложения. Императрица вначале не терпела Гольца по следующим причинам. До прибытия Гольца в качестве посланника эту дипломатическую должность заступал принц Рейсс, и двор очень уважал его, так как он принадлежит к владетельному дому. Евгения очень желала его видеть на посту посла, но он должен был отправиться в Брюссель; императрица же думала, что причиною тому был Гольц, и за это возненавидела его, встречала его с видимою для всех холодностью, не приглашала его в свой интимный кружок и в торжественных случаях только кланялась ему, не разговаривая с ним. Все это приводило нередко влюбившегося в нее Гольца в гнев. Однажды, когда она все-таки принуждена была пригласить Гольца в свой кружок, она сказала ему несколько слов. Но в смущении она не нашлась сказать что-либо, кроме вопроса: «Как здоровье принца Рейсса?» По отъезде Гольц от неудовольствия сильно волновался и дал ей даже весьма дурной эпитет. Впоследствии, однако, отношения обоих сделались благоприятнее, и под конец Гольц и император находились в таких отношениях, что он, Гацфельд, уверен, что если б Гольц дожил до 1870 г., то война не началась бы между нами и Францией.
Я расспрашивал о наружности императрицы. Гацфельд описал ее так: «Очень красива, не выше среднего роста, прелестные плечи, блондинка, много природного ума, но мало чувствует расположения к умственным интересам». Она провела раз Гацфельда вместе с другими мужчинами через свои комнаты, даже в спальню, но нигде он не видел там ни одной книги, ни даже газеты. Гацфельд того мнения, что дело дойдет опять до реставрации Наполеона. Он, впрочем, не так дурен, как его описывают; он не жесток по природе, скорее мягок. Если французы увидят, что они с республиканскими адвокатами недалеко уйдут, все более и более приходят в расстройство, то они пригласят его возвратиться, и тогда он как вторичный спаситель общества на основе наших требований мог бы войти с нами в переговоры о мире. Заслуги его относительно порядка примирили бы французов с ним из-за потери могущества и земель вследствие уступки Эльзаса и части Лотарингии.
Приведу здесь письмо одного единомышленника, упомянутого мною легитимиста, написанное в мае 1871 года князю Бисмарку. Письмо это следующее:
«Со времени капитуляции проклятого города Парижа наступили чрезвычайные события в нашей несчастной Франции. Князь, хотя я не посвящен в тайны будущего, но мне кажется, что вы – позвольте мне это высказать – были слишком великодушны относительно этого неблагородного и достойного презрения населения Парижа. Париж надобно бы унизить вашими армиями, как можно больше; они должны бы были торжественно вступить в город и занять весь город. Горе тому, кто осмелился бы препятствовать этому заслуженному триумфу. Между тем вы признали за лучшее поступить более умеренно. Теперь вы видите последствия. Я не знаю, что принесет нам будущее, но мне кажется, что ваше превосходительство должны, как можно скорее, приняться и положить конец положению дел, которое сделается роковым для Франции и опасным для Европы и которое и для других государств может иметь печальные последствия. Берегитесь, князь, пропаганды дурных страстей. Если бы вы, подобно мне, слышали все высказываемые надежды этих революционеров новейшего сорта, то, быть может, вы имели бы сами опасения насчет будущего. Поверьте мне, князь, что с укреплением республики во Франции начнутся беспокойные движения во всех государствах монархической Европы. Пусть лучше Франция погибнет, чем получит такую форму правления, которая не будет иметь других результатов, как беспрерывные перевороты, преступления и крайности. При виде стольких совершаемых преступлений и подлостей и наступления столь глубокого нравственного унижения мы приходим в отчаяние и желаем иметь твердую и энергическую руку. Да, князь, вся партия добродетельных людей во французском населении предпочла бы господство иностранцев господству демагогии, которое нам угрожает и которое кончится только с уничтожением ее. Вот предназначенная вам миссия. Князь, я думаю, что наступил благоприятный момент. Не упускайте его. Никакая снисходительность не должна вас остановить, в особенности если вспомнить прошедшее и обнаружившиеся теперь мерзостные стремления. Тигр не на цепи, и, если его теперь пустить на свободу, он все поглотит. Усмирите Париж, уничтожьте его, если это нужно, или подчините его своей власти, и вы окажете услугу человечеству. Но позвольте мне, князь, пойти еще дальше и предложить вам будущее разделение Франции, может быть, имеющее наступить в скором времени. Пусть Италия возьмет себе кусок до течения Роны, от Женевы до моря, с островом Корсикою. Испания получит полосу до течения Гаронны между двумя морями, Англия – Алжир, а вы, князь, – все остальное. Справедливо вам дать главную часть. Допустите потом Россию и Австрию увеличиваться за счет востока. О, мое отечество, ты этого желало, и ты, проклятый Париж, высокомерный город, помойная яма всех пороков, единственная причина всех наших страданий, знай, что твоему господству будет конец! Все это со стороны француза вы редко можете услышать, но я был свидетелем стольких мерзостей, что такое отечество, в котором господствуют все пороки и не встречается благородного чувства, мне надоело. Я сохраняю надежду, князь, что когда-нибудь буду иметь счастье увидеть ваше превосходительство в Лионе, в городе, который требует также наказания. Примите уверение, милостивый государь, в моем глубоком уважении, с которым имею честь быть» и т. д.
Теперь продолжаю дневник.
Понедельник, 12-го декабря. Начальнику, кажется, опять нездоровится, и говорят, что он в дурном расположении духа. Д. Лауер был у него. «Times» напечатал статью, лучше которой мы не желали бы и главные места которой я приведу здесь. Там говорится:
«Для немцев во время настоящего кризиса дело заключается не в том, чтобы высказывать благородство и снисходительность или оказать великодушное прощение побежденному врагу, но главным образом в простом акте предосторожности и практическом разрешении вопроса: что сделает враг после войны, когда снова приобретет силы?»
«В Англии весьма слабо помнят о многочисленных жестоких уроках, полученных Германией от действий Франции в последние 400 лет. Около 400 лет ни одна нация не имела таких злых соседей, как немцы французов, которые постоянно выказывали бесстыдство, жадность, ненасытность, непримиримость и всегда были готовы к наступлению. Во все это время Германия переносила превосходство и надменность Франции; но в настоящее время, когда она победила своего врага, по моему мнению, было бы глупо, если бы не извлекла выгоды из положения вещей и не обеспечила себя границею, которая могла бы обезопасить мир в будущем. Насколько мне известно, на свете не существует закона, вследствие которого Франция имеет право сохранить за собою взятое ею некогда имущество, если обворованные собственники наложили руки на вора. Французы горько жалуются тем, кто их слушает, что они подвергаются потерям, угрожающим их чести, и убедительно просят не бесчестить бедную Францию, оставить ее честь незапятнанною. Но разве честь сохранится, если Франция отказывается платить соседу за разбитые ею стекла? В действительности оказывается тот факт, что дело шло о том, чтобы разбить стекла, когда ее чести предстоял ущерб; эта честь может быть только восстановлена глубоким раскаянием и добросовестным обещанием впредь не начинать с того же самого».
«В настоящее время, откровенно сознаюсь, никогда Франция не казалась мне такою безумною, так достойной осуждения и презрения, как теперь, когда она упорно не хочет видеть факты в их настоящем свете и когда отворачивается от беды, которую сама себе накликала. Франция, разрушенная полной анархией без общепризнанного главы, министры, делающие себе воздушные шары из пыли и берущие с собой в виде балласта недостойную публичную ложь и объявления о победах, существующих только в их фантазии, правительство, живущее только ложью и обманом и готовое скорее продолжать и увеличить кровопролитие, чем потерять собственную диктатуру в его удивительной утопической республике, – вот картина, которую представляет нам эта страна. Поистине трудно сказать, покрывала ли себя таким стыдом когда-либо какая-нибудь нация».
«Масса лжи, обнаруженной официальной и неофициальной Францией с июля месяца, лжи сознательной несказанно и ужасно велика. Но быть может, это ничто в сравнении с бесчисленным количеством несознательной лжи и иллюзии, которые так долго обращались в среде французов. Их гении, признанные во всех отраслях литературы, разделяют, очевидно, то убеждение, что Франция распространяет нечеловеческую мудрость во всех нациях, что Франция есть новый Сион мира, что все литературные явления французов последних 50-ти лет, как они ни нездоровы и ни выдохши, как ни были лукавы, образуют истинное Евангелие, из которого все человечество черпает благодеяния». Статья заканчивается словами: «Я думаю, что Бисмарк от Эльзаса и Лотарингии возьмет себе столько, сколько пожелает, и что это будет лучше как для него, так и для нас и для всего мира, кроме Франции, а со временем также и для нее. Посредством своих спокойных, грандиозных мероприятий Бисмарк со своими отличными способностями преследует одну только цель: благо Германии, благо всего мира. Пусть великодушный, миролюбивый, образованный и серьезный немецкий народ приобретает свое единство, пусть Германия сделается царицею материка вместо легкомысленной, честолюбивой, строптивой и беспокойной Франции. Это самое высшее событие настоящего времени, наступление которого должны ожидать все».
Превосходная статья, которую мы хотели поместить в «Moniteur» для версальцев.
За завтраком говорили о том, что некоторые сомневались в успехе бомбардирования Парижа. Генеральный штаб, однако, прежде не сомневался в том, а если ныне некоторые члены его имеют другое мнение, то это вследствие посторонних влияний и соображений (которые и были высказаны одним господином). Главное затруднение теперь состоит в том, что для защиты орудий и шанцев их надобно окружить большими массами войск, а эти можно с успехом обстреливать с фортов и канонерских лодок. Во время этих разговоров Гацфельд получил приятное для него известие, что его пони удалось вывести из Парижа: они невредимы и в хорошем теле и теперь находятся по дороге к его местопребыванию.
Шеф сегодня долго пробыл в постели и принимал доклады только после обеда. Его не было также за обедом. За обедом Гацфельд рассказывал, что он говорил со многими прибывшими из Парижа дипломатами. Дипломаты эти: русский генерал-адъютант князь Витгенштейн, английский военный уполномоченный Клермонт и один бельгиец. Они оставили Париж вчера и прибыли сегодня через Вилльнев и Сен-Жорж с пони и другими лошадьми. По словам Гацфельда, Клермонт производит впечатление умного человека, знакомого с положением Парижа. Он сообщил, что сам еще не ел конины и не терпел нужды, что в городе, по-видимому, в движении все фиакры и омнибусы, что в театре у Сен-Мартенских ворот еще даются представления и что в опере два раза в неделю даются концерты. Далее, по его словам, пока еще горят газовые рожки и фонари, хотя последние в числе не более пятой части (как в настоящее время и в Версале), и единственное различие между настоящим и прежним временем (разумеется, у достаточных людей) состоит в том, что в настоящее время ложатся спать около 10 часов, между тем как до осады города ложились спать около полуночи. Деревни внутри французских линий разрушены в большей степени, чем внутри наших линий. Съестных припасов достаточно на два месяца.
Абекен же, напротив, узнал от Фойгтса-Ретца, что подвижная национальная гвардия во множестве вышла из города, чтобы сдаться нам. Хотя в них стреляли, но часть их все-таки продолжала идти, и эти-то взятые в плен на допросе показали, что они терпели большую нужду, так как хорошо содержится только регулярная армия.
Весь вечер работал усердно. Я переводил для короля статьи из «Times» и «Daily Telegraph», которые высказывались о восстановлении немецкой империи и императорского достоинства; делал для короля различные извлечения из газет относительно бомбардировки и отдал в печать манифест Дюкро к своим солдатам во время последней вылазки. Окончание этого торжественного слова заслуживает того, чтобы сохранить в памяти. Оно следующее:
«Что меня касается, то я твердо решился и свидетельствую о том перед вами, перед целым светом, что я возвращусь в Париж либо мертвым, либо победителем; вы можете меня увидеть убитым, но не отступающим; тогда не останавливайтесь, но отомстите за меня». Однако Дюкро возвратился с Марны в Париж ни победителем, ни мертвым; в своем манифесте он высказал солдатам только тщеславные фразы; он – актер, который во второй раз нарушил торжественно данное им обещание. Поэтому не будет несправедливо, если «Moniteur» по поводу сообщения его манифеста сделает такое замечание: «Nous savons heureusement, се que vaut la parole du géneral Ducrot».
В статье «Times» после слов автора, что не только факты восстановления Германской империи, но и самый путь, по какому развивались они, можно рассматривать только с чувством полного удовлетворения, говорилось:
«Политическое значение этого измененного порядка вещей нельзя оценить достаточно высоко. В Европе совершилась наследственная революция, и все наши предания вдруг устарели. Никто не в состоянии предсказать отношений, которые образуются между великими державами, но нетрудно наметить в общих чертах тенденции эпохи, в которую мы вступаем. Будет существовать сильная объединенная Германия, имеющая во главе дом, который будет представлять не только интересы немецкого отечества, но и военную славу. С одной стороны, эта Германия граничит с Россией, которая сильна и могущественна, с другой стороны – с Францией, которая либо терпеливо будет дожидаться времени, когда ее судьба изменится, либо, обуреваемая горячею местью, подстережет случай к наступлению, но, во всяком случае, долгое время еще не будет в состоянии играть в Европе ту великую роль, которая ей досталась во время блестящего периода наполеоновской реставрации. Что касается нас, англичан, то мы имеем вместо двух могущественных военных государств, которые до сих пор существовали на материке и имели между собою народ с раздробленными силами и не приготовленный к борьбе, который каждое мгновение можно было уничтожить, если б обеим могущественным державам удалось соединиться, – теперь мы имеем в срединной Европе прочную стену, и от этого укрепится все здание. Политические желания, высказанные прежними поколениями английским государственным людям, теперь исполнены. Все усматривали сильную центральную державу, и государственные люди Англии работали как во время мира, так и во время войны посредством конвенций и трактатов то с империей, то с новою державою, возвысившейся на севере. Германия должна сделать в настоящее время действительностью то, что долгое время было не что иное, как политическая мысль».
Что английская политика в последние 50 лет была более благоприятна Австрии, чем державе, «возвысившейся на севере», – этого мы не забудем.
После 8 часов пришел Л. и, как всегда, уверял «из достоверных источников», что король неохотно принимает императорское достоинство и что его мало радует прибытие депутации тридцати от рейхстага. Говорят, он сказал: «Ну, в таком случае я обязан этой большой чести г. Ласкеру».
Потом по поручению шефа я писал статью для печати, в которой указывал на то, что мы воюем теперь не с Францией, но с космополитическими красными республиканцами Гарибальди, Маццини, находящимися советниками Гамбетты, и с польскими, испанскими и датскими членами этой партии. То, к чему стремится эта приятная компания, высказано в письме сына префекта Ординэра, служащего офицером в генеральном штабе Гарибальди. В этом письме из Отюна, от 16-го ноября, в редакцию журнала «Droits de l’homme» сказано:
«По почтовому штемпелю письма вы увидите, где я нахожусь – в самом ужасном поповском городе Франции, в главном очаге монархической реакции. Менее чем на город, он выглядит на огромный монастырь с большими черными стенами, решетками на окнах, за которыми во мраке и молчании монахи всех цветов сговариваются между собою и молятся о хорошем деле, о божественном праве. На улице красная рубашка на каждом шагу мелькает между черными рясами, и до самых купцов включительно нет ничего, чтобы не имело таинственного вида и не носило бы отпечатка святой воды. Мы здесь должны стоять по церковному уставу, и клевета обрушивается на нас в таком обилии, которое превосходит воду всемирного потопа. Нарушение дисциплины – случаи, которые у вольных стрелков и вольных партизан неизбежны, – тотчас превращается в большое преступление; из ничего делают поступок, достойный смертной казни. Весьма часто случается, что «стонущая гора родила мышь», но в общественном мнении остается все-таки дурное впечатление от дела. Поверите ли, само начальство делает наше положение тяжелее. Начальство – я думаю, по незнанию – делается отголоском клеветников и относится к нам недоброжелательно, а наши сограждане почти готовы смотреть на нашу армию, как на разбойничью банду. Поверьте мне, монархисты всех цветов не отказались от своих недостижимых стремлений и ненавидят нас за то, что мы клялись не оставить нигде трибуны, с которых короли и императоры диктовали народам приказания, согласно своему расположению духа. Ну да, мы открыто говорим, что мы солдаты революции, а я прибавлю, не только французской, но и космополитической. Итальянцы, испанцы, поляки, венгры, прибыв сюда, чтобы поступить под знамя Франции, поняли, что они защищают универсальную республику. Война теперь с очевидностью выяснила свою сущность: эта война между принципом божественного права, властью, монархией и принципом державности народа – цивилизацией, свободой. Отечество исчезает перед республикой.
«Мы космополиты, и, что бы ни делалось, мы будем биться насмерть, чтобы достигнуть осуществления высокого идеала Соединенных Штатов Европы, т. е. братства всех свободных народов. Монархические реакционеры знают это и потому своими армиями увеличивают прусские войска. Мы имеем перед собою чужие штыки, а сзади – измену! И зачем не прогонят всех этих старых чиновников? Зачем немилосердно не отставляют всех этих старых генералов империи, этих более или менее украшенных перьями, орденами и галунами людей? Разве правительство народной обороны не видит, что они изменяют ему, что эти люди своими лицемерными маневрами, гнусными капитуляциями, своими ничем не объяснимыми отступлениями подготовляют бонапартистскую реставрацию или по меньшей мере вступление на престол орлеанского принца или Бурбона?
«Но пусть остережется это правительство, принявшее на себя задачу освободить запачканную почву нашей страны от чужих орд. Пусть оно будет на высоте своей миссии. Если жить в эпоху, такую как наша, при таких ужасных обстоятельствах, в каких мы находимся, то нельзя быть добродетельным, но надобно выказать энергию, не терять голову, не топить себя в стакане воды. Пусть Кремье, Глэ-Бизуэнь и Фуришон припомнят, как поступали в 1792–1793 гг. Нам нужны сегодня Дантон, Робеспьер и люди конвента! Восстаньте, господа, дайте место революции! Она одна может нас спасти. В больших сферах требуются и великие средства и меры. Да не забудьте, что внутренняя организация будет способствовать защите внешней. Уже то хорошо, если не встречаешь препятствие при наступлении на врага; свое значение имеет то, если знаешь, что республика поддерживается должностными лицами, если знаешь, что армия не находится в руках генералов, готовых продать себя. Что означают формальности военной иерархии? Пусть берут генералов из рядов солдат, если нужно – преимущественно из юношей. Если мы вольем в республику немного молодой крови, тогда республика спасет себя и избавит всю Европу от ярма тиранов. Восстаньте! Сделайте попытку, и да здравствует универсальная республика!»
Отечество исчезает перед республикой! Пусть применят те же великие средства, какие употребляли Дантон и Робеспьер: казните всех, которые в религиозных и политических делах думают иначе, чем мы; пусть объявят гильотину в постоянном действии. Надо отставить генералов Шанси и Бурбаки, Федерба и Винуа, Дюкро и Трошю и на их место поставить простых солдат.
Так проповедует сын префекта департамента Дубы и штаб-офицер генерала Гарибальди. Любопытно, скажут ли в Версале многие аминь на эти предложения, когда «Moniteur» на днях обнародует их?
Вторник, 13-го декабря. Утром написал статью об исповедании веры космополитических республиканцев, потом телеграфировал о капитуляции Фальцбурга и начале бомбардирования Монмэди. Здоровье шефа немного лучше, но он все-таки утомлен.
За завтраком говорили довольно серьезно о возможности отставки канцлера, потом в шутку о возможности министерства Ласкера, который будет вроде «Оливье», затем опять полушуточным тоном о министерстве союзного канцлера Дельбрюка, который «весьма умный человек, но не политик». Я считал абсолютно невозможным принятие отставки шефа, если он подаст прошение о том. Говорили, однако, что это возможно. Я сказал, что в таком случае не пройдет 4-х недель, и его призовут опять. Бухер сомневался, чтобы он в этом случае согласился принять министерство и объявил положительно, что, насколько он знает его, раз подавши в отставку, он не примет министерства. Он чувствует себя лучше в Варцине, вдали от дел и неприятностей всякого рода; он с большим удовольствием проводит время в лесу и на поле. «Уверяю вас, – сказала ему однажды графиня, – репа интересует его больше, чем вся ваша политика» – это, однако, мы примем осмотрительно к сведению и отнесем к случайному настроению духа.
Около 2-х часов я был у него с докладом. Он выразил желание, чтобы я указал в печати на затруднение короля голландского в выборе нового министерства; оно должно быть следствием парламентарной системы, при которой советники короны должны каждый раз отступать на задний план, если в каком-либо вопросе имеют перед собою большинство депутатов. Он заметил:
«Я вспоминаю, что когда я только что сделался министром, они имели уже 20-е или 21-е министерство со времени введения конституции. Если держаться узко взгляда на большинство, перед которым министры должны брать отставки, тогда потребуется много людей, очень много, тогда придется браться за посредственности, и, наконец, можно совсем не найти людей, которые имели бы охоту посвятить себя этому ремеслу. Мораль – та, что либо нужно возвысить премию министерского поста, либо немного отступить от строгой парламентарной практики».
Шеф уезжал сегодня в 3 часа после посещения Росселя и сошел, слава Богу, вниз к обеду, за которым выпил немного пива и два стакана минеральной воды «Виши» с шампанским. Обед состоял из супа из черепах, а в числе других вкусных блюд подавали кабанью голову и компот из малинового желе и горчицы, что было очень вкусно. Министр сказал:
«На этот раз болезнь разыгралась довольно долго. В 1866 г. у меня также болели жилы. Тогда я лежал в постели и должен был писать карандашом ответы на письма весьма сомнительного характера – для меня сомнительного. Они (под этим разумелись австрийцы) хотели на северной границе обезоружиться, но далее, к югу, намеревались двинуться вперед, и я должен был дать им понять, что это нам не поможет».
Затем он говорил о своих переговорах с Росселем и о требованиях Горчакова. «В Лондоне, – говорил он между прочим, – не желали бы сказать прямо «да» на предложение возвратить России и Турции Черное море и верховную власть над берегами их. Они боятся общественного мнения в Англии, и Россель снова возвращался к тому, что можно найти эквивалент. Он спрашивал, не приступим ли и мы, например, к отказу от актов 16 апреля 1856 г. Я ответил, что Германия не имеет в этом прямого интереса. Или не обязуемся ли мы остаться нейтральными, если бы дело дошло до войны. Я сказал ему, что я не любитель политики предположений, заключающих в себе такое обязательство; это зависит от обстоятельств. В настоящее время мы не видим основания для принятия участия в этом деле. Он должен был этим довольствоваться. Впрочем, я не того мнения, что благодарность не должна иметь места в политике. Нынешний русский император был всегда к нам ласков и доброжелателен; напротив, Австрия до сих пор была немного малонадежна, а иногда двусмысленна; Англия знает, чем мы ей обязаны. Ласковость императора есть остаток прежних отношений, которые частью основаны на родственных отношениях, но основаны также и на сознании, что наши интересы не противоречат его интересам. Что будет в будущем, этого не знаем, а поэтому об этом нечего и говорить. Наше положение теперь другое, чем прежде.
Мы – единственная держава, которая имеет причины быть довольною; нам незачем кому-либо делать одолжение, если не уверены, что и нам, в свою очередь, сделают одолжения. – Он снова возвратился к эквиваленту и спросил, не могу ли я ему сделать предложения. Я говорил об открытии Дарданелл и Черного моря для всех. Это было бы приятно и России, которая бы имела тогда выход из Черного моря в Средиземное, и Турции, которая могла бы иметь тогда своих друзей подле себя, и также американцам, одно желание которых тогда исполнится, связывавшее их с Россией, именно желание беспрепятственного судоходства по всем водным путям. Он, кажется, понял это. – Русские, – продолжал канцлер, – впрочем, могли бы требовать не столь умеренно, но больше; тогда бы без затруднений они выиграли бы дело о Черном море».
После того разговор вращался около 4-х пунктов новейшего морского права: отказа от каперства, неотобрание товаров, не составляющих военной контрабанды, действительности блокады при существовании ее налицо и т. д. «Один из этих пунктов нарушили французы, сжегшие немецкие суда, – заметил начальник и закончил разговор на эту тему словами: – Да, надо подумать, как бы избавиться от глупости».
Вечером снова делал извлечения статей из немецких газет, удивляющихся и жалующихся на приостановку бомбардирования. Потом пришел Л. узнать о каком-то Гельбиге или Гeльвице, не знаю ли я о нем чего-либо. Я ответил отрицательно. Л. сообщил, что он рентьер, демократ, друг Классен-Каппельмана, на этих днях приезжал сюда и совещался с канцлером. На обратном пути домой его арестовали, но вскоре освободили по телеграмме шефа. Его считают агитатором в пользу восстановления Наполеона, дабы затем его устранить и окончательно утвердить республику во Франции; во время же борьбы французских партий за власть мир с Германией будет обеспечен. Если в этом деле и заключается что-либо серьезное, то оно, во всяком случае, ошибочно и по меньшей мере содержит в себе много недосказанного. Я, впрочем, воздержался от всех замечаний и принял это сообщение к сведению.
Среда, 14-го декабря. Сегодня облачное небо, свежая погода. Вчера и третьего дня стреляли мало с фортов и канонерских лодок, а сегодня совсем не стреляли. Утром по приказанию начальника телеграфировал о занятии Блуа нашими войсками и капитуляции Монмэди. В Германии централисты все еще не успокоились по поводу договора с Баварией. К. из Г. пишет мне об этом почти с отчаянием:
«Я понимаю, что граф Бисмарк не мог иначе действовать, но все-таки это весьма печально. Бавария точно так же, как в 1813 году, договором Ридским бросила нам палку под ноги. Пока мы имеем руководителем нашего государственного человека, мы еще можем двигаться, а потом? Я не могу питать к новой империи того же безусловного доверия, какое я питал к жизненной силе Северо-Германского союза. Я надеюсь, что здоровая сила народа возьмет свое, несмотря на громадные недостатки государственных форм». На это и я надеюсь, хотя недостатки государственных форм мне не кажутся столь опасными, как моему другу в Г. Впрочем, какой толк жаловаться о делах, которые нельзя изменить. Что можно было сделать, то сделано, и теперь наш пароль: бери, что можно взять; при труде, ловкости и терпении со временем получишь больше.До обеда я присутствовал опять на похоронах двух солдат, умерших в дворцовом лазарете. Похоронное шествие шло по бульвару Королевы и улице Аделаиды до кладбища. Французы при встрече снимали шляпы; музыка на улице играла мелодии церковной песни.
За обедом присутствовали начальник и его гость, граф Гольнштейн. Сегодня разговор не касался политики. Министр был весел и разговорчив и рассказывал о различных вещах. Он сообщил, между прочим, что в юношеском возрасте он умел быстро бегать и ловко скакать; напротив, у обоих его сыновей чрезвычайно развита мускульная сила в руках, так что он отказывается с ними бороться. Затем он приказал принести в футляре золотое перо ювелира Биссингера, показал его своему гостю и при этом случае упомянул, что графиня писала ему, как, собственно, происходила история с этим пером, «быть может, это такая же ложь, как история с мальчиком в Мо», о которой я узнал теперь, будто бы графиня уложила нечаянно на постель графу новорожденное дитя недавно убитого француза, что, конечно, газетная выдумка. После говорили о том, что депутация рейхстага прибыла в Страсбург и послезавтра прибудет сюда; при этом канцлер заметил:
«Нам надобно наконец подумать, что им ответить. Симсон, впрочем, поведет дело хорошо. Он уже несколько раз участвовал в подобных делах: в первой имперской депутации в Гогенцоллернбурге. Он говорит ловко, говорит охотно и в таких случаях его приятно слушать».
Абекен заметил, что депутат Леве также полагает, что и он участвовал в подобной депутации и впоследствии ему пришлось об этом вспоминать в «местах дальних».
– А разве он был в 1849 году? – спросил министр.
– Да, – подтвердил Бухер, – он был президентом рейхстага.
– Ну, – заметил начальник, – тогда он попал в «места дальние» не по поводу императорской депутации, но за вояж в Штутгарт, а это нечто совсем другое.
Затем министр рассказывал о Гогенцоллернбурге, в котором все члены фамилии Гогенцоллернов имеют особые покои, затем о древнем замке в Померании, прежнем местопребывании рода Девитцов, а теперь живописных развалинах, так как жители соседнего городка превратили замок в каменоломню. Затем говорили о помещике, приобретшем случайно капитал.
«Он всегда нуждался в деньгах и однажды, когда наступила крайняя нужда, гусеницы начали истреблять его лес, потом произошел пожар в лесу и, наконец, буря сделала большие повреждения; он чувствовал себя очень несчастным и считал себя банкротом. Тогда надобно было продать лес на дрова, и он выручил массу денег – 50–60 тысяч талеров, которые послужили ему большою поддержкою. Ни разу не пришла ему в голову мысль, что он может продать лес на сруб».
По поводу этой истории начальник рассказал о другом замечательном господине, его соседе.
«Он владел 10–12 имениями, но никогда не имел наличных денег и охоты обзавестись ими. Так, если ему приходилось давать хороший завтрак, он обыкновенно продавал для этого одно из своих имений. Впоследствии у него осталось только 1–2 имения. Крестьяне купили у него оба имения, одно за другим, за 35 000 талеров; они дали ему в задаток 5000 талеров и тотчас же продали корабельный лес за 22 000 талеров. О существовании корабельного леса он и не знал».
Затем он упомянул о Гартширах в Мюнхене, которые заинтересовали его большим ростом и вообще другими качествами и которые, должно быть, хорошие знатоки пива. Наконец, речь зашла о том, что его сын, граф Билль, из немцев первый вступил в Руан. Некто заметил, что он дал жителям этого города доказательство, что наши войска пользуются хорошим довольствием, причем канцлер опять перевел разговор на физическую силу своих детей.
«Для своего возраста у них необыкновенная сила, – заметил он, – хотя они не занимались гимнастикой; конечно, не очень-то по моему желанию, а потому что за границей не было случая».
После обеда, когда он закурил сигару, он спросил, курит ли кто-либо из лиц его канцелярии.
– Все, – ответил Абекен.
– В таком случае пусть Энгель разделит между ними гамбургские сигары. Я их получил столько, что если б война продолжалась еще 12 месяцев, то я все-таки часть их привезу домой.
После 9-ти часов вечера министр два раза позвал меня к себе. Послал заметку в газету, что Тарбэ, редактор издающейся теперь в Брюсселе газеты «Gaulois», пробрался из Парижа через прусские линии, купив у одного швейцарца его паспорт за 10 000 франков. «Другого швейцарца (который, по нашим сведениям, продал одному парижанину свое дозволение пройти через прусские линии за 6000 франков) не упоминайте, – сказал начальник. – Будет иметь вид, будто мы хотим придираться к Швейцарии, а это не в наших намерениях».
Четверг, 15-го декабря . Погода свежая. Из фортов почти совсем не стреляют. За столом из гостей обедали граф Франкенберг и Лендорф. Позже, через полчаса, явился и князь Плейс. Министр был очень весел и разговорчив. Сперва беседа шла о вопросе дня, т. е. о начале бомбардирования, и начальник высказал, что надобно ожидать его через 8–10 дней; успех в первые недели может быть незначителен, так как парижане имели время приготовиться. Франкенберг сказал, что в Берлине и преимущественно в рейхстаге всего больше говорят о причинах, почему до сих пор не начато бомбардирование. Перед этим вопросом все другие дела отступили на задний план.
«Да, – сказал начальник, – теперь, когда Роон взял в свои руки все дело, все-таки делается что-нибудь. До 1000 телег с упряжью на пути сюда для транспортных надобностей и из числа новых мортир прибудут некоторые сюда. Теперь мы можем ожидать что-либо».
Затем разговор перешел на то, каким образом сообщение о восстановлении немецкой империи было доложено рейхстагу; многие присутствующие выразили, что при этом было поступлено не так, как было бы желательно. Дело это ведено не совсем ловко. О предстоявшем сообщении не уведомили консерваторов, и оно явилось именно в то время, когда они сидели за завтраком. Виндгорст, по-видимому, не был не прав, когда он, воспользовавшись со свойственною ему ловкостью обстоятельствами в свою пользу, заметил, что он ожидал от парламента большего сочувствия.
«Да, – сказал начальник, – при этом деле должно было бы иметь место более действительное mise en scène. Один из депутатов должен бы был выступить, чтобы выразить свое недовольство баварским договором. Потом он должен был сказать «да», если бы нашелся эквивалент этим недостаткам, нечто, в котором выразилось бы единство, то дело другое, и теперь надобно бы было выступить с сообщением об императорстве. Оно, впрочем, имеет большее значение, чем многие думают. – Впрочем, я согласен, что баварский договор имеет свои недостатки и пробелы; но это легко сказать тому, кто не несет ответственности. Что было тогда, когда я все колебался и ничего не делалось? Нельзя придумать, какие это имело бы следствием затруднения, и я страшно боялся за простодушие централистских членов рейхстага. – Спустя долгое время я опять спал крепко и хорошо несколько часов кряду. Сначала я не мог заснуть от больших забот и разных мыслей, потом мне представился вдруг Варцин, совершенно ясно, до мелочей, как большая картина со всеми цветами; даже деревья, отблеск солнечного света на ветвях и голубое небо. Я рассматривал каждое отдельное дерево. Я старался освободиться от этого, но все это мне снова представлялось и мучило меня, и, наконец, когда я потерял прежнее из виду, мне стало представляться другое – акты, ноты, депеши, до тех пор пока я не уснул перед утром».
Разговор перешел потом на прекрасный пол Франции и шеф сказал:
«Я объехал большую часть Франции – также и во время мира – но не могу припомнить, чтобы я где-нибудь видел красивую поселянку; часто же видел отвратительно дурные лица. Я думаю, что есть и хорошенькие, но они при первом случае отправляются в Париж, чтобы превратить себя в капитал».
К концу обеда беседа шла о страшном опустошении, которое причинила Франции война; при этом министр, между прочим, заметил:
«Я предвижу, что все будет пусто, без мужского населения, и, как это было после переселения народов, земли отдадут заслуженным померанцам и вестфальцам».
После обеда в Hôtel de Chasse я выпил стакан пива с Г., который завтра отправляется в Буживаль, на форпосты, где на днях французская граната ударила в дом и ранила многих. У него же встретился с его двоюродным братом – врачом дворцового лазарета. Этот зашел сообщить о посещении Бисмарком лазарета и высказал свое мнение, что в недостаточном уходе за больными столь же мало виновен подлежащий врач, как и союзный канцлер. Сторож, сообщивший графу о дурном содержании больницы, – пьяница и, во всяком случае, не достоин доверия. Вина заключается в слишком уже аккуратном «штате» пищи для больных в прусских госпиталях. Люди от нее не могут быть ни сыты, ни голодны. Без пособия добровольных пожертвований было бы плохо, а эти пожертвования уменьшились по вине врача, выказавшего сухое и крутое обращение к тем, которые желали делать пожертвования, например, к французским дамам.
Вечером за чаем сначала был один только Бухер. Потом пришел Кейделль, которого очень беспокоили и озабочивали гигантские вооружения Гамбетты, достигающие, как он слыхал в генеральном штабе, до 1 300 000 человек. Хотя он слыхал от служащих Мольтке, что и мы должны получить 80–90 тысяч человек нового войска, но он думает, что нам надо иметь до полумиллиона, потому что нам было бы плохо, если бы французы численностью 300 000 человек перешли в наступление на нашу редкую соединительную линию с Германией. Мы в этом случае легко были бы принуждены оставить осаду Парижа. Кажется, это слишком мрачный взгляд на положение дел.
Глава XV Шодорди и истина. Вероломные офицеры. Французское превратное словотолкование. Кронпринц у нас в гостях
Пятница, 16-го декабря . Погода свежая, небо облачное. Утром собрал несколько статей по поводу циркуляра Шодорди о варварском образе ведения войны, приписываемом нам. Ход моих мыслей был следующий. К числу клевет, которые обращаются во французской прессе уже несколько месяцев, чтобы возбудить против нас общественное мнение, теперь присоединился акт, исходящий от правительства, – от самого временного правительства, имеющий целью предрасположить против нас иностранные дворы и кабинеты неверным и преувеличенным изображением наших действий во время настоящей войны. Лицо, служащее в министерстве иностранных дел, – г. Шодорди в Туре изливает свои жалобы перед нейтральными державами. Выслушаем главные пункты его доклада и затем объясним, как в действительности обстоит дело, и если уже делать упрек в варварском ведении войны, то к кому он должен относиться: к нам или французам. Он утверждает, что мы делали реквизиции в невозможных размерах и требовали чрезмерные контрибуции от мест и лиц, попавших под нашу власть.
. . . . . . .
«Оно ожидает от вас, чтобы из вашей общины каждое утро три или четыре решительных человека отправлялись в место, назначенное самою природою сборным пунктом, чтобы оттуда, не подвергаясь большой опасности, стрелять по пруссакам. Прежде всего надобно стрелять по вражеской кавалерии, и лошади ее должны быть доставлены в главное место округа. Я буду выдавать им премию (итак, наем убийц), и об их геройском поступке обнародую во всех газетах департамента и в журнале».
Мы обстреливали открытые города, например, Орлеан. Но разве г. Шодорди не знает, что эти города были заняты врагом? И разве он забыл, что французы бомбардировали открытые города Саарбрюкен и Кель? Что же касается заложников, которые принуждены были сопровождать наши железнодорожные поезда, то их брали не для того, чтобы они могли служить препятствием для проявления французского геройства, а чтобы сделать невозможными коварные преступления. Железные дороги служат не только для перевозки войск, оружия, имущества и других военных припасов; они составляют не только военное средство, которому можно противопоставить другое насильственное средство. На них ездят также беззаботно массы раненых, врачи, санитары и другие лица.
Можно ли позволить первому встречному мужику или вольной банде причинить опасность сотням таких лиц, снять рельсы или наложить камни на пути? Если с французской стороны озаботятся о том, что ничто не будет угрожать безопасности железнодорожных поездов, тогда заложники будут делать только прогулки по дороге или же со стороны немцев можно будет отказаться от взятия заложников для достижения безопасности против сказанных покушений. Более мы не станем следить за жалобами Шодорди. Европейским кабинетам известна гуманность, господствующая в немецком образе ведения войны, и поэтому без большого труда они могут найти истинную цену уверениям французского обвинителя. Во всем прочем война есть война. Лайковые перчатки не играют здесь роли, а железные перчатки, которые мы принуждены употреблять, были бы, может быть, реже применены, если бы правительство народной обороны не объявило народной войны, которая всегда влечет за собой больше жестокости, чем война между регулярными армиями.
После обеда мы еще раз посетили великолепные бронзовые бюсты богинь и белые статуи, покрытые мхом, находящиеся на главной аллее парка. За обедом отсутствовали, кроме Болена, который еще не выздоровел, Гацфельд, которому нездоровится, и Кейделль, приглашенный к столу короля. На этот раз были приглашены к нам в гости граф Гольнштейн и князь Путбус. Беседа шла сначала о баварском договоре, и Гольнштейн выразил надежду, что вторая палата даст согласие на него, для чего требуется большинство 2/3 голосов; теперь же известно, что он будет иметь против себя около 40 голосов; также больше чем вероятно, что он не будет отклонен палатою имперского совета. Начальник заметил: «Тюнген будет конечно “за”». Гольнштейн возразил: «Я думаю, так как он также дал свое согласие на участие в войне». «Да, – сказал министр, – он принадлежит к честнейшим партикуляристам, есть также и такие партикуляристы, которые не честны, преследуют другие цели». Гольнштейн возразил: «Наверно! Из патриотов многие ясно доказали это; они оставили девиз «за короля и отечество» и сохранили только «с Богом».
Путбус перевел разговор на предстоящий близкий праздник и полагал, что хорошо бы было, если бы люди в лазаретах имели также свою елку. Для этого производится сбор, и теперь уже собрано 2500 франков. «Плесс и я подписались, – продолжал он, – затем предложили лист великому герцогу Веймарскому, и тот дал 300 франков, а Кобургский – 200». «Он должен был устроить так, чтобы не дать больше Веймарского и не менее Плесса». Путбус полагал, что лист будет поднесен и его величеству, на что шеф заметил: «Мне они тоже дозволят участвовать». Затем упоминалось, что у Вецлара спустился французский воздушный шар и что в нем, по слухам, находится Дюкро.
– Его расстреляют? – спросил Путбус.
– Нет, – ответил шеф, – если он попадет под военный суд, то ему ничего не сделают; но суд чести, наверно, осудил бы его – так сказали мне офицеры.
– Ничего нет нового в военных делах? – выспрашивал Путбус.
– Может быть, в генеральном штабе, – ответил министр. – Мы ничего не знаем. Мы узнаем только то, что нам сообщают после долгих просьб, и то очень немногое.
Затем некто сказал, что он слышал, что завтра опять ожидают большую вылазку из Парижа, на что другой присутствующий сделал замечание, что по боковой улице вне города или, как говорят другие, по дороге в Мэдон стреляли по драгуну, а в лесу, между Версалем и Вилль-д’Аврэ – по офицеру (вследствие этого вчера издан приказ, по которому гражданским чинам от 3-х часов пополудни до 9 часов утра воспрещается ходить в лес близ города, а караулы и патрули получили приказание стрелять по всем невоенным, которых там встретят).
«Кажется, у них воздушные ружья, – сделал предположение шеф, – вероятно, это были бывшие браконьеры здешних мест».
Наконец говорили о том, что правительство народной обороны старается заключить внешний заем, и министр, обращаясь ко мне, сказал:
«Было бы полезно, если бы печать обратила внимание на то, что опасно давать деньги этому правительству. Можно сказать, что очень может случиться, что заем нынешнего правительства не будет признан тем правительством, с которым мы заключим мир, и что это будет внесено в мирные условия. Это в особенности хорошо поместить в английской и бельгийской печати».
После обеда Абекен сообщил мне, что граф Гольнштейн спрашивал, кто я (вероятно, потому, что я один только сидел за столом канцлера в статском платье), что, вероятно, я лейб-врач министра, так как меня называют доктором. Вечером Л. передавал, что один высокопоставленный консерватор, иногда делающий ему сообщения, сказал ему, что в его кружках очень интересуются знать, что король ответит имперской депутации. Эта депутация ему неприятна, так как только первый немецкий рейхстаг, а не севеpoгерманский, может предложить императорскую корону (король думает менее всего о рейхстаге, который предлагает ему императорскую корону не от себя, а вместе с другими владетелями намеревается просить его во имя народа принять ее, чем о владетелях Германии, которые не все еще ответили на предложение Баварии). Впрочем, этот высокопоставленный консерватор желал бы лучше, чтобы король сделался императором прусским (дело вкуса); а так как теперь Пруссия, собственно, войдет в состав Германии, то это приводит его в нерешительность. Л. сообщил также, что кронпринц недоволен некоторыми корреспонденциями в немецких газетах, сравнившими Шатоден с Помпеями и рисовавшими слишком яркими красками другие картины опустошения, причиненные войною. Я подстрекнул тогда Л. заняться обработкою тем: «Новый французский заем» и «Шодорди и режущий уши Гарибальди» для одной бельгийской газеты, на что он согласился. По уходу его я принялся сам за обработку первой темы для одной немецкой газеты, и статья получила следующую редакцию:
«Итак, опять заем, посредством которого наглое простодушие господ, руководящих ныне в Туре и Париже судьбою Франции и ведущих ее все глубже к нравственной и материальной гибели, старается выманить средства из-за границы. Эту меру надобно было предвидеть, а потому мы ей не удивляемся. Мы желаем только обратить внимание финансового мира на то, что за выгодами, которые в настоящем случае им предлагаются, скрывается, надо думать, весьма серьезная опасность, которую достаточно очертить нам в кратких чертах, чтобы сделать вполне понятною. Высокие проценты и низкий курс при подписке на заем заключают в себе много соблазнительного; но правительство, заключающее заем, не признано ни всею Францией, ни одною даже европейскою державою. К тому же вспомним, что заемы, которые старались заключить французские общины для военных надобностей, вызвали со стороны немцев заявление, что они озаботятся о том, чтобы те не были погашены. Мы думаем, что это служит указанием, что такой же принцип будет применен и в более обширной сфере. Может случиться, и даже наверно, что от правительства Франции, с которою Пруссия и ее союзники заключат мир – которым будет, разумеется, не нынешнее правительство – потребуют, и весьма вероятно, чтобы в числе мирных условий находилось условие, по которому это правительство в близком будущем не считало бы себя связанным обязательствами гг. Гамбетты и Фавра относительно платежа процентов и погашения капитала по их займам.
«Без сомнения, они имеют на это полное право, так как эти господа сделали заем, хотя и во имя Франции, но без всякого права и уполномочия. Да послужит это им предостережением».
После 10-ти часов к нам пришел наверх Вольманн. Он рассказал, что приехала депутация от рейхстага и что Симсон, ее оратор, уже находится у шефа. Последний, вероятно, даст ему понять нежелание короля принять ее до получения от всех государей писем с изъявлением согласия. Письма эти должны быть сначала посланы королю Баварскому, который затем должен будет их переслать нашему королю. Государи уже выразили свое согласие по телеграфу; только государь княжества Липпе, кажется, еще не пришел ни к какому решению. Вероятно, вследствие этого замедления двое из членов депутации заболеют. Вольманн рассказывал также, что телеграмма, которая недавно уведомляла о том, что договор с Баварией в рейхстаге прошел, заключала в себе следующую фразу: «Даже окружные судьи не могут остановить движение всемирной истории».
Суббота, 17-го декабря. Ранним утром виднелись в окошко золотые полосы зари. Затем, когда около 9-ти часов мы с Абекеном пошли прогуляться по дорожкам сада, вдруг сгустился туман и покрыл наш насекомоподобный маленький мирок. Погода – не то летняя, не то зимняя. Земля покрыта снегом, а между тем деревья парка, стена ограды, окружающей сад, увитые плющом, и газон нежной травки вокруг фонтана – все сплошь зеленеет; на клумбах с буковыми деревьями под упавшими листьями прячутся фиалки в цвету, которых мы нарвали большой букет для жены Абекена. Туман рассеялся только к двенадцати часам.
До обеда я писал вторую главу по поводу нового французского займа. За завтраком говорили, что наши заняли Вандом. Секретари рассказывали, что у шефа привычка – во время диктовки ходить взад и вперед по комнате, барабанить по чем ни попало пальцами, по столу, по комоду или стулу, что попадется, и при этом иногда вертеть кисть своего халата. По всем вероятиям, он дурно провел нынешнюю ночь, так как в двенадцать часов он еще не завтракал, а час спустя еще с ним нельзя было говорить.
Сегодня у короля должен быть большой военный совет – может быть, по поводу бомбардировки? После обеда писал статью о все чаще и чаще повторяющихся случаях побега пленных французских офицеров из мест, где они поселены на жительство, во Францию для вторичного поступления на службу против нас, несмотря на данное ими честное слово. Этих случаев уже насчитывают более пятидесяти, и среди убежавших есть офицеры всех чинов, даже три генерала: Дюкро, Камбриэль и Барраль.
Мы могли бы сделать безопасною для себя всю французскую армию, взятую нами в плен после битвы под Седаном, если бы ее уничтожили тогда. Но мы это упустили из виду благодаря гуманности и доверию к данному нам слову. Капитуляция была приведена в исполнение, и мы должны были предположить, что все офицеры на нее согласны и готовы принять все условия, которые она на них налагала; в противном случае нас следовало предуведомить, и с исключениями мы так и поступили бы, как с исключениями, т. е. не оказали бы этим господам такого доверия, какое оказывали другим, или, иными словами, их лишили бы той свободы передвижения, которою они теперь так постыдно воспользовались. Правда, что большая часть пленных офицеров осталась верна своему слову, так что на эти случаи можно было бы не обращать более внимания. Но дело принимает другой оборот ввиду того, что временное правительство Франции поощряет это бесчестное отношение офицеров к данному слову тем, что принимает их вторично на службу в действующие против нас полки. Разве кто-нибудь слыхал хоть про один случай отказа такому дезертиру в приеме его в ряды французской армии? Слышно ли было, спрашиваем мы, чтобы где-нибудь французские офицеры протестовали против вступления таких товарищей в их общество? Не только правительство, но и все офицерское сословие Франции находит такое бесчестное поведение в порядке вещей. Вследствие этого на немецком правительстве лежит теперь обязанность расследовать, соответствуют ли интересам Германии допущенные до сих пор облегчения для пленных французских офицеров.
С другой стороны, возникает вопрос, можно ли доверить обещаниям, даваемым теперешним французским правительством при совершении договоров с Германией без обеспечения их материальным ручательством.
За обедом присутствовал в качестве гостя господин фон Арним Крёхленбург, зять министра – человек лет пятидесяти, с энергическим выражением лица и с окладистой рыжеватой бородой.
Шеф был в отличном расположении духа, но разговор на этот раз не имел особенного значения. Он вращался большею частью о бомбардировке и положении, которое занимала в отношении ее одна партия в главной квартире.
Вдруг шеф спросил Бухера:
– Есть у вас при себе карандаш и бумага?
– Да.
– Так телеграфируйте (вероятно Дельбрюку): завтра в два часа пополудни король будет принимать депутацию рейхстага. Подробности после. (Он, верно, даст им понять, что готов, согласно их желанию, принять императорское достоинство, но он свое право на это основывает прежде всего на предложении короля Баварии и затем на согласии с этим остальных немецких князей и что это согласие высказано еще не всеми).
Когда Арним сказал, что он больше не может есть, так как перед тем слишком наелся сосисок, то шеф спросил, смеясь:
«Откуда они были? Надеюсь, не из Парижа? Иначе они могли бы быть и из крыс».
Дело в том, что жители Парижа имеют теперь в очень скудном количестве свежее мясо, и говорят, что в некоторых местах устроены настоящие рынки, на которые товар доставляется катакомбами.
После 8-ми часов вечера пришел Л. для обмена сведениями. Он рассказывал, что в Версале между англичанами существует возбуждение. Несколько сынов Британии, находившихся здесь корреспондентами, между прочим, капитан Хозиер по дороге отсюда в Орлеан заехали в одну гостиницу и там были схвачены немецкими солдатами, которые, не понимая английского языка, приняли их за шпионов. Только Хозиеру сделали исключение, так как он немного говорил по-немецки. Остальных, несмотря на то что их вид был в исправности, посадили на телегу и отправили в Версаль. Кронпринц был очень рассержен поступком солдат, а лондонские газеты ужасно ругались и находили в этом оскорбление всей английской нации. Л. казался несколько взволнованным этим случаем. Я же думал так: кто рискует опасностями, тот в них попадает, а кто путешествует, тому есть что и порассказать.
Когда я эту историю передал Бухеру, он также нашел ее более забавною, чем серьезною, и говорил, что это только последующая глава к тому известному комическому роману, где Браун, Смит и Робинзон отравились путешествовать в чужие края, не зная ни одного языка, кроме лондонского кокнея, и потому попадали в беспрерывные замешательства. Бухер рассказывал еще, что шеф – большой любитель природы и живописных местностей. Он посещал с ним часто окрестности Варцина и обыкновенно в конце прогулки говорил: «Нас ждут теперь к обеду, но посмотрите на ту горку, мы еще должны на нее влезть, оттуда должен быть великолепный вид».
Вечером, после десяти часов, опять слышны были несколько выстрелов с форта.
Воскресенье, 18-го декабря . Погода пасмурная, но без тумана. Рано утром слышны несколько выстрелов из большого орудия. Перед обедом написано несколько писем в Германию.
В два часа шеф поехал в префектуру для представления депутатов рейхстага. До его предполагаемого возвращения я пошел с Вольманном прогуляться сначала по парку и затем по avenue de Paris, где должна была происходить в префектуре эта довольно простая церемония.
После двух часов король в сопровождении наследного принца, принцев Карла и Адальберта вступил в приемный зал, где его окружили великие герцоги Баденский, Ольденбургский и Веймарский, герцоги Кобургский и Мейнингенский, три здесь находящихся наследственных великих герцога Мекленбургский, Веймарский и Ольденбургский, принц Вильгельм Вюртембергский и много других князей, союзный канцлер и генералитет. Никто не был в полной парадной форме. Симсон сказал королю речь, и король ему ответил приблизительно так, как и ожидали. Торжество закончилось в 5 часов обедом на 80 персон.
В этот день я обедал у доктора Гуда [19] , который, кроме меня, пригласил еще кентуккийца г. Баулэнда, Мак-Лина и английского корреспондента Кеннингсбью. Американцы были славные люди. Они очень удивились точности, с которой я им описал окрестности Фальмута, родного города Баулэнда, и дорогу к нему из Цинциннати. Они хотели знать мое мнение о Соединенных Штатах и относительно великой междоусобной войны, в которой Гуд долгое время участвовал. Они, кажется, остались довольны моим ответом, в котором я воздал должное сепаратистам. Затем Кеннингсбью начал разговор о приключении с Хозиером и К° и спросил, что я об этом думаю. Я сказал, что эти господа прибавили только лишнюю главу к истории Брауна, Смита и Робинзона. Было бы справедливее, продолжал я, не требовать от немецких солдат и субалтерн-офицеров знания английского языка, и вся история есть только одно недоразумение. Он мне на это выразил, что Хозиер ведь говорил по-немецки, а остальные четверо имели виды на немецком языке, подписанные Рооном и Блументалем.
– В таком случае, – отвечал я, – это только доказывает слишком много военной добросовестности, слишком много рвения и осторожности.
Мистер Кеннингсбью возражал, что он не может смотреть на это дело с моей точки зрения, и он того мнения, что с корреспондентами обошлись дурно, потому что они англичане; а люди, взявшие их, были ожесточены против них за существующую, по мнению немцев, доставку оружия во Францию. Но посмотрим еще, что из этого последует.
Я не желал ему объяснить, что то, что он называет ожесточением, скорее есть недоверие, что я совершенно понимаю. Я заметил только: «Это произведет, вероятно, много шуму и много негодования в печати и больше ничего». Я решительно не могу придумать, что, кроме этого, еще может из этого произойти, прибавил я.
Он же находил, что на этом дело не остановится и начал говорить про британского льва и про civis Romanus.
Я возразил, что, если бы лев заревел, мы тогда подумали бы: «Хорошо ревешь, лев! пореви еще! А что касается civis, то с тех пор как на него была мода, времена уже изменились». «People have their own thoughts about these notions».
Он выразил мнение, что мы очень возгордились своими успехами и что британский лев может не только реветь, но и драться, если он чем недоволен. Самое меньшее, что можно требовать, – это увольнение офицера, участвовавшего в аресте англичан.
Я просил его не горячиться и взглянуть на дело хладнокровно. Оно действительно ни в каком отношении неопасно. Мы не бросим на съедение льва наших людей, как бы зверь сильно ни сердился. Если бы корреспондентам и причинили серьезную несправедливость, что выяснится следствием, то им, без сомнения, дадут удовлетворение. А что касается нашей гордости вследствие успехов, которых мы достигли, то я, напротив, утверждаю, что мы в продолжение всей этой войны выказали себя как самый скромный народ, чуждый всякого caмoобольщения и самохвальства, особенно в сравнении с необычайной лживостью и хвастовством французов. Я закончил тем, что повторил, что, по моему мнению, это дело – пустяки, а из-за пустяков Англия не изменит к нам своих отношений, а тем более не объявит войны, как он предполагает; я остался при мнении, что история эта произведет много крику в газетах, но что ничего важного отсюда не произойдет. Он наконец успокоился и затем прибавил, что он сам был раз остановлен во время сражения в местности около Буживаля и Мальмэзона, и пруссаки обошлись с ним не очень снисходительно; но еще менее снисходительно обошелся с ним его же соотечественник, полковник Валькер (Валькер – английский уполномоченный при главной квартире), к которому он обратился за помощью и который его очень грубо принял и резко сказал, что ему нечего шляться по полям битвы, и которого он нам изобразил как очень неспособного человека. Я удержался сделать замечание, которое, может быть, следовало высказать и которое вертелось у меня на языке, что в этом случае мистер Валькер выказал рассудительность, так же как и другие. Спор под конец продолжался уже при взаимном удовольствии. Американцы все время держали сторону мою и немцев.
Вечером, в одиннадцать часов, я рассказал дело Хозиера шефу, который об этом еще ничего не знал. Он сначала не хотел этому верить, а потом нашел в нем только одну комическую сторону. Затем он велел мне телеграфировать о новой, впрочем, незначительной победе наших войск над армией Шанзи и заметку о приеме королем депутации рейхстага.
Понедельник, 19-го декабря. Рано утром опять отыскивал с Абекеном фиалки в саду, нашел их три и послал домой. Потом написал возражение на статью «Холодное оружие» газеты «Kölniche-Zeitung». В этой статье французские врачи, ввиду того обстоятельства, что они находили слишком мало французских солдат, раненных штыками и саблями, заключили, что немцы избегали рукопашных схваток. В возражении указывалось, что если эти господа составляли свое суждение на основании опыта, то им не мешает принять в расчет, во-первых, то, что ими упущены из виду многочисленные мертвые, раненные немецкими штыками при Шпихерне, Гравелоте и Ле-Бурже, и, во-вторых, то, что французы в большинстве случаев не выдерживали штыковых схваток и обращались в бегство, прежде чем дело могло дойти до холодного оружия.
Далее я перешел к международной революции, противопоставившей нам своих волонтеров и баррикадных героев. Ход моего рассуждения был приблизительно следующий: вначале мы предполагали иметь против себя только Францию, и дело было в таком виде до Седана. Но после 4-го сентября перед нами явилась другая сила – общая республика, международный союз безродных мечтателей, стремившихся к учреждению Соединенных Штатов Европы, к космополитической революции. Французское знамя служит для приверженцев этой категории лишь сборным и соединительным пунктом. Со всех сторон спешат они к нему, чтобы сражаться с нами, как с воинами монархии. Поляки, ирландцы, испанцы, итальянцы, даже беглецы из Турции примыкают к французским республиканцам в качестве «братьев». Все, что стремится к мировому перевороту, который должен поглотить все прежние государства, общая космополитическая демагогия, красные, собиравшиеся на конгрессах в Базеле и Женеве, смотрят на современную Францию как на очаг, от которого должен возгореться этот великий революционный пожар. Маццини, «предтеча Христа, Евангелие красных» ожидает начала ликвидации старого государства и старого общества не со стороны своего отечества – Италии, но со стороны Франции, произведшей революции 1789, 1830 и 1848 годов. Та многообъемлющая сила, которая при этих переворотах проявилась, дает ему право начать эту «последнюю войну», требовавшуюся и объявленную «мирным конгрессом». Даже и немецкие демократы различных цветов склоняются перед духом Парижа, видят во Франции мать всех республик и считают немецкие войска с их верностью долгу и любовью к отечеству ордами варваров с той минуты, как во Франции провозглашена республика.
Мы полагаем, что Франции никто не позавидует за тот почет, который воздают ей эти революционеры по профессии. Никто не назовет ее счастливой за то, что эти разнузданные головы выбрали ее почву для боевого поля, на котором думают осуществить свои мечты. Даже большинство французского народа не может пожелать им победы, потому что это означало бы уничтожение их национальности, гибель их политических и общественных учреждений, крушение веры и церкви и бесконечную революцию с общей анархией, ведущей в конце концов к деспотизму.
Газета, которой никак нельзя отказать в республиканском настроении, «New Jork Tribune» говорит по этому поводу: «Боже избави нас от желания, чтобы подобная республика установилась в несчастной Франции или где бы то ни было в Европе». «Moniteur» таким же образом относится к этому предмету.
Через два часа я предпринял прогулку по парку, причем два раза встретил шефа, ехавшего с Симсоном в коляске. Министр был приглашен к семи часам к столу наследного принца, но перед этим около получаса просидел за нашим обедом. Он рассказывал о своей поездке с Симсоном и, между прочим, заметил, что тот был здесь в последний раз в 1830 году, после июльской революции. «Я думал, что он будет интересоваться парком и прекрасными окрестностями, но я ошибся; по-видимому, он совсем лишен художественного вкуса относительно пейзажей. Это бывает со многими. Я замечал, что у евреев совсем нет пейзажистов и вообще мало живописцев».
Ему назвали Мейергейма и Бендемана.
«Мейергейм, пожалуй, – возразил он, – но Бендеман рисовал нам только жидовских дедушек и бабушек. Еврейских композиторов очень много – Мейербеер, Мендельсон, Галеви, но живописцев у них почти нет. Евреи занимаются также живописью, но только в случаях необходимости».
Абекен рассказывал о проповеди, которую вчера Рогге произнес в церкви замка, и находил, что тот слишком долго остановился на депутации рейхстага, причем сам высказал несколько неуважительных замечаний о рейхстаге вообще. Шеф возразил на это:
«Я вовсе не согласен с этим мнением. Эти люди недавно снова разрешили нам 100 миллионов и, несмотря на свое доктринерство, отнеслись благоприятно к версальским переговорам, что для многих было нелегко; этого оспаривать нельзя. Нет, я так судить не могу. Я сердит только на Дельбрюка, который напугал меня, что они не согласятся».
Тайный советник перешел затем к событиям, случившимся в Эмсе незадолго до объявления войны, и рассказывал, что король по поводу одной депеши выразился: «Ну, теперь и он (Бисмарк) будет доволен нами».
«И я думаю, – прибавил Абекен, – что вы действительно были довольны». По ответу, данному канцлером, оказалось, что это удовольствие было только наполовину.
«Я припоминаю, – сказал он, – как я это известие получил в Варцине. Я выезжал из дому и, возвратившись, нашел первую телеграмму. Когда я потом уезжал, я встретил нашего пастора в Вуссове; он стоял около своих ворот и раскланялся со мною. Я ничего не сказал ему и сделал только так (жест вроде перекрещенных шпаг). Он понял меня, и я поехал дальше».
Он рассказывал потом о тех колебаниях, которым подвергался вопрос до той минуты, когда была объявлена война.
Министр заметил потом, что он вчера хотел было отправиться в церковь. «Но я боялся простудиться во время процессии, – прибавил он. – Я однажды получил от этого ужаснейшую головную боль. Кроме того, меня смущало, что, быть может, Рогге наговорит слишком много».
Потом, я не помню уже как, он перешел к рассказам о так называемой ореховой войне, происходившей после битвы при Танненберге и в которой сражающиеся были рассыпаны по густому лесу, состоявшему из орешника и дубов и простиравшемуся тогда от Бютова в глубь Польши. Затем, не помню также каким образом, он коснулся битвы при Фербеллине [20] и вспомнил о стариках, которые многое пережили на своем веку.
«При нас был тогда старый пастух Брандт, – рассказывал он, – которому случалось говорить с людьми, участвовавшими в битве при Фербеллине. Брандт был нечто вроде старой мебели, с которой неразрывно связаны мои юношеские воспоминания. Когда я вспоминаю о нем, мне всегда представляется густая трава и луг, усыпанный цветами». «Да, ему было, пожалуй, девяносто один или девяносто три года, когда он умер в 1820 или в 1821 году. Он видел еще короля Фридриха Вильгельма I в Кеслине, которого он возил вместе с своим отцом. Если он родился около 1730 года, то весьма возможно, что он знавал людей, видевших битву при Фербеллине, потому что это было пятьдесят или шестьдесят лет перед тем».
У Абекена оказались также интересные юношеские воспоминания: он знавал поэта Гёккинга, умершего в двадцатых годах, откуда мы узнали, что наш старый юноша родился в 1809 году.
Шеф заметил при этом, что Абекен, вероятно, в детстве видал парики с косами. «Для вас это возможно, – прибавил он, обратившись к Абекену, – так как вы на пять или на шесть лет старше меня». – Затем он обратился опять к Померании и, если я не ошибаюсь, к Варцину, где оставался один французский пьемонтец от последней французской войны, который интересовал его, потому что сумел сделаться весьма почтенным человеком и, бывши прежде католиком, обратился потом в протестантизм и был церковным старостой. Как на подобные же примеры, он указал на других итальянцев, которые в войне 1813 года попали в эту часть Померании, остались там и обзавелись семействами, отличающимися в настоящее время от своих соседей только типом лица».
Под конец говорили о Мюллере, с которым Абекен дружен и с которым он в этот день говорил о Кейделле. При этом было упомянуто о том влиянии, которое жена этого министра имеет на его решения и на все его поведение, и отсюда разговор перешел вообще на влияние энергичных женщин на их мужей.
«Это правда, – сказал шеф, – в таких случаях трудно сказать, кому следует приписать заслугу или вред от сделанного; «quid ipse fecit et quid mulier fecit». – Он подтвердил это несколькими примерами, которые здесь неудобно привести.
Министр возвратился лишь после десяти часов от наследного принца и с его гофмаршалом, приехавшим через десять минут, еще несколько времени гулял по саду. Когда я после чая хотел подняться в свою комнату, Энгель прошептал мне вслед: «Знаете, господин доктор, завтра у нас обедает наследный принц».
Вторник, 20-го декабря . Мягкая, пасмурная погода. Я опять посылаю депеши о различных мелких военных успехах и составляю для короля записку относительно статьи «National-Zeitung» от 15-го декабря, касающейся письма Мольтке к Трошю. Затем по приказанию шефа написал две статьи, подлежащие печатанию, из которых одна говорила о неправильном толковании или об извращении манифеста короля после перехода через французскую границу, а другая – об отношении Трошю к прочим чинам временного правительства.
В первой статье говорилось приблизительно следующее: «Уже много раз мы встречали непонимание или намеренное искажение тех слов, которые король Вильгельм высказал в своем заявлении от 11-го августа этого года французскому народу. Теперь мы вновь находим это историческое искажение и, к нашему удивлению, находим его в сочинении весьма почтенного французского историка. Д’Оссонвиль в своей брошюре «La France et la Prusse devant l’Europe» утвердительно высказывает его, чту не делает чести его любви к истине или по крайней мере научной основательности. Вся эта брошюра написана весьма поверхностно, полна преувеличений, заблуждений и утверждений, не имеющих других оснований, кроме непроверенных слухов. Между грубыми ошибками автора, видимо, ослепленного национальным пристрастием, достаточно указать на ту, что король Вильгельм будто бы царствовал во время Крымской кампании. Но все это можно оставить в стороне; мы коснемся лишь искажения манифеста, который в августе – не только на немецком, но и на французском языках ради устранения недоразумений – был обращен к французам. По словам Д’Оссонвиля, король говорил в нем: «Я веду войну только с императором, а вовсе не с Францией. (Je ne fais la guerre qu’а l’empereur et nullement à la France)». – Между тем на самом деле в этом акте говорилось следующее: «После того как император Наполеон напал на воде и на суше на германскую нацию, желающую и теперь жить с французским народом в полном мире, я принял верховное начальство над германскими войсками, чтобы отразить это нападение. Военные события вынудили меня перейти через границы Франции. Я веду войну с французскими солдатами, а не с французскими гражданами. (L’empereur Napoléon ayaut attaqué par terre et par mer la nation allemande, qui désirait et désire encore vivre en paix avec le peuple français, j’ai pris le commandement des armées allemandes pour repousser l’agression, et j’ai été ammené par les évènements militaires à passer les frontiéres de la France. Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français.) Затем следовало пояснение, делающее невозможным всякое неправильное толкование этого места: Эти последние (французские граждане) будут поэтому пользоваться полною безопасностью своей личности и имущества до тех пор, пока они сами какими-либо враждебными предприятиями не отнимут у германских войск права распространять на них мое покровительство. (Ceux-ci continueront, par conséquent, а jouir d’une complèté sécurité pour leurs personnes et leurs biens, aussi longtems qu’ils ne me priveront eux mèmes par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes du droit de leur accorder ma protéction.)
«Мы полагаем, что различие между цитатой Д’Оссонвиля и подлинным манифестом слишком бросается в глаза, и какой-либо неясности, могущей извинить ошибку автора, в последнем открыть нельзя».
В другой статье говорилось: «Делегация правительства национальной обороны, находящаяся в настоящее время в Бордо, убедилась в бесполезности дальнейшего сопротивления германскому войску и, по мнению Гамбетты, готова вступить с Германией в переговоры о мире на основаниях, предложенных этой последней. Напротив того, генерал Трошю, по-видимому, решился продолжать войну. Между тем турская делегация, находящаяся теперь в Бордо, обязала генерала Трошю не входить ни в какие мирные переговоры. По другим сведениям, генерал Трошю будто бы приказал доставить запас продовольствия на несколько месяцев на Мон-Валерьян, чтобы удалиться туда со своими войсками, когда капитуляция Парижа окажется неизбежной, и чтобы этим путем производить давление на судьбу Франции после того, как мир будет заключен. Полагают, что такой образ действий имеет в виду интересы Орлеанской фамилии, к приверженцам которой, по-видимому, принадлежит генерал Трошю».
Когда я сдал эти статьи в бюро для дальнейшего движения, Кейделль сообщил мне, что шеф выразил желание, чтобы для меня с этой минуты были открыты все входящие и исходящие государственные бумаги, и тотчас же дал мне прочесть телеграмму, написанную рукой министра и касавшуюся Люксембурга, а потом прислал мне с Вольманном более подробную инструкцию.
Когда министр после трех часов отправился к королю, я вместе с Вольманном совершил прогулку по городу, начав с avenue de St. Cloud. На пути нашем показалась навстречу нам какая-то своеобразная темно-синяя масса; казалось, что это солдаты, и в то же время, что не солдаты. Сомкнутыми рядами, мерным шагом они маршировали по направлению к нам. У них были ружья без штыков и не было ни шапок, ни касок, ни белых ранцев. Когда они приблизились, я узнал черные лакированные шляпы матросов нашего флота, их черные пояса и ремни, их гладкие ранцы и их куртки и ножи. Их было около ста человек с пятью или шестью офицерами, от которых мы, когда отряд остановился, узнали, что они назначены для снаряжения четырех луарских пароходов, захваченных войсками принца Фридриха Карла. Кажется, они будут размещены на улице de la Pompe и на улице Hoche. Между ними было много красивых и бравых молодцов. Французы собрались около них толпою и рассматривали невиданных еще здесь и загадочных чужеземцев. «Это немцы-моряки», – слышалось около меня. Они могут говорить на всех языках (Се sont des polyglottes) и будут служить пруссакам переводчиками.
Вскоре после шести часов к нам прибыл наследный принц со своими адъютантами. Он уже имел на погонах знаки своего нового военного чина – два больших скрещенных маршальских жезла. За столом он сидел на верхнем конце; по правую руку его – шеф, а по левую – Абекен. После супа начался разговор, который прежде всего коснулся предмета моей статьи, написанной утром для печати, а именно будто Гамбетта, по сообщению Израиля, состоящего секретарем у Лорье, агента временного правительства в Лондоне, уже более не верит в успех защиты и готов принять наши требования для заключения мира. Из всех правителей Франции Трошю – единственный желающий продолжать борьбу, другие же обязались перед ним, когда он принимал на себя защиту Парижа, действовать по соглашению с ним.
Шеф заметил при этом: «Говорят, он снабдил Мон-Валерьян провиантом на два месяца, чтобы отступить туда с регулярными войсками, которые у него останутся, в то время когда город будет сдан, – вероятно, для того, чтобы оказывать давление на заключение мира». «Я думаю вообще, – продолжал он, – что Франция впоследствии распадется на несколько частей; на партии она уже распалась. В различных местностях они держатся различных убеждений: в Бретани они – легитимисты, на юге – красные республиканцы, в других местах – умеренные; армия стоит еще за императора, по крайней мере большинство офицеров. Весьма возможно, что каждая часть будет следовать своим убеждениям: одна будет стоять за республику, другая – за Бурбонов, третья – за Орлеанов, четвертая – за Бонапартов, – нечто вроде патриархов, Иудеи, Галилеи и т. д.».
Наследный принц высказался, что, по слухам, Париж сносится с остальным миром подземными сообщениями. Шеф, находя это возможным, прибавил: «Провианта они этим путем не получают, но известия доходят до них. Я уже думал о том – нельзя ли парижские катакомбы наполнить водой из Сены и затопить низменные части города. Подземелья идут под всей Сеной».
Бухер подтвердил справедливость этого: ему случалось бывать в катакомбах, и там в различных местах он видел боковые ходы, куда, однако, никого не пускали. Далее кто-то высказал, что скорое взятие Парижа повлияет на настроение Баварии, откуда опять пришли неблагоприятные известия.
«В высших слоях более всех немец все-таки король», – заметил шеф.
Разговор обратился затем к одной царствующей особе, весьма враждебной Пруссии, но неопасной вследствие своей старости и дряхлости. «У него уже осталось мало натурального», – пояснил кто-то.
«Это напоминает мне Гр., – сказал министр, – у которого все было фальшивое: волосы, зубы, икры, даже глаз. Если он хотел пораньше одеться, он раскладывал большую и лучшую половину свою на стульях и столах около кровати. Это было вроде карикатуры из «Fliegende Blätter» о новобрачных, где невеста раздевается и кладет волосы в одну сторону, зубы в другую, другие подобные части в третью; жених наконец спрашивает: «Что же мне-то останется?»
Шеф рассказал потом, что часовой у его дверей, поляк, накануне вечером не хотел впустить его в дом; только когда он заговорил с ним по-польски, тот переменил свое намерение.
– И в лазарете тоже, – прибавил он, – я пробовал несколько дней назад говорить с польскими солдатами, и видно было, как им приятно, что генерал говорит с ними на их родном языке. К сожалению, много-то сказать я не мог и скоро должен был отказаться от этого. Пожалуй, было бы полезно, если бы военачальник мог обращаться к ним на их языке.
– Бисмарк, вы опять возвращаетесь к тому, что уже мне несколько раз говорили, – перебил его наследный принц, смеясь. – Нет, я не могу и не хочу больше учиться.
– Но ведь они – хорошие солдаты и честные люди, ваше высочество, – возразил канцлер. – Враждебно настроена против нас только большая часть духовенства и дворянства с их приближенными. Там дворянин, у которого ничего нет, прокармливает множество разной челяди, составляющей его дружину и в то же время исправляющей должность слуг, старост, писцов и т. п. Когда он взбунтуется, они становятся на его сторону, в том числе и его поденщики (коморники). Свободные крестьяне не присоединяются к ним, даже если их подстрекают к тому ксендзы.
– Мы видали пример того в Познани, откуда пришлось вывести польские полки за слишком жестокое обращение с сельским населением. Я помню один базарный день недалеко от наших мест в Померании, куда съехалось много кашубов. За какой-то продажей произошел спор из-за того, что немец назвал кашуба поляком и потому не хотел продать ему коровы. Последний этим очень обиделся. «Ты говоришь – я поляк; нет, я такой же пруссак, как и ты», – ответил он, и из этого вышла порядочная драка, потому что в дело вмешались другие немцы и поляки».
В связи с этим канцлер прибавил, что «великий курфюрст [21] говорил по-польски так же хорошо, как и по-немецки; следовавшие за ними короли тоже понимали польский язык. «Только Фридрих Великий отстал от этого; впрочем, он и по-немецки говорил хуже, чем по-французски».
– Все это очень возможно, но я по-польски учиться не буду; пусть они уже учатся по-немецки, – закончил наследный принц рассуждение об этом предмете.
Когда были поданы тонкие блюда, наследный принц заметил:
«Однако здесь у вас все очень роскошно. Все служащие в вашей канцелярии смотрятся очень сытыми, кроме Бухера, который еще недавно у вас.
– Да, – ответил канцлер, – и это все подарки; это уже удел иностранного министерства получать приношения рейнвейнами, паштетами, шпигованными гусями и страсбургскими пирогами. Эти добрые люди непременно хотят, чтобы у них был жирный канцлер.
Наследный принц заговорил потом о шифрировании и дешифрировании и спросил – трудно ли это. Министр объяснил ему секрет этого искусства и прибавил: «Если вы хотите, например, шифрировать слово «aber», вы пишете цифрами «Abeken» и потом ставите знак «зачеркнуть два последние слога»; затем пишете шифр «Berlin» и заставляете зачеркнуть последний слог. Тогда у вас является слово «aber».
Под конец, за десертом, наследный принц вынул из кармана коротенькую фарфоровую трубку с орлом и закурил ее, а все остальные закурили сигары.
После обеда наследный принц и министр с советниками отправились в гостиную пить кофе. Через несколько времени меня и секретарей Абекен вызвал из канцелярии: шеф хотел формально представить нас будущему императору. Нам пришлось подождать около четверти часа, потому что канцлер был занят серьезным разговором с наследным принцем. Высокий гость стоял в эту минуту между пианино m-me Жессе и окном; шеф что-то тихо говорил ему с опущенными глазами; а принц слушал с серьезным, почти мрачным выражением лица. Представление прежде всего началось с Вольманна, которому наследный принц сказал, между прочим, что он знаком с его почерком. Потом был вызван я. Шеф назвал меня «доктор Буш, по делам прессы».
Наследный принц спросил: «Давно ли вы состоите на службе?»
«С февраля, ваше королевское высочество».
Шеф прибавил, что я саксонец, уроженец Дрездена.
Кронпринц сказал, что Дрезден – красивый город, и он всегда охотно бывал там; затем спросил у меня еще, чем я занимался прежде?
– Я редактировал «Grenzboten», – ответил я.
– Я часто читал эту газету; значит, я вас знаю, – заметил он.
– Кроме того, я много путешествовал, – прибавил я.
– Куда же? – спросил он.
– Я был в Америке и три раза на Востоке, – объяснил я.
– Вам там понравилось? Хотели ли вы опять в эти места?
– Да, ваше высочество, особенно в Египет.
– Это правда, но меня оттуда тянуло назад. Там красивые пейзажи, но немецкие луга и леса для меня приятнее.
Потом он говорил с Бланкартом, затем с Виллишем, и наконец, с Виром, который сообщил ему, между прочим, что он несколько лет занимался музыкой под руководством Маркса. По словам Вольманна, он был сперва учителем музыки, потом полицейским, в качестве которого выдвинулся при неудавшемся покушении Зефелоге на жизнь покойного короля, затем был телеграфистом в министерстве иностранных дел, и, наконец, когда телеграф там закрылся, сделался копиистом и шифрером.
После нашего представления я читал в канцелярии дипломатические новости и проекты занятий прошедшего дня, между прочим, проект речи короля депутации рейхстага, набросанный Абекеном и значительно переделанный шефом.
За чаем Гацфельд сказал мне, что он пробовал разбирать известие о парижских делах, полученное вместе с донесениями Вашбурна, но не совсем понял только некоторые выражения. Он мне их показал, и нам удалось viribus unitis разобрать смысл еще нескольких фраз. Это сообщение исходило, по-видимому, из достоверного источника и казалось вполне справедливым. Из него можно было заключить, что мелкие буржуа переносили много страданий, простой же народ – гораздо менее, потому что о нем заботится правительство. У них большой недостаток в топливе, в особенности в угле. Газ уже там не горит больше. При последних вылазках французы понесли большие потери, но это не сломило их мужества. Наша победа при Орлеане не произвела большого впечатления на парижан.
В половине одиннадцатого я был потребован к шефу, который желал, чтобы сведения о степени расположения Гамбетты к прекращению войны и план Трошю относительно Мон-Валерьяна были помещены в «Монитер».
Среда, 21-го декабря . Рано утром опять отыскивал фиалки и нашел их несколько. Потом занимался полученными новостями. Далее сделал извлечение для печати из находившейся между ними статьи о договоре между Карлом Лысым и Людвигом Германским, установившим в 870 г. – ровно тысяча лет назад при разделе Лотарингии – первую французско-германскую границу. После обеда, по отъезду шефа, предпринял прогулку с Вольманном. Был резкий холодный ветер; термометр был, вероятно, на точке замерзания. Мы хотели было пройти в дворцовый парк, но решетка перед бассейном Нептуна была заперта, а через проход у часовни нас не пустила стража.
Мы узнали, что в городе происходит обыск. Слышно, что отыскивают спрятанное оружие, а по другим слухам, и некоторых личностей, которые с какой-то тайной целью пробрались в город, что, впрочем, невероятно. Мы пространствовали весь город. На avenue de Saint-Cloud поставлены матросы. Мы видели, как с их начальником разговаривал наш шеф. На rue de la Pompe, на правой стороне, перед каждым домом стоят плотные посты, а на площади Hoche находится команда драгун. Все выходы из города заперты, и мы видим, как арестуют блузников и, между прочим, на avenue de Paris одного оружейника, сзади которого солдат несет несколько охотничьих ружей. Вскоре привели и какое-то духовное лицо. Под конец оказалось около дюжины виновных или подозрительных лиц. Их препровождают в тюрьму на rue St. Pierre, где они будут выстроены на дворе. Между ними виднелись некоторые весьма дерзкие лица. Рассказывают, что у оружейника нашли сорок три ружья и ствол, за что ему, конечно, не поздоровится [22] .
За столом в гостях у шефа был Лауер. Говорили о том, что в Париже уже съедены все годные в пищу животные из Jardin des plantes, и Гацфельд рассказывал, что верблюдов продавали по четыре тысячи франков, а хобот слона был съеден целым обществом гастрономов. Вероятно, это было превосходное блюдо.
– Это весьма возможно, – подтвердил Лауер. – В нем множество сложных мускулов, откуда исходят та ловкость и сила, с которыми он им владеет. Это то же, что язык: хобот должен быть похож по вкусу на язык.
Кто-то заметил, что и верблюды, вероятно, недурны, и именно предполагалось, что горбы верблюдов составляют очень тонкое кушанье. Шеф несколько времени вслушивался в разговор, смотрел задумчиво, наклоня голову и по временам вздыхая, потом вдруг выпрямился, как он всегда делает, когда шутит, и сказал: «Ну а горбатые люди… те, что называются горбуны», чем вызвал общую веселость.
Лауер заметил сухо и серьезным тоном, что горб у человека есть лишь неправильное образование или ребер, или костей, или же искривление позвоночного столба. Поэтому он не пригоден для еды, тогда как горбы верблюда составляют собою подвижные хрящевые придатки, которые, вероятно, очень недурны на вкус. Нить этого разговора тянулась, и дальше шла речь о медвежьем мясе, потом о медвежьих лапах и, наконец, о гастрономах из людоедов, причем министр рассказал весьма забавную историю. Он начал так:
– Ребенок, молоденькая девочка – пожалуй, но какой-нибудь старый, вышедший из лет, жесткий человек, вероятно, невкусен.
Потом он продолжал:
– Я припоминаю, что однажды какую-то старуху из кафров или готтентотов, давно уже принявшую христианство, миссионер приготовлял к смерти и нашел ее вполне доступной для небесного блаженства, как вдруг он спросил ее: нет ли у нее еще каких-нибудь желаний?
– Нет, – сказала она, – все очень хорошо; а вот если бы я могла съесть парочку рук маленького ребенка, это было бы очень приятно.
Затем шел разговор о сне, о сегодняшнем обыске и о встреченных вчера матросах. О них шеф заметил, что если они сумеют привести в Сену завоеванные канонерки, то этим окажут большую услугу. Потом он возвратился опять к юношеским воспоминаниям, причем вновь вспомнил о пастухе Брандте и рассказал о своем прадеде, который, если я не ослышался, убит при Чеслау. «При нас старики, – рассказывал он, – часто говорили о нем с моим отцом. Это был замечательный охотник и сильный кутила. Однажды он в течение одного года застрелил сто пятьдесят четыре оленя, чего не сделает и принц Фридрих Карл, разве только герцог Дессауский. Я помню, что мне рассказывали, как он стоял в Гольнове, когда офицеры обедали вместе и кухня находилась под управлением полковника. Тогда было в моде, чтобы во время обеда пять или шесть драгун выступали из музыкального хора и сопровождали тосты выстрелами из карабинов. Тогда вообще были странные нравы. Так, например, у них была деревянная кобыла с острыми краями, на которой драгун, провинившийся в чем-нибудь, должен был сидеть иногда в течение двух часов, что было весьма мучительным наказанием. И всякий раз в день рождения полковника и других они тащили эту машину на мост и бросали ее в воду, но вместо нее всегда являлись новые. «У них и сто раз будет новая», – говорила жена бургомистра моему отцу. (Имени ее я не расслышал, кажется Дальмер.) На этого прадеда – у меня есть его портрет в Берлине – я похож как две капли воды, то есть когда я был молод; глядя на его портрет, я точно смотрелся в зеркало».
Таким образом продолжалась беседа о событиях и личностях прежних лет и закончилась суждением, что многое из прежнего времени сохраняется и в настоящем, в особенности у сельского населения. При этом вспомнили о детской песенке «Лети, майский жучок, лети!», которая вместе с выжженной Померанией напоминала Тридцатилетнюю войну.
– Да, – говорил шеф, – я знаю, прежде у нас встречались поговорки, которые, видимо, принадлежат началу прошлого столетия. Так, мой отец говорил мне, когда я удачно ездил: «Он ездит как (имя слышно неясно, кажется, Плювенель)». При этом он всегда называл меня в третьем лице. Плювенель был шталмейстер Людовика XIV и знаменитый наездник. Когда же мне случалось что-нибудь красиво написать, он говорил: «Он пишет, точно учился у Гильмара-Кураса – это был учитель чистописания Фридриха Великого».
Затем он рассказал, что один родственник, имевший большое значение у его родителя, финансовый советник Керль, был причиной того, что его поместили в геттингенский университет. «Тогда указывали на профессора Гаусмана и требовалось изучение минералогии. Шла речь также и о Леопольде фон Бухе, и жизнь уже представлялась мне в виде хождения с молотком и выколачивания кусков камня из скал. Вышло, однако, иначе. Было бы лучше, если бы меня отправили в Бонн; там по крайней мере я встретил бы земляков. В Гёттингене же у меня не было ни одного земляка; с моими университетскими товарищами я встретился уже потом в рейхстаге».
Ему напомнили об одном из его товарищей, Мирсе из Гамбурга, и министр заметил:
– Да, я помню, он присоединился к левой, но многого из него не вышло.
Абекен сообщил, что после сильного огня с форта, происходившего сегодня утром, последовала вылазка гарнизона из Парижа, которая была преимущественно направлена на линии, занимаемые гвардией. Однако дело ограничилось лишь артиллерийским огнем. Мы знали о нападении заранее и приготовились к нему. Гацфельд высказал, что ему весьма бы хотелось знать: каким образом можно заметить предстоящую вылазку. Ему возразили, что, если действие происходит в открытой местности, тогда можно видеть повозки и орудия, которые непременно должны быть выдвинуты вперед, потому что при движении больших отрядов войск нельзя всем выступить в одну ночь.
– Это правда, – заметил шеф, улыбаясь; но и сотни луидоров часто составляют существенную часть признака такого военного предвидения.
После обеда читал проекты и депеши. Вечером потребовал от Л., чтобы статью «Гамбетта и Трошю» поместить в «Independance Belge» и сообщил ему также, что Дельбрюк возвратится сюда двадцать восьмого числа.
Четверг, 22-го декабря . Очень холодно. Доходит до шести и до восьми градусов. Мороз разрисовал узорами мои окна, несмотря на ярко пылающий камин. Рано утром занимался в бюро чтением входящих бумаг и проектов; потом просматривал газеты. Из этих последних были особенно интересны те, которые касались вопроса о Черном море и защиты жителей Люксембурга от упреков, поднятых против них шефом, вследствие помощи, оказываемой ими французам. О солнечном затмении, которое ожидалось в половине второго, было сказано весьма мало. Абекен отзывался дурно о фотографических карточках членов совета и секретарей, которые вышли не совсем удачно, вследствие чего эти господа намерены сняться еще раз и я присоединюсь к ним.
За столом в этот день не было никого из посторонних. Шеф был весел, но разговор не имел особенного значения. Впрочем, мы попробуем восстановить то, что слышали от него. Как знать, может быть, это кому-нибудь и доставит удовольствие.
Вначале министр говорил, улыбаясь, взглянув на лежавшее перед ним меню:
– У нас всегда бывает лишнее блюдо. Я уже решился испортить себе желудок утками с оливками, а здесь еще оказывается рейнфельдская ветчина, которую я уже должен есть с досады, чтобы не потерять свою часть (потому что он не завтракает с нами), и, кроме того, еще кабан из Варцина.
Вспомнили о вчерашней вылазке, и шеф заметил: «Французы вышли вчера с тремя дивизиями, а у нас было только пятнадцать взводов, даже неполных четыре батальона, и все-таки мы взяли тысячу пленных. Парижане со своими вылазками появляются то здесь, то там, как французский танцмейстер, дирижирующий кадрилью и заставляющий бросаться то вправо, то влево.
Ma commére, quand je danse
Mon cotillon, va t-il bien?
Jl va de ci, il va de lá,
Comme la queue de notre chat».
За ветчиной он высказал: «Померания – страна товаров, обрабатываемых дымом: копченых гусей, копченых угрей, ветчины. Там только и недостает копченой говядины, которую в Вестфалии называют Nagelholt. Это слово для меня не совсем понятно. Nagel (гвоздь) – пожалуй, потому что мясо висит в дыму на гвозде, но что такое holt – не знаю; разве его следует писать с буквой d [23] ?»
Потом происходил разговор о стоявшем тогда холоде, а за блюдом из кабана говорили об охоте, которая происходила в Варцине во время болезни графа Герберта Бисмарка в Бонне. Далее шеф заметил, что Антонелли наконец готов пуститься в дорогу и приехать сюда, но это, впрочем, дела не выяснит.
Абекен сказал: «Об Антонелли в газетах мы находим самые различные суждения: то о нем говорят как о возвышенном и утонченном уме, то как о хитром интригане, то, наконец, как о человеке совершенно глупом».
– Да, – возразил канцлер, – это исходит не от одной прессы; часто так судят и дипломаты. Хотя бы взять Гольца и нашего Гарри. О Гольце я уже говорить не буду – это дело иное. Но Гарри говорит всегда сегодня одно, а завтра другое. Когда я находился в Варцине и прочитывал по порядку известия из Рима, то он свои мнения о людях менял по два раза в неделю, смотря по тому, как они относились к нему – дружески или нет. С каждой последующей почтой, а иногда и с одной и той же у него являлись разные воззрения.
Вечером читал депеши из Рима, Лондона и Константинополя и ответы на них.
Пятница, 23-го декабря. Опять очень холодный день. Говорят, мороз доходит до двенадцати градусов. Выяснение настоящего положения, заключающегося в том, что императрица Евгения нашла почву, на которой может вступить с нами в переговоры о мире, отправил в редакцию «Монитера»; статью из «Times» по поводу Люксембурга, оправдывающую нас, отправил в Германию; начало работы Трейчке в «Preussiche Jahrbücher» подготовил для чтения короля. Статья о настоящем положении дел помечена 17-м декабря, и в ней между прочим говорится:
«Да, мы требуем от царствующей императрицы, чтобы она вступила в переговоры с Пруссией, а от Пруссии, чтобы она вела переговоры с царствующей императрицей, так как с той минуты, как эта высочайшая особа выразит свою волю положить конец кровопролитию, король Вильгельм будет вынужден собственным достоинством принять по отношению к ней такой образ действий, который бы не был по сердцу ни виновникам ведения войны до последней крайности, ни различным претендентам, пользующимся несчастьями своего отечества, чтобы украсить свое чело короной. Императрице нет надобности спрашивать себя, достаточно ли понята Францией та идея, которой она уступила 4-го сентября. Пусть заговорит она, и она увидит, что Франция всегда умеет понимать героические решения. Что касается прусского правительства, то для нас нет надобности, чтобы оно пожелало возвращения наполеоновской династии. Нам нужно только, чтобы оно осознало, что величайшая ошибка, какую оно может сделать, будет состоять в том, если оно откажется вступить в союз с этой династией, о разрыве с которой ему нечего и думать, если оно заботится о своих настоящих интересах. Наше бессилие было бы для него гибельно. Оно не может рассчитывать, что нас не сделают бессильными, если не оставить после себя власти достаточно сильной, могущей противостоять давлению относительно нарушения данных обязательств. Только империя может разрешить Пруссии ее завоевание и заставить ее умерить свои притязания на исправление границ, так как только империя может вместе с Пруссией произвести наибольшие изменения в карте Европы без вмешательства нейтральных держав, что одинаково важно как для спокойствия Германии, так и для возрождения Франции».
Во время завтрака явилась француженка с просьбою представить ее шефу. Ее муж замешан в банде вольных стрелков в Арденнах и изменнических действиях и был приговорен к смерти. Она хочет просить о его помиловании и обращается к ходатайству шефа. Но шеф не принял ее, ответив ей, что это дело его не касается, что ей следует обратиться к военному министру. Она отправилась к последнему, но, как полагает Вольманн, слишком поздно, потому что еще четырнадцатого числа было предписано полковнику Крону, чтобы правосудие было исполнено [24] .
Вольманн и я поехали после обеда, при резком холоде и во время сильной пальбы на северной стороне, в маленькой коляске Ротшильда на виллу Кубле, лежащую на дороге сюда из Феррьера, и где приготовлен осадный парк, предназначенный против южной стороны Парижа. Здесь находится около восьмидесяти пушек и с дюжину мортир, расставленных четырьмя длинными рядами. Я представлял себе вид этих разрушительных орудий гораздо страшнее. Мы заметили, что над лесом, с северной стороны, поднимались облака. Быть может, это был дым огнестрельных орудий, а пожалуй, и дым фабричных труб.
Возвратившись домой, я нашел при чтении газет, что один из английских репортеров сообщил в своей газете совершенно точные сведения об этом осадном парке, и отметил эту статью для шефа, которую ему передал Гацфельд, вероятно, для препровождения в главный штаб.
За столом в числе гостей были барон Шварцкоппен, депутат рейхстага, и мой старый ганноверский знакомый фон Пфуэль, который был сделан окружным начальником в Целле. Оба должны были занять места префектов или что-то подобное. Далее был здесь граф Лендорф и гусарский поручик фон Дёнгоф, замечательно красивый собою, если я не ошибаюсь, адъютант принца Альбрехта. Сегодняшнее меню может также послужить примером, каким прекрасным столом мы пользовались в Версале. В нем стояли: луковый суп, к нему портвейн; кабаньи котлеты, к ним пиво акционерной компании Тиволи; ирландский штуфат; жареная индейка; каштаны, за которыми следовало шампанское и красное вино на выбор, затем десерт, состоявший из прекрасных яблок и груш. Припоминали, что генерал Фойгтс-Ретц стоит с девятнадцатой дивизией под Туром, население которого оказало сопротивление, так что город пришлось обстреливать гранатами. Шеф заметил на это:
– Это не в порядке вещей – прекращать стрельбу тотчас же, как скоро будет выкинут белый флаг. Я продолжал бы пускать в них гранаты до тех пор, пока они не выслали бы мне четырехсот заложников.
Затем он отозвался опять неблагоприятно о слишком мягком образе действий офицеров против гражданских лиц, оказывающих сопротивление. Даже открытая измена наказывается весьма слабо, и поэтому французы взяли себе в голову, что они могут позволять себе все против нас. «То же самое и Крон, – продолжал он. – Он сперва обвиняет какого-то адвоката в заговоре с вольными стрелками, а когда его приговорили к смертной казни, вместо того чтобы его расстрелять, он подает одну за другой две просьбы о помиловании, и в довершение всего присылает ко мне его жену, которой сам же выдает пропуск, – и это делает человек, считающийся энергичным и исполнительным».
От этого неблагоразумного снисхождения разговор перешел на начальника главного штаба Унгера, которого отправили домой, потому что голова его не совсем в порядке. По большей части он что-то тихо бормочет и иногда разражается горькими слезами.
– Да, – сказал шеф со вздохом, – начальник главного штаба много терпит. Он должен работать без устали, всегда нести ответственность, вносить очень мало своего и служить всегда предметом сплетен. Все это так же трудно, как быть министром. Я знаю сам, что такое эти слезы: это нервное возбуждение, это судорожный плач. У меня у самого это было в Никольсбурге, и в очень сильной степени. И с начальниками главного штаба, и с министрами вообще очень дурно обходятся. Их всеми способами раздражают и колют булавками. Может быть, некоторым это и нравится, но более почтительное обращение было бы более желательно».
Когда блюдо из варцинского кабана было подано на стол, министр заговорил с Лендорфом и Пфуэлем об охоте на этих обитателей лесов и болот и о своих подвигах на такой охоте. Затем говорили о здешнем «Монитере», причем шеф заметил:
– Они перевели в последнюю неделю роман Гейзе из Мерана. Такая сентиментальность не совсем подходит к газете, издающейся на королевские деньги. Однако это сделано. И версальцам это также не нравится; они требуют политических известий и военных сообщений из Франции, из Англии, пожалуй, из Италии, но совсем не таких сладостей. Я сам не лишен наклонности к поэзии, но помню, что не смотрел в этот фельетон, прочитав несколько фраз вначале.
Абекен, который был причиною помещения романа, защищал редакцию и говорил, что она заимствовала его из «Revue des deux mondes», который считает весьма почтенным французским журналом; но шеф остался при своем мнении. Кто-то заметил, что «Монитер» стал выражаться лучше по-французски.
– Это возможно, – возразил министр, – но для меня это не имеет значения. Но мы, немцы, уже таковы. Мы всегда спрашиваем, даже и в высших кругах, нравимся ли мы другим и не стесняем ли кого-нибудь. Если они нас не понимают – пускай учатся по-немецки. Для нас все равно, написана ли какая-нибудь прокламация хорошим французским слогом или нет; она должна только соответствовать своему назначению и выражаться толково. Мы никогда не можем знать в совершенстве чужой язык. Невозможно, чтобы кто-нибудь, употребляющий его только около двух с половиною лет и то иногда, мог выражаться на нем так же хорошо, как тот, кто употребляет этот язык пятьдесят четыре года.
Были высказаны иронические похвалы штейнмецской прокламации и цитированы некоторые места из нее, причем Лендорф сказал:
– Это нельзя назвать утонченным французским языком, но все это вполне понятно.
– Тут все дело в том, – сказал шеф, – чтобы им было понятно; а если они не понимают, пусть найдут кого-нибудь, кто мог это объяснить. Люди, особенно выставляющие свое искусство во владении французским языком, нам не пригодны. Наше несчастье состоит в том, что каждый, не умеющий порядочно выражаться по-немецки, этим самым уже приобретает уважение, в особенности если он умеет несколько коверкать английский язык. Старик (мне послышалось Мейендорф) говорил мне однажды, что не следует доверяться ни одному англичанину, который говорит по-французски с правильным акцентом, и я несколько раз в этом убеждался. Исключение я могу сделать только для Одо Росселя.
Он рассказал затем, как старый Кнезебек однажды, к общему удивлению, встал в государственном совете и попросил слова. Прошло несколько времени, и он все еще ничего не сказал; в эту минуту кто-то кашлянул. Тогда он проговорил: «Прошу не прерывать меня». Затем он постоял еще в течение нескольких минут и, заметив с досадой: «Ну вот я и позабыл, что хотел сказать», уселся на свое место.
Речь коснулась Наполеона III, и шеф высказал мнение, что это ограниченный человек.
– Наполеон, – продолжал он, – гораздо добродушнее, нежели вы думаете, и совсем не так умен, как это все привыкли думать.
– То есть, – вставил Лендорф, – это то же, что говорили о первом Наполеоне, – добрый малый, но болван.
– Нет, – возразил шеф, – говоря серьезно, он, несмотря на все, что можно думать о государственном перевороте, действительно добродушен, чувствителен, даже сантиментален, и ум его вовсе не далек, так же как и его образование. Особенно плохо знаком он с географией, хотя и воспитывался в Германии и посещал школу. Вообще он живет среди самых фантастических представлений. В июле он мучился три дня, пока принял какое-нибудь решение, и в настоящее время он также не знает, чего ему нужно. Познания его так велики, что с ними у нас он не выдержал бы экзамена даже на референдария. Мне не хотели верить, но я уже давно об этом заявлял. Я говорил королю в таком смысле уже в 1854 и в 1855 годах. Он не имеет никакого понятия о том, что происходит у нас. Когда я сделался министром, я имел случай беседовать с ним в Париже. Он высказывал мнение, что в скором времени произойдут восстание в Берлине и революция во всей нашей стране и при плебисците все выскажутся против короля. На это я заметил ему, что народ не строит у нас баррикад и революции в Пруссии делают только короли. Если король выдержит напряженное положение дел, действительно существовавшее в течение трех или четырех лет, несмотря на то что публика отворачивается от него, что во всяком случае весьма неприятно и неудобно, – он все-таки одержит верх. Если бы король не был утомлен и меня не оставили на произвол судьбы, я мог бы удержаться; а если обратиться к народу и потребовать голосования, то за него было бы уже теперь девять десятых голосов. Император выразился тогда обо мне: «Се n’est pas un homme sérieux», о чем я, конечно, не напоминал ему на ткацкой фабрике при Доншери.
Граф Лендорф спросил:
– Следует ли бояться по поводу арестов Бебеля и Либкнехта бульшего возбуждения?
– Нет, – возразил шеф, – этого бояться не следует.
– Однако арест Якоби, – продолжал Лендорф, – вызвал много шуму и крику.
– Заметьте, он еврей и кенигсбержец, – пояснил шеф. – Захватите-ка вы жида – посмотрите, какой крик поднимется во всех углах и закоулках, все равно если бы вы взяли масона. И к тому же они шли против всего народного собрания, что ни в каком случае не может быть оправдано.
Он отозвался далее о кенигсбержцах как о людях упрямых и оппозиционных.
– Да, кенигсбержцев, – закончил Лендорф, – хорошо понял Мантейфель, когда сказал: Кенигсберг останется Кенигсбергом.
Кто-то припомнил, что письма к Фавру начинаются словами: «Monsieur le ministre», на что шеф заметил: «На будущее время я буду ему писать: Его Высокоблагородию». Из этого возник целый византийский диспут о титулах и обращениях: превосходительство, высокоблагородие и благородие. Канцлер высказал решительно антивизантийские воззрения и намерения. «Все это следовало бы уничтожить, – сказал он. – В частных письмах я также уже этого не употребляю, а по служебным делам «высокоблагородием» я называю советников только до третьего класса».
Пфуэль заметил, что и в судебном слоге уже оставляются эти многословные обращения. Теперь уже пишется просто и без титула: «Вы должны быть в такое-то время там-то и там-то».
– Да, – возразил шеф, – но и ваши юридические обращения не составляют еще моего идеала. У вас недостает только таких выражений: «Вы, мошенник такой-то и т. д.».
Абекен в качестве византийца чистейшей воды думал, что дипломаты дурно бы сделали, если бы отказались от титулов, и что титул «высокоблагородие» принадлежит только советникам 2-го класса.
– И поручикам! – воскликнул граф Бисмарк-Болен.
– Я совершенно отменю это в нашем ведомстве, – возразил министр. – В течение года на это исписывается целое море чернил, на что платящие подати могут справедливо жаловаться как на излишний расход. Мне решительно все равно, если мне напишут просто: президенту совета министров, графу фон Бисмарку. Прошу вас, – сказал он, обращаясь к Абекену, – изготовить мне доклады в этом смысле. Все это бесполезные хвосты, и я желаю, чтобы они отпали.
Абекен – отрезыватель этих хвостов! Какая игра судьбы!
Вечером написал еще статью об искажении слов, с которыми король в начале войны обратился к французскому гражданскому населению. Даже военный приказ из Гомбурга выставляется как доказательство, что он не сдержал данного им тогда слова, и не только французы, но и их друзья, немецкие социал-демократы, позволяют себе в этом случае самую бессовестную клевету. Так, на первой неделе этого месяца в Вене происходило собрание рабочего союза, которое приняло решение указать королю на нарушение им слова. Но ни военный приказ из Гомбурга от 8-го июля, ни манифест от 11-го того же месяца не содержат в себе обещания, которое говорило бы, что война будет вестись только против французских солдат. В первом из названных актов говорится:
«Мы ведем войну не с мирными обывателями страны» (ударение падает здесь на слово «мирный»). Что касается до вольных стрелков и до всех тех, которые их поддерживают и, так или иначе, оказывают сопротивление нашим действиям, их едва ли можно назвать «мирными обывателями». В манифесте ясно выражено, что генералы, командующие отдельными корпусами, посредством особых постановлений, которые делаются известными публике, могут принимать меры, направленные против целых общин или отдельных лиц, действующих противно военным обычаям. Они подобным же образом «должны озаботиться относительно мер, относящихся ко всему, что касается реквизиций, которые будут сочтены необходимыми ввиду потребностей войск». Так и поступлено до сих пор. Вообще французы не имеют никакого права жаловаться на жестокость со стороны немцев. Мы не поступали подобно им, выгонявшим мирных людей, поселившихся среди них немцев, из одного дома в другой и тем разорившим их. Мы не включали в число военнопленных матросов с торговых судов, не разрушали безвредное частное имущество, как они, когда они жгли немецкие торговые суда; никогда мы, подобно им, не нарушали Женевской конвенции. Если же мы употребляли принудительные меры против упорно сопротивлявшихся местечек и обращались к праву возмездия с целью охранения от дальнейших нарушений международного права и человечности – все это было вполне в порядке вещей и не противоречило словам короля. Сюда относится и то обстоятельство, что мы еще на этих днях бросали гранаты в Тур, жители которого встретили наши войска весьма враждебно, и что железнодорожный мост уничтожен нами у этого города, о чем шеф велел мне телеграфировать незадолго до полуночи. Ведь это война, и французы все еще как бы не могут этого понять, даже когда дело касается их шкуры. В других местах, в Алжире, в Папской области, в Китае и в Мексике, они это легче понимали.
Суббота, 24-го декабря. Канун Рождества на чужбине! Так же холодно, как и вчера, и третьего дня. Я телеграфировал, что Мантейфель вчера имел дело с двумя дивизиями Федэрба, генерала французской Северной армии, уменьшившейся до шестнадцати тысяч человек, разбил его и принудил к отступлению.
За обедом находился в качестве гостя шефа подполковник Бекедорф, его старинный приятель, с которым он на «ты». На столе стоит миниатюрная рождественская елка и рядом с нею футляр с двумя кубками, один в стиле «Возрождения» и другой работы Тулаэра вместимостью не более двух больших глотков – подарки графини своему супругу. Этот последний показывает их всем окружающим и замечает при этом:
«Итак, мне приходится возиться с кубками, как дураку, потому что они ни для чего не нужны. Дома, когда меня нет, их могут украсть, а в городе я о них и не вспомню».
Тогда он высказал Бекедорфу, что он на самом деле продвигался по службе медленно, и продолжал:
– Если бы я сделался офицером – мне хотелось бы им быть, – то теперь у меня была бы армия и мы не стояли бы перед Парижем.
По поводу этой темы происходили длиннейшие разговоры о ведении войны, причем шеф высказал:
– Дело не только в предводительстве войсками; не оно начинает и решает битвы, а сами войска. Это то же, что у греков и троян. Несколько человек обменялись обидными выражениями; между ними дело доходит до драки, летят копья, другие бегут к ним, и также бросают копья и дерутся и, наконец, происходит битва. Сперва перестреливаются аванпосты без всякой нужды, потом подвигаются другие, если дело идет хорошо; сперва является группа под командой унтер-офицера, потом идет поручик с большим количеством людей, затем полк и, наконец, генерал со всем, что находится в его распоряжении. Так происходила битва при Гравелоте, которая, собственно, должна была произойти только девятнадцатого числа. При Вионвилле дело было иначе. Мы должны были, как бульдоги, стремительно броситься на французов.
Бекедорф рассказал потом, что он был два раза ранен при Верте: однажды – между затылком и лопаткой, по-видимому, разрывной пулей и в колено. Он упал с лошади и остался лежать на месте. Тогда с значительного расстояния зуав или тюркос, прислонившийся к дереву, выстрелил в него и оцарапал ему голову. Таким же образом другой из этих дикарей во время бегства бросился в ров и, когда наши люди миновали его, приподнялся и выстрелил им в спины. Тогда некоторые из наших принялись его преследовать; один же из них, не могший стрелять, потому что был окружен своими, отнял у него ружье, взял и убил его. «Стрелять для него вовсе не было нужды, потому что ему никто ничего не сделал бы во рву, где он лежал, – говорил рассказчик, – это просто страсть к убийству».
Шеф вспомнил другие варварства французов и просил Бекедорфа описать то, что с ним случилось, и предъявить разрывную пулю врачам для освидетельствования.
Под конец разговор перешел к ландшафтам, и шеф заметил, что он не слишком любит гористые страны, во-первых, вследствие непривычной для жителя долин ограниченности горизонта и потом вследствие необходимости беспрестанно подниматься вверх и спускаться вниз. «Я стою более за равнину, хотя и не за такую именно, какая окружает Берлин. Другое дело – небольшие холмы с красивой лиственной зеленью, быстрые и чистые ручейки, как в Померании и вообще у Балтийского прибрежья», – объяснял он и перешел к купаниям в Балтийском море, из которых одни он находил приятными, а другие – скучными.
После обеда я прошелся несколько раз по аллее, находящейся перед нашей улицей. В это время в нашем доме, в столовой, зажгли елку, и Кейделль раздавал сигары и пряники. Мне эти подарки прислали в мою комнату, потому что я пришел на торжество слишком поздно. Потом я читал, как всегда, все депеши и проекты, полученные в тот день. Позднее меня позвали два раза, один за другим, к шефу и потом еще раз.
Он желает, чтобы в нескольких статьях было указано на жестокий способ ведения войны французами: не только вольными стрелками, но и регулярными войсками, которые почти ежедневно нарушали постановление Женевской конвенции и вообще признавали и пользовались ею лишь тогда, когда им было выгодно. При этом следовало напомнить случаи стрельбы в парламентеров, дурного обращения с врачами и санитарами и ограбления и умерщвления раненых, злоупотребления женевской повязкой вольными стрелками, применение разрывных пуль (в случае Бекедорфа) и противно международному праву обращения с судами и экипажем немецкого торгового флота, которые были уничтожены французскими крейсерами. В заключение должно быть сказано: «Настоящее французское правительство несет на себе большую часть вины. Оно дало ход народной войне, и разнуздавшиеся от этого страсти не может уже сдерживать более, вследствие чего международное право и все военные обычаи остаются без исполнения. На него падает вся ответственность за ту строгость, с которою мы против нашего желания и, как показали войны в Шлезвиге и в Австрии, против нашей природы и привычек должны были пользоваться во Франции правом войны».
Сегодня вечером, в десять часов, шеф получил Железный крест первого класса. Абекен и Кейделль имели удовольствие уже после обеда украсить себя крестом второго класса этого ордена.
Воскресенье, 25-го декабря. Утром было опять очень холодно, но тем не менее Абекен отправился в церковь слушать проповедь. Тейсс говорил, показывая мне его сюртук с крестом: «Сегодня господин тайный советник, конечно, не выйдет из дому в шинели». У нас в канцелярии становится известным, что кардинал Боншоз прибудет сюда из Руана. Он и Персиньи желают созвания прежде всего законодательного корпуса и еще более сената, состоящего из более спокойных и зрелых элементов, чтобы обсудить дело о мире. Далее выясняется, по-видимому, что обстреливание Парижа имело серьезное значение и именно в самые последние дни.
Это видно по крайней мере из только что обнародованного приказа короля, которым генерал-лейтенант фон Камеке, командовавший до тех пор 14-й пехотной дивизией, назначается главным начальником инженерных частей, а генерал-майор принц Гогенлоэ-Ингельсфинген назначен начальником всей осадной артиллерии.
Сегодня за столом не было никого из гостей, и разговор не заключал ничего достойного упоминания. Впрочем, можно отметить следующее. Абекен в объяснении, я уже не знаю какого предмета, вставил замечание, что я веду очень точный дневник. Болен подтвердил это со свойственной ему живостью, говоря:
– Да, он все записывает: в три часа сорок пять минут сказал мне граф или барон то-то и то-то, как будто он все это желает сохранить для будущего.
– Со временем, – прибавил к этому Абекен, – это будет исторический источник. Только бы дожить, чтобы его прочесть.
Я возразил, что действительно это будет историческим источником, даже весьма достоверным, хотя и через тридцать лет. Шеф засмеялся и сказал:
– Да, тогда будут говорить: Conferas Buschii, глава III, страница 20-я.
После обеда читал акты и нашел там мысль о расширении немецких границ на запад, что было представлено королю в Герни четырнадцатого августа. Двадцать первого сентября баденское правительство прислало меморию подобного же содержания.
Понедельник, 26-го декабря. Что я в один из роковых дней 1870 года в частном доме в Версале буду есть настоящий саксонский рождественский пирог, я никогда бы этому не поверил, если бы это мне предсказала целая дюжина пророков. И однако, сегодня утром я имел порядочный кусок такого пирога, полученный мною от доброго Абекена, которому прислали из Германии целый ящик с подобным печеньем.
Независимо от обыкновенных работ сегодня был у нас праздничный вечер. Погода была менее холодна, но так же ясна, как и вчера. Около трех часов огонь с фортов стал сильнее. Они как будто замечают, что мы вскоре будем готовы отвечать им. Уже в предыдущую ночь несколько времени они стреляли с чрезвычайной силой из своих громадных орудий.
За обедом был Вальдерзее. Разговор шел почти исключительно о военных вопросах.
Под конец говорили о способности много пить, и министр высказал при этом: «Прежде питье совсем на меня не действовало. Как подумаешь, что я тогда мог выпить даже крепких вин, в особенности бургонского…» Затем разговор несколько времени вращался о карточной игре, и он заметил, что прежде он сильно подвизался и на этом поприще и мог, например, сыграть двадцать робертов виста один за другим, чту требует по крайней мере семи часов времени. Его интересует большая игра, но это не идет для отца семейства. Поводом к этому разговору послужило то обстоятельство, что шеф назвал кого-то «Riemchenstecher», и когда его спросили, что это значит, он объяснил: «Riemchenstecher – старинная солдатская игра, и этим именем зовут не настоящих мошенников, но хитрых и ловких людей».
Вечером написал еще статью о варварском ведении войны французами и приготовил для чтения королю извлечение из «Staatsbürger-Zeitung», которая советует менее щадить французов.
Глава XVI Первые недели бомбардировки
Двадцать седьмого декабря началось наконец так давно желаемое обстреливание Парижа и именно с восточной стороны. Как мы увидим дальше, мы об этом ничего не знали. Даже позднее, только в некоторые дни огонь производил впечатление большей силы. Очень скоро все привыкли к нему; он не отвлекал даже от наблюдения над самыми мелочными вещами и никогда не прерывал хода занятий или течение мыслей. Нас подготовили к этому французские форты. Поэтому дневник может продолжаться беспрепятственно.
Во вторник, от раннего утра до вечера, шел густой снег при довольно значительном холоде. Утром канцелярский служитель, прислуживающий мне и Абекену, рассказывал мне о последнем, как будто он католик. «Рано утром он читает молитвы; я думаю, что это латинские молитвы. Он их читает громко, так что их можно слышать из прихожей. По-видимому, это обедня». Потом он прибавил, что Абекен думал, будто сильный пушечный гром, который с седьмого часу раздается в отдалении, означает начало бомбардировки.
Писал различные письма со ссылками на статьи. В двенадцать часов по приказанию шефа телеграфировал в Лондон, что обстреливание наружных верков Парижа началось сегодня утром. Наша осадная артиллерия прежде всего обратила внимание на Монт-Аврон, укрепление у Бонди. Кажется, саксонцам выпала честь пустить первые выстрелы. Министр весь день оставался в постели не потому, что он дурно себя чувствовал, но, как он выражается, чтобы равномерно согревать себя. Он не вышел к столу, за которым вместе с нами обедал граф Сольмс. Из разговоров этого обеда можно отметить только, что Абекен указал на номер «Kladderadatsch», содержащий прекрасное стихотворение герцогу Кобургскому, быть может, похвальное слово ему.
Бонапартисты обнаруживают большое движение и носятся с грандиозными планами. Персиньи и Паликао имеют намерение нейтрализовать Орлеан и перенести туда законодательный корпус, который должен решить вопрос: должна ли быть во Франции республика или монархия, и, если вопрос решится в последнем смысле, какая династия должна царствовать. Но следует еще подождать несколько времени, пока продолжительное уныние сделает всех уступчивее. Боншоз, архиепископ руанский, намеревается сделать попытку посредничества о мире между Германией и Францией. В прежнее время он был юристом и уже потом вступил в духовное звание. Он считается человеком решительным, находится в сношениях с иезуитами и по своим воззрениям – легитимист, но пользуется расположением Евгении, которая весьма благочестива. Далее он был ревностным последователем догмата непогрешимости и думает сделаться папой, на что он в действительности имеет некоторые надежды. По некоторым его выражениям можно заключить, что он надеется подвинуть Трошю к сдаче Парижа, если мы не будем настаивать на уступке территории. Вместо этого мы можем, как полагает архиепископ, потребовать возвращения Ниццы и Савойи Виктору-Эммануилу, а этого последнего принудить возвратить папе, великому герцогу Тосканскому и королю Неаполитанскому их владения и, таким образом, приобрести славу охранителей порядка и восстановителей права в Европе. Что за комический план!..
Шеф желает самых энергических мер против Ноке Леруа, где произошло нападение вольных стрелков, поддержанное населением. Он отказал мэру и муниципалитету Шатильона в сложении миллиона франков, наложенных в виде штрафа на это местечко, в котором тоже происходило нечто подобное. В этом случае, как и в других, им руководит мысль, что население страны должно чувствовать тяжести войны для того, чтобы склонить его к миру.
В одиннадцать часов я был призван к шефу, который дал мне различные газетные статьи из Берлина для приобщения к делам (примеры варварского ведения войны французами, которые я начал собирать по его приказанию), а также и две другие статьи, предназначаемые для короля.
Среда, 28-го декабря. Идет снег при умеренном холоде. Шеф не оставляет своей комнаты и сегодня. Он дает мне в мое полное распоряжение французское письмо за подписью: «Une américaine» от 25-го декабря на его имя. В этом письме говорится: «Graf von Bismark! Jouis-sez autant que possible, Herr Graf, du climat frais de Versailles, car, un jour, vous aurez à supporter des chaleurs infernales pour tous les malheurs, que vous avez causés à la France et à l’Allemagne». И это все. Трудно объяснить, какую цель имела писавшая это письмо.
За завтраком опять присутствовал Дельбрюк. Он убежден, что в конце концов и вторая баварская палата также одобрительно отнесется к версальским переговорам, как и северогерманский рейхстаг, решение которого по этому делу в течение нескольких дней беспокоило его.
Согласно французским газетам, почти каждый солдат германской армии неясно понимает обязанности, налагаемые на него восьмой заповедью. Объявление префекта Сены и Уазы указывает на исключения из этого правила, и даже весьма блестящие исключения. В нем говорится: «Публике поставляется в известность, что солдаты германской армии вновь отыскали следующие вещи: 1) В опустелом доме нотариуса Менго, в Тиэ, на углу улицы, идущей к Версалю и потом к Гриньону, – сверток с драгоценными вещами, который ценится в сто тысяч франков. 2) В Шуази-Леруа в оставленном жителями доме на rue de la Raffinerie, № 29, – также пакет с ценными бумагами. 3) По дороге из Палезо в Версаль – кошелек с двадцатью прусскими талерами и различными мелкими немецкими и французскими монетами. 4) В оставленном доме господина Симона в Аблоне – два пакета, содержащих в себе около трех тысяч франков. 5) В саду господина Дюгюи – ящичек с железнодорожными акциями и другими ценными бумагами. 6) В оставленном доме господина Дюфоссе в Шуази-Леруа, rue de Villier, № 12, бумаги ценою в семь тысяч франков. 7) В монастыре в Гэ – одиннадцать тысяч франков в ценных бумагах. 8) В доме, оставленном жителями на берегу Сены, у Сен-Клу, – пакет с ценными бумагами. 9) В оставленном жилище при Брюнуа – маленькие стенные часы (предмет, который мы, по уверению французских журналистов, особенно охотно берем с собою). 10) В саду дома, который вблизи церкви, на углу улицы между Вилльнев-Леруа и кладбищем Орли, – многие ювелирные вещи старинной и новейшей работы. 11) В саду около оранжереи Шато-Руж в Френе – молочник, золотые и серебряные вещи, ценные бумаги на предъявителя и др.».
Четверг, 29-го декабря. Идет снег. Довольно холодно. Министр остается в постели, как и вчера, но работает и, по-видимому, не слишком болен. Он заставляет меня телеграфировать, что первая армия, преследуя Федэрба, дошла до Бапома и что Монт-Аврон вчера уже перестал отвечать на наш огонь (его обстреливают тридцать или сорок орудий). За завтраком говорили о том, что в саксонской артиллерии вчера и третьего дня оказались четверо убитых и девятнадцать раненых.
После обеда переводил для короля депешу Гранвилля к Лофтусу относительно бисмарковского циркуляра по люксембургскому вопросу. Потом изучал акты. В половине октября шефу доставлена записка из Кобурга с предложениями о преобразованиях в Германии. Между этими предложениями находится, между прочим, восстановление императорского титула, и замена союзного совета союзными министерствами, и создание рейхсрата, составленного из представителей правительства и депутатов ландтага. Шеф ответил на это, что некоторые части предложений, изложенных в этом документе, уже давно начали осуществляться. Но он не думает присоединиться к идее союзных министерств и рейхсрата, потому что они могли бы быть вредными ввиду других нововведений. Из Брюсселя сообщается, что бельгийский король весьма расположен к нам, но не имеет возможности бороться с прессой своей страны, враждебной Германии. Великий герцог Гессенский высказался, что Эльзас и Лотарингия должны сделаться прусскими провинциями. Напротив того, Дальвигк, не расположенный к нам, как и всегда, желает, чтобы уступленные Францией провинции были соединены с Баденом, чтобы, таким образом, местности Гейдельберга и Мангейма могли послужить восстановлению связи лежащего на левом берегу Пфальца с Баварией. В Риме папа хочет принять на себя посредничество между нами и Францией.
Вечером я передал Бухеру собранные газетные известия о бесчеловечном и противном международному праву способе ведения войны французами. В десять часов шеф позвал меня к себе и сказал, лежа на софе перед камином и покрытый одеялом:
– Наконец он наш.
– Что, ваше сиятельство?
– Монт-Аврон.
Он показал мне письмо графа Вальдерзее, в котором тот сообщал, что это укрепление сегодня, после обеда, занято войсками двенадцатого армейского корпуса, причем там найдено множество лафетов, ружей и военных снарядов, а также много убитых. Министр прибавил:
– Хорошо, если там нет мины, если бедные саксонцы не взлетят кверху.
Я сообщил известие об этом первом успехе бомбардировки по телеграфу в Лондон, но шифром, потому что главный штаб мог бы быть недоволен этим.
Позднее канцлер опять прислал за мною, чтобы показать мне номер «Kölnische-Zeitung», воспроизводящий нападение венской «Tagesblatt», в котором говорится, что Бисмарк сильно ошибся относительно способности Парижа к сопротивлению и в поспешности, стоившей жизни сотням тысяч (отчего не сказать миллионам?), поставил слишком большие требования относительно мира. На это последовал ответ с нашей стороны, что никто не знает мирных условий союзного канцлера, так как он еще не имел случая официально высказываться о них. Во всяком случае, они вовсе не так тяжелы, как те, которые ставит общественное мнение Германии, требующее почти единодушно всей Лотарингии. Его воззрений на способность сопротивления Парижа также никто знать не может, потому что он еще ни разу не был в таком положении, чтобы официально высказать их.
Так же, как и днем, шло оживленное обстреливание из крупных орудий. То же продолжалось и ночью до двенадцати часов.
Пятница, 30-го декабря. Суровый холод последних дней все еще продолжается. Шеф, остерегаясь заболеть, остается в своей комнате, большею частью в постели. Рано утром по его приказанию телеграфировал о подробностях взятия Аврона, потом о позорном вознаграждении, которым пленные французские офицеры сманивались к побегу и нарушению своего слова, с официального согласия турской делегации. Далее я написал об этом предмете статью для немецкой печати и для здешнего «Монитера» следующего содержания:
«Уже неоднократно мы имели случай указывать на глубокое развращение, которое обнаруживается в представлениях о сущности военной чести со стороны некоторых государственных людей и офицеров Франции. Сообщение из надежного источника дает нам доказательство того, что мы не знали еще до сих пор, насколько глубоко и обширно распространено это зло. Перед нами находится официальное распоряжение французского военного министерства, и именно 5-го бюро, 6-го отделения, с надписью: «Solde et revues». Оно помечено «Тур, 13-го ноября» и подписано подполковником Альфредом Жеральдом, а также полковником Тиссие, начальником главного штаба 17-го корпуса, и удостоверяет, ссылаясь на предыдущее распоряжение от 10-го ноября, что все без исключения французские офицеры, которые находятся в плену у немцев, в том случае если они сумеют ускользнуть оттуда, получают денежную награду. Мы говорим, «все офицеры без исключения», т. е. и те, которые дали честное слово не делать попыток к побегу. Премия, назначенная за такой бесчестный поступок, равняется 750 франкам. Такая мера не требует комментариев. Она, вероятно, вызовет негодование во всей Франции. Честь, драгоценнейшее достояние каждого немецкого офицера, – долг и справедливость заставляют нас прибавить, и каждого французского офицера прежнего времени, – людьми, которых 4-е сентября поставило у кормила правления, считается предметом купли и продажи и даже за дешевую цену. Таким путем офицеры французской армии придут к убеждению, что во главе Франции стоит не правительство, а торговый дом, который ее эксплуатирует для своих целей, торговый дом со свободными понятиями о справедливости и приличии, подписывающийся Гамбетта и К°. «Кто покупает богов? Кто продает свое честное слово?»
Потом отправил еще небольшую статейку, в которой опровергается неверность, часто встречающаяся в «Kölnische-Zeitung» и в последнее время сделавшаяся особенно заметной ввиду депеши, отправленной союзным канцлером в Вену. В этой газете говорится: «С 1866 года мы принадлежим к числу тех, которые непрерывно обращают увещания то к Вене, то к Берлину отказаться от беспричинной зависти друг к другу и по возможности сблизиться между собой. Мы часто скорбели о личном раздражении между Бисмарком и Бейстом, которое затрудняет такое сближение», и т. д. В возражении было сказано:
«Уже часто было замечено, что «Кёльнская газета» все то, что союзный канцлер делает или не делает в политике, старалась объяснять личными мотивами, личными симпатиями и антипатиями, расположениями или нерасположениями, и мы встречаем теперь новый пример этого ничем не оправдываемого мнения. Почему является постоянно подобное подозрение, для нас непонятно. Мы знаем только, что между канцлером Северо-Германского союза и имперским канцлером Австро-Венгрии не существует никакого личного раздражения и что до 1866 года, когда они находились в более частых личных сношениях, как это подтверждал граф Бисмарк в северогерманском рейхстаге, они вполне дружелюбно относились друг к другу. С тех пор между ними не могло возникнуть какого-либо нерасположения частного характера уже потому, что с того времени между ними не было частных сношений. Если же они в качестве государственных людей занимали враждебные позиции относительно друг друга, то причина этого ясна для всех. До настоящего времени они были представителями различных политических систем, пытались осуществить различные политические принципы, между которыми трудно найти точки соприкосновения, хотя, быть может, это и не совсем невозможно. В этом и заключается объяснение того, что «Кёльнская газета» выводит из личных мотивов, управляющих, впрочем, мыслями и действиями союзного канцлера несравненно менее, чем у кого бы то ни было из современных государственных людей. Рядом с этим следует заметить, что граф Бисмарк относительно способностей сопротивления Парижа не только не глубоко, но и вовсе не обманулся, как говорит эта рейнская газета в перепечатке из венской. Его никогда об этом не спрашивали, но он уже несколько месяцев назад, как нам известно из достоверных источников, считал взятие города делом трудным и был против обложения его до падения Меца».
Вечером в канцелярии читал акты и, между прочим, интересные сообщения из Баварии. Далее составил указания, касающиеся Эльзаса, со следующею основною мыслью: в настоящее время задача состоит не в том, чтобы уменьшить бедствие страны и по возможности примирить население с предстоящим слиянием с Германией; напротив, то, о чем мы должны более всего заботиться теперь, есть споспешествование целям войны, заключающимся в скором заключении мира и сбережении войск. В силу этого все французские чиновники, которые не отдадут себя в наше распоряжение, а также и судьи, не желающие исполнить своих обязанностей под нашим управлением, должны быть высланы вовнутрь Франции. По тем же причинам не следует уплачивать пенсионерам их пенсий; они могут обратиться в Бордо и, вероятно, в этом положении будут больше желать мира.
В десять часов вечера послали телеграмму, извещавшую об успехе первой армии против подвижной гвардии и вольных стрелков. После одиннадцати часов меня опять призывали к шефу. Потом сообщил о неправильном взгляде на события, совершающиеся перед Парижем, высказанном в «Kreuz-Zeitung».
По-видимому, газета держится мнения, что дело уже идет об обстреливании самого города. Но это неверно, и известия газеты, вообще достойные доверия, на этот раз грешат недостаточным знанием топографии Парижа. Прежде всего нам предстоит иметь дело с фортами, которые значительно удалены от города. Обстреливать город через эти форты было бы таким же трудным делом, если бы кто-либо предпринял с Мюггельсбергена у Кёпника и с возвышенностей Шпандау, предполагая только, что там форты такой же величины и силы, как Шпандау, бомбардировать Берлин, пуская снаряды над этими фортами. Сперва мы должны взять форты и потом уже обстреливать сам город. До этого времени для наших выстрелов доступны только предместья или такие части города, обстреливание которых не может нам принести большой пользы.
После десяти часов, когда я внес последние заметки в мой дневник, почти до одиннадцати часов дружно гремели выстрелы с Мон-Валерьяна или с канонерок.
Суббота, 31-го декабря. У нас уже почти все переболели. Я сам начинаю чувствовать утомление, и было бы полезно, если бы я ночную работу, которую употребляю на дневник, сократил или даже совсем прервал дня на два. Сильный холод, от которого камин мало защищает, также не дает засиживаться далеко за полночь.
Гамбетта и его товарищи в Бордо все самовластнее выступают в качестве диктаторов. Едва ли даже империя, с произволом которой они боролись прежде, так деспотически игнорировала законодательные постановления или так самодержавно устраняла их, как это делают названные республиканцы чистейшей воды. Мы только что узнали, что господа Кремье, Гамбетта, Глэ-Бизуен и Фуришон относительно прежних распоряжений 25-го декабря издали следующий декрет: «Генеральные советы и советы округов распускаются, а также и департаментские комиссии там, где они учреждены; генеральные советы будут замещены департаментскими комиссиями, которые должны состоять из такого количества членов, сколько кантонов в департаменте; они будут учреждаться правительством по предложению префекта». Без сомнения, это не может касаться тех местностей, которые мы занимаем. Я отсылаю этот декрет для напечатания в «Монитере».
Понедельник, 2-го января. Утомление и страдания от холода продолжаются. Шеф все еще нездоров, так же как и Гацфельд и Бисмарк-Болен. Гамбеттовская война à outrance будет теперь вестись с помощью арабских вольных стрелков. Интересно знать, что скажет г. де Шадорди, который недавно выставлял нас варварами перед великими державами, когда прочтет статью в «Jndependance Algerienne», которая объясняет этим диким ордам, что дозволено на войне, и старается им внушить понятие о том? Различные французские газеты высказывают открытое одобрение этой статье: по крайней мере они прямо перепечатали эту омерзительную статью, не прибавив ни одного слова порицания, а если они этого не сделали, значит, они рассчитывали и на сочувствие читателей. Мы ее отмечаем как указание точки, до которой дошла ненависть большинства наших противников. Ярость африканского журналиста, разделяемая и его французскими коллегами, выражена следующим образом:
«Минута наступила. Каждая из наших провинций должна выставить десять гумов по двести человек в каждом! Их начальниками будут каиды и офицеры арабских управлений. Эти гумы, как скоро они будут готовы к выступлению, должны быть направлены в Лион и там должны нести службу летучих стрелков и разведчиков, которая так плохо исполняется нашей легкой кавалерией. Первой задачей их должно быть истребление улан или наведение на них панического страха, отрезав нескольким из них головы. Разделенные на две или три группы, в состав которых должны войти офицеры и унтер-офицеры, говорящие по-немецки, эти храбрые сыны степей должны устремиться на великое герцогство Баденское, где они должны сжечь все деревни и зажечь все леса, что в настоящую минуту, когда сухие листы покрывают землю, вовсе не трудно. Шварцвальд осветит своим пламенем долину Рейна. Затем гумы проникнут в Вюртемберг, где также все предадут опустошению. Разорение стран, союзных с Пруссией, без сомнения, повлечет за собою гибель и падение последней.
Гумы не должны брать с собою ничего, кроме патронов. Они везде найдут то, что им нужно для продовольствия. Если у них есть на несколько дней провианту и других припасов, они будут жечь города и деревни. Мы скажем этим храбрым сынам пророка: мы знаем вас, мы ценим ваше мужество, мы знаем, что вы энергичны, предприимчивы и необузданны. Идите и рубите головы, чем более вы их отрубите, тем выше будет наше уважение.
Когда пронесется известие о вторжении этих африканцев в неприятельскую область, по всей Германии распространится общий ужас и прусские солдаты раскаются, что оставили свою страну, в которой их жены и дети должны расплачиваться теперь за вину своих мужей и отцов. Оставим всякое милосердие! Оставим всякое чувство человечности! Никакой пощады, никакого сострадания этим новейшим гуннам! Только вторжение в Германию может вынудить быстрое снятие осады Парижа. Гумы будут на высоте своей задачи. Достаточно, если мы ослабим им узду и скажем: убийство, грабеж, поджог !»
Автор этой статьи очень мил. Он делает премилые предложения, и мне в особенности нравится то, что, говоря об убийствах, грабежах и поджогах, он желает, чтобы этими дикарями, призываемыми на помощь, предводительствовали французские офицеры. И такие гумы, кажется, действительно прибыли во Францию, по крайней мере нам уже приходилось читать о вступлении отрядов войск из Африки.
Вторник, 3-го января. Мысль, что растянутость германского войска на севере и на юго-западе представляет некоторую опасность и что было бы желательно большее сосредоточение его, как я заметил, находит себе защитников во многих местах. Прежде всего в венской «Presse» из-под пера специалиста вышло разъяснение того, насколько сплочение наших войск, находящихся во Франции, является необходимым, если мы желаем избежать раздробления и связанного с ним ослабления наших наступательных сил. Автор имеет в виду концентрацию наших войск в круге на 15 или на 20 миль около Парижа. Французские войска, могущие наступить с запада и с севера с целью освобождения города от осады, встретятся здесь со всеми силами германских армий и будут ими раздавлены и рассеяны. Даже всех гигантских сил, беспрерывно прибывающих из Германии, по мнению нашего автора, недостаточно, чтобы разрешить одновременно все военные задачи, предстоящие немцам. Желание привести быстро их все к концу должно вести к рассеянию войск, связанному со всевозможными опасностями, и это зло является еще значительнее ввиду того, что далекие переходы в суровое зимнее время ослабляют и изнуряют людей. Эта статья далее предостерегает от отдаленных военных действий вроде движений на Гавр и Лион и рекомендует устройство укрепленных лагерей на известном расстоянии от Парижа, а также разрушение железных дорог вне окружности этих лагерей, так чтобы еще незанятые нами части Франции на окраинах сообщались между собою только морем.
Необходимость отказаться от дальнейшего движения вперед и необходимость сосредоточения немецких сил указываются также в «National-Zeitung» в одной из статей, совпадающей еще более, чем приведенная выше, с мыслями, которые можно услышать в Версале. В ней (в № от 31 декабря), между прочим, говорится: «Очищение Дижона и отступление от Тура, ворот которого, как известно, уже достиг отряд десятого корпуса, быть может, дают указание на те намерения, которые можно считать определяющими дальнейший ход войны с немецкой стороны. Пожалуй, можно ожидать, что Франция после взятия Парижа откажется от сопротивления и подчинится германским условиям мира. Но нельзя на это рассчитывать с уверенностью, и поэтому необходимо иметь в виду и противоположный исход. Во всяком случае, тотчас же после падения Парижа не может явиться правительство, признанное всеми и поддерживаемое национальным представительством, с которым могли бы быть начаты переговоры о мире с достаточными ручательствами за его прочность. Если война будет продолжаться, то ее целью не может быть полное покорение такой обширной страны, как Франция. Пусть даже наши войска, как и до сих пор, всюду будут выходить победителями и будут уничтожать неприятельские силы – этого еще недостаточно. Дело будет еще заключаться в том, чтобы во всех завоеванных областях ввести новое гражданское управление и подчинить ему жителей. Уже в полосе между Ла-Маншем и Луарой наших войск едва доставало на то, чтобы повсюду поддерживать пути сообщения в полной безопасности, иметь надлежащий присмотр за местной администрацией в каждом городе и в каждой деревне, предупреждать изменнические нападения и собирать повсюду подати и неразлучные с войною повинности и контрибуции. Несоразмерное распространение этой сети не только превзойдет наши военные силы, как бы высоко мы ни ценили их, – мы не найдем в своем отечестве количество сил гражданского управления, достаточное для этой задачи. Поэтому, если мир не будет заключен в самом близком будущем, цель наших военных действий вполне ясна и может быть резко ограничена. Они должны иметь в виду некоторую определенную часть французской территории и занять ее так крепко, чтобы она была в наших руках и могла быть удержана нами в течение желательного для нас периода времени. Этой частью должны быть столица и лучшие провинции Франции с самым энергичным и воинственным населением. На ней, без сомнения, должны будут лежать все тягости и все издержки войны до тех пор, пока во всей стране не образуется мирная партия, достаточно сильная, чтобы вынудить к исполнению ее воли временных представителей власти. Занятая, таким образом, область должна иметь такие границы, чтобы военная защита их была незатруднительна. За пределами этой линии могут, конечно, происходить наступления с теми или другими целями, указываемыми минутой, но заранее не должно быть намерения переходить за эту линию на продолжительное время. А в тех областях, которые нужны Германии для обеспечения ее границ, должно в это время происходить слияние их с новым отечеством, не ожидая заключения мира».
Пятница, 6-го января. До вчерашнего дня холод был значителен; кажется, он доходил от 9 до 10 градусов ниже нуля. К нему присоединился еще туман, который в среду был особенно густ. Шеф почти всю неделю был нездоров. Только вчера и потом сегодня выезжал он в обеденное время на несколько минут. Гацфельд и Болен также хворают. И у меня слабость и нерасположение к работе начинают проходить только сегодня, быть может, вследствие достаточного сна в продолжение двух ночей, а быть может, и вследствие лучшей погоды. Туман, сегодня превратившийся в иней и покрывший ветви деревьев сверкающими кристаллами, уступил место прекрасной погоде и собирается даже исчезнуть над лесными холмами, лежащими между нами и Парижем. Итак, мы начинаем новую жизнь, так же, как и наши пушки, которые вследствие неясности горизонта в последние дни работали мало, а сегодня стреляют гораздо усерднее.
Прежде всего следует занести в дневник несколько заметок, которые опущены. В этом промежутке времени сюда прибыли член рейхстага Вагнер для работ в нашей канцелярии и барон Ф. Гольштейн, секретарь посольства, если я не ошибаюсь.
Между статьями, которые я отправил в последние шесть дней, находилась одна, которая рассматривала меры относительно возможности отвлечь от целей и потребностей немецкой промышленности значительное количество железнодорожных вагонов, чтобы доставить провиант к тому времени, когда голодный Париж наконец сдастся. Я назвал подобный проект вполне гуманным, но непрактичным и неполитичным, так как парижане, узнав, что мы со своей стороны заботимся о том времени, когда у них выйдет все до последней хлебной корки, вследствие того еще более продлят осаду. Не нам следует создавать магазины и изыскивать перевозочные средства для провианта, чтобы избавить парижан от опасности голодной смерти, а, напротив, парижанам следует избегать таких последствий своевременной капитуляции города.
Вчера я перевел для короля на немецкий язык два английских акта о потоплении английских кораблей с углем у Руана, которое было сочтено необходимым нашими войсками. Сегодня рано телеграфировал в Лондон сообщение главного штаба, что бомбардировка, которая уже три дня как направлена на форты восточной стороны, а со вчерашнего дня и на форты южной, идет весьма успешно и что потеря, испытанная нами при этом, незначительна. Вчера я был опять у офицеров сорок шестого полка, квартирующих на ферме Борегар и устроившихся очень комфортабельно благодаря мебели, привезенной из Буживаля. Сегодня в свободное время, после трех часов, вместе с Вагнером, который устроился неподалеку от нас, на углу rue de Provence и бульвара de la Reine, в нижнем этаже у какого-то француза среди множества картин, я посетил уже давно избранный мною наблюдательный пункт в Вилль-д’Аврэ, откуда мы смотрели на бомбардировку. Кажется, в Париже горит в двух местах, потому что поднимаются густые облака дыма.
Вечером читал депеши и проекты. Для доставления провианта в Париж принято в расчет две тысячи восемьсот вагонов немецких железных дорог; по этому поводу шеф энергически заметил, что это вредно в политическом отношении, то есть сознание парижских властей, что им предстоит воспользоваться готовыми запасами, когда у них уже все будет исчерпано, заставит их медлить со сдачей города.
Боншоз по желанию папы написал письмо королю Вильгельму, в котором высказывает желание мира, но мира «почетного», то есть без уступки территории, то есть такого мира, какой мы могли получить три месяца назад от Фавра, если бы шеф не предпочел ему «выгодного» мира. Принц Наполеон явится для посредничества в Версаль. Он весьма остроумный и любезный человек, но не пользуется во Франции большим уважением.
На лондонской конференции по вопросу о Черном море мы будем по возможности поддерживать притязание России.
Суббота, 7-го января. Теперь, уже в течение нескольких дней, наш дом охраняется стражей из числа светло-зеленых стрелков ландвера, уже пожилых людей с длинными бородами. Они, должно быть, превосходные стрелки. По побуждению Г., который предполагает, что в доме Одилона Барро в Буживале можно найти интересные политические документы, Бухер и я в это утро ездили туда в коляске. Погода была пасмурная и холодная. Туман опускался с неба. Сперва мы посетили Г. в Борегаре, чтобы узнать от него, где находится вилла Барро. Потом мы отправились дальше мимо различных укреплений: стен с бойницами, полуразрушенных сельских домов, заколоченной сельской школы и т. п., и спустились ниже Ласель-Сен-Клу, к тому месту, где широко раскинулся Буживаль с своей старинной прекрасной церковью. Проезжая через городок, можно было видеть только солдат, но и за окнами домов вовсе не видно было простых граждан, так как население вследствие последней или предпоследней вылазки вынуждено было удалиться. В средине городка, где на небольшой площади перекрещиваются две улицы и где находилась прусская стража, мы вышли из экипажа и отыскали помощника фельдфебеля, который приказал одному из солдат проводить нас. Прежде всего мы отправились мимо опустошенной аптеки, около которой стража охраняла вход в огромный погреб, открытый здесь несколько недель назад, и направились к огромной баррикаде, запирающей выход улицы к Сене. Она состоит из бочек и кадок, наполненных землей и камнями, а также из разного домашнего скарба. Затем мы отыскивали на узкой улице, выходящей к Мальмезону, тот дом, который был настоящей целью нашего путешествия. В этой улице было множество баррикад со рвами, так же как и в боковой улице, которая почти на средине первой поворачивает влево и выходит к реке. Даже и дома, все не обитаемые и отчасти поврежденные гранатами, были приспособлены для защиты. В них мало встречалось мебели. Мы обошли первые баррикады улицы, пройдя по доске, положенной из окна соседнего дома с левой стороны к двери другого, противоположного, над баррикадным рвом. Второе земляное укрепление мы обошли таким же путем. Там, где улица ведет к реке по мостовой, камни которой были вырваны, мы увидали третью систему заграждений и рвов, неоднократно описанную корреспондентами немецких и иностранных газет, так называемую музыкальную баррикаду, в состав которой входят не менее шести фортепиано. Но исследовать ее ближе не дозволялось. Вообще мы не должны были выглядывать перед галлами по направлению к Мон-Валерьяну, потому что они всегда готовы послать полдюжины гранат. Я увидал, наконец, через три или четыре дома маленький зеленый балкон, который по указанию Г. был отличительным знаком дома Барро. Но спереди мы не могли подойти к нему, потому что поставленная здесь стража никого не пропускала. Таким образом, мы должны были стараться проникнуть с задней стороны дома. Нам помогла в этом отношении узкая тропинка между домами и садами. В садах, расположенных сзади домов, стояла и лежала всевозможная мебель и между ней – испорченное кресло, обитое красным плюшем, размякшее от снега и дождя и обладавшее теперь лишь одною ногою. Здесь кругом были навалены книги и бумаги. После того как мы входили во многие дома, где везде царствовало полное опустошение, мы наконец нашли то, что мы искали. Дорожка через неглубокую канаву привела нас в оранжерею, а оттуда в библиотеку, состоявшую из двух комнат. В ней могло быть до двух тысяч томов, большая часть которых лежала на полках беспорядочными массами, что, быть может, было делом подвижной гвардии и вольных стрелков, которые до парижской осады опустошали окрестности города. Многое из находившегося там было разорвано или затоптано. При ближайшем исследовании мы нашли, что это была хорошо составленная библиотека; именно она содержала в себе исторические, политические и беллетристические произведения и несколько английских книг, но в ней не было того, о чем говорил Г.
Вернувшись на rue de Provence, я написал по указанию шефа две статьи. Между ними одна касалась заявления «Kreuz-Zeitung», представляющего запоздалое утешение по поводу прерванной бомбардировки.
Вечером министр опять обедал с нами. Слышно, что укрепление Рокруа досталось нам в руки и что саксонский министр фон Фабрице будет сделан генерал-губернатором обширной области, состоящей из шести департаментов. За чаем упоминалось о том, что обстреливание Парижа или, лучше сказать, его фортов началось и с северной стороны и приносит хорошие результаты. В Вожираре и Гренелле уже начались пожары, откуда, быть может, и поднимался дым, который мы вчера видели с холмов между Вилль-д’Аврэ и Севром. Кейделль полагает, что я должен был сообщить это шефу. В три четверти одиннадцатого я поднимаюсь к нему. Он поблагодарил, но спросил при этом: «Который час?»
– Скоро одиннадцать, ваше сиятельство, – ответил я.
– Скажите Кейделлю, – сказал он, – чтобы он приготовил записку для короля, о которой я говорил с ним.
Воскресенье, 8-го января . Утром послал телеграмму о победе при Baндоме и об успешном ходе бомбардировки и приготовил для «Монитера» указание на лживую хвастливость, с которою Федэрб второй раз приписывает себе победу над нашими войсками, тогда как он вновь вынужден был отступить. Шеф уже несколько дней как отпускает себе бороду. Дельбрюк припомнил за завтраком, что он в 1853 году был в Америке и доезжал до Арканзаса. После обеда у шефа был князь Гогенлоэ, чтобы сообщить ему сведения о ходе и успехах бомбардировки. Все это последствия жалоб.
После обеда читал в газете «France» известия о санитарном состоянии Парижа и послал выписку в «Moniteur». По этим известиям, число смертных случаев за неделю, 11–17 декабря, доходило до громадной цифры 2728. Именно оспа и тиф уносят много жертв. В лазаретах распространяется госпитальная горячка. Врачи жалуются на дурное влияние алкоголизма на больных, превращающего легкие раны в тяжелые и сильно возрастающего среди парижских солдат. Сообщение заканчивается следующими словами:
«В этом случае, так же как много раз прежде, мы замечаем, как порок пьянства в самом своем грозном виде (ivrognerie crapuleuse) делает успехи в Париже; для врачей и для нас нет надобности в дневных приказах, подписанных Трошю и Клеманом Тома, чтобы констатировать его и скорбеть о нем. Да, и мы говорили это громко, наше лицо покрывается краской стыда, когда мы видим ежедневно людей, которым отечество вверило свою защиту, унижающими и позорящими себя отвратительными возлияниями. Можно ли поэтому удивляться всем несчастным случаям неосторожного обращения с огнестрельным оружием, всем этим беспорядкам, этой разнузданности, этим насилиям, бесчисленным грабежам и опустошениям, о которых каждый день нам сообщают официальные газеты, – и в такое время, когда отечество в смертельном горе, когда враждебная судьба в нашей несчастной стране громоздит поражение на поражение и усиленными ударами карает нас без отдыха и пощады! Право, слишком легкомысленны те, которые имеют наивность верить, что эта ужасная война должна неизбежно преобразовать наши нравы и сделать нас новыми людьми».
За обедом шеф рассказывал опять о годах своей юности и притом о самых ранних своих воспоминаниях, одно из которых было связано с пожаром берлинского театра:
«Мне было тогда около трех лет; родители мои жили у Жандармского рынка на Mohrenstrasze, против Hôtel de Brandenbourg, в угольном доме, на 2-м этаже. Что касается самого пожара, то я не знаю – видел ли я его. Но я знаю, что я был тогда человек себе на уме, – может быть, потому, что мне об этом потом часто рассказывали, – именно перед окнами был устроен приступок, на котором стояли стулья и рабочий столик моей матери. И я влез туда, когда горело, и приложил руку к стеклу, но сейчас же ее отдернул, потому что было горячо. После того я перешел к окну направо и сделал то же самое. Помню еще, как я раз убежал, потому что мой старший брат дурно со мной обошелся. Я дошел до самых Unter den Linden, но здесь меня поймали. По-настоящему меня за это следовало наказать, но за меня кто-то заступился».
Потом он говорил о том, что он в возрасте от 6-ти до 12-ти лет находился в Берлине в пламаннском институте, воспитательном заведении, основанном по принципам Песталоцци и Яна; но о времени, проведенном там, он вспоминал неохотно. Там царствовало какое-то искусственное спартанство. Никогда он даже досыта не наедался, за исключением тех случаев, когда его выпрашивали отпустить домой. «В институте всегда подавалось упругое мясо, нельзя сказать, чтобы жесткое, но зубы никак не могли с ним справиться. А морковь… сырую я ел ее с большим удовольствием, но вареную с твердым картофелем четырехугольными кусочками…»
Затем разговор опять перешел в область кулинарных наслаждений, и шеф главным образом касался различного рода рыб. Он с удовольствием вспоминал о свежей миноге и отзывался с большим одобрением о сиге и эльбской лососи, которую он ставил «в средине между остзейской и рейнской лососью; последняя, – говорил он, – слишком жирна для меня». Потом он перешел к обедам банкиров, «у которых вещь не признается хорошей, если она недорого стоит, например, карпы, стоящие в Берлине довольно дешево. Даже судак у них ценится выше, потому что он трудно поддается перевозке. Но я судака не очень люблю, так же как не могу свыкнуться с угрями, с их мягким мясом. Напротив, померанские лососи (марены) я готов есть хоть всякий день. Я, пожалуй, люблю их больше форелей, из которых я ем с удовольствием только средние, полуфунтовые. Большие, какие обыкновенно подают за обедами во Франкфурте и большей частью получают из Вольфсбруннена, в Гейдельберге, похвалить нельзя. Но они довольно дороги, и там иначе и быть не может».
Разговор коснулся далее парижской Триумфальной арки, которую сравнивали с Бранденбургскими воротами. По поводу последних шеф заметил:
«Они в своем роде очень хороши. Но я советовал, чтобы место около них было совершенно свободно, чтобы сторожки были уничтожены. Тогда они казались бы значительнее, чем теперь, когда они стеснены и даже отчасти закрыты».
За сигарой, поговорив перед этим о своих журнальных работах, он сказал Вагнеру следующее: «Я помню, моя первая газетная статья была об охоте. Тогда я был еще необузданным юнкером. Кто-то написал ядовитую статью об охоте с гончими, моя охотничья кровь возгорелась, я сел и написал возражение, которое отправил редактору Альтфатеру. Но без всякого успеха. Тот ответил мне очень вежливо, объяснив, что моя статья не подходит ему, что он ее принять не может. Я был ужасно возмущен тем, что всякий имеет право нападать на охотников, а возражать ему оказывается делом очень трудным. Однако тогда так делалось».
Вечером отправил для английской прессы и для «Монитера» следующую статью из газеты «Français».
«С различных сторон нам сообщают серьезные факты, бросающие тень на некоторые батальоны мобилизованной национальной гвардии, номера которых всегда могут быть переданы нами в распоряжение генерала Клемана Тома. Эти батальоны в Монруже и Аркейле позволили себе опустошать частные здания, разбивать стекла в окнах, грабить погреба и без всякой нужды жечь дорогую мебель. Так, в Монруже было предано огню собрание весьма редких гравюр. Факты подобного рода требуют серьезного вмешательства. Повсюду в окрестностях Парижа прибиты прокламации генерала Трошю от 26-го сентября, касающиеся введения военных судов. Эта угроза репрессивных мер ввиду таких грабежей и такого своеволия не должна оставаться втуне». Статья заканчивается требованием исследования этих случаев и подкрепляет это требование тем обстоятельством, что 16-го декабря солдаты одного из батальонов национальной гвардии, стоявшие до тех пор в Аркейле, при своем возвращении в Париж распродали окрестным торговцам множество вещей – плоды их грабежей на месте своей стоянки. Эти последние состояли преимущественно из медной кухонной посуды. Будет полезно, если в Версале и его окрестностях, так же как и в Англии, будут знать об этом для того, чтобы после заключения мира эти бесчинства не приписали нашим солдатам».
Точно так же в «Монитере» появилось извещение одного торнского санитара, который вопреки постановлению Женевской конвенции был взят в плен и подвергся в Лилле оскорблениям и даже угрозам смерти. Затем была послана телеграмма в Берлин для того, чтобы наша пресса провела в публику намек на то, что, по слухам, выборы в рейхстаг должны произойти еще в течение настоящего месяца.
Оправдание люксембургского правительства против жалоб, заявленных с нашей стороны за нарушение им нейтралитета, нельзя считать удовлетворительным. Из него выясняется лишь факт, что это правительство не в силах защищать само свой нейтралитет. Ему вместе с представлением новых доказательств наших жалоб сделано еще одно предостережение. Если же это ни к чему не приведет, тогда мы будем вынуждены занять нашими войсками великое герцогство.
Понедельник, 9-го января. Погода холодная и пасмурная; падает много снегу. Как с нашей стороны, так и с неприятельской, много стреляют, и ночью наш огонь был очень силен. Из Лондона сообщают, что принц Наполеон занят теперь планом подписания собственною властью удобного для нас мирного договора; вслед за тем должно произойти созвание сената и законодательного корпуса, которым будет предложен мирный трактат, а также и решение относительно будущей формы правления и будущей династии. Винуа и Дюкро поддерживают этот план. С другой стороны, возбуждение господствует и среди орлеанистов, которые стараются привлечь на свою сторону Тьера.
После обеда я отправил телеграмму о дальнейшем успешном продолжении бомбардировки. Когда я представил ее шефу, он вычеркнул те места, в которых шла речь о том, что наши гранаты падали в Люксембургский сад. Он нашел эти места «неполитичными».
Газеты сообщают следующую забавную историю, которая из частного письма одного немецкого офицера попала в «Leipziger Tageblatt». «Однажды флигель-адъютант граф Лендорф посетил полковника фон Штранца на аванпостах в Вилль-д’Аврэ перед Парижем. На вопрос графа, как он поживает, полковник отвечал:
«Очень хорошо, я только что встал из-за обеда, за которым съел шестьдесят седьмое жаркое из баранины».
Граф засмеялся и через несколько времени уехал оттуда. Через несколько дней к полковнику явился жандарм и передал следующее приказание:
«Так как его сиятельство господин союзный канцлер граф Бисмарк получил сведение, что господин полковник фон Штранц дошел сегодня до шестьдесят восьмого жаркого из баранины, то он присылает ему две пары уток для перемены в составе обедов».
Этот анекдот имеет то преимущество перед многими другими, встречаемыми в печати, что в существенном он совершенно справедлив. Только жандарм явился не на следующий день. Лендорф был за несколько дней перед рождественскими праздниками у нас и обедал.
За стол шеф явился, как всегда, выбритым. Прежде всего он говорил о том, что граф Билль Бисмарк получил Железный крест, причем он полагал, что было бы лучше, если бы его дали старшему его сыну, раненному во время кавалерийской атаки под Марс-ла-Туром.
«Это случай, – заметил он. – Другие, не будучи ранены, могут быть так же храбры. Но раненые все как бы уравниваются между собою. Я припоминаю, когда я еще был молодым человеком, в Берлине показывался всюду некто господин фон Р., у которого был этот крест. Я полагал, что он совершил какие-нибудь чудеса, но потом узнал, что он племянник министра и состоял при главном штабе на посылках».
Дельбрюк припомнил об этом господине и рассказал, что он потом был замешан в следствии о противозаконных векселях и перерезал себе горло.
– В Гёттингене, – продолжал шеф, – я однажды назвал одного студента дураком. Когда он вследствие этого прислал мне вызов, я сказал, что вовсе не желал его оскорбить и думал только высказать мое убеждение.
Когда подали фазанов с кислой капустой, кто-то заметил, что министр давно уже не был на охоте, между тем как леса перед Парижем полны дичью.
– Да, – продолжал он, – мне все что-нибудь мешало. В последний раз в Феррьере короля уже не было, а он сделал запрещение стрелять там, то есть в парке. Мы также не ходили в парк, да если бы и пошли, не много бы настреляли, потому что патроны или ружья не подходили».
Гольштейн, кажущийся необыкновенно любезным и в то же время трудолюбивым и услужливым человеком, заметил по этому поводу:
– И другие также говорят об этом, ваше сиятельство. Вам было известно приказание его величества, и вы, разумеется, пожелали его уважить. Но вы бы могли отправиться гулять, и там, к несчастью, на вас могли бы напасть три-четыре фазана, которых вам бы пришлось убить, защищая собственную жизнь».
Французский Ротшильд дал повод разговору перейти к немецкому, о котором шеф рассказал забавную историю из своих наблюдений. Наконец, разговор коснулся изящной литературы. Говорили о «Загадочных натурах» Шпильгагена, которые канцлер читал и о которых отзывался довольно благоприятно, заметив, однако, что два раза он их прочесть бы никак не мог; для этого нельзя уже найти время. Впрочем, часто бывает, что весьма занятые министры берут в руки книгу и проводят за нею часа два прежде, чем опять возьмутся за свои бумаги. Коснулись также романа Фрейтага «Soll und Haben» и отзывались с похвалой об изображении бала с молоденькими девушками, между тем как героев его находили слишком ходульными. Кто-то сказал, что они не имеют ни малейшего признака страсти, а другой прибавил: никакой души. Абекен, который деятельно вмешивался в разговор, сделал замечание, что он не может два раза читать подобные вещи, и из большей части новых писателей можно выбрать только разве одну хорошую книгу.
– Ну, – возразил шеф, – и из сочинений Гёте я готов подарить вам три четверти. Зато с остальными, с семью или восемью томами из сорока я желал бы на некоторое время очутиться на каком-нибудь пустынном острове.
Под конец вспомнили о Франце Рейтере.
– Да, – сказал министр, – его рассказы из времени нашествия французов весьма хороши, но какой же это роман?
Кто-то назвал «Stromtie».
«Гм, – проговорил канцлер, – это, во всяком случае, роман. Многое здесь хорошо, многое порядочно, но сельское население изображено здесь таким, каково оно есть».
Вечером я перевел для короля длинную статью из «Times», распространявшуюся о положении дел в Париже. Позднее, за чаем, Кейделль говорил живо и умно о некоторых качествах канцлера, которые заставляют вспоминать об Ахиллесе, напоминая его замечательную юность, легко воспламеняющийся темперамент, нередко выступающую на свет мировую скорбь, его наклонность удаляться от государственных дел и о его постоянных и победоносных делах. Не была забыта и Троя, и было упомянуто об Агамемноне, пастыре народов.
После одиннадцати часов я опять был призван к шефу и составил телеграмму о дальнейших результатах обстреливания.
Вторник, 10-го января. Холод умеренный. Воздух наполнен влажностью, так что вдаль видеть ничего нельзя. Небо и земля полны снега. Только от времени до времени слышатся выстрелы с наших батарей или с фортов. Граф Билль Бисмарк у нас, а в час приехал генерал Мантейфель. Они отправляются в армию, которая должна оперировать на юго-востоке против Бурбаки и которою будет командовать Мантейфель. После обеда я дважды телеграфировал в Лондон об отступлении Шанзи на Леманс с потерей тысячи человек пленными, и о геройском сопротивлении Вердера против превосходящих сил французов, напавших на него при Виллерсекселе с целью пробиться до Бельфора.
За столом сперва говорили о бомбардировке, и шеф предполагал, что большая часть фортов Парижа, за исключением Мон-Валерьяна, не имеют большого значения, разве они немного важнее траншей в Дюппеле. Действительно, рвы, как кажется, небольшой глубины. Одинаковым образом и вал был прежде довольно слаб. Затем речь перешла на Международную лигу мира и ее связь с социал-демократией, так как главою ее для Германии избран Карл Маркс в Лондоне. Бухер назвал его сильным умом с хорошим научным образованием и настоящим вождем международного союза рабочих. Шеф выразился по отношению к Лиге мира, что стремления ее довольно подозрительны и конечною ее целью предполагают нечто вовсе отличное от мира. В них должен скрываться коммунизм.
Затем разговор обратился на графа Билля Бисмарка, и шеф заметил: «Он очень толст и издали выглядит старым штаб-офицером». Упоминали о том счастливом обстоятельстве, что он назначен сопровождать Мантейфеля. Правда, для них обоих это было только временное положение, но зато оно доставляло им случай хорошо ознакомиться с войною.
– Да, – заметил шеф, – он узнает довольно для своих лет. Для нашего брата в восемнадцать лет это было бы невозможно. Мне пришлось бы родиться в 1795 году, чтобы видеть 1813 год. Вообще с самой битвы при (неясное имя; кажется, речь идет о стычке в гугенотскую войну) ни один из моих предков не оставлял своей шпаги в ножнах, когда происходила война с Францией. Так же поступали и мой отец, и его три брата. Мой дед сражался при Розбахе, мой прадед сражался против Людовика XIV, а его отец против того же Людовика в маленьких войнах на Рейне, в 1672 и 1673 годах. Еще раньше того многие из нас дрались в Тридцатилетней войне на стороне императора, некоторые, впрочем, вместе со шведами. Наконец, был и такой, который находился среди немцев, нанятых гугенотами. Один из них (в Шенгаузене есть его портрет) был оригинальный человек. У меня сохранилось его письмо к зятю, в котором говорится: «Бочка рейнвейна стоила мне самому восемьдесят рейхсталеров. Если мой любезный зять находит это слишком дорогим, то я в том случае, если Господь дарует мне жизнь, выпью эту бочку сам потом». «Если мой любезный зять полагает то-то и то-то, если Бог продлит мне жизнь, я с ним разделаюсь по-своему». А в другом месте: «Я истратил двенадцать тысяч рейхсталеров на мой полк и надеюсь, если Бог продлит мне век, с течением времени опять извлечь их посредством хозяйственной экономии». Этим он хотел сказать, что тогда выдавали жалованье на отпускных и вообще на не находящихся налицо. Да, полковой командир был в те времена в ином положении, чем теперь.
Кто-то заметил, что и позднее происходило то же самое, т. е. до тех пор, пока полки вербовались полковниками или же оплачивались и обмундировывались и прямо поступали в наем к государю, и что нечто подобное могло бы быть и теперь. Шеф ответил:
– Да, мы видим это в России, например, у больших кавалерийских полков в южных губерниях, которые нередко заключают в себе до шестнадцати эскадронов. Там бывали и теперь еще бывают особые доходы. Один немец рассказывал мне, что, когда пришел полк – это было в Курске или Воронеже, местностях очень богатых, – крестьяне привезли воз с соломой и с сеном и просили, как милости, принять их от них.
– Я не понимал, чего они от меня хотят, – рассказывал он, – и велел им оставить меня в покое и продолжать свой путь. Но они просили меня быть к ним снисходительным: больше они дать не могут, потому что сами бедные люди. Наконец мне это надоело, и когда они сделались назойливее, стали на колени и начали меня упрашивать оставить у себя привезенное ими, я выгнал их вон. Но когда явились другие с возами, наполненными пшеницей и овсом, я принял их и взял от них так же, как брали другие; а когда первые вернулись с большим количеством сена, я сказал им, что они меня не поняли, что и прежде привезенного было достаточно, так что излишек они могут взять с собою. Таким образом, я сберегал себе, получая деньги за овес и сено от правительства, ежегодно около двадцати тысяч рублей.
«Он рассказывал это совершенно открыто и без всякого стеснения в одном петербургском салоне, и только один я этому удивлялся».
«Но что же он мог сделать для крестьян?» – спросил Дельбрюк.
– Он ничего не мог сделать, – отвечал шеф, – но он мог бы разорить их другим путем, если бы только позволил солдатам их эксплуатировать.
Разговор опять вернулся к Мантейфелю, и при этом припомнили, что он при Меце сломал себе ногу и во время сражения приказывал носить себя. Кто-то из нас заметил, что мы об этом ничего не знали, и отсюда видно, как мы недостаточно знакомы с главными событиями войны.
– Я знаю, – рассказывал шеф в дальнейшем разговоре, – как я с ним (имя нельзя было расслышать) находился однажды перед папертью церкви в Бекштейне. Тогда прибыл король, и я предложил приветствовать его наподобие трех ведьм в Макбете: «Приветствуем тебя, тан Лауенбурга, приветствуем тебя, тан Киля, приветствуем тебя, тан Шлезвига!» Это происходило в то время, когда я заключил гаштейнский договор с Бломом. Тогда я в последний раз в моей жизни играл в «Quinze». Хотя я более уже не играю, но этот раз я играл так легкомысленно, что все присутствующие не могли надивиться. Но я знал, чего я хочу. Блом слыхал, что люди лучше всего распознаются при игре в Quinze и хотел это испытать. Я подумал: погоди же, ты меня узнаешь! Я проиграл тогда двести талеров, которые, таким образом, подарил на службе его величества и мог бы поставить их на счет. Но я ввел Блома в заблуждение. Он принял меня за человека отважного и сделал уступку.
Разговор обратился затем к Берлину; кто-то заметил, что он с каждым годом все более и более становится столичным городом, между прочим, и в образе мыслей, и в чувствах и что это до известной степени действует на представителей города.
– В эти последние пять лет они очень изменились, – сказал Дельбрюк.
– Это справедливо, – возразил шеф. – Не то было в 1862 году, когда я впервые должен был иметь дело с этими господами; если бы только они знали, какую степень презрения возбудили во мне, они никогда не были бы потом со мною в хороших отношениях.
Речь перешла на евреев, и министр пожелал узнать, почему имя Мейер так часто встречается у них.
«Это имя немецкого происхождения и в Вестфалии означает «земледелец», а евреи прежде никогда не владели землей».
– Прошу извинения, ваше сиятельство, – возразил я, – это имя еврейского происхождения. Оно уже встречается в Ветхом Завете и в Талмуде и значит, собственно, Мейр, находящийся в связи с блеском, светом, так что оно значит «освещенный», «блестящий», «испускающий лучи».
«Вот и имя Кон очень обыкновенно между ними, – спросил потом шеф, – что может оно значить?
Я ответил, что оно означает «священник» и прежде писалось Коген; из Когена образовалось Кон, Кун, Коган, Кан, а Кон и Кан иногда превращаются теперь в Ган». Последнее замечание вызвало смех.
– Да, – продолжал министр, – я того мнения, что они могли бы улучшиться путем скрещивания. Результаты этого вовсе не дурны. Он назвал несколько дворянских домов и прибавил: «Все это очень умные и милые люди». Потом он закончил следующим размышлением, выпустив среднюю посылку, которая, вероятно, указывала на случай браков знатных христианок, дочерей немецких баронов, с богатыми или даровитыми евреями. «Впрочем, гораздо лучше обратное, когда христианин немецкой крови женится на еврейке. Деньги точно также приходят в обращение, и получается недурная раса. Я не знаю, что я мог бы в этом отношении посоветовать моим сыновьям».
Весь вечер работал. Румыны находятся, по-видимому, в большом затруднении, но державы не помогут им. Англия и Австрия по меньшей мере равнодушны к ним; Порта не убеждена, что соединенные княжества не принесут ей вреда; Франция стоит вне вопроса; император Александр относится доброжелательно к князю Карлу, но все-таки не вмешается в его дела. От Германии, не имеющей никаких жизненных интересов в Румынии, также нельзя ожидать какого-либо шага в этом направлении. Поэтому, если князь не сумеет сам выйти из затруднения, он хорошо сделает, если откажется от престола, не дожидаясь того, чтобы его вынудили к этому. По-видимому, Бейст тою депешею, которою он отвечал на указание о предстоящем соединении немецкого юга с севером, вступил в новый фазис своих политических воззрений, и весьма возможно, что при нем разовьется и укрепится благоприятное отношение между обеими вновь образовавшимися державами – Германией и Австро-Венгрией.
Шеф в половине одиннадцатого сошел вниз к чаю, за которым присутствовал и граф Билль Бисмарк. Абекен вернулся от двора и привез известие, что крепость Перон с гарнизоном в три тысячи человек капитулировала. Шеф, рассматривавший в это время «Illustrirte-Zeitung», вздохнул и проговорил:
– Опять три тысячи человек! Если бы по крайней мере можно было коменданта утопить в Сене ввиду того, что он нарушил свое честное слово.
Это дает толчок к разговору о множестве пленных в Германии, и Гольштейн думает, что было бы весьма полезно отдать их внаем Струсбергу для постройки железных дорог.
– Лучше было бы, – говорит шеф, – если бы русский император согласился поселить их в виде военных колоний за Кавказом. Говорят, это прекрасные страны. Для нас такие массы пленных составят серьезное затруднение после мира. Пожалуй, только у них в этом случае будет армия, уже успевшая отдохнуть; пожалуй, только и возможно будет отдать их Наполеону. Ему нужны двести тысяч преторианцев, если он захочет держаться.
– Разве он действительно думает вернуться к управлению? – спрашивает Гольштейн.
– И очень, – возражает шеф, – как нельзя более, в самой невероятной степени. Он думает об этом дни и ночи, и особа, находящаяся в Англии, так же.
Под конец рассказывают историю, случившуюся в Шпандау, где люди, принадлежащие к английскому посольству, перед тем местом, где находятся французские пленные, оказали неповиновение и даже насилие, что привело к неприятным для них последствиям.
Среда, 11-го января . Погода менее туманная. Холод умеренный. Ночью происходила сильная пальба. Утром и большую часть дня слышался сильнейший рев тяжелых орудий с нашей стороны, кажется, из новых батарей, из которых одна находится между Сен-Клу и Медоном. Несколько раз я насчитывал в течение одной минуты до двадцати выстрелов. Впрочем, в это число могло входить и эхо. Министр встал задолго до девяти часов. Утром были отправлены телеграммы об обстреливании Парижа и сражении при Лемансе и написаны две статьи, в одной из которых заключалась защита Бейста против упрека, будто он играет в двойную игру, поднятого газетой «Vaterland» в Вене вследствие сравнения его депеши к Вимпфену со статьями официозных газет, враждебных Пруссии. Ходят слухи, что Клеман Дювернуа, прежний министр Наполеона, прибудет сюда, чтобы вести переговоры о мире от имени императрицы. Эта последняя согласна в принципе на уступку областей в требуемых нами границах, на уплату военных издержек и на оккупацию известных частей Франции нашими войсками до времени уплаты этих издержек и обещает не входить в переговоры о мире ни с какою другою державою, кроме Германии. Дювернуа полагает, что, хотя она не популярна, однако может выказать энергию и, как законная правительница, заслуживает большого уважения и представляет большую для нас обеспеченность, чем какое-нибудь лицо, выбранное представительством страны и зависящее от него. Примут ли его, если оно явится? Быть может, для того чтобы правители Парижа и Бордо узнали об этом и с своей стороны решились на уступки. После трех часов я с нашего обсервационного пункта на крыше дачи, между Севром и Вилль-д’Аврэ, наблюдал за бомбардировкой. Оттуда ясно видны отблески выстрелов французских батарей на железнодорожном мосту. Домой вернулся по лесной тропинке, которая ведет сперва налево от долины Вилль-д’Аврэ и доводит до замерзшего пруда. Недалеко от последнего, где она опять спускается под гору, выпрыгнули из своего снегового логовища пять серн.
Во время обеда, как это теперь у нас в обычае, говорили преимущественно о бомбардировке и вспоминали при этом, что в Париже – пожар. Шеф сказал, когда кто-то ему заметил, что ясно видны густые столбы дыма: «Этого еще недостаточно. Пускай сперва здесь запахнет. Во время пожара Гамбурга запах был на пять миль кругом».
Затем шла речь об оппозиции патриотов в баварской палате против Версальского договора, и канцлер высказал:
«Мне хотелось бы быть там и говорить с ними. По всем вероятиям, они сбились с пути и не могут теперь двинуться ни взад ни вперед. Я бы их вывел на настоящую дорогу, но я теперь и здесь нужен».
Затем пошла речь о различных приключениях на охоте и между прочим об одном случае, когда Гольштейн, будучи в России, необдуманным выстрелом с девяноста шагов испугал медведя, с которым шеф обменивался взглядами на расстоянии двадцати шагов. «Тем не менее, – продолжал он, – я еще нашел возможность так больно ранить медведя остроконечной пулей, что его вскоре нашли мертвым на небольшом расстоянии от этого места».
Четверг, 12-го января. Рано утром, около семи часов, я ездил с Вольманном и Мак-Лином в Вилль-д’Аврэ, но мы ничего не видали по причине тумана. Теперь у нас восемь градусов холода. Около полудня прояснило, и опять пошла сильная канонада.
За столом разговор касался действия наших осадных орудий против города. Когда при этом заметили, что французы жалуются, будто мы целим в их госпитали, шеф сказал: «С намерением это, конечно, не делается. У них лазареты в Пантеоне и на Вилль-де-Грас, поэтому случайно туда может залететь одно или два ядра. Гм… Пантеон – Пандемониум». – Абекен слышал, будто баварцы имеют намерение штурмовать один из юго-восточных фортов, которые лишь слабо отвечали на наш огонь. Шеф похвалил это и сказал:
– Если бы я теперь был в Мюнхене между депутатами, я бы все это так подстроил, что они не делали бы уже никаких затруднений.
Кто-то рассказал при этом, будто король предпочитает титул «императора Германии» титулу «германского императора», и было замечено, что первый будет совершенно новым, не имеющим себе никакого подтверждения в истории, что Бухер развил далее:
– Императора Германии, – говорил он, – еще никогда не существовало, так же как и германского императора, а были только германские короли. Карл Великий называл себя императором римлян – imperator romanorum. Впоследствии он называл себя imperator romanus semper augustus – множитель царства и германский король».
Шеф высказался в таком смысле, что в этих различиях титула не заключается большого значения.
Вечером, после девяти часов, за лесом на северной стороне видно было, что в Париже происходит большой пожар. Своеобразное зарево пылает над горизонтом в той стороне. Многие ходят смотреть на это. Гольштейн, рассматривавший зарево в комнате повара из окна, высказывает мнение, что действительно в городе пожар. С ним соглашается и Вольманн. Однако это обман зрения, потому что зарево не красного, а беловатого цвета. Шеф, приказавший позвать меня, чтобы дать мне какое-то поручение, и которому я доложил об этом явлении, заметил: «Это возможно. Я и сам уже видел это. Но мне кажется, это скорее отблеск снега. Прежде всего надо понюхать».
Затем я сделал извлечение из статей Брауна о Франции и о международном праве для «Монитера». В общих чертах там говорилось следующее: «Со стороны Германии война велась с намерением как можно более щадить Францию. Мы действовали сообразно Женевской конвенции, даже когда французы нарушали ее, и нарушали самым вопиющим, грубым образом, оставляя на произвол судьбы наших раненых, дурно обращаясь с ними и грабя наши санитарные обозы. Шеридан удивлялся, что победитель дает себя грабить побежденным, уплачивая терпеливо и охотно за удовлетворение своих нужд чрезмерные цены, требуемые населением. С другой стороны, английские репортеры сообщали, что война все более и более принимает характер средневековой истребительной борьбы. Если признать это, то вина лежит только на французах.
«Король в начале войны объявил в манифесте, что он ведет войну лишь с вооруженными силами Франции, а не с мирными гражданами ее. Отсюда стараются вывести заключение, что мы должны бороться лишь с империей, а не с республикой, перед которой мы, кажется, должны были бы положить оружие. Что касается мирных граждан, то оказывается, что ни вольных стрелков, ни тех, кто их поддерживает, мирными гражданами считать нельзя. Все авторитеты в области международного права, от Ваттеля до Блунчли и Галлера, согласны в том, что снисходительное обращение с мирным населением основывается на том предположении, что между солдатами и гражданскими людьми существует вполне ясная демаркационная линия и что обыкновенный гражданин воздерживается от тех враждебных действий, которые лежат на обязанности солдата. То, что солдат должен делать, гражданин не должен, и если он делает, не будучи солдатом, то он совершает военное действие против чужеземцев, проникших в его страну. Поэтому он теряет право гражданина, не приобретая прав солдата. Последний может требовать, чтобы его щадили, когда уже он более не в состоянии вредить; первый же, напротив, убивающий, не будучи к тому обязанным, и поэтому уничтожающий упомянутую демаркационную линию, может быть обезоружен только посредством смерти. Положение о военнопленных для него не существует; он должен быть истреблен в интересах человечности. С той минуты, когда король Вильгельм открыл войну, выразившись: «Я веду войну против неприятельских войск, а не против мирных граждан», принц Жуанвильский обратился с воззванием к французским крестьянам, в котором он взывал к уничтожению наших солдат посредством изменнических убийств».
В одиннадцать часов ночи король прислал шефу записочку, написанную карандашом на оторванном клочке почтовой бумаги, в которой содержалось известие, что мы одержали при Лемансе большую победу. Министр, видимо, обрадован и растроган этим вниманием и, отдавая мне эту записочку для того, чтобы я телеграфировал о содержании ее, сказал: «Он думает, что военное начальство меня об этом не известит, поэтому и пишет сам».
Позднее составил для короля записку, основываясь на статье «Norddeutsche Allgemeine-Zeitung», имеющую предметом юбилей Роона. Перед тем как идти спать, я узнал, что в форте Исси замечена брешь.
Пятница, 13-го января . Рано утром туманно; после двенадцати часов – голубое небо. Пальба производится очень дружно. Гарлес обратился с просьбой к шефу по делам лютеранской церкви. Просьба заканчивается тем, что он вследствие болезни, постоянно возвращающейся к нему, вскоре должен будет покинуть свой пилигримский посох. Он вместе со своей партией желает осуществления ортодоксальной лютеранской немецкой национальной церкви (вследствие чего можно предположить, что он – враг унии, а следовательно, и униатской Пруссии [25] ); в последнее время он сблизился с католическими епископами. Его цель – создать протестантского папу, и он сам всего охотнее занял бы это место. Бордоская делегация делала попытку склонить папу принять на себя мирное посредничество и, кажется, в Риме не прочь взяться за это дело, так как там думают, что делу возможно придать такой оборот, чтобы значение папы могло возвыситься вновь.
После трех часов совершил с Вагнером прогулку по парку. За столом находился правительственный президент фон Эрнстгаузен, здоровый, еще молодой господин. Шеф обедает сегодня у наследного принца, а поэтому оставался за столом только до варцинского окорока, о котором сказал: «Подавайте его тогда только, когда и я обедаю. Его следует есть при моем участии с чувством отчизнолюбия».
Эрнстгаузену он заметил: «Я приглашен к наследному принцу, но еще раньше мне предстоит важное объяснение; поэтому я и подкрепляюсь для него. Сегодня у нас тринадцатое и пятница. Воскресенье будет пятнадцатого, следовательно, восемнадцатого будет среда. Это будет орденский праздник, и тогда можно издать манифест немецкому народу об императоре и империи, над которым работал Бухер. Король сообщал и Нордгаузену о своих затруднениях относительно титулов: германского императора и императора Германии. Он более склоняется принять последний титул. Я не вижу большого различия между обоими титулами».
Вечером читал вновь прибывшие депеши и прежние проекты. Шеф возвратился в половине десятого от наследного принца и тотчас же заставил меня телеграфировать, что мы у Леманса взяли в плен восемнадцать тысяч французов и двенадцать орудий и что Гамбетта, присутствовавший при сражении, почти уже был у нас в руках, но успел вовремя ускользнуть. Еще позже обработал для доклада речь Унру о недостатке локомотивов на немецких железных дорогах.
Глава XVII Последние недели перед капитуляцией Парижа
Суббота, 14-го января. Холод умеренный. Погода слегка туманная, к полудню ясная, а потом опять туманная настолько, что ничего нельзя видеть в десяти шагах. Обстреливание фортов и города происходит непрерывно, с утра до вечера. Ночью отразили вылазку парижан, которая была направлена против войск одиннадцатого корпуса, стоящих у Мёдона, против баварцев в Кламаре и против гвардии в Ле-Бурже. Отправил несколько телеграмм, потом деловое письмо к М. и, по обыкновению, читал газеты для короля и для шефа. После завтрака, за которым сообщалось, что вчерашняя вылазка закончилась поспешным бегством французов и что южные форты почти не отвечают на наш огонь, опять сделал прогулку с Вагнером по парку, сзади замка.
За обедом присутствовал граф Лендорф. Шеф рассказывал, что он получил письмо от Жюля Фавра. Этот последний желает отправиться на конференцию в Лондон и хочет, чтобы ему был изготовлен пропуск для него, для незамужней дочери и другой замужней с мужем, носящим испанскую фамилию, и для секретаря. Еще приятнее ему был бы паспорт: господину министру со свитой. Но он не получит никакого паспорта, а военным будет просто отдан приказ пропустить его. Бухер напишет ему, что он сделает всего умнее, если поедет через Корбейль, так как там ему не придется бросать свой парижский экипаж, идти некоторое время пешком и потом брать другой экипаж. Точно так же более удобный путь для него был бы через Ланьи к Мецу, нежели через Амьен. Если же он не хочет ехать через Корбейль, то пусть скажет об этом. Тогда военные власти получат другие приказания. «Ввиду того, – прибавил он, – что он едет со всем семейством, можно сказать, что он хочет спастись».
В дальнейшем ходе разговора министр заметил: «Для деловых сношений Версаль – самое неудобное место, какое только можно было выбрать. Следовало оставаться в Ланьи или в Феррьере. Но я знаю, в чем тут дело. Многие, которым делать нечего, там слишком скучали. Но они, конечно, скучают здесь так же, как и везде».
Вечером о трудностях продовольствия Парижа после его сдачи написал статью, назначенную для «Монитера». «Мы находим, – говорилось там, – в «Journal Officièl» следующие соображения относительно продовольствия Парижа: из депеши, посланной третьего января из Бордо, оказывается, что правительство национальной обороны ввиду продовольствия Парижа собрало значительные массы провианта. Кроме тех рынков, которые уже учреждены, сюда относятся находящиеся вне района неприятельских операций и готовые для отправления по первому сигналу следующие продовольственные средства: более пятнадцати тысяч штук рогатого скота, более сорока тысяч овец, более трехсот тысяч кубических центнеров пищи всякого рода, собранной в магазинах и принадлежащих государству. Эти массы продовольствия собраны для прокормления Парижа.
«Если рассматривать эту попытку продовольствовать Париж с практической точки зрения, то в ней оказываются многие серьезные затруднения. Если уверения «Journal Officièl», что магазины находятся вне действия немецких войск, основательны, то следует предположить, что они удалены по меньшей мере на тридцать миль. Но состояние, в которое сами французы привели железные дороги, идущие к Парижу, таково, что потребуется по крайней мере несколько недель, чтобы перевезти все эти жизненные средства в Париж. Точно так же не следует оставлять без внимания, что одновременно с голодающим населением Парижа и немецкие армии также имеют право пополнять свои запасы подвозом по железным дорогам и что вследствие этого немецкие власти при самом искреннем отношении к делу не будут в состоянии предоставить больше известной части железнодорожного подвижного состава для продовольствия Парижа. Отсюда следует, если парижане, ввиду того, что при исходе дела потребуются значительные массы продовольствия, замедлят со сдачею города до тех пор, пока не будет съеден последний кусок хлеба, то такое неправильное понимание положения вещей может привести их к весьма роковому заблуждению. Правительство национальной обороны должно серьезно взвесить обстоятельства и не упускать из виду, какую ответственность возлагает на него сопротивление до последней крайности. Удаленность армий, набранных в провинции, приближение которых ожидается с таким нетерпением, и строгое обложение и закрытие Парижа от окружающего мира с каждым днем все более и более увеличивается. Лживые известия не в состоянии спасти Париж. Расчет – дожидаться до последней минуты вследствие того простого соображения, что ни провинция, ни неприятель не предоставят города в два с половиной миллиона жителей мукам голодной смерти, может оказаться неверным перед неумолимыми обстоятельствами, и момент капитуляции Парижа в самую последнюю минуту может, от чего сохрани Бог, послужить началом очень большого бедствия».
Воскресенье, 15-го января. Довольно ясная и холодная погода. Слышно меньше выстрелов, чем в предыдущие дни. Шеф дурно спал в эту ночь и велел разбудить Вольманна в четыре часа, чтобы телеграфировать в Лондон по поводу Фавра. Андраши, первый министр Венгрии, дал объяснение, что он не только разделяет воззрение на новую Германию, высказанное в депеше Бейста, но всегда желал такой политики и рекомендовал ее. Сдержанность в начале упоминаемого акта могла бы и не иметь места, так как преобразование Германии не противоречит Пражскому миру. Письма, в которых германские государи выражали свое согласие на предложение баварского короля о восстановлении имперского достоинства, высказывают приблизительно одни и те же мысли. Только Рейс нашел вынужденным несколько иначе мотивировать свое согласие. Со стороны Баварии являются некоторые притязания, которые не могут быть выполнены.
Шеф обедает сегодня у короля. Между нами за столом не было сказано ничего достойного замечания.
Бамберг, который каждый вечер является за известиями для «Монитера», объяснил мне значение буковой веточки, находящейся на стене перед моей постелью. Она освящается в Вербное воскресенье в церкви и сохраняется целый год. Вероятно, она играет роль предохранительного средства против болезней, злых духов, ведьм и других, фигурирующих в народном суеверии французов.
В девять часов меня позвали к шефу. Я должен по имеющимся у меня актам составить статью о нашем положении относительно американских кораблей с военной контрабандой. Руководящим пунктом должна быть тринадцатая статья договора 1799 года. Мы не можем захватывать такие корабли, но можем удержать их у себя в течение войны или же должны взять себе контрабанду под квитанцию, и в обоих случаях должны выдать вознаграждение. Эта статья была тотчас же написана и положена в ящик писем канцелярии.
Понедельник, 16-го января. Мокрая погода. Небо покрыто облаками. Юго-западный ветер. Можно опять смотреть вдаль, но со вчерашнего дня не слышно ни одного выстрела. Что это значит: прекращается ли бомбардировка, или ветер относит звуки выстрелов?
Утром читал письмо Трошю к Мольтке, в котором тот жалуется, что наши выстрелы с южной стороны Парижа попадали в госпитали и другие тому подобные убежища, хотя эти последние и были обозначены знаменами. Автор письма полагает, что это не могла быть случайность и указывает на международные договоры, в силу которых эти учреждения должны быть неприкосновенны. Мольтке решительно отрекся от всякой преднамеренности. Гуманность, с которою мы ведем войну, а также и характер, который со стороны французов придан ей с четвертого сентября, защищают нас ото всякого подозрения. Как скоро чистый воздух и меньшее отдаление наших батарей от Парижа позволят различать женевские знамена на указанных строениях, то будут приняты все меры, чтобы избегать случайного повреждения их. Позднее телеграфировал о преследовании Шанзи нашими войсками. Еще до обеда отправил телеграмму, сообщающую о занятии лагеря в Конли и об успешном сопротивлении генерала Вердера на юге от Бельфора громадному перевесу сил четырех французских корпусов.
За обедом присутствовали в качестве гостей Плесс и Мальтцан. Мы узнали, что манифест немецкому народу будет прочтен послезавтра на орденском празднике, который должен произойти в зеркальной зале здешнего замка. Король будет там среди блестящего собрания провозглашен императором. При этом будут присутствовать депутации от войск со знаменами, генералитет, союзный канцлер и несколько владетельных особ.
Далее слышно, что шеф изменил свое мнение относительно пропуска Фавра из Парижа и написал ему письмо, из которого можно заключить об отказе. Канцлер замечает:
«Фавр со своим требованием пустить его на лондонскую конференцию поступает как дети в игре «Лисица в норе». Они колотят по ней и добиваются того, что она переходит в другое место, где ее уже нельзя поймать. Он должен расхлебать кашу, которую заварил. Этого требует его честь; я так ему и написал».
Весьма возможно, что это изменение взгляда произведено статьей, напечатанной в «Norddeutsche Allgemeine-Zeitung», отмеченных мною для него статей из газеты «Siécle» представительницы взглядов Гамбетты, выражавшей мысль: будто пропуск Фавра в Лондон был бы признанием настоящего французского правительства с нашей стороны [26] . Статья была отправлена к королю и в Лондон.
Вечером я видел переписку между Фавром и канцлером.
Я сделаю здесь обзор всему происшедшему по этому поводу с ссылкою на документы, которые впоследствии мне сделались известными.
Семнадцатого ноября Фавр в качестве министра иностранных дел получил посредством депеши, отправленной Шодорди из Тура от одиннадцатого ноября, известие, сообщенное из Вены, что русское правительство считает себя вследствие нарушения трактата 1856 года уже не связанным им. Фавр ответил тотчас же, хотя до получения официального известия сохранял полную сдержанность и указывал без замедления на право Франции, по которому она должна быть призвана к обсуждению декларации русского правительства. Тогда начались устные и письменные переговоры об этом деле между различными державами и временным правительством, причем со стороны Франции старались привлечь на свою сторону представителей держав в пользу того, чтобы представитель Франции имел обязанностью на конференции представить совершенно иное объяснение (нежели толкование трактата 1856 года), в отношении которого нельзя уже давать никакого уклончивого ответа. Турская делегация разделяла это мнение, но полагала, что приглашение Европы на конференцию должно быть ею принято, если даже раньше не было бы достигнуто ни обещания, ни перемирия. Гамбетта писал тридцать первого декабря Фавру: «Вы должны быть готовы оставить Париж и отправиться на лондонскую конференцию, если, как думают, Англии удастся доставить вам паспорт». До получения этого письма Фавр сообщил Шодорди, что правительство решилось иметь представителя Франции на лондонской конференции, если «она будет туда призвана правильным путем», для чего парижский представитель Англии вследствие словесного приглашения доставит требуемый пропуск. Это было принято английским кабинетом. Шодорди известил Фавра депешей, полученной в Париже восьмого января, что он, Фавр, назначен правительством быть представителем Франции на конференции. Это сообщение подтверждалось письмом, помеченным двадцать девятым декабря и полученным в Париже десятого января, писанным лордом Гранвиллем Фавру. В нем упоминалось: «Господин де Шодорди сообщил лорду Лайонсу, что вашему превосходительству предложено отправиться представителем Франции на конференцию, и просил меня в то же время доставить вам паспорт, который дозволил бы пройти через линии, занятые прусскими войсками. Я не замедлил тотчас же обратиться к графу Бернсдорфу с требованием этого паспорта, который вам должен был быть доставлен немецким офицером, посланным в качестве парламентера. Господин фон Бернсдорф известил меня вчера, что такой паспорт будет к услугам вашего превосходительства, как только будет прислан для этого из Парижа офицер в немецкую главную квартиру». Он прибавлял к этому, что он не может быть передан немецким офицером до тех пор, пока не будет дано удовлетворения за офицера с парламентерским флагом, в которого были сделаны выстрелы. Г. Тиссо известил меня, что пройдет много времени, прежде чем это сообщение будет прислано вам от турской делегации, и я посоветовал графу Бернсдорфу другой путь, чтобы доставить вам желаемое. Я надеюсь, что ваше превосходительство позволит мне воспользоваться этим случаем, чтобы выразить вам мое полное удовольствие по поводу вступления моего с вами в личные сношения и пр.».
Фавр увидал в этой приписке признание настоящего французского правительства и приглашение, которым он мог воспользоваться, чтобы в Лондоне замолвить державам слово в пользу дел Франции. В циркуляре, разосланном им двенадцатого января французским посланникам, он говорил:
«Вызываемое непосредственно этими депешами правительство не могло, не отказываясь от прав Франции, уклониться от приглашения, которое оно получило на свое имя. Можно полагать с полной уверенностью, что момент для выяснения нейтрализации Черного моря выбран неудачно. То обстоятельство, что в этот решительный час, когда Франция одна борется за свою честь и существование, такой шаг сделан европейскими державами по отношению к французской республике, – заслуживает особого внимания. Это запоздалое начало оказания справедливости – исполнение долга, от которого уже более нельзя отказываться. Он освящает авторитетом международного права перемену правления и выдвигает на сцену, на которой решаются судьбы мира, нацию все-таки свободную, несмотря на свои раны перед лицом своего повелителя, приведшего ее к погибели, и претендентов, желающих завладеть ею. Кто же не чувствует, что Франция, допущенная к совещанию с представителями Европы, получает неоспоримое право поднимать перед ними свой голос? Кто будет препятствовать ей, если она, опираясь на вечные законы справедливости, будет защищать основы, обеспечивающие ее независимость и ее достоинство? Она не уступит ни того ни другого. Наша программа неизбежно остается тою же, и Европа, приглашающая того, кто установил ее, хорошо знает, что мы имеем и охоту, и обязанность поддержать ее. Поэтому не следует медлить, и правительство совершило бы тяжелую ошибку, если бы оно отклонило сделанное ему приглашение. «Признавая это, оно думало, так же как и я, что министр иностранных дел, если только дело не идет о высших интересах, не может оставить Париж во время бомбардировки в то время, когда враг устремляется на город. (Следует длинная сантиментальная жалоба на вред, причиняемый «яростью нападающих» намеренно, с целью распространения ужаса церквам, лазаретам, детским помещениям и т. п., затем шло далее.) Наше храброе парижское население чувствует возрастание своего мужества вместе с опасностью. Твердое, возбужденное, решительное, оно не склонится перед врагом, оно будет более чем прежде бороться и побеждать, и мы будем с ним. Я не могу подумать разлучиться с ним в эту критическую минуту. Быть может, наши протесты, направленные к Европе, так же как и к членам дипломатического корпуса, оставшимся в Париже, достигнут скоро своей цели. Англия должна понять, что до того времени мое место среди моих сограждан».
Фавр высказал то же самое за два дня до полученного ответа на письмо Гранвилля, но только в первой половине, где он говорит: «Я не приписываю себе права оставить моих сограждан в такую минуту, когда они являются жертвами подобного насилия против безоружного населения» (тогда как за несколько строк вперед он писал о сильном укреплении с двумястами тысяч солдат и милицией). Затем он продолжал: «Далее сношения между Парижем и Лондоном по вине командующего осаждающей армии (как это наивно!) так продолжительны и неверны, что я, несмотря на мое доброе желание, не могу ответить тотчас же на вашу депешу. Вы известили меня, что конференция соберется третьего февраля и продолжится, вероятно, целую неделю. Извещенный об этом десятого января вечером, я не мог своевременно воспользоваться вашим приглашением. Кроме того, господин фон Бисмарк, переславши мне ваше письмо, не присоединил к нему пропуска, который, безусловно, необходим. Он требует, чтобы французский офицер явился в главную квартиру за этим пропуском, опираясь на объявление, которое он отправил к парижскому губернатору по поводу случая с парламентером 25-го декабря. Господин фон Бисмарк прибавляет к тому, что прусский главнокомандующий до получения удовлетворения приказал прекратить всякие сношения посредством парламентеров. Я не буду исследовать, насколько подобное решение, противоречащее военным законам, составляет безусловное отрицание высшего права, которое необходимость и человечность поддерживают всегда к выгоде воюющих сторон. Я удовольствуюсь тем, чтобы заметить вашему превосходительству, что губернатор Парижа поторопился, приказавши сделать расследование случая, указываемого графом Бисмарком, и что он, извещая его об этом, довел до его сведения о более многочисленных случаях со стороны прусской стражи, но на которые тот никогда не опирался для прерывания обмена обыкновенных сообщений. Господин фон Бисмарк, по-видимому, признает, хотя бы отчасти, справедливость этих замечаний, так как он поручил сегодня послу Соединенных Штатов известить меня, что сегодня при взаимных исследованиях этого дела будут вновь восстановлены сношения посредством парламентеров. Поэтому нет никакой необходимости, чтобы французский офицер отправлялся в прусскую главную квартиру, и я войду в сношение с послом Соединенных Штатов, чтобы получить пропуск, приготовленный для меня. Как скоро я буду иметь его в руках и положение Парижа позволит мне, я отправлюсь в Лондон, уверенный наперед, что буду не напрасно взывать от имени моего правительства к принципу права и нравственности, поддержать который имеет для Европы весьма большой интерес».
Вот что писал Фавр. Положение Парижа еще не изменилось; протесты, представленные Европе, не положили конца кризису, а Фавр тринадцатого января, то есть через три дня после своего письма к Гранвиллю и на другой день после отсылки своих циркуляров представителям Франции в других государствах прислал следующую депешу германскому союзному канцлеру:
«Господин граф! Лорд Гранвилль сообщает мне депешей двадцать девятого декабря прошлого года, полученной мною десятого января, что ваше сиятельство по ходатайству английского кабинета имеете выдать мне пропуск, необходимый для уполномоченного Франции на лондонской конференции, чтобы пройти через прусские линии. Так как с этою целью назначен я, обращаюсь к вашему сиятельству с просьбою о присылке мне этого паспорта на мое имя в возможно непродолжительном времени».
Я сообщаю все это только с тем намерением, чтобы показать различие между характером Фавра и образом действий Бисмарка. Нужно только сравнить приведенные выше письма первого со следующими выражениями последнего; в первом случае всюду нерешительность, двусмысленность, шутка, фраза и даже противоречие тому, что за несколько строк говорилось с увлечением и с еще большим увлечением высказывалось в других документах. Здесь же перед нами человек убежденный, простой, естественный и чисто деловой. Канцлер ответил Фавру шестнадцатого января (я пропускаю вступительные слова) следующим образом:
«Ваше превосходительство полагает, что по предложению королевского великобританского правительства пропуск для вас лежит уже у меня готовым с тою целью, чтобы вы могли принять участие на лондонской конференции. Но это предположение неверно. Я никогда не согласился бы на официальные сношения, которые в основе своей основаны на предположении, что правительство национальной обороны имеет право действовать от имени Франции до тех пор по крайней мере, пока оно не будет признано самим французским народом.
Я предполагаю, что командиры наших аванпостов сообщили вашему превосходительству свои полномочия относительно пропуска вас через немецкие линии, если бы ваше превосходительство справились о том у начальства осаждающей армии. Последнее не имеет права касаться вашего политического положения и цели вашего путешествия, и разрешение военных властей пропускать вас через линии предоставило бы послу его величества короля в Лондоне полную свободу в вопросе, насколько сообразно международному праву, ваши объяснения могут быть признаны за объяснения Франции, принять надлежащее положение и с своей стороны найти формы для избежания впредь какого-либо предразрешения. Этот путь официальным объяснением цели вашего путешествия и официальным требованием пропуска для представительства Франции на конференции ваше превосходительство отрезали себе. Представленные выше политические соображения, для поддержания которых я ссылаюсь на то объяснение, которое ваше превосходительство обнародовали, не позволяют мне исполнить ваше желание относительно присылки вам подобного документа».
«Сообщая вам об этом, могу только представить вам и вашему правительству обсудить, нельзя ли найти другой путь, устраняющий вышеприведенные опасения и всякий прецедент, вытекающий из вашего присутствия в Лондоне.
Но даже если б подобный путь был найден, позволю себе спросить, удобно ли теперь вашему превосходительству оставить Париж и ваш пост в тамошнем правительстве, чтобы принять личное участие в конференции о Черном море в тот именно момент, когда в Париже выдвигаются интересы, гораздо важнейшие для Франции и Германии, чем XI статья трактата 1856 года. А равно ваше превосходительство оставили бы в Париже дипломатических агентов и их членов нейтральных держав, которые там остались или, вернее, удержаны, хотя давно уже получили пропуск через прусские линии, и которые вследствие этого тем более подлежат покровительству и заботам вашего превосходительства как министра иностранных дел фактического правительства.
Поэтому я не могу предположить, чтобы ваше превосходительство во время критического положения вещей, в создании которого вы принимали столь существенное участие, отняли у себя возможность содействовать решению, ответственность за которое падает и на вас».
* * *
Далее продолжаю дневник.
Вторник, 17-го января. Теплая погода; очень ветрено. Выстрелов не слыхать. Между тем бомбардировка продолжалась удовлетворительным образом с малыми потерями с немецкой стороны, о чем я и телеграфировал по приказанию шефа и вместе с тем извещал, что потери французов во время шестидневного сражения у Леманса гораздо значительнее, чем предполагались первоначально. В наших руках находятся 19 орудий и 2200 не раненных пленных.
За столом обедали саксонский граф Ностиц-Вальвиц, определяемый на должность при здешнем управлении, и господин Винтер или фон Винтер, назначаемый префектом в Шартр. Когда разговор коснулся будущих военных действий, шеф заметил:
– Я думаю, если Бог поможет нам овладеть Парижем, не занимать его нашими войсками. Службу в нем может отправлять национальная гвардия; также французский комендант. Мы займем только форты и укрепления. В город пропустим всякого, но никого не выпустим. И там будет большая тюрьма, пока не сделают уступок для мира.
Затем он говорил с Ностицем о генеральных советах и выразил мнение, что следует стараться приобрести сочувствие членов их. Советы эти представляют хорошую почву для дальнейших политических действий. «Что же касается военной стороны дела, – продолжал он, – то я того мнения, что мы должны больше сосредоточиваться, не заходить дальше известного предела, но внутри этого предела взять в руки все и смотреть, чтобы власти управляли надлежащим образом, именно могли бы взыскать подати. Военные имеют центробежную карту действий, а я – центростремительную. Если в занятом нами округе не все может быть занято гарнизонами, то мы будем посылать по временам летучие колонны в местности, в которых происходят движения, с правом расстреливать, вешать и казнить. После двух-трех раз такой посылки войск население примется за ум.
Винтер полагал, что одно только появление таких экзекуционных отрядов в таких местах многое уже значит.
«Не знаю, – сказал шеф, – умеренно вешать все-таки влияет лучше, так же как если послать пару гранат и сжечь пару домов. Вспоминаю, кстати, баварца, сказавшего прусскому артиллерийскому офицеру: «Что вы думаете, товарищ, надобно ли деревню поджечь или только умеренно опустошить? Ответа я не знаю».
Затем он рассказывал, что в Берлине много людей желают ему добра. «Так, недавно они устроили общество для присылки мне партии превосходных сигар; они тяжелы, но знатоки хвалят; от множества дел я забыл название общества». Бухер сообщил – если я не ошибаюсь, – что общество носит название братства Якоби. «А теперь, – продолжал шеф, – они прислали мне прекрасный мех белого медведя. Это весьма хорошо во время кампании. Я пошлю его домой».
Это обстоятельство заставило его вспомнить, что однажды он сильно желал отправиться из Петербурга на охоту белых медведей на Двину, к Архангельску, но жена его не отпустила, притом для этого понадобилось бы не менее шестинедельного отпуска. Там, на севере, находится невообразимое количество дичи, в особенности рябчиков и тетерок, которых финны и самоеды стреляют тысячами из дурных ружей и с дурным порохом. «Тетерку можно там, я не говорю, руками словить, но палкою убить, – прибавил он. – В Петербурге их множество на рынке. Вообще для охотника в России недурно. Даже и холод не так невыносим; так как каждый привык уже принимать против него меры: все дома нагреваются надлежащим образом, даже лестницы и прихожие – даже и манеж – и никому не приходит в голову зимою делать визиты в цилиндре, напротив, одеваются в шубу и меховую шапку».
Не помню, по какому поводу, он снова заговорил о своем вчерашнем письме Фавру и сказал: «Я дал ему ясно понять, что нельзя одобрить, и я не могу поверить, что он, который вместе с другими устроил дело 4 сентября, не дождется вместе с другими и конца его. Я, впрочем, написал письмо по-французски, во-первых, потому, что рассматриваю его не как официальное сообщение, а как частное, а затем и потому, чтобы они могли прочесть его на пути от самых французских линий до вручения лично Фавру».
Ностиц спросил, на каком языке вообще происходит дипломатическая корреспонденция.
«Пишется по-немецки, – сказал шеф. – Прежде писали по-французски. Но я ввел немецкий язык. Но только с такими кабинетами, которых язык у нас понимают. Сообщения от Англии, Италии и Испании при нужде можно прочесть; но от России – нет. Я, кажется, единственный в министерстве иностранных дел, понимающий по-русски. От Голландии, Дании и Швеции – тоже нет, языки их не изучаются у нас. Эти пишут по-французски, и на этом же языке им отвечают; король, впрочем, приказал, чтобы военные говорили с населением только по-немецки; оно может учиться нашему языку; ведь и мы изучали их язык. С Тьером (он, вероятно, хотел сказать с Фавром), мы говорили в Феррьере по-французски. Но я ему сказал, что это потому, что я с ним не веду официальных переговоров. Он смеялся над этим; однако я ему сказал, вы увидите при заключении мира, что мы говорим по-немецки».
За чаем рассказывали, что бомбардирование на южной стороне приостановилось, так как один генерал (который всегда был против бомбардировки) поставил на своем. Между тем надеются, что наследный принц Саксонский с северной стороны будет энергически действовать и произведет обстреливание. С своей стороны мы также не допустим предупредить себя и не дадим причин говорить, что саксонцы вынудили капитуляции. Очевидно, все это слухи. По крайней мере подошедший к обеду граф Денгоф объяснил, что наши осадные орудия и с южной стороны Парижа не бездействуют, но выстрелов их не слышно по причине сильного юго-западного ветра, а также, во всяком случае, теперь стреляют не так много, как в предыдущие дни. Впрочем, вероятно, завтра от самого Сен-Дени орудия откроют по городу огонь, который неожиданно поразит парижан северных частей города.
Вечером вычитал из «Монитера», что в последнее время опять убежали из плена, нарушив данное ими честное слово, 28 офицеров, в том числе батальонный командир и 7 ротных командиров, итого до сих пор изо всех мест Северо-Германского союза убежало 108 таких «честных людей». Некоторые из них, в том числе лейтенант Маршезо, пробиравшийся тайком из Альтоны в женском платье, опять пойманы, а полковника Соссье, убежавшего из Грауденца за русскую границу, тамошние власти схватили и отправили в Торн.
Среда, 18-го января. Небо заволокло тучами, воздух чистый, так что видать далеко; теплая погода, немного ветрено. Рано утром читал входящие бумаги и газеты. Вольманн говорил мне, что есть указ, которым наш шеф произведен в генерал-лейтенанты.
Гацфельд и Болен получили сегодня кресты. Другие, кажется, также получат их, и некоторые, по-видимому, высказывают сильное желание получить эту награду. Насколько и низшие чины ценят ее и насколько полезно государству обыкновение украшать крестами, доказывается словами нашего молодца Т., сказавшего мне сегодня утром: «Уверяю вас, господин доктор, я бы отдал тотчас все мои суточные деньги, если бы получил Железный крест». Я верю этому, хотя мне это было трудно понять; так как суточные его деньги, от которых он отказывается, в полтора раза больше его обыкновенного содержания.
Между 12 часами и половиной второго в большой зале замка происходили орденский праздник и провозглашение Германской империи и императора с военной пышностью. Говорят, был дан весьма удовлетворительный и торжественный спектакль. В это время я с Вольманном делали далекую прогулку, и, когда по возвращении мы проходили от ограды avenue de Saint Cloud вверх по аллее и проходили улицу rue de Saint Pierre, мы слышали раскаты криков «ура!» на площади Place d’armes. Они относились к королю, я хотел сказать – императору, возвращавшемуся после церемонии домой. За столом отсутствовал шеф, обедавший у императора. Вечером шеф призывал меня два раза, чтобы дать различные поручения. При этом он говорил необыкновенно слабым голосом и выглядел усталым и утомленным.
Министр получил из Парижа от некоторых оставшихся там дипломатов от имени швейцарского посланника Керна письмо, в котором просят его ходатайствовать об изыскании мер, которые дозволили бы находящимся под защитою подписавшихся спастись из города до начала бомбардирования. При этом подвергается сомнению наше право обстреливать Париж и указывается, что мы намеренно стреляем по зданиям, которые следовало бы щадить. На это можно возразить, что мы неоднократно (уже в конце сентября, затем много раз в октябре) обращали внимание живущей в Париже нейтральной части жителей через их посольства на невыгоды, которым подвергается город от продолжающегося сопротивления. Даже мы по месяцам пропускали безо всяких затруднений через наши линии всякого нейтрального, который мог доказать свое происхождение и желал удалиться; теперь же по военным соображениям мы можем позволить это только членам дипломатического корпуса. Если же сказанным дозволением обезопасить себя и свою движимость до сих пор не воспользовались некоторые нейтральные, то в этом не наша вина: они либо не желали сами, либо не смели под давлением парижских соседей. Если мы бомбардируем Париж, то на это мы имели полное право с международной точки зрения, потому что Париж есть крепость, он – главная крепость Франции, укрепленный лагерь для большой армии, которая оттуда действует наступательно против нас и затем уходит туда под свое прикрытие. Вследствие этого нельзя настаивать, чтобы наши генералы оставили без нападения эту точку опоры противника или же взяли ее в бархатных перчатках. Впрочем, наша цель бомбардирования состоит не в разрушении города, но в принуждении его к сдаче как крепости. Если наш огонь делает пребывание в Париже неудобным и опасным, то те, которым это приходится испытать, не должны были поселиться в укрепленном городе или же оставаться в нем и со своими жалобами должны обращаться не к нам, а к тем, которые обратили Париж в крепость и верки его в настоящее время употребляют против нас как военным средством. Наконец, наша артиллерия не стреляет намеренно в частные дома и благотворительные учреждения, как госпитали и проч.; и это само собою разумеется, ввиду той заботы, с которой мы соблюдаем женевские договоры. Только случайно при том огромном расстоянии, с которого мы стреляем, ядра падали в дома лиц, не имеющих ничего общего с войною. Нельзя привести никаких доказательств, чтобы Париж, откуда началась война с нами и где в настоящее время главным образом выходит война, представляет такие случаи, которые могли бы воспретить энергическое обстреливание с целью принудить сдачу города. В этом смысле написал статью.
Четверг, 19-го января. Погода пасмурная. Почта сегодня не пришла; по расспросам оказалось, что во Витри-ла-Вилль, в местечке, лежащем близ Шалона, разрушили железную дорогу. С 10 часов утра слышна довольно сильная канонада, в которой под конец принимают участие и полевые орудия. Я написал две статьи о сантиментальном отчете «Journal des Débats», по мнению которого наши гранаты имеют целью поражать только санитаров, матерей и дочерей, больных дам и колыбели с малютками. О, ужасно злонамеренные гранаты!
Сегодняшняя пальба, как рассказывал Кейделль за завтраком, зависела от новой большой вылазки, которую парижане предприняли в числе 24 батальонов и многих орудий против наших позиций между Ласелем и Сен-Клу. Около двух часов, когда ясно было слышно шипение и жужжание митральез, а следовательно, когда французские орудия находились по прямой линии на расстоянии полумили от Версаля, шеф сел на коня и отправился к марлийскому водопроводу, куда также должны были прибыть король и наследный принц. Я и Вольманн едем также туда. На дороге мы встретили в Роканкуре возвращавшегося мушкетера, который на наш вопрос, как идут дела, сказал, что для нас они идут дурно, неприятель уже в лесу, на холмах сзади Ласеля. Мы этому не поверили, так как в таком случае в этих местах было бы большое движение и выстрелы были бы слышны яснее. На некотором расстоянии дальше мы встретили наследного принца, возвращающегося в Версаль. Следовательно, опасности больше нет. На высоте Марли, у прямой аллеи, ведущей на север, нас не пускали дальше. Мы прождали здесь некоторое время при резком ветре и густо падавшем снеге между стоявшими здесь долгобородыми гвардейского ландвера. Король и канцлер, говорят, находятся у водопровода. Когда небо прочистилось, мы ясно увидели, как на Мон-Валерьяне дали три последовательных выстрела и как шанцы его укрепления дали 8 залпов. И в наших батареях на западе по той стороне Сены мелькает иногда огонь, а в одной из деревень, лежащей в долине реки, кажется, горит дом. Когда казалось, что огонь намерен прекратиться, мы повернули назад.
В Версале между тем дело, кажется, возбудило опасение, потому что когда мы проехали через город, то увидели, что сюда вступили баварцы, которых в другое время можно было встретить только в отдельности. Нам говорили, что густые массы их стоят на place d’Armes и avenue de Paris. Французов же расположилось у подошвы Мон-Валерьяна и на полях к востоку от него, говорят, до 16 000 человек. Говорят, они взяли укрепление Монтрету, а также в их руках – деревня Гарш, находящаяся на расстоянии три четверти часа отсюда, и западная часть Сен-Клу. Опасаются, что они завтра подвинутся дальше вперед и принудят нас очистить Версаль. Конечно, это, наверно, преувеличено.
Разговоры за столом, казалось, подтверждали это предположение. Впрочем, не говорили, будто уже есть опасность. У нас был в гостях тайный советник Лепер, кажется, унтер-статссекретарь в министерстве двора. Сперва говорили о том, что опасность, угрожавшая нашим соединительным путям с Германией со стороны юго-востока, миновала, так как генерал Бурбаки, три дня сильно теснимый Вердером, не в состоянии был его отбросить (вероятно, вследствие слуха о приближении Мантейфеля), отказался от намерения освободить Бельфор и совершенно отступает. При этом случае шеф вспомнил о донесении по поводу неполучения податей в общинах в занятой нами части Франции и выразил мнение, что трудно, даже невозможно везде держать гарнизоны для принуждения населения вносить подати. Потом он продолжал:
«Но этого и не нужно; можно достигнуть и летучими колоннами, пехотою, которой можно придать конную артиллерию с несколькими орудиями. Не нужно входить в деревни, но можно им просто объявить: если вы следующие с вас подати не внесете в течение двух часов, тогда в вас будут стрелять гранатами. Если они увидят, что дело серьезное, то будут платить. В других случаях можно бомбардировать, и это тоже может помочь. Они должны помнить, что ведется война».
Потом разговор коснулся денежных наград, ожидаемых после заключения мира, и от них шеф перешел к наградам 1866 года и, между прочим, выразился: «Не следовало бы давать денег. Я по крайней мере долго противился, но наконец уступил искушению. Лучше было бы давать государственные имущества, как в 1815 году, и для этого был благоприятный случай».
Пятница, 20-го января. Погода опять туманная; выстрелов не слышно. До обеда узнали мы, что парижане вчера вечером оставили свои позиции и с музыкою отступили в город. Наши потери во время стычки, кажется, невелики, но потери неприятеля очень значительны. С запада получено известие, что Тур без сопротивления занят нашими войсками с северной стороны, что Гебен после семичасовой битвы у Сен-Кантена разбил французов и взял в плен 4000 не раненых солдат.
В 12 часов меня позвали к шефу. Он желает, чтобы его ответы на отношение Керна и на письмо Фавра, в котором отказывает ему в пропуске, были напечатаны в «Монитере».
За обедом присутствовал опять Болен и в качестве гостей Лауер и Кнобельсдорф. Шеф был весел и разговорчив. Он рассказывал, между прочим, что во время пребывания своего во Франкфурте его часто приглашали к великогерцогскому столу в Дармштадте. Там происходили превосходные охоты. Потом он продолжал: «Но я имею причины полагать, что великая герцогиня Матильда меня не терпела. Она кому-то сказала: он торчит всегда там и выглядит, как будто он имеет такое же значение, как великий герцог».
Когда мы курили сигары, вдруг явился в дождевом плаще адъютант наследного принца (майор Ганке или Камеке) с известием, что прибыл граф (фамилия была сказана непонятно), чтобы потребовать от имени и по поручению Трошю двухдневное перемирие для уборки после вчерашней вылазки раненых и погребение убитых. Шеф возразил, этого нельзя дозволить французам; для уборки раненых и погребения убитых достаточно нескольких часов; впрочем, убитым все равно: лежат ли на поверхности земли или под землею. Вскоре явился опять майор и доложил, что король идет сюда, и менее чем через четверть часа прибыл его величество, а также наследный принц. Они пошли с канцлером в залу, где был редактирован ответ посланцу Трошю в отрицательном смысле.
Около 9 часов Бухер прислал мне написанные карандашом несколько строк, извещавшие, что копия письма к Керну по приказанию шефа появится завтра в «Монитере», но письмо к Фавру надобно отложить. Тотчас же послал надлежащие указания Бамбергу, получившему уже, вероятно, оба письма из канцелярии.
За чаем Вагнер рассказывал различные анекдоты из 1848 года. Он уговорился с пресловутым Линденмиллером, если консервативная партия одержит верх, то Вагнер, а если партия Миллера победит, то Линденмиллер должен позаботиться о том, чтобы противники не были повешены. «Когда наша партия взяла верх, – продолжал он, – я пошел к президенту полиции и просил его позволить мне облегчить партии Миллера тягость заключения, и тогда я послал ему, предварительно напомнив о нашем уговоре, дюжину вина и 6 копченых гусей». Другая история была следующая: «Когда Гельд, игравший тогда в Берлине главную роль и пользовавшийся большим значением у низших классов народа, однажды созвал народное собрание, мы велели напечатать объявление и приклеить его на всех углах, гласившее приблизительно так: Гельд, отец народа, вчера, во время собрания там-то, делал сбор в пользу нуждающегося народа, и всего собрана значительная сумма в 1193 талера, столько-то зильбергрошей и столько-то пфеннигов. Нуждающиеся могут получить свою долю пособия у него на квартире по такой-то улице, в доме таком-то, квартиры номер такой-то. Разумеется, он не сделал никакого сбора, но мы воспользовались удовольствием навязать ему на шею множество просителей, не хотевших верить, что сбора не было сделано».
Суббота, 31-го января. Рано утром густой туман. Не слышно выстрелов. В половине десятого приносят «Монитер», содержащий письмо шефа к Фавру. Плохо! Значит Бамберг получил мою записку после напечатания номера. В 10 часов меня позвали к министру, который, впрочем, ничего не говорил о несчастье, хотя держал газету перед собою. Он лежал еще в постели и желал, чтобы я вырезал для короля протест Шамбора против бомбардирования. Я написал потом статью для немецких газет и сделал извлечение для здешней газеты.
Вечером обедали у нас Фойгтс-Ретц, князь Путбус и баварский граф Бергем. Баварец сообщил приятное известие, что версальские договоры прошли во второй камере двумя голосами больше требуемого большинства двух третей голосов. Итак Германская империя готова и со всей формальной стороны. Шеф по поводу этого факта предложил обществу выпить за здоровье баварского короля, который это дело все-таки привел к благополучному концу. «Я всегда думал, – продолжал он, – что для нас будет достаточен один голос; на два голоса я не надеялся; я думаю, что этому помогли последние благоприятные известия с театра войны».
Затем упоминалось, что французы вчерашнюю вылазку сделали в гораздо большем числе, чем до сих пор думали, вероятно, в числе более 80 000 человек; что укрепление Монтрету действительно находилось несколько часов в их руках, так же как и часть деревни Гарш и Сен-Клу, но что во время этого штурма они понесли огромные потери (говорили о 1200 убитых и 4000 раненых). Шеф заметил:
«Скоро должна последовать капитуляция; я думаю, на следующей неделе. После капитуляции они получат от нас съестные припасы, разумеется; но пока они не выдадут 700 000 ружей и 4000 пушек, они не получат ни куска хлеба, и потом никто не будет выпущен. Мы займем форты и укрепления и будем их так долго держать на пище св. Антония, пока они не заключат с нами такого мира, какой нам нужен. В Париже есть еще много разумных людей, с которыми можно иметь дело».
Затем говорили о какой-то мадам Кордье, которая жила здесь несколько дней и на днях несколько часов сряду прохаживалась по севрскому мосту; казалось, она намеревалась проникнуть в Париж или доставить туда что-либо. Она красивая, вдова, уже в летах, и, если я не ошибаюсь, дочь Лафитта и сестра жены кавалерийского генерала маркиза Галиффе, игравшей роль между особами при бывшем дворе Наполеона и имевшей приятную связь с принцем Уэльским [27] . Кажется, у нас ее принимали за аристократическую лазутчицу; удивлялись, что ее терпели здесь, и полагали, что у ней есть друзья и приверженцы между высшими военными. Шеф выразился:
«Я вспоминаю ее прибытие во Франкфурт лет 15 или 16 назад. Там она, несомненно, была уверена, что она будет играть роль как прекрасная женщина и парижанка. Но случилось не так. Она имела простые манеры и мало такта; она не была так хорошо воспитана, как франкфуртские дамы финансового мира, приобретающие вскоре то и другое. Так, я знаю, что однажды она выехала в сырую и грязную погоду в розовом атласном платье, совершенно убранном кружевами. По этому поводу франкфуртские дамы говорили, что она бы лучше поступила, если бы обшила платье металлическими билетами; тогда можно скорее понять, что она хочет показать».
Потом разговор перешел на ученое объяснение различия титулов: «германский император» и «император Германии», а также упоминалась возможность «императора немцев». Спустя некоторое время шеф, до тех пор молчавший, во время этих прений спросил: «Не знает ли кто из вас, господа, как по-латыни называется фарш?»
– Farcimentum, – ответил Абекен.
– Farcimen, – сказал я.
Шеф сказал, смеясь: «Farcimentum или Farcimen, это все равно. Nescio quid mihi magis farcimentum esset».
Воскресенье, 22-го января. Погода ясная, но нехолодная. Как вчера, так и сегодня выстрелов слышно мало. Для меня теперь настоящее время оставить эти места, так как я чувствую себя очень усталым и утомленным. До обеда написал статью для немецких газет, другую – для «Монитера» и по этому случаю был у шефа два раза.
За обедом присутствовали саксонец фон Кеннериц, красивый мужчина с орлиным носом и большою бородою, генерал Штош и Лепер. Из беседы нечего занести в дневник, разве только то, что шеф снова высказал мнение, что справедливо было бы давать раненым Железный крест. После обеда читал проект и другие акты и, между прочим, основательное донесение Гефтера об императорском титуле. Добросовестный ученый изучил множество сочинений по тому предмету, который шеф уподобил фаршу, но в приведенных им титулах, насколько я понял при спешном чтении, нигде не встречаются: германский император, император Германии, германский король и король Германии.
Вечером в двух статьях обратил внимание публики на случай, ясно характеризующий жестокость французов во время этой войны, воспламененной Гамбеттой, полную достоверность которого подтверждают следующие донесения:
«По приказанию батальонного командира нижеподписавшийся докладывает, что он во время марша к Вандому, 1-го января, получил донесение, что в Вилларии находится убитый кирасир, у которого выколоты оба глаза. Нижеподписавшийся видел этого кирасира на телеге, сопровождаемой товарищами его. Кирасир этот имел несколько ран в живот от ножа и штыков, огнестрельную рану в плечо, и глаза были у него вырезаны из орбит. Казалось, труп находился уже день или два в таком состоянии.
фон Людериц
первый лейтенант 4-го вестфальского пехотного полка № 17».
«Свидетельствую, что 1-го января в Вилларии видел труп кирасира, у которого оба глаза выколоты. Я не предпринимал подробного осмотра трупа, но думаю, что можно получить более точные сведения. Тело сопровождалось драгунами 16-го полка.
Тюильри, 9 января 1871 г.
Д. Галль
врач 2-го батальона в полку № 17».«Дивизион (20 пехотный дивизион) прилагает при сем командующему генералу донесение первого лейтенанта фон Людерица 4-го вестфальского пехотного полка № 17 относительно изувечения кирасира восточнопрусского кирасирского полка № 3 как материал для внесения в список действий, противных международному праву, совершенных французами. Дивизион при этом обращает внимание на то, что неприятель во время битвы 11-го числа сего месяца употреблял разрывные пули, что замечено как людьми, так и офицерами, и что майор Блюме готов подтвердить под присягой.
Шапель, 16 января 1871 г.
Манц».Понедельник, 23-го января. Теплая, пасмурная погода. Я тоже телеграфировал, что бомбардирование с наших северных батарей идет успешно, что орудия форта Сен-Дени замолчали и что замечены пожары как в городе Сен-Дени, так и в Париже. Затем написал статью об отравлении 4 пруссаков в Руане с соответствующею моралью и дополнил собранием французских жестокостей и нарушений права по донесению доктора Розенталя об его плене у красноштанников… Почта сегодня опять не пришла, потому что вольные стрелки взорвали мост на Мозеле, между Нанси и Тулем. Все наши батареи действуют непрерывно, хотя выстрелов не слышно. Это донес гусарский лейтенант фон Услар, приехавший с форпостов для передачи шефу письма от Фавра. Чего он хочет?
За столом обедали генерал Камеке, старший командир инженерных войск осадной армии, и голубой гусар и иоаннит фон Франкенберг. Из застольной беседы нечего вносить в дневник. Вечером, после 7 часов, сам Фавр явился к нам, и канцлер совещался с ним наверху в маленькой комнате, подле своей, занимавшейся прежде старшим сыном вдовы Жессе. Совещание продолжалось около трех четвертей часа. Между тем внизу, в зале, Гацфельд, Бисмарк и Болен занимали разговором спутника Фавра, кажется, зятя его, по фамилии дель Pio. Говорят, он был, собственно, портретный живописец, но теперь выехал из Парижа вместе со своим тестем, comme secrétaire. Обоим дали поесть, что можно было достать в поспешности: котлеты, ветчину, яичницу и пр., чем, конечно, остались очень довольны бедные мученики упорства. Около четверти 11 часа оба отправились в коляске в свое здешнее жилище, находящееся на бульваре de Roi, в доме, где случайно помещаются и Штибер, и полевая полиция. Гацфельд проводил этих господ туда. Фавр имеет унылый вид и в своей одежде несколько расстроенный. Его зять, небольшой мужчина южного типа, имеет такой же вид. Услар сопровождал их сюда от самых форпостов.
Шеф в половине одиннадцатого поехал к королю и возвратился спустя три четверти часа. При входе в нашу комнату, где мы пили чай, он казался чрезвычайно довольным; затем он сел, велел мне налить себе чаю и съел кусочек сухого хлеба. Спустя некоторое время он обратился к своему двоюродному брату с вопросом:
«Знаешь это?» – насвистывая коротенькую мелодию, сигнал охотников, обозначающий, что олень убит.
– Да, хорошая охота, – ответил Болен.
– Нет, вот это, – причем шеф начал насвистывать другую мелодию. – Я думаю – дело в шляпе, – сказал он.
Болен заметил, что в таком случае Фавр выглядел «очень жалостно».
– Я нахожу, – возразил шеф, – что он поседел после Феррьера, также потолстел, вероятно, от конины. А во всем остальном он похож на человека, имевшего перед тем много горя и досады и которому теперь все – трын-трава. Впрочем, он был очень откровенен и сознался, что там внутри города все плохо. Также я узнал от него, что Трошю устранен. Теперь в городе командует Винуа.
Болен сообщил затем, что Мартинец дель Pio был крайне сдержан. Хотя они не старались у него выпытать что-либо, но раз они спросили его, что делается с виллою Ротшильда в Булоне, где, по словам Тьера, стоит генеральный штаб парижской армии; он ответил коротко, что ничего не знает об этом. А то все они беседовали с ним в шутливом тоне о хороших парижских ресторанах. Гацфельд донес по возвращении своем от обоих парижан, что Фавр был очень рад, что прибыл сюда в сумерках; завтра днем он не хочет выходить из дому, чтобы не возбудить на себя внимание и избавиться от докучливости версальцев. До ухода в свою комнату шеф спросил, нет ли кого-либо в канцелярии с четким почерком, и велел пойти с ним. Виллиш был в канцелярии и ушел с шефом наверх.
Дополнение. Сегодня после обеда был я в Salle de Jeu de Paume, знаменитом увеселительном заведении 1789 г., находящемся на узкой улице, носящей то же название, близ Place d’armes и верхнего конца avenue de Sceaux. Судя по прочитанным мною немецким сочинениям о революции, я представлял его гораздо лучше, думал, что это весьма приличный дом с великолепною огромною залою для балов и концертов. Теперь я убедился, что я ошибался. Это совершенно невзрачное здание, и зала, в которой не танцуют, а дают бал, не только не обширна, но и не роскошна. От внешней двери ведет небольшая узкая лестница. Жена портьера провела меня в залу, которая весьма просто убрана, без всяких украшений. Зала имеет около 40 шагов в длину и 20 шагов в ширину; высота, может быть, 30 футов. Внизу стена каменная, окрашенная черною краскою, сверху же дощатая. Потолок также деревянный. В дощатой части стены находятся окна, защищенные проволочными решетками от ударов мяча. Внизу вдоль залы, обращенной на улицу, и по обеим кратчайшим сторонам ее крытая деревянная галерея с окнами, снабженными также проволочными решетками. В стене четвертой стороны на высоте роста человеческого вделана черная доска, содержащая клятву 20 июня 1789 г. [28] и помещенная здесь в 1790 г. обществом «патриотов». Все остальное ничем не напоминает того, что здесь происходило. В то время как я рассматривал это историческое место, в деревянной галерее было повешено белье, а на полу были рассыпаны листья – может быть, портье там, где когда-то гремел Мирабо, занимался разведением кроликов, – кожаный же мяч и прибор для бросания мяча напоминали посетителю о собственном назначении залы.
Четверг, 24-го января. Погода пасмурная и туманная. Шеф встал раньше 9 часов и уже занимался с Абекеном. Около 10 часов он поехал к королю – или теперь надо сказать, к императору. Он возвратился только в час, когда мы сидели за завтраком. Он съел кусок жареной ветчины, выпил стакан пива «Тиволи», вздохнул и сказал:
«До сих пор я думал, что парламентская система производства государственных дел есть самая медленная. Теперь я этого не думаю. Там все-таки предложение резолюции представляет спасение. Здесь же каждый предлагает, что он думает, и, когда уже надеешься, что вот теперь все кончено, кто-нибудь явится со своим мнением, которое он уже прежде высказал и которое уже опровергнуто, и теперь снова дело находится в том же положении, в каком оно находилось вначале».
«Гм, мне даже приятнее, если оно еще не решено или если оно будет только завтра решено». Он заметил потом, что он опять ожидает Фавра и что он ему советовал уехать в 3 часа (он хочет возвратиться в Париж) из-за солдат, которые будут его окликать, а он не будет знать, что им ответить.
В половине второго Фавр опять был у союзного канцлера, совещался с ним около двух часов и затем отправился домой, причем Бисмарк-Болен проводил его до севрского моста.
За обедом, за которым подавали омары с майонезом, об этих совещаниях не было речи. Но само собою разумеется, что они касались капитуляции. Шеф говорил прежде всего о Бернсдорфе и выразился:
«До этого я еще не доходил, чтобы исписывать огромные страницы и листы о незначительнейших вещах. Вот какая куча (он показал рукою) сегодня опять пришла от него. И при этом постоянные ссылки: как я имел честь донести в моей депеше от 3 января 1863 г. № такой-то или о чем я почтительнейше доносил в моей телеграмме под № 1666. Я послал все королю, который пожелал узнать, что он хочет сказать, и написал карандашом «не понимаю».
Некто сообщил, что столько же писал и Гольц.
«Да, – сказал шеф, – и сверх того еще 6–8 листов длинных мелким почерком написанных частных писем ко мне. Он, должно быть, имел чрезвычайно много свободного времени. К счастью, я рассорился с ним и тогда эта благодать прекратилась».
Некто из сидевших за столом заметил, что сказал бы теперь Гольц, если б он мог узнать, что император – в плену, императрица – в Лондоне, и мы осаждаем и бомбардируем Париж.
«Ну, император, – возразил шеф, – не был близок его сердцу, но… но, несмотря на его влюбчивость, он все-таки не глупил бы так, как другие».
Затем вспомнили о кончине нидерландской или бельгийской принцессы, и Абекен с полным сознанием исполненной обязанности выразил свое соболезнование по случаю кончины блаженной памяти высокопоставленной особы. На это шеф заметил:
«Как это может вас так близко трогать? Здесь за столом нет ни бельгийца, ни благоприятеля их»?
Он сообщил потом, что Фавр жаловался ему, что мы стреляем в больных и слепых – в институт слепых». Я ему сказал: «Я не понимаю, о чем вы беспокоитесь. Вы делаете еще хуже, вы стреляете в наших крепких и здоровых людей. Какой варвар, вероятно, думал он».
Упоминали об Гогенлоэ и его заслугах по успеху бомбардирования, и шеф выразился: «Я предложу дать ему титул полиоркета».
Разговор коснулся затем статуй и картин времени реставрации, их неестественности и безвкусия.
«Я вспоминаю, – сказал шеф, – портрет министра Шукмана, написанный его женою – я думаю, это называлось en coquille, – его изобразили в розовой раковине и одетым во что-то вроде античного костюма, голым до сих пор (показывает до живота), как я его никогда не видал. А вот мои самые ранние воспоминания. Тогда часто давались, как тогда называли, вечерние ассамблеи, а ныне называются раутами – вечера без ужина. Мои родители обыкновенно посещали их. – Затем он описал платье своей матери и продолжал. – После был в Берлине посланник, дававший такие вечера, на которых танцевали до 3-х часов, но не давали ничего поесть. Эти вечера посещал я с моими двумя друзьями. Наконец мы, молодые люди, уничтожили это. Когда стало уже поздно, мы вынимали из кармана бутерброды и съедали их. Потом, в следующий раз, давали уже есть, но мы уже не были приглашены».Глава XVIII Переговоры о капитуляции Парижа
Среда, 25-го января. Утром рано писал письмо, статью и телеграмму, читал депеши и проекты. В числе последних не было замечательных. После обеда посетил доктора Гуда в монастыре на улице Сен-Оноре, куда он велел себя перевести. Он считает свою болезнь неизлечимою и говорит о близкой смерти. Очень жаль этого в высшей степени любезного человека!
У нас обедал граф Лендорф. Разговор шел о значительных потерях, понесенных французами во время вылазки 19-го числа, затем о наших потерях во время всей кампании. Затем материалом для разговора послужило поданное блюдо рыбы родом из Адриатического моря, присланной банкиром Блейхредером. В этом разговоре шеф принимал живое участие как знаток. Вообще, как это выказалось не раз, он любит рыбу и водных животных.
От рыб разговор перешел на устриц и их качества, на испорченные устрицы, которых Лендорф справедливо назвал омерзительными, чту можно себе представить.
Последний рассказывал потом и о прекрасной охоте и лесах князя Плесса.
Недавно король спросил его:
– Скажите мне, пожалуйста, призыв ваших лесничих в армию, вероятно, был для вас весьма неудобен?
– Нет, ваше величество, – возразил князь.
– Сколько же ваших лесничих поступило в призыв?
– Только 40 человек, ваше величество.
Мне кажется, как будто я несколько лет назад слышал подобный анекдот; только говорили о князе Эстергази, а вместо многочисленных лесничих упоминались пастухи.
Министр при этом вспомнил о своем первом путешествии в Петербург. Он поехал в телеге, так как вначале не было снега. Но потом наступила сильная метелица, и всю дорогу замело снегом, так что он подвигался только медленно вперед. При 15 градусах мороза и без сна он употребил 5 дней и 6 ночей на проезд до первой железнодорожной станции. Но затем он в вагоне так крепко заснул, что когда после 10-часовой езды они прибыли в Петербург, ему казалось, что он только пять минут назад вошел в вагон.
«Но когда не было железной дороги, – продолжал он, – было и своего рода добро. Тогда не было столько работы. Только два раза в неделю были почтовые дни, и тогда мы работали изо всех сил. Когда же почта была отправлена, все время было свободно до следующей почты».
Некто выразил мнение, что работа в посольствах, как и в министерстве иностранных дел, увеличилась более после введения телеграфов, чем после введения железных дорог. Это дало шефу повод рассказывать о донесениях посольств и вообще дипломатических агентов. Он заметил при этом, что многие донесения в своей легкой форме не имеют содержания. «Это фельетонная работа; пишется, чтобы писать что-либо. Таковы были донесения нашего консула (имя безразлично). Читаешь их и думаешь, ну вот скоро начнется дело; но ничего не бывало. Читаешь легко, и все больше, и больше. Под конец же убеждаешься, что в донесении ничего не заключается. Все пусто и глухо».
Упоминали другой пример, о военном уполномоченном, выступавшем также в роли писателя, и шеф высказал о нем свое суждение: «Думали, что он сделает много, и по количеству он сделал много – также по форме. Он пишет легко и как фельетон, но когда прочитываю его длинные, мелко и красиво написанные отчеты, то, несмотря на их величину, ничего не остается».
Затем он опять говорил об утомительных путешествиях и о далеких поездках верхом и рассказал: «Помню, после битвы у Кениггреца я провел целый день на седле, на большой лошади. Я, собственно, тогда не хотел ехать верхом, так как лошадь была слишком высока и садиться на нее стоило труда. Но потом я все-таки поехал верхом и не раскаиваюсь. Это был превосходный конь. Но долгое сидение на седле утомило меня, и седалище мое, и ноги мои очень болели. Я не ссадил с себя, однако, кожи от верховой езды, но когда я потом сел на деревянную скамью и начал писать, то я чувствовал, что будто сижу на чем-либо другом, на чуждом мне предмете. Причиною тому была опухоль, образовавшаяся от долгой верховой езды. После Кениггреца мы поздно вечером прибыли в Горзиц, торговое местечко. Там оказалось, что мы должны сами себе отыскивать квартиры. Но это было легко сказать, но трудно сделать. Дома были заперты; чтобы взломать двери, надобно было воспользоваться услугами пионеров; но эти явятся только около 5 часов утра».
«При подобных же обстоятельствах ваше превосходительство сумели найтись в Гравелоте», – заметил Дельбрюк.
«Я зашел в Горзице, – продолжал свой рассказ шеф, – в дома три-четыре и наконец нашел открытую дверь. Но, когда я сделал несколько шагов по темной прихожей, я упал в род волчьей ямы. К счастью, она была неглубока и, как я убедился, была наполнена навозом. Вначале я подумал: что теперь делать, если останешься здесь сидеть; но по запаху узнал, что в яме есть что-то еще другое. Иногда бывает странное стечение обстоятельств. Если бы яма была 20 футов глубиною и пустою, пришлось бы на другое утро долго искать министра. Я выкарабкался из ямы и пошел на рынок; на лавках там я разложил себе пару каретных подушек, а третью употребил для изголовья и растянулся спать. Лежа, я рукою дотронулся до чего-то мокрого, что встречается в деревне; по исследовании это было от коровы. Потом меня разбудил кто-то, оказавшийся Перпонхером; он сказал мне, что великий герцог Мекленбургский имеет ночлег и для меня постель. Это оказалось правдою, только кровать оказалась детскою. Я приготовил себе постель, употребив кресло для ног, и заснул. Но проснувшись, я едва мог встать, так как коленями упирался в ручки кресла. Если бы иметь мешок соломы, то можно доставить себе удобство, хотя бы мешок был узкий, как это всегда и бывает. Можно, например, разрезать его посередине, раздвинуть солому и улечься в образовавшееся таким образом углубление. Я это делал часто в России на охоте».
«Это было, когда пришла депеша от Наполеона, – заметил Болен. – И ты дал себе обет отомстить за это галлу, если представится случай».
Наконец шеф еще рассказывал: «Третьего дня Фавр говорил мне, что первая граната, упавшая в Пантеон, оторвала голову статуи Генриха IV».
«Это, должно полагать, означало что-либо трогательное?» – спросил Болен.
«Нет, – возразил шеф, – я думаю, он сказал это как демократ; оно было выражением радости, что подобное случилось с королем».
«Ну, – сказал Болен, – так с Генрихом поступлено вдвойне худо: французы убили его в Париже, а мы его там обезглавили».
Обед этот вечером продолжался очень долго, от половины шестого до 7 часов, и каждую минуту ожидали возвращения Фавра из Парижа. Он наконец приехал после половины седьмого опять со своим зятем с испанскою фамилией. Оба, говорят, не отнекивались от еды, как в первый раз, но как благоразумные люди оказали честь всему, что им подавали. Из этого можно заключить, что они и в главном деле, за которым приехали, слушались и впредь будут слушаться рассудка. Это выяснится теперь, когда Фавр и канцлер опять совещаются в комнате молодого Жессе.
После обеда читал проекты. Издан приказ относительно взимания податей в Реймсе. За каждый день просрочки общины обязаны заплатить на 5 процентов больше требуемой суммы. Летучие колонны с орудиями посылаются для взыскания податей с местностей, упорствующих в уплате, и если она не совершится добровольно, то можно употребить обстреливание и поджог. Три примера сделают четвертый такой случай излишним. Не наше дело – приобрести расположение французов снисходительностью или заботиться о них. Взыскание податей должно иметь такой характер, который внушил бы французам больший страх перед нами, чем какой они имеют к своему собственному правительству, прибегающему также к принудительным мерам.
В ночь на вчерашнее число красные в Париже сделали беспорядок, освободили из тюрьмы некоторых из своих зачинщиков, и затем перед ратушею происходила стычка. Национальная гвардия стреляла в подвижную гвардию; оказались убитые и раненые, но под конец спокойствие снова было восстановлено. Это известие достоверно.
Около десяти часов, когда Фавр еще был у нас, слышалась усиленная пальба из больших орудий. После половины одиннадцатого я сошел к чаю вниз, где Гацфельд и Болен беседовали с дель Pio. Он среднего роста, имеет густую черную бороду, небольшую плешь на маковке и пенсне на носу. Вскоре после моего прихода он отправился в сопровождении Мантея домой, т. е. в свою квартиру у Штибера, а четверть часа спустя за ним последовал Фавр. Дель Pio говорил о Париже, как о «centre du monde», бомбардирование, следовательно, есть не что иное, как стрельба в центр мира. Далее он рассказывал, что Фавр имеет в Рюйейле виллу, а в Париже – большой погреб со всевозможными винами и что он сам имеет в Мексике имение в 6 квадратных миль.
После ухода Фавра шеф пришел к нам вниз, съел немного холодной тетерки, затем велел себе подать ветчины и выпил бутылку пива. Спустя некоторое время вздохнул, выпрямился и сказал: «Да, если б можно было одному решать и повелевать!» Он молчал с минуту, потом продолжал: «Меня удивляет, что они не присылают генерала. Ему ведь трудно объяснить то, что касается военного дела». Он назвал пару французских слов: «Это возвышение перед рвом снаружи». Он назвал два других слова. «А это внутренняя сторона. Этого он не знал».
«Ну, сегодня, – сказал Болен, – он, кажется, достаточно поел».
Шеф подтвердил это, и Болен сообщил далее, что внизу распространился слух, что на этот раз он не пренебрег и сладким канарским вином и выпил его достаточно.
«Да, третьего дня, – сказал шеф, – он не хотел пить, но сегодня он велел себе налить. Недавно он совестился есть, но я уговорил его, и голод, вероятно, тоже помог мне, так как он ел, как человек, долго перед тем постившийся».
Гацфельд донес, что час назад справлялся мэр Рамо, у нас ли Фавр. Он желал бы с ним поговорить, предоставить себя в его распоряжение, спрашивал, можно ли его посетить? Гацфельд на это ответил, что он об этом ничего не может сказать. На это шеф заметил:
«Если кто посещает ночью лицо, возвращающееся в Париж, то этого достаточно, чтобы предать его суду. Смелый плут!»
«Ну, Мантей, вероятно, – пояснил Болен, – уже сказал об этом Штиберу. Этот Рамо, вероятно, имеет опять сильное желание попасть в свою камеру». (За сопротивление или бессовестный образ действий во время переговоров о состоянии съестного продовольствия в Версале – я думаю вместе с другими муниципальными чинами – он недавно принужден был поселиться на некоторое время в одной из комнат тюрьмы, находящейся в rue de Saint Pierre.)
Затем министр рассказывал кое-что о своих переговорах с Фавром: «Он нравится мне теперь больше, чем в Феррьере, – сказал он, – он говорил много и длинными удобопонятными периодами. Часто не нужно было совсем вникать в то, что он говорил, и отвечать, так как приводил анекдоты из прежнего времени. Он, впрочем, умеет хорошо рассказывать. Он не оскорбился моим недавним письмом. Напротив, он сказал, что признателен мне, что я обратил его внимание на то, что он обязан сделать. Он сказал также, что владеет близ Парижа виллою; но она теперь разрушена и разграблена. У меня чесался язык сказать: но не нами; но он сам прибавил тотчас: быть может, подвижною гвардией. Затем он жаловался, что город Сен-Клу горит уже третий день, и хотел меня уверить, что мы зажгли тамошний дворец. По поводу вольных стрелков и их безобразий он указывал мне на вольные банды 1813 года, которые, по его словам, вели себя еще ужаснее. Я ему на это ответил: «Я с вами не спорю, но вы, вероятно, также знаете, что французы везде их расстреливали, когда только могли их схватить. И они расстреливали их для устрашения не сразу, а сперва по пять человек на месте преступления, и затем по пять человек на каждом переходе». Относительно последней битвы 19-го числа он утверждал, что те из национальной гвардии, которые были из богатых семей, дрались лучше всего; батальоны же, набранные из низших сословий, никуда не годились».
Шеф замолчал на несколько минут, и его лицо сделалось задумчивым. Затем он продолжал: «Я думаю, что если парижане получат съестные припасы, затем если их опять посадят на половинные рационы и они принуждены будут голодать, то это подействует. Это все равно что телесное наказание. Если наказывают немного дольше – без перерывов – это ничего; если же прекратить наказание и через несколько минут возобновить его, то это невыносимо. Я это знаю из моей практики при уголовном суде. Тогда существовали еще телесные наказания».
Затем говорили о телесном наказании вообще, и Болен, который стоял за его пользу [29] , утверждал, что англичане вновь ввели его у себя.
«Да, – сказал Бухер, – во-первых, за личное оскорбление королевы, в том случае если кто-либо передразнивал ее, и затем – для каторжников».
Шеф рассказывал затем, что в 1863 году, когда каторжники водились в Лондоне, ему часто приходилось ходить ночью, после двенадцати часов, из Регентстрита в свою квартиру, в Паркстрите, через один безлюдный переулок, состоящий исключительно из конюшен, с кучками лошадиного навоза. К ужасу своему, он прочел в газетах, что тут именно и случались нападения.
После нескольких минут он сказал: «Ведь это неслыханное предприятие англичан: они хотят (Одо Россель донес, что канцлер отклонил это намерение как невозможное) отправить канонерскую лодку вверх по Сене, чтобы, как они объясняют, забрать оттуда все английские семейства, которые желают уехать. Они просто хотят узнать, положили ли мы там торпеды».
«Они смущены, что мы давали большие сражения и выигрывали их одни. Они не могут простить маленькой, общипанной Пруссии, что она идет в гору. Ведь, по их мнению, это народ, который для того и существует, чтобы для них воевать за деньги».
Он опять замолчал на несколько минут. Затем он продолжал:
«Когда я в 1867 году был в Париже, то думал, что вышло бы из того, если бы мы из-за Люксембурга начали войну? Был бы я теперь в Париже, или французы были бы теперь в Берлине? Думаю, я хорошо сделал, что отсоветовал тогда войну. Мы далеко не имели тех сил, какими пользуемся теперь. Ганноверцы в то время не были такого сорта люди, что могли выставить таких же хороших солдат, как теперь. Про гессенцев я ничего не могу сказать; те были бы сносны. Шлезвиг-гольштинцы, которые теперь дрались как львы, тогда совсем не имели войска. У саксонцев в то время войско было распущено и должно было быть вновь переформировано. А от южногерманцев мало можно было ожидать. Вюртембержцы – теперь это отличный народ, просто лучшего желать нельзя, а тогда-то, в шестьдесят шестом году, всякий солдат смеялся, глядя, как они вступали во Франкфурт в виде гражданской гвардии. У баденцев тогда тоже было плохо на этот счет, великий герцог с тех пор много сделал улучшений. Правда, что общественное мнение во всей Германии было тогда на нашей стороне, если бы мы захотели воевать из-за Люксембурга; но это не могло достаточно вознаградить за недостатки. Да, тогда и право было не на нашей стороне. Я публично этого никогда не выражал, теперь же здесь я могу сказать: после распада германского союза великий герцог делался самодержавным и мог делать все, что ему было угодно. Дурно, конечно, было с его стороны то, что он хотел свою страну уступить за деньги, но он имел право это сделать. Также относительно нашего права содержать гарнизон – дело обстояло плохо. По распадении германского союза , мы, собственно, не смели даже дольше занимать своими войсками Раштат и Майнц. Я это говорил в совете, и у меня была тогда мысль: уступить их Бельгии. Тогда мы соединили бы их со страною, нейтралитет которой признала бы Англия, как тогда предполагали. Таким образом, мы усилили бы немецкий элемент и в то же время мы выиграли бы хорошую границу. Но я не нашел сочувствия моему мнению».
Когда министр ушел, кто-то заметил, что он умолчал о другой стороне дела, а именно: французы не были тогда так хорошо подготовлены к войне, как теперь; их военные запасы были истощены войною с Мексикой, и армия не была вооружена ружьями Шасспо. Несмотря на эти аргументы, основания, которые приводил шеф за воздержание от войны, казались мне гораздо более вескими.
Когда я в 2 часа ночи заканчивал записывать приведенный разговор, на северной стороне все еще гремели тяжелые орудия, так что слышался выстрел за выстрелом. Мон-Валерьян положительно превратился в настоящий вулкан.
Четверг, 26-го января. Погода стоит ясная и довольно холодная. Сильная канонада происходила еще в то время, когда я лежал в постели. К описанию вчерашнего вечера надо присоединить еще одно интересное замечание канцлера. Бисмарк-Болен за чаем сказал:
«Какая остроумная мысль проведена в картинке «Клад-дерадач’а»: Наполеон дожидается поезда железной дороги и говорит: «Уже свистят». На нем парадная мантия из горностая для поездки в Париж и в руках – дорожная сумка».
– Да, – возразил шеф, – он так думает, и, может быть, он прав; но я боюсь, что прозевает поезд. В конце концов, другого пути ему и нет. Это может легче случиться, чем убедить в чем-нибудь Фавра. Но ему, чтобы утвердиться, все-таки надо иметь хотя бы половину армии».
При этом припомнилась мне патриотическая ярость, выказанная третьего дня утром женою садовника, которая убирает мою комнату и делает мою постель. Эту женщину зовут Мария Лодиер. Она – маленького роста, с чахоточной наружностью, с большими темными глазами, очень оживленная и довольно развитая, хотя и неграмотна. Когда я ей сказал, что теперь Париж через несколько дней будет в наших руках, она положительно не хотела этому верить. По ее мнению, Париж непобедим, и пушками его не возьмешь, разве – голодом. Но если бы она начальствовала в Париже, продолжала она с сверкающими глазами и в большом волнении, то никогда не сдалась бы, хотя бы пришлось умирать с голоду.
В половине одиннадцатого шеф поехал к королю. В продолжение этого времени мы пошли в сад, примыкающий к дому: один берлинец снимал с нас большую фотографическую группу. Министр должен был впоследствии занять место посредине, в передней части группы. После завтрака Б. рассказывал мне несколько прелестных анекдотов об английском дворе, в особенности о принце Уэльском. Симпатичный характер, который подает большие надежды в будущем, для блага своего противного народа.
Около двух часов, после возвращения шефа от короля, пришел опять Фавр. Когда он через некоторое время ушел, чтобы уехать в Париж, мы услыхали, что было условлено, чтобы он завтра утром опять приехал и в сопровождении генерала, с которым надо вести переговоры касательно военных вопросов, т. е. о военных вопросах капитуляции. В самом деле вопрос идет уже о капитуляции. Париж идет к падению. Бомбардировка хорошо действовала на южной стороне, а на северной того лучше, и к тому же запас хлеба приходит к концу.
Я поехал с Д. в Вилль-д’Аврэ, где мы видели неистовую перестрелку с той и другой стороны. Дымную даль над французской батареей прорезывают короткие красноватые молнии. Справа – вероятно, из Медона – стреляют с нашей стороны. Опять, кажется, будто в городе пожар. Мы поехали назад через Севр, где мы увидали на четырех домах следы от французских гранат.
Когда я рассказал Гацфельду про нашу поездку, он воскликнул: «Ах, если бы мне тоже посмотреть пальбу и пожары. Это, может быть, последний удобный случай. Вечером огонь ярче горит; если бы я только знал место, где лучше видно».
Я предложил ему свои услуги, если шеф даст свое позволение, сегодня же вечером с ним поехать и показать ему хороший вид. (Он после поехал, кажется, с Боленом, но они ничего не видали.)
За обедом присутствовали господин Ганс фон Рохов и граф Лендорф. Шеф говорил про Фавра и сказал между прочим:
«Он рассказывал мне, что по воскресеньям парижские бульвары наполнены нарядными женщинами, гуляющими с хорошенькими детьми. Я ему ответил: это меня удивляет, разве они их еще не пожрали»?
Говорилось о том, что сегодня бомбардировали с особенной энергией, и министр заметил при этом: «Я помню, на суде у нас был подчиненный, обязанность которого была исполнять экзекуцию порки; звали его, кажется, Степки. У него было обыкновение последние три удара отпускать с особенною силой – чтобы преступник дольше помнил».
Разговор зашел потом о Струсберге, и кто-то заметил, что он теперь в затруднительном положении; при этом шеф сказал: «Он мне раз сказал, я знаю, что я не умру в своем доме. Но все-таки не нужно, чтобы это случилось слишком скоро. Может быть, и вообще не случилось бы, если бы не война. Он свои издержки постоянно покрывал новыми акциями, и это сходило ему с рук, хотя другие евреи, которые прежде него разбогатели, изо всех сил ему старались испортить игру. Когда же наступила война, его румынские акции стали падать все ниже и ниже, так что под конец можно было их на вес покупать. Ну а все-таки он умный и неутомимо деятельный человек».
От ума и неутомимой деятельности Струсберга кто-то перевел разговор на Гамбетту, о котором он выразился, что тот «за войну вполне заслужил свои пять миллионов», в чем другие собеседники сомневались и, как мне кажется, имели полное основание. После бордоского диктатора очередь дошла до Наполеона, о котором Болен сказал, что говорят, что он в продолжение девятнадцати лет своего царствования сберег себе по крайней мере пятьдесят миллионов.
«Другие утверждают, что восемьдесят, – возразил шеф. – Но я в этом сомневаюсь. Луи Филипп испортил это дело. Он сам производил мятежи и затем делал покупки на амстердамской бирже; а это наконец заметил биржевой мир».
Гацфельд и Кейделль заметили, что промышленный король тоже иногда заболевал для той же цели.
Затем говорили о том, что во время империи в особенности Морни стремился всеми средствами составить себе капитал, и шеф рассказывал: «Когда он был назначен посланником в Петербург, он приехал туда с целым рядом красивых и изящных карет, и все его сундуки, сундучки и ящики были полны кружев, шелковых материй и дамских нарядов, за которые он, как посол, не должен был платить пошлин. Всякий лакей имел свой отдельный экипаж, всякий его приближенный или секретарь – по крайней мере два, а сам он имел их, верно, пять или шесть, и через какие-нибудь два дня до приезда он все это – кареты, кружева, модные вещи – продал с аукциона. От этого он, говорят, выручил восемьдесят тысяч рублей. Он был бессовестен, но любезен; да, он действительно умел быть любезным». И шеф подробно разъяснил это и подтвердил примерами. Затем он продолжал:
«Да, в Петербурге эти влиятельные лица хорошо пользовались своим положением. Не то чтобы они непосредственно деньги брали, но когда кому-нибудь из них было что-нибудь нужно, он шел во французский магазин и покупал дорогие кружева, перчатки или вообще наряды на несколько тысяч рублей. Магазин же отпускал все на счет сановника или его жены».
Затем он рассказал еще раз, но несколько иначе, чем прежде, историю с финном, у которого он хотел купить дрова: «Он сначала намеревался их мне продать, – сказал он, – вероятно, он принял меня за купца или что-нибудь подобное из остзейских провинций. Когда же я ему сказал, что это (сказал по-русски) для прусского посольства, то он опешил. Видимо, он начал опасаться. Он спросил (опять по-русски), для казны ли я беру. Он думал, что Пруссия есть губерния России. Я ему ответил, что нет, но что посольство имеет отношение к казне. Это было сказано неосторожно и недипломатично; это его не удовлетворило; даже не помогло то, что я ему сейчас же хотел отдать деньги. Без сомнения, он боялся, что я из него выжму их впоследствии и что сверх того его засадят куда-нибудь и выпорют». Он сообщил пример по этому поводу. Затем он закончил: «На другое утро финн не пришел больше».
Болен воскликнул через весь стол: «Ах, расскажи, пожалуйста, хорошенький анекдот про еврея в разорванных сапогах, который получил двадцать пять ударов».
«Это было так, – сказал шеф. – В один прекрасный день приходит в нашу канцелярию еврей, который желал быть препровожден назад в Пруссию. Он был очень оборван, в особенности плохи у него были сапоги. Ему сказали, что он будет препровожден; но он хотел сначала получить новые сапоги, требовал это, как свое право, настаивал на этом так дерзко и нагло, кричал и ругался, что чиновники не знали, как от него отделаться. Даже лакеи не осмеливались подойти к разъяренному человеку. Когда наконец представление перешло всякие границы, я был позван для личной помощи. Я ему сказал, чтобы он утих, иначе я его засажу. Он дерзко на это ответил:
– Вы этого не можете сделать, в России вы на это не имеете права.
– Мы это увидим, – ответил я. – Во всяком случае, я должен вас отправить домой, но сапог я вам не обязан давать, хотя я мог бы это сделать, если бы вы не вели себя так неприлично». Затем я отворил окно и кликнул городового, который стоял неподалеку на своем посту. Еврей продолжал кричать и ругаться, пока не пришел полицейский, здоровенный детина. Я ему сказал… (русские непереводимые слова). И высокий блюститель порядка взял маленького жидка и посадил его в кутузку. На следующее утро еврей пришел опять, но совершенно другой и объявил, что он готов ехать без новых сапог. Я спросил, что с ним было в продолжение этого времени.
– Плохо было мне, очень плохо.
– Что же наконец с вами делали?
– Они со мной очень плохо обходились, попросту сказать, выпороли.
– Я выразил ему свое сожаление и спросил, не хочет ли он жаловаться. Он предпочел скорее уехать, и я после того о нем ничего не слыхал».
Вечером занимался проектами, между тем на дворе гремели пушки, чту было между девятью и десятью часами, в необычное время. Шеф работал в своей комнате один, вероятно, над условиями капитуляции перемирия, и его совсем не было слышно.
Внизу говорили, что к нам едет переговариваться лицо от Наполеона из Вильгельмсхёе.
Все более и более накопляющиеся дела заставили выписать в Версаль четвертого секретаря, который сегодня и приехал. Это господин Цезулька, который будет заниматься перепискою и шифрировкою; но до сих пор он еще без дела.
Около одиннадцати часов застал я шефа в чайной комнате, разговаривающего с депутатами фон Келлером и Форкенбеком. Первый из них только что говорил, что скоро опять будет нужда в деньгах.
«Мы не хотели более требовать денег от рейхстага, – сказал шеф, – так как мы не думали, что война продолжится так долго. Теперь я написал Кампгаузену, но тот говорит, чтобы мы довольствовались реквизициями и контрибуциями. А их трудно взыскать, так как при большом пространстве, которое мы заняли, недостает военных сил для взысканий. Чтобы держать в руках такую страну в двенадцать тысяч квадратных миль, надо иметь два миллиона солдат. Ах, как все вздорожало во время войны. Когда мы делаем реквизиции, мы ничего не получаем. Когда же мы платим наличными деньгами, тогда еще можно что-нибудь достать и дешевле, чем в Германии. Мерка овса стоит здесь четыре, а привозная из Германии – шесть франков. Я думал получить сначала из «матрикулярных вносов»; но отсюда мы получим только двадцать миллионов, так как Баварии следует до семидесяти двух миллионов по ее счетам. Тогда я придумал следующий выход; нельзя ли обратиться к нашему ландтагу, чтобы он дал нам вперед известную сумму; для этого надо только вперед знать, что мы можем содрать с парижан, т. е., собственно, с Парижа, так как теперь возимся только с ним одним».
Форкенбек был того мнения, что план шефа не встретит непобедимых затруднений в ландтаге. Правда, что доктринеры будут оспаривать право делать такую выдачу, а другие будут говорить, что Пруссии приходится опять помогать и приносить жертвы для других; но все-таки большинство, вероятно, будет на нашей стороне, как может подтвердить и Келлер, что тот и исполнил.
Позднее пришел один офицер из темно-голубых гусар, необыкновенно красивый молодой человек, – это был граф Арним, который только что приехал из Леманса и сообщил много интересного о том городе. Он находил, что тамошние жители кажутся очень рассудительными людьми, которые порицают политику Гамбетты и повсюду выражают свое желание мира.
«Да, – возразил шеф, – это очень хорошо со стороны этих людей, но что толку в их рассудительных мнениях, если Гамбетта, несмотря на то, может всегда собрать будто из-под земли армию в сто пятьдесят тысяч».
Когда же Арним сказал, что опять взято много пленных, он прибавил: «Это неутешительно. Куда мы с ними денемся? Зачем они берут так много пленных?»
Пятница, 27-го января. Бомбардировка умолкла, как говорят, с двенадцати часов прошлой ночи. Она должна была возобновиться нынче в шесть часов утра, если бы правительство Парижа не согласилось на наши условия перемирия. Так как оно молчит, следовательно, эти господа уступили. А уступит ли Гамбетта?
Рано утром послал телеграмму о счастливом результате важного дела нашей армии против Бурбаки.
В половине девятого пришел Мольтке, который в продолжение почти трех четвертей часа советовался с шефом.
Около одиннадцати часов явились французы: Фавр, подстригший свою седую бороду, с толстой нижней губой, с желтым цветом лица и светлыми глазами; генерал Бофор д’Опуль со своим адъютантом Кальвелем, и «начальник инженеров восточной железной дороги» Дюрбах. Бофор, говорят, руководил нападением 19-го числа на укрепление Монтрету. Переговоры этих господ с шефом, казалось, либо скоро закончились, либо же совершенно не удались. Уже вскоре после двенадцати часов, когда мы только что садились завтракать, они уже усаживались у заднего крыльца в привезшие их экипажи. Фавр выглядит очень убитым; а генерал имеет – поразительно красное лицо, и он, кажется, не совсем тверд на ногах! Другие заметили то же самое. Вскоре после отъезда французов пришел канцлер и сказал: «Я хочу только немного подышать воздухом. Пожалуйста, господа, не беспокойтесь!» Затем он, качая головой, заметил Дельбрюку:
– Ничего с ним не поделаешь! Не способен ничего соображать! Кажется, они выпили. Я ему сказал, чтобы он подумал до половины второго; может быть, он справится к тому времени. Загорелый лоб, скверные манеры! Как его зовут, я забыл? Что-то в роде Буффр или Боффр?
– Бофор, – ответил Кейделль.
– Так. Знатное имя, но не знатные манеры! – пояснил шеф.
Добряк-генерал, стало быть, в самом деле слишком плотно позавтракал и лишнее заложил за галстук: может быть, вследствие долгого голода вино подействовало сильнее, чем обыкновенно.
За завтраком упоминалось о том, что Форкенбек по дороге к нам видел, как ярко горело Фонтенэ, подожженное нашими солдатами в наказание за то, что тамошние возмутившиеся крестьяне разорили мост на железной дороге. Дельбрюк радовался тому, «что наконец-то опять учинено надлежащее наказание».
Когда я сегодня встретил жену садовника и «заметил ей, что, вероятно, теперь уже она не сомневается, что падение Парижа близко, так как она видела генерала, приехавшего сюда для переговоров; она ответила мне, как разъяренная кошка: «Этот генерал – изменник (она выговорила слово traitre, как trait), так же как Базен и Наполеон – свинья, который начал войну с Пруссией, когда мы еще не были готовы. Все наши генералы – изменники, и господин Фавр – тоже изменник. – Но когда мы получим прочное правительство, тогда мы вам опять объявим войну и тогда – tous les Prussiens capot, capot, capot».
– Может быть, – заметил я, – через какие-нибудь два месяца к вам опять приедет император.
На это она ядовито возразила, расставив руки:
– Mais non Monsieur! Он должен остаться в Германии. Если он вернется в Париж, мы его сейчас пошлем на эшафот и Базена – тоже». Под конец она прибавила, что Франция разорена вконец и она со своим семейством – тоже, так как мадам Жессе аккуратная; она много потеряла из своего состояния и не будет более держать садовника, а за садом будут ходить только поденщики. Бедняжка! Будем надеяться, что с ней этого не случится.
После обеда мы услыхали, что канцлер в исходе первого часа поехал сначала к императору и затем к Мольтке, где он вместе с Подбельским опять застал французов. Французы в четвертом часу уехали опять в Париж и хотят завтра в полдень опять вернуться, чтобы подписать капитуляцию. Я читал одно письмо к шефу с выписками газет, которое он мне сегодня утром подарил за ненадобностью и из содержания которого я узнал, что английские шуты продолжают утруждать министра своими сантиментальными письмами. В письме было написано следующее:
«Посылаю вам вырезки из «Standard» и «Times», в которых вы прочитаете кое-что о жестоком и бесчеловечном обращении пруссаков во время настоящей войны. Дай Бог, чтобы вы могли это опровергнуть! Здесь, вчуже, сердце обливается кровью, и мы удивляемся, как могут так жестоко поступать солдаты цивилизованной нации и как могут офицеры не только одабривать, но даже побуждать к этому. Придет время, и оно уже недалеко, когда вы, господин граф, будете раскаиваться в том жестоком и дьявольском способе, с которым ведется эта зверская война». Подписано: «А Soldier – but no Murderer».
Видно, этот «солдат» не участвовал в индийской кампании против сипаев и не видел, как его соотечественники выжигали бедные деревни и местечки в русских Остзейских провинциях во время Крымской кампании. Он, вероятно, об этом также ничего не читал и не слыхал. Он даже со вниманием не рассматривал свои газетные вырезки, а то бы он увидал в одном из донесений о репрессалиях, предпринятых по поводу убиения гapибaльдийцaми людей нашего ландвера (около Шатильона), следующее замечание нашего артиллериста: «Мы воюем не с французской армией, а – с убийцами».
Позднее я и Л. поехали в Буживаль, где мы подробнее осматривали знаменитую баррикаду в конце местечка, о которой так много было говорено, и в некоторых домах возле дома Баррота видели опустошение, которое причинила война. Здесь разорение было отчасти больше, чем у Баррота, так как библиотека и собрание древних карт, находящиеся в одном из домов, были очень повреждены. Солдаты рассказывали, что немецкая батарея, возвышающаяся над этою местностью, не была извещена о перемирии и сегодня утром выпустила некоторое число выстрелов. У нас об этом ничего не слыхали, и, вероятно, рассказ основывался на пустой молве, имевшей основанием недоразумение.
За столом шеф сказал про Бофора: «Этот офицер вел себя как человек без всякого воспитания. Шумит, кричит, энергическая божба, постоянно повторяет: «Moi, général de l’armée française», едва можно было выдержать. Он разыгрывал из себя добродушного солдата и доброго товарища. Мольтке раза два высказывал нетерпение, и это было в тех случаях, когда его бы следовало уже пятьдесят раз выгнать вон. Фавр, который тоже не получил first rate воспитания, сказал мне: «J’en suis humilié!» Правда, он был пьян, впрочем, это его обыкновенная манера. В генеральном штабе из того, что он был прислан, заключили, что в Париже желают, чтобы переговоры кончились ничем. Напротив, сказал я, его послали потому, что для него ничего не значит, если он упадет в общественном мнении и подпишет капитуляцию».
Затем он рассказывал: «Во время нашего недавнего разговора с Фавром я ему сказал: «Vous avez été trahi par la fortune». Он очень хорошо заметил колкость, но только ответил: «À qui lе dites-vous! Dans trois fais vingt quatre heures je serai aussi compté au nombre des traitres». Он прибавил еще, что его положение в Париже затруднительное. Я ему и предложил: «Provoquez donc une émeute, pendant que vous avez encore une armée pour l’étouffer». Он на меня испуганно посмотрел, как будто хотел сказать: «Какой ты кровожадный»! К тому же он не имеет никакого понятия о том, что у нас происходит. Он несколько раз мне дал заметить, что Франция – страна свободы, тогда как у нас царствует деспотизм. Я, например, ему сказал, нам нужны деньги и Париж должен их доставить. Он же, напротив, предполагал, что мы можем сделать заем. Я ему отвечал, что этого нельзя сделать без рейхстага или ландтага. «Ах, – сказал он, – пять тысяч миллионов франков можно было бы достать и помимо палаты». Я ему возразил: «Нельзя достать даже и пяти франков». Он не хотел верить. Я ему сказал, что я четыре года кряду вел войну с народным представительством, но заключение займа без ландтага всегда служило пределом, до которого я доходил, и мне никогда не приходило в голову переступить этот предел. Это, казалось, сбило его, и он прибавил только: «Во Франции, on ne se gènerait pas». Но все-таки он постоянно возвращался к тому, что Франция обладает чрезвычайною свободой. Право, смешно слышать, когда француз так говорит, в особенности Фавр, который всегда принадлежал к оппозиции. Но все они таковы. Французу можно отсчитать двадцать пять розог, и, если при этом говорить высокопарную речь о свободе и человеческом достоинстве, да еще делать соответственные жесты, он, наверно, будет думать, что его совсем не порют».
– Ах, Кейделль, – сказал вдруг шеф, – мне вот вспомнилось: мне надо иметь завтра полномочие от короля – разумеется, на немецком языке. Немецкий император должен писать только по-немецки. Министр может сообразоваться с обстоятельствами. Официальные сношения должны происходить на отечественном языке, а не на чужом. Бернсдорф впервые хотел провести это у нас, но он зашел с этим слишком далеко. Он написал по-немецки ко всем дипломатам, и все они ответили ему, конечно, сговорившись предварительно, на их родном языке: русском, испанском, шведском и мало ли еще на каких, так что ему пришлось расплодить в министерстве целый рой переводчиков. В таком положении было дело, когда я занял свою должность. Будберг прислал мне русскую ноту. Но это было неудобно. Если б они пожелали ответить тем же, то Горчаков должен бы писать по-русски к нашему послу в Петербурге. Это было бы правильно. Может быть, и можно требовать, чтобы иностранные представители понимали и выражались на языке той страны, в которой они аккредитованы. Но мне в Берлине отвечать по-русски на немецкие бумаги – это не в порядке вещей. Поэтому я постановил: если входящая бумага не написана по-немецки или по-французски, по-английски или по-итальянски, она не подлежит исполнению и поступает в архив. Будберг стал писать целый ряд напоминаний, все по-русски. Ответа не последовало, бумаги сдавались в архивный шкаф. Наконец он явился сам и спросил, почему это мы не отвечаем ему? «Отвечать, – сказал я ему с удивлением, – а на что? Я ничего не видал от вас». Он говорит, что писал четыре недели тому назад и несколько раз напоминал. «Это так, я припоминаю, – сказал я ему, – внизу лежит целая груда бумаг на русском языке, должно быть, и ваши бумаги туда же попали. Но там внизу никто не понимает по-русски, а что приходит на незнакомом языке, то поступает в архив». Они, если я не ошибаюсь, порешили на том, что Будберг должен писать по-французски и иностранное отделение, если понадобится, тоже».
Потом шеф стал говорить о французских уполномоченных и заметил: «Monsieur Дюрбах представился в качестве «membre de l’administration du chemin de fer de l’Est; j’y suis beaucoup interessé» – если б он знал, что мы намерены сделать?» (Должно быть, дело идет об уступке восточной железной дороги.)
– Он так и схватился за голову от досады, – заметил Гацфельд, – когда в генеральном штабе ему показали на карте те опустошения, которые они сами наделали, разрушенные мосты, туннели и т. д.
– Я, – сказал он, – был всегда против этого и обращал их внимание на то, что мост может быть восстановлен в какие-нибудь три часа, но они и слушать не хотели.
– Да, – возразил шеф, – восстановить обыкновенный мост нам, конечно, недолго, но не железнодорожные мосты, через которые проходят поезда. Им теперь будет трудно доставлять провиант, в особенности если они наделали таких же глупостей и на западе! Я полагаю, они рассчитывают на Бретань и Нормандию, где много овец, и на портовые города. Там, сколько мне известно, много мостов и туннелей, если они только не разрушили их. Иначе они будут поставлены в большое затруднение. Я надеюсь, впрочем, что лондонцы пришлют им только лакомства, а не хлеб».
Таким образом, разговор вращался некоторое время около вопроса об удовлетворении парижского желудка. Наконец шеф рассказал еще маленький анекдот о своем «хорошем приятеле Даумере, который боялся смерти. Мы были однажды на охоте в Таунусе и завтракали там. Я обратил внимание присутствовавших на прекрасный вид, который открывался в этом месте. Как живописно расположена по ту сторону маленькая деревушка с белой церковью среди группы деревьев! И как красиво кладбище там внизу!
– Что такое? – спросил он.
– А вот что – кладбище, вон там.
– Ну, охота вам говорить о кладбищах. Вы испортили мне весь аппетит вашим разговором, – сказал он.
Я спросил:
– А много ли еще колбасы осталось там?
– Сколько вам угодно, я больше есть не могу.
Он совсем огорчился при напоминании о смерти».
Суббота, 28-го января. Так же, как и вчера, довольно холодно, почти два градуса ниже нуля; небо пасмурное. В одиннадцать часов французские уполномоченные являются снова; Фавр, Дюрбах и еще два господина, которые, говорят, тоже высшие железнодорожные чиновники, и два военачальника, и еще генерал со своим адъютантом, оба они люди видные и держат себя прилично. Они завтракают у нас. Потом идут долгие переговоры в квартире Мольтке. Затем шеф диктует секретарям Виллишу и Сен-Бланкару условия капитуляции и перемирия в двух экземплярах, которые потом, в семь часов двадцать минут, наверху в Зеленой комнате, возле кабинета министра, были подписаны Бисмарком и Фавром, и к ним приложены печати.
Между тем мне выдалось свободное время, которое я употребил на поездку в замок Медон и тамошнюю батарею; в этой поездке приняли участие Л. и другой саксонец, Кольшюттер (из правления или гражданского комиссариата). Шоссейная дорога, шедшая через лес в гору, была очень разбита от наших тяжелых орудий. На небольшом пролеске в лесу, где скрещиваются дороги, мы проехали мимо прекрасной ели. Дальше виднелось место, устроенное в виде прикрытия для войск. Вправо от дороги стояли бараки, проломанные стены с амбразурами, влево – целые груды тур и фашин. Решетчатые ворота вели в замок, близ которого росли деревья и который окружен сзади громадной земляной насыпью. Здесь подобрали несколько осколков от гранат, которые пробили много дыр в стволах деревьев и отбили сучья. Замок представлял величественное, но без украшений здание в два этажа, без выступающих флигелей; он мало пострадал снаружи, только на фронтовой стороне, обращенной к Парижу и Исси, видно было несколько больших следов от бомб, а земля перед ним была усеяна большими и малыми осколками. Внутренность здания: лестницы, залы и комнаты были сильно разрушены и наполнены мусором, обломками мебели, осколками и битым стеклом. На стенах солдаты и другие посетители написали свои имена и насмешки на галлов на немецком и итальянском языках. Терраса перед замком была взрыта заступом и лопатою и превращена в что-то вроде подземного лагеря с глубокими ямами. В одной из последних устроен был блокгауз с комнаткой и с печью, где помещался полевой телеграфист. Спереди на террасе, непосредственно за каменным бруствером, который окружает ее до глубины парижской котловины, находилась батарея с орудиями на высоких лафетах. Мы разговаривали некоторое время с командующим здесь прусским офицером, очень милым и общительным молодым воителем. Под собою мы видели отчасти на склоне горы, отчасти у подошвы ее дома и улицы города Медона, которые еще не были заняты жителями. Справа перед нами открывалась прелестная лощина в Кламарском лесу, слева, вдали, освещаемые лучами полуденного солнца блестели извилины Сены, а между обоими видами, несколько правее, перед нами на голом бугре возвышался форт Исси, казармы которого нашими гранатами превращены в развалины.
По возвращении в Версаль я пробыл полчаса в Hôtel de chasse с Г. и Ф., которых произвели в поручики.
Вечером у нас обедали французы. Так как вследствие многочисленного общества мы сидели друг от друга дальше, чем обыкновенно, а парижские гости говорили большею частью тихо, то беседа представляла мало материала, который можно было бы отметить. Генерал (по фамилии Вальден) ел мало и не говорил почти ничего. Фавр также говорил тихо и был скуп на слова. Адъютант, господин д’Эриссон, по-видимому, не особенно близко принимал дело к сердцу, а железнодорожные чиновники предавались со вполне понятным рвением обеденным яствам, которых они долго были лишены. Судя по тому, что я мог узнать от последних, в Париже с некоторого времени действительно дела были очень плохи, а число смертных случаев на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, дошло до пяти тысяч. Умерло именно много детей в возрасте от одного до двух лет, и всюду можно было встретить людей, несших гробы для этих маленьких французов. «Фавр и генерал, – так говорил после Дельбрюк, – имели вид несчастных преступников, которым завтра предстоит идти на эшафот. Мне жаль было смотреть на них».
Кейделль очень надеется на скорое заключение мира; он полагает, что, вероятно, недели через четыре мы уже будем в Берлине. Незадолго до десяти часов приехал какой-то господин с окладистой бородой, на вид ему лет сорок; он назвал себя Дюпарком, и его тотчас проводили к шефу, у которого он пробыл около двух часов. Говорят, он прибыл из Вильгельмсхёе с предложениями о заключении мира. Капитуляция и перемирие еще не означают конца войны с Францией.
Воскресенье, 29-го января. Небо пасмурное. Наши войска отправляются для занятия фортов. Рано утром я читал депеши о лондонской конференции и кое о чем другом, а также и о подписанной вчера конвенции перемирия и капитуляции. Последняя в нашем экземпляре занимает десять страниц в лист и сшита нитками французских цветов; к концам ниток Фавр приложил свою печать. Содержание в кратких словах следующее: заключается перемирие на 21 день, которое будет иметь силу для всей Франции. Воюющие армии сохраняют свои позиции, обозначенные демаркационной линией, которая определена в договорном акте. Цель перемирия – дать возможность правительству национальной обороны созвать свободно избранное собрание представителей французского народа, которое имеет право разрешить вопрос, должно ли продолжать войну или заключить мир и на каких условиях? Выборы должны происходить совершенно свободно и беспрепятственно. Собрание состоится в Бордо. Парижские форты сдаются немецкой армии, которая может занять и другие пункты внешней оборонительной линии Парижа до известной черты. Во время перемирия немецкие войска не войдут в город. Верки лишается своих орудий, лафеты их будут доставлены в форты. Все войска, занимающие Париж и форты, за исключением двенадцати тысяч человек, которые остаются в распоряжении начальства для городской службы, считаются военнопленными и, за исключением офицеров, должны сдать оружие и оставаться в городе. По истечении же срока перемирия, если мир еще не будет заключен, означенные войска должны сдаться немецкой армии в качестве военнопленных. Корпуса вольных стрелков распускаются французским правительством. Парижская национальная гвардия сохраняет свое оружие для поддержания порядка в городе; то же самое относится к жандармерии, к республиканской гвардии, к таможенным чиновникам и к пожарным. После сдачи фортов и обезоружения верков немцами дозволяется новое продовольствование Парижа; но имеющиеся для этой цели в виду припасы не могут быть привозимы из тех областей, которые заняты немецкими войсками. Желающие выехать из Парижа должны запасаться пропускным билетом от французского военного начальства и засвидетельствованием от немецких аванпостов. Лицам, желающим получить представительство в провинциях, а равно и депутатам, избранным в национальное собрание в Бордо, должны быть выдаваемы эти билеты и засвидетельствования. Город Париж уплачивает в продолжение четырнадцати дней военную контрибуцию в двести миллионов франков. Во время перемирия ничто не может быть отчуждено из публичных ценностей, которые могут служить обеспечением означенной уплаты. Равным образом в продолжение этого времени воспрещается ввоз в Париж оружия и боевых запасов.
За завтраком находился граф Генкель, который исправляет должность префекта в Меце. Он утверждал, что в его департаменте выборы могут иметь хороший успех по истечении пяти лет; он даже надеется, что их можно осуществить даже теперь. Зато в Эльзасе дела не особенно хороши, так как немцы не так легко поддаются всякому авторитету, как французы. Он рассказывал также, что его департаменту пришлось, конечно, много выстрадать: до начала войны в нем было будто от тридцати двух до тридцати пяти тысяч лошадей, теперь же, ему кажется, там не более пяти тысяч. Далее за завтраком мы узнали, что носится слух, будто Бурбаки застрелился в отчаянии, что он со своей армией ничего не мог сделать Вердеру и должен был отступить перед ним и Мантейфелем.
После обеда предпринята была поездка в Пети-Шенэ, где я хотел посетить еще раз прибывших туда для отдыха офицеров сорок шестого полка. Но я нашел в помянутом доме незнакомого мне офицера, который сообщил мне, что полк сегодня утром получил приказ занять Мон-Валерьян, и, вероятно, он уж прибыл туда. За обедом я опять читал черновые, между ними бумагу, в которой шеф излагает королю невозможность требовать от Фавра дополнительно знамена водворенных в Париже французских полков.
За обедом в качестве гостей находились граф Генкель и вчерашний французский адъютант. Последний называется д’Эриссон де Сольнье; он был в черном гусарском мундире с желтыми аксельбантами и с шитьем на рукавах. Говорили, что он понимает и говорит по-немецки; однако беседа, в которой с оживлением участвовал шеф, происходила большею частью на французском языке. Француз сегодня, когда не было ни Фавра, ни генерала – первый оставался еще в доме, но будучи очень занят, он приказал принести себе обед в маленькую гостиную – был веселее, бодрее и любезнее, чем вчера. Он долгое время один доставлял материал для беседы, рассказывая друг за другом либо смешную историю, либо анекдот. Он сообщил также, что в городе под конец голод начал чувствоваться в значительной степени, но, по-видимому, он знал его более с юмористической, нежели с серьезной стороны. Самый интересный период этого поста был, по его мнению, тот, когда они переели зверей в «Jardin de Plantes». Слоновое мясо, рассказывал он далее, стоило двадцать франков за килограмм и вкусом похоже на жесткую говядину. Тогда действительно можно было иметь filet de chameau и cottelettes de tigre – что мы, так же как и многое другое из его рассказа, оставляем на его ответственности. Рынок собачьего мяса находился на улице Сент-Оноре, и килограмм стоил два франка пятьдесят сантимов. Собак уже почти не видно в Париже, и если какая-нибудь случайно очутится на улице, то на нее тотчас же три или четыре человека устраивают охоту. То же самое было и с кошками. Если бы где-нибудь на крыше показался голубь, то мгновенно вся улица была бы полна людей, которые готовы влезть туда, чтобы поймать его. Щадили только почтовых голубей. Депеши привязывали им к среднему перу в хвосте, которых они должны были иметь девять. Если у голубя их было только восемь, то говорили обыкновенно: «Се n’est pas qu’un civil», и ему предстояла участь всякого мяса. Одна дама сказала будто бы: «Jamais je ne mangerai plus de pigeon, car je croirai toujoures avoir mangé un facteur».
Шеф за ту и другие истории рассказал ему о разных вещах, о которых в парижских гостиных и клубах еще не могли знать и не желали слышать; например, о грубом обращении Ротшильда в Феррьере и про метаморфозу, в силу которой дедушка Амшель через посредство курфюрста Гессенского из маленького жида сделался большим. Он называл его несколько раз «juif de la cour» и затем перешел к характеристике жидов, находящихся при домах польского дворянства.
После обеда я читал проекты и донесения, между последними одно весьма интересное, по которому – советуется нам оставить французам Мец и немецкую Лотарингию, а за то присоединить к Германии Люксембург. Проект этот был отклонен, так как Мец был нам необходим для обеспечения Германии от французов и потому, что немецкий народ не потерпел бы изменение программы, принятой пять месяцев назад.
Фавр с другим французом еще оставался здесь до позднего времени. Он уезжает только в четверть одиннадцатого, но не в Париж, а на здешнюю квартиру на бульваре du Roi. Он завтра опять приедет.
Позже шеф явился к чаю. Говорили о капитуляции, а затем о перемирии. «Как же быть, – спросил Болен, – если другие не желают – Гамбетта и префекты на юге?»
«Ну что же! В наших руках остаются форты и вследствие этого власть над городом, – возразил шеф. – Если бордоские господа не одобрят условий, тогда мы останемся в фортах, будем держать парижан взаперти, и тогда, быть может, мы не продолжим перемирия после 19 февраля. Между тем они должны были сдать оружие и лафеты и уплатить контрибуцию. Всегда бывает хуже тому, кто при заключении договора дает залог, а потом не исполняет условленного».
Потом Болен перевел разговор на д’Эриссона, с какою веселостью и с какою радостью он рассказывал о парижской охоте на собак. Он был и в Китае и полагает, что он взял себе на память кое-какие вещицы из императорского летнего дворца. Он упомянул, что когда они готовились к возвращению, то Монтабан, которым император был очень доволен и который думал, что император наградит его каким-нибудь титулом, послал вперед д’Эриссона, чтобы предупредить получение титула графа или герцога Пекина, так как благодаря слову pequin [30] это могло бы дать повод к злым остротам. После этого его сделали Паликаю, что означает «мост на девяти арках», и есть название местности, по соседству с которой войска французской экспедиции рассеяли солдат небесной империи. Потом рассказывали, что Бурбаки хотел было застрелиться, но не ранил себя смертельно. Далее шеф заметил, что Фавр сознался ему сегодня, что относительно нового продовольствования он поступил «un peu témérairement». Он действительно не знает, будет ли возможно снабдить довольно скоро провиантом целые сотни тысяч жителей города. Кто-то сказал: «Ведь в случае нужды Стош может дать быков и муки». Шеф возразил:
«Да, это он должен сделать только так, чтобы оно нам не принесло вреда».
Бисмарк-Болен напомнил, что нам не следовало бы давать им ничего, пусть сами достают, и т. д., и т. д.
– Ты, значит, – спросил его шеф, – хочешь выморить их голодом?
– Да, разумеется, – был ответ Болена.
– В таком случае как мы получим с них контрибуцию? – ответил шеф.
При дальнейшем течении разговора он сказал: «Великие государственные дела, переговоры с неприятелем не раздражают меня. Когда они возражают против моих мыслей и требований, даже если это неблагоразумно, то я остаюсь хладнокровным. Но меня волнуют мелочные препирательства соотечественников в вопросах политических и их незнание того, что здесь возможно и что невозможно. Вот приходит один и хочет того, другой считает необходимым что-нибудь другое, и, когда отделаешься от них, тогда является третий, адъютант или генерал-адъютант, который говорит: ваше сиятельство, ведь это же не невозможно, или, вам ведь это необходимо иметь, иначе… А вчера даже потребовали, чтобы в подписанный уже документ включить условие, которое даже и не было предметом переговоров».
Болен или Гацфельд вспомнил потом еще про какой-то анекдот д’Эриссона. После 4-го сентября парижские городовые явились в измененном виде: усы и бороды были обриты, а остались только небольшие скромные бакенбарды. Пряди волос у левого уха тоже не стало, а также не было оружия сбоку и военного мундира, за исключением полицейской шапки. Так снарядила их демократическая мудрость Кератри. Весь Париж смеялся. Кроме того, блюстителям общественного порядка приказано было, чтобы на улице они стояли всегда по три человека. Это исполнялось несколько недель, но потом приказание было забыто, их можно было встречать только по два человека, и, когда провизия оскудела, народный юмор по поводу них выражался в следующих словах: «Voila deux sergeants! Et ils ont mangé le troisiàme!»
Гацфельд рассказывал, что в Версале был секретарь испанского посольства, который приехал из Бордо и хотел попасть в Париж. Он хотел будто высвободить оттуда своих соотечественников; у него было также письмо от Шодорди к Фавру, и он очень торопился. Что надобно ему отвечать? Шеф наклонился немного, потом опять выпрямился и сказал: «Депешу от одного члена враждебного нам правительства пытаться передать через нашу главную квартиру другому члену, ведь это такое обстоятельство, которое подлежит рассмотрению военного суда. Когда он придет еще раз, вы отнеситесь к этому делу серьезно, обращайтесь с ним холодно, выражайте удивление и скажите ему это, а также и то, что мы предъявим жалобу к новому испанскому королю о нарушении нейтралитета и потребуем удовлетворения. Меня удивляют, впрочем, и военачальники, как это они пропустили этого человека. Они всегда слишком внимательны, когда дело касается кого-нибудь из иностранной дипломатии. Да будь это даже посланник… Надобно отказать ему, даже если бы тому угрожала опасность замерзнуть или умереть с голоду. Подобная передача писем очень недалека от шпионства».
Потом говорили о том, что теперь вообще угрожает большой прилив в Париж и отлив оттуда. Шеф возразил на это: «О, французы немногих выпустят, а мы пропустим лишь тех, у кого будет пропускной билет, – и то, может быть, не всех».
Говорили еще, будто Ротшильд уже выехал, снабженный пропускным билетом. На это шеф заметил: «Хорошо, если бы задержали его как военнопленного вольного стрелка. (Обращаясь к Кейделлю) Узнайте, пожалуйста, об этом деле».
Болен вскрикнул: «А вот Блейхредер приедет с челобитною от имени всего семейства Ротшильдов».
Потом речь шла о том удивительном обстоятельстве, что в «Daily Telegraph» помещено уже точное извлечение из подписанной вчера конвенции, затем говорили о Штибере.
«Как вообще, – продолжал шеф в связи с предыдущим, – можно ошибаться в людях! Мне и без того нелегко узнать их, пока они не заговорят. Когда я на этих днях шел к Фавру, я вижу в сумерках перед дверью человека, который возбудил во мне подозрение. Мне казалось, что это был лакей зятя Фавра, шляющийся тут, так как он был похож на испанца. Когда он подошел ко мне, я тотчас схватился за шпагу, чтобы иметь ее наготове. Тогда он приветствовал меня: «Добрый вечер, ваше превосходительство!» Я рассмотрел его получше и оказалось, что это Штибер».
Понедельник, 30-го января. Рано утром погода туманная, холод умеренный, термометр почти что на точке замерзания. Фавр, говорят, не остался в Версале, а уже поздно вечером вернулся в Париж. Я телеграфировал разные известия в Берлин, Кёльн и Лондон о беспрепятственном занятии нами парижских фортов; о том, что там возможен вскоре голод; о трудности быстрого подвоза провизии из дальних мест и о нашей готовности содействовать устранению опасности доставлением необходимого из наших запасов. В печати надобно также предостерегать от стремления в главную квартиру.
После обеда я поехал с Л. до моста через Сену возле Севра, а оттуда в Медон до Бельвю, где дорогой, которая под конец очень круто подымается от берега реки, встречались только одни солдаты. Засека, у которой находился военный пост, загораживала дорогу. От солдат мы узнали, к нашему удивлению, что замок Медон объят пламенем. Говорят, будто французская граната в последние дни бомбардирования попала в комнатную стену, застряла там и потом случайно лопнула. Быть может, случай этот произошел от неосторожности. От этого получатся, впрочем, живописные развалины, нечто вроде Гейдельбергского замка.
Фавр и другие французы, между ними президент и префект парижской полиции снова усидчиво работали с шефом все время и потом обедали в половине шестого с ним и с советниками. Я и секретарь должны были на этот раз обедать в Hôtel des Reservoirs, так как за столом недостало мест. Я остался, однако, дома, переводил для короля последнюю статью Гранвилля, написанную в духе миролюбивом, и потом обедал у себя в комнате.
Вечером ко мне пришел наверх Абекен за переводом. Он жалел, что не знал, что я оставался дома; тогда можно было бы найти внизу место и для меня. Жаль, что меня там не было, говорил он, так как сегодня разговор за столом был особенно интересен. Шеф, между прочим, сказал французам, что последовательность в политике становится иногда недостатком, который выражается в упрямстве и произволе. Надо сообразоваться с фактами, с положением дел, с возможностью, надо считаться с обстоятельствами, служить своему отечеству смотря по требованию условий, а не по своим воззрениям, которые часто бывают только предубеждениями. Когда он впервые вступил на поприще политики в виде молодого новичка, у него были совсем иные воззрения и цели, нежели теперь. Но он изменился, обсудил все и не побоялся пожертвовать отчасти или даже вполне своими желаниями ради потребностей дня, чтобы только быть полезным. Отечеству не следует навязывать своих склонностей и желаний, заметил он далее и потом закончил следующими словами: «La patrie veut ètre servie et pas dominée». Это выражение очень поразило парижских господ (конечно, главным образом своей формой), и Фавр сказал: «Cest bien juste, monsienr le comte, c’est profond!» Другой француз также с энтузиазмом заявил: «Oui, messieurs, c’est un mot profond». Бухер, подтверждая это сообщение, рассказал мне еще потом внизу, что Фавр – после речи шефа, сказанной им в назидание французам, подобно тому, как некоторые прежние застольные речи – другим гостям, и после похвалы ее справедливости и глубины, – сказал будто следующую глупость: «Néanmoins c’est un beau spectacle de voir un homme, qui n’a jamais changé ses principes». И господин директор железной дороги, который, впрочем, показался ему значительно умнее Фавра, относительно «servie et pas dominée» прибавил: «Конечно, это ведет к подчинению гениальной личности воли и мнению большинства, а у большинства всегда бывает мало ума, мало знания дела и мало характера».
. . . . . .
«Вероятно, ни одного, – сказал шеф. – Но вот мы каковы. Всегда ужасно угрожаем, а потом оказывается, что наши угрозы нельзя привести в исполнение. Народ наконец это замечает и привыкает к угрозам».
Граф Мальтцан рассказывал, что он был в форте Исси, который он представлял в ужасающем виде: дыры, уголь, осколки, развалины, повсюду груды нечистот и отвратительный запах.
– Разве у них не было отводящих нечистоту труб? – спросил кто-то.
– По-видимому, нет, – отвечал Мальтцан.
– Ove? Dove volete, как в Италии, – заметил другой обедающий.
– Да, французы народ нечистоплотный, – сказал шеф, причем он напомнил о порядках городской школы в Клермоне и подобных учреждениях в Доншери, при воспоминании о которых волосы становятся дыбом.
Затем следовал чрезвычайно интересный разбор подробностей различных фаз, которые являются вследствие идеи о присоединении южных германских государств к Северо-Германскому союзу.
«Наконец, после многих затруднений, – так рассказывал шеф дальше, – справились и с Баварией; тогда мы сказали себе: – Ну теперь остается только еще одно – конечно, самое важное. Увидев путь, я написал письмо, и тогда один баварский придворный чиновник оказал большую услугу. Он исполнил почти невозможное. В 6 дней сделал он поездку туда и обратно, проехал 18 миль не по железной дороге, но далее в горы, ко дворцу, где находился король, – и притом еще его жена была больна. Да, он много сделал».
В продолжение разговора было упомянуто об аресте Якоби, и шеф заметил: «Во всем прочем Фалькенштейн поступал совершенно рассудительно, но эта мера его – причина того, что мы не могли созвать ландтага четырьмя неделями ранее, так как он не согласился освободить Якоби, когда я его о том просил. Пусть бы он съел его, как котлету из мяса носорога, мне все равно – но запереть тогда! он мог видеть в нем никого другого как старого, высохшего еврея. – И другие не хотели ничего слышать о моих представлениях; итак, мы должны были ждать, так как ландтаг был бы вправе требовать его освобождения».
По внутренней связи разговор от Якоби перешел к Вальдеку, и шеф охарактеризовал последнего следующими словами: «У него такие же способности, как и у Фавра – он всегда последователен, верен принятому принципу, готов со своим мнением и решением с самого начала идти напролом; далее представительная наружность, седая почтенная борода, фразы, проникнутые убеждением даже в безделицах – это внушало уважение. Он говорил речь голосом, в котором слышалось глубокое убеждение в том, что ложка находится именно тут в стакане, и громко заявлял, что тот подлец, кто с этим не согласится, и все ему верили и восхваляли на все лады его энергические рассуждения».
Вторник, 31-го января. Утром телеграфировал о различных маленьких победах в юго-восточных департаментах, где договор о предварительном перемирии еще не имел силы. Шведский король произнес тронную речь воинственного характера. Зачем, о боги? Я написал две статьи по приказанию шефа, а потом и третью, в которой указывается на страдания, претерпеваемые некоторыми невинными немецкими семействами в осажденном Париже, оставшимися там по различным причинам, и на славные заслуги посланника Соединенных Штатов Вашбурна по его заботам об облегчении участи этих несчастных. Действительно, он в этом отношении сделал многое, заслуживающее благодарности, и его подчиненные добросовестно содействовали ему.
Парижские господа опять у нас, а также Фавр, который настоятельно просит Гамбетту телеграммами быть уступчивым. Надо опасаться, что тот не последует совету. Префект Марселя по крайней мере, усевшись на высокое место, грубо оттуда кричит бедному Фавру патриотические слова: «Je n’obéis le capitulé de Bismark. Je ne connais plus», гордо, с полным убеждением, но подальше от выстрелов.
О Бурбаки еще нет верных известий, застрелился ли он или только ранил себя, но армия его, очевидно, находится в дурном положении; верно, в таком же, как и другие творения турского диктатора.
Наши французы обедают опять с шефом. Я с Вольманном отправился в Hôtel des Reservoirs, где между другими обедающими сидела также маркиза делла Торре, окруженная многими молодыми лейтенантами. Это та самая худая, белокурая, довольно пожившая дама, которую я с ее собаками не раз встречал на улице и в парке. Она приехала из Лондона и служит в «Женевском Кресте».
Опять у нас несколько градусов холода. Бухер за чаем сообщил мне, что во время обеда шеф опять выразился неодобрительно о Гарибальди, старом фантазере, когда Фавр назвал его героем. Вечером Дюпарк был у шефа. После 10 часов последний сошел к нам вниз. Он опять вскоре заговорил о непрактичности французов, которые в эти дни с ним работали.
Два министра, Фавр и приехавший с ним на этот раз министр финансов Маньэн, трудились сегодня по крайние мере полчаса над одной телеграммой. Это дало ему повод сравнить французов и вообще всю латинскую расу с германскою. «Немецкая германская раса, – сказал он, – есть, так сказать, мужской принцип, который в Европе оплодотворяет; кельтийские и славянские народы – женского пола. Этот принцип распространяется до Северного моря и проникает до Англии».
Я позволил себе только заметить: «До Америки, до западных Соединенных Штатов, где наш народ составляет и там также лучшую часть народонаселения и имеет влияние на нравы других».
– Да, – отвечал он, – это дети, плоды того принципа. Ведь это же видно было во Франции, когда франки еще имели значение. В революцию 1789 года кельтийский элемент ниспроверг было германский, и что мы с тех пор видим? А в Испании – пока там имела перевес кровь готов? Также и в Италии, где в северных областях германцы также играли первенствующую роль. Когда эти выродились, не осталось ничего порядочного. Немного иначе было и в России, где германские варяги, Рюрики, первоначально соединили их вместе. Если народ там победит как пришлых немцев, так и из Остзейских провинций, то не будет способен к порядочному государственному устройству. Конечно, без смешения и немцы недалеко уйдут. Так, на юге и на западе, когда они были предоставлены сами себе, только и были имперские рыцари, имперские города и имперские деревни; каждый жил для себя, там все лезло врозь. Немцы хороши, когда их соединяют общая нужда и угроза – они превосходны, неодолимы, непобедимы; в противном случае каждый поступает по-своему! По-настоящему, благонамеренно, справедливо и разумно направленный абсолютизм есть лучший образ правления. Где нет его, там все распадается: один хочет то, другой то – вечное колебание и застой. Но у нас нет теперь больше настоящих абсолютистов. Они исчезают; их партия вымирает».
Я позволил себе рассказать, что, будучи маленьким ребенком, я представлял себе короля, как он изображается на немецких картах, в короне, горностае, с державой и скипетром, в пестром одеянии, гордым и всегда похожим на себя во всех случаях, и как я очень разочаровался, когда моя нянюшка повела меня однажды к дворцу и католической церкви и показала мне короля Антона, этого маленького, сгорбленного, дряхлого старика.
– Да, – сказал шеф, – наши мужики тоже иногда имеют странные представления. Так, они говорили, что однажды нас собралось много молодых людей в публичном месте и что-то сказали против короля, сидевшего тут, не узнанного никем; он будто вдруг встал, распахнул шинель и указал звезду на груди. Другие испугались, я же будто не обратил внимания и дерзко обошелся с ним. За это я был присужден к 10-летнему заключению и не смел бриться. В то время я носил бороду, к которой я привык во Франции в 1842 году, когда это стало входить в моду. Говорили, что каждый год, накануне Нового года, приходит палач и стрижет мне бороду. Это были богатые и, нельзя сказать, что глупые, мужики, и они рассказывали это не потому, что они что-нибудь против меня имели; напротив, они относились добродушно и с состраданием к молодому человеку».
В связи с этим преданием говорили о том, что и теперь создаются разные вымыслы, которые мало или ничего не имеют общего с действительными случаями. По этому поводу я спросил:
– Смею ли спросить, ваше сиятельство, справедлива ли история с кружкой пива, которую вы разбили о чью-то голову в берлинском трактире за то, что он насмехался над королевой или не хотел пить за ее здоровье.
– Да, – отвечал он, – эта история была совсем другая и без всякой политической примеси. Раз поздно вечером возвращаясь домой, это, кажется, было в 1847 г., я встретил кого-то довольно пьяного и который хотел ко мне привязаться. Но когда я остановил его за дерзкие выражения, то узнал, что это был старый знакомый. Это было, кажется, на Егерской улице. Мы давно не видались, и, когда он мне предложил пойти к (он назвал имя), я пошел с ним, хотя он, в сущности, был довольно пьян. Пока нам подали пиво, он уснул. Около нас был кружок людей, из которых один также выпил более, чем мог, и буйством обращал на себя внимание. Я спокойно пил свое пиво. Он очень раздосадовался, что я так смирен, и начал делать намеки на мой счет. Я молчал, и это еще более его раздражало и сердило. Колкости его говорились все громче. Я не хотел вступать в ссору, а также и уйти, чтобы не подумали остальные, что я трушу. Наконец, должно быть, он не мог успокоиться, он подошел к моему столу и угрожал вылить мне пиво в лицо; ну это уже было слишком. Я сказал, чтобы он убирался, и когда вслед за тем он сделал жест, желая меня облить, то я так толкнул его под подбородок, что он растянулся во всю длину, сломал стул и кружку и прокатился до стены через всю комнату. Тут пришла хозяйка, я ей сказал, чтобы она успокоилась, за стул и кружку плачу я. А остальным я сказал: «Вы видели, господа, что я не искал ссоры, и вы свидетели, что насколько возможно я сдерживался, но нельзя же требовать, чтобы я позволил вылить себе на голову стакан пива за то только, что я спокойно пил свое пиво. Я буду очень сожалеть, если этот господин лишился зуба. Но я должен был обороняться. Если, впрочем, кто-нибудь желает знать кое-что еще больше, то вот мой адрес». – Оказалось, что это были весьма рассудительные люди, которые были почти того же мнения, что и я. Они сердились на своего товарища и отдавали мне справедливость. Потом я встретил двух из них у Бранденбургских ворот и сказал им: «Вы, кажется, присутствовали, господа, когда я имел эту историю в портерной на Егерской улице. Что случилось с ним? Мне жаль, если она для него имела вредные последствия. Его надобно бы было вынести». «Ах, – сказали они, – он совсем здоров и весел, и зубы тоже опять окрепли. Впрочем, он молчит и очень сожалеет об этой истории. Он только послал за доктором, чтобы отслужить свой год, и ему было не очень приятно, если бы история эта распространилась в народе и дошла до его начальства».
Потом шеф рассказывал, что, будучи геттингенским студентом, он в 3 семестра имел 28 поединков, и все кончались счастливо для него.
– Но раз, ваше сиятельство, – спросил я, – что-то случилось с вами. Как звали этого маленького ганноверца? Биденфельд?
– Биденвег, – отвечал он, – он не был мал, почти с меня ростом. Но это случилось только оттого, что клинок его отскочил, так как, вероятно, был плохо ввинчен. Клинок попал мне в лицо и застрял. Больше я ни разу не был ранен. Впрочем, раз в Грейфсвальде я был близок к тому. Была введена такая странная головная покрышка из войлока, как кофейный мешок, а также рапиры, которыми я тогда не умел владеть хорошо. Я же дал себе слово отсечь кончик кофейного мешка моего противника и промахнулся, а его удар просвистел совсем около моего лица, но я успел вовремя отклониться».
Среда, 1-го февраля. Небо с утра довольно ясное, мелкий дождь и гололедица. За завтраком говорили, что Гамбетта согласился на перемирие, но удивляется, что в юго-восточной Франции еще было сделано нападение на французов. Фавр по незнанию дела упустил из виду ему телеграфировать, что война там – между прочим, по его желанию – еще продолжается. За завтраком присутствовали гости; из них сделали нам честь своим посещением тайный советник из правления министра финансов Шейдтманн, своеобразная личность, граф Денгоф (голубой и красивый, но не красный и дородный) и «мой племянник, граф Иорк». Говорили, что французов сегодня не будет.
Но это оказалось неверным. В час явился Фавр, чтобы несколько часов заняться наверху с шефом. Между тем я и Л. поехали через Вилль-д’Аврэ и парк Saint Cloud в город того же названия или, вернее сказать, на груды развалин, которые остались от жестокого пожара, происшедшего там несколько дней назад. При отправлении домой я получил приятное известие, что Бельфор сдался на капитуляцию и что оставшаяся 80 000 армия Бурбаки под командою Клишана, отступая перед нашими войсками, перешла на швейцарскую территорию и что, следовательно, и тут окончена война, о чем Бисмарк-Болен мне еще сообщил на лестнице.
В парке Saint Cloud, налево от решетчатых въездных ворот, под деревьями увидали мы импровизированное маленькое кладбище с 10 или 12 могильными насыпями над павшими здесь немецкими солдатами.
Далее, проездом, мы видели еще несколько таких же могил, так же как и шанцы и срубленные деревья, брошенные поперек дороги. Под мостом, который в виде туннеля сводообразно тянулся над дорогою, солдаты устроили себе жилище, как в каземате. Перед въездом в город, несколько на окраине пристроены к стене направо и налево блокгаузы, позади которых на большом расстоянии были устроены ступеньки для орудий, чтобы стрелять под прикрытием блокгаузов. Город состоит в начале из широких улиц и с загородными домами, которые отделены друг от друга промежутками и окружены садами; далее идут узкие улицы с большими, высокими в несколько этажей домами, которые заканчиваются на склоне холма у берега Сены.
Дачные постройки города почти все без исключения выгорели и частью превращены в пепел. От легких построек осталась только куча мелкого кирпича, осколки шифера, куски извести и уголь. На густо застроенных улицах внутри города едва еще сохранились наружные стены домов, и те по частям во многих местах обрушились, а с ними и полы разных этажей. На остатках последних виднелись письменные столы, комоды, книжные полки, а также для посуды, умывальные столы и т. п., а на стенах, обитых обоями, висели картины и зеркала. Целые обрушенные фасады 3-этажных домов лежали на главных и боковых улицах; другие, наклоненные, уже угрожали своим падением. Повсюду еще дымящийся мусор и запах гари; в 3 или 4 домах пробивалось пламя в виде язычков на крышах через трубы, стенные балки и карнизы. Новая церковь, выстроенная в прекрасном готическом стиле, осталась пока невредима, за исключением 2 дыр на крыше. Кругом – все развалины. Ужасающая картина серьезной войны!
С высоты разрушенного города расстилается красивый вид на долину Сены, на мост, один свод которого был взорван, и на южную часть Парижа с Булонским лесом. Мы не останавливались для этого вида, но быстро отправились во дворец, который до войны был летним местопребыванием Наполеона, а теперь также представлял только безмолвную груду развалин. Французские гранаты превратили его в такое состояние. Только окружающие стены и простенки стояли прямо. Мы перелезли через груды щебня, переходили из комнаты в комнату через обрушившиеся потолки и полы, грозившие новым падением, и взяли с собою на память куски от упавших вниз мраморных капителей и изуродованных статуй.
На возвратном пути в Saint Cloud мы несколько раз встречали небольшие общества людей, возвращавшиеся с постелями и домашнею утварью из Парижа в свои родные деревни; а около Вилль-д’Аврэ нам попалась навстречу прусская артиллерия, шедшая на Мон-Валерьян.
Возвратившись опять в 6 часов в rue de Provence, я застал уже шефа и других за столом. Гостей не было. Министр разговаривал о Фавре и при входе моем сказал: «Я думаю, он сегодня и пришел только вследствие нашего вчерашнего разговора, в котором я не хотел согласиться, что Гарибальди – герой. Очевидно, он за него боялся, что я не захочу включить его в перемирие. Как настоящий адвокат, он указал на первую статью. Но я сказал ему, что это правило, а за ним следуют исключения, к которым принадлежит это. Если француз поднял против нас оружие, я это понимаю – он защищал свою страну и имел на то право; но этот чужой – искатель приключений со своей космополитической республикой и шайкой революционеров изо всех углов вселенной! Его прав я признать не могу. Он спросил потом, что бы стали с ним делать, если бы взяли его в плен. «О! – сказал я, – мы будем показывать его за деньги с дощечкой на шее, на которой будет надпись: «Неблагодарность».
Затем он спросил: «Где же Шейдтманн?» Ему ответили. «Его я думал взять себе в помощники как юриста для дела об уплате Парижем 200 миллионов контрибуции. Он ведь юрист?»
– Нет, – отвечал Бухер, – он вообще не учился в университете; был первоначально купцом и т. п.
– Итак, – сказал шеф, – в первом ряду должен идти в бой Блейхредер. Этот немедленно должен ехать в Париж, снюхаться со своими коллегами и поговорить с банкирами, как это надобно устроить. Ведь он думает приехать?
– Да, – отвечал Кейделль, – через несколько дней.
– Пожалуйста, – просил шеф, – телеграфируйте ему; он нам необходим тотчас. За ним следует Шейдтманн. Он ведь знает французский язык? – Этого не знали. – В третий разряд я выбираю Генкеля. Он в Париже как дома и знает денежных людей. Мы обыкновенно на бирже рассчитываем понтировать на счастливого игрока, сказал мне раз один из крупных финансистов, и если здесь теперь нужно понтировать на кого, то на графа Генкеля.
Потом разговор коснулся истории развития немецкого вопроса, и министр, между прочим, заметил: «Я помню, лет 30 назад или более, спорил я в Геттингене с одним американцем о том, будет ли объединена Германия лет через 20. Мы держали пари на 25 бутылок шампанского, которые должен был поставить, кто выиграет; кто проиграет, должен был переплыть море. Он держал пари за необъединение, я – за объединение. Вспомнив это в 1853 году, я хотел отправиться за море, но я узнал, что он уже умер. Его имя было такое, которое не обещает долгую жизнь – Toffin, Sarg. Самое главное то, что уже тогда, в 1833 году, я, должно быть, имел надежду на то, что теперь с помощью Божией осуществилось, несмотря на то что в отношении тех, которые этого желали, я был на ножах».
Наконец министр высказал свое убеждение в том, что луна имеет влияние на рост волос и растений, и закончил тем, что, шутя, поздравил Абекена с прической. «Вы выглядите вдвое моложе, господин тайный советник, сказал он. – Если бы я был вашею женою! Вы остриглись как раз вовремя, в первую четверть луны. Так делают с деревьями, если хотят, чтобы они росли, их стригут в первую четверть; но если хотят корчевать пни, то делают это во время ущерба луны, тогда скорее гниет корень. Есть люди ученые, которые этому не верят, но само правительство поступает так же, хотя открыто в этом не сознается. Ни одному лесничему не придет на ум рубить березу, которая должна еще пустить побеги, при ущербе луны».
Вечером прочитано было много актов, относящихся к перемирию и снабжению провиантом, между ними также несколько собственноручных писем Фавра, который имеет красивый и разборчивый почерк. В одном письме сказано, что в Париже достанет муки только до 4-го февраля, а затем только конина. Мольтке просили письменно не равнять Гарибальди с французами и, во всяком случае, требовать от него и его армии, чтобы они совершенно сложили оружие. Министр желал этого по политическим целям.
В Эльзасе был отдан приказ не препятствовать выборам в бордоское собрание, которое должно постановить решение о продолжении войны или о заключении мира, а также относительно принятия условий мира; выборы должно игнорировать. В занятых нами местностях руководить выборами будут мэры, а не префекты. В изданных в Париже по этому случаю инструкциях говорится, что мэры главного города департамента должны войти в соглашение с мэрами главного города каждого округа, а эти – с мэрами главного города кантона и общин. Они должны уведомить их о дне, в который будут избираться депутаты в национальное собрание. Мэр каждой общины вручит каждому записанному избирателю карточку, по которой он может выбирать. За недостатком карточек после удостоверения их личности записанные избиратели будут допущены к подаче голосов. Мэр главного города департамента назначает число и границы избирательных округов. Выборы утверждаются большинством голосов.
Вследствие затруднений, вызванных войною, собирание голосов будет считаться законным, какое бы ни было число поданных голосов. Члены парижско-французского правительства обнародовали еще сверх того 29-го января следующее распоряжение:
«Приняв в соображение, что при настоящих обстоятельствах весьма важно предоставить избирателям полную свободу выборов, насколько она согласна будет с верным выражением народной воли, правительство национальной обороны предписывает следующее: «Статьи 81 до 90 закона от 15-го марта 1849 года, за исключением определения параграфа 4 статьи 82 и 5-го параграфа 85-й статьи, не могут быть применимы к выборам в национальное собрание. Вследствие этого префекты и супрефекты не могут быть избираемы в тех департаментах, где они занимают должности».
Четверг, 2-е февраля. Ясная теплая погода, как будто хочет наступить весна. Шеф меня позвал рано. Я должен телеграфировать, что 80 000 французов из армии Бурбаки перешли в Швейцарию при Понтарлье, и только 8000 бежали на юг. Вскоре я был позван еще раз, чтобы в здешней и нашей прессе обратить внимание на только что полученный нами телеграммою циркуляр Лорье (за которым скрывается Гамбетта) и высказать о том наше мнение. С этой целью я написал вскоре следующую статью:
«31-го января в Бордо после заключения договора, обнародованного там 28-го января, разослан префектам циркуляр, подписанный Лорье.
Там сказано:
«Политика, которой до сих пор следовали министры внутренних и военных дел, остается в той же силе; война до крайности, сопротивление – до полнейшего истощения. Потому приложите всю вашу деятельность к поддержанию хорошего духа в народонаселении. Период перемирия должен быть употреблен на подкрепление наших 3-х армий людьми, снарядами и съестными припасами. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться перемирием, и мы в состоянии это исполнить. Короче, до выборов нет ничего, что не могло бы быть обращено в нашу пользу. Франции необходимо представительство такое, которое хочет войны и решится вести ее во всяком случае».
Так говорит циркуляр, подписанный Лорье. Для людей благоразумных он сам произносит себе приговор, и мы могли бы поэтому воздержаться от комментариев. Между прочим, весьма важно заметить, что немецкие власти придавали весьма доброжелательное и снисходительное значение договору от 28-го января. Они допустили парижскому правительству толковать конвенцию от 28-го января в более широком смысле, чем это было установлено этим актом. Они признали полную свободу выборов в бордоское собрание, долженствующее решить вопрос о войне или мире. Несмотря на это, правительство продолжает открыто в Бордо проповедовать войну до крайности и явно влияет на выбор таких людей, которые дадут свой голос за войну и совершенное истощение Франции. Поведение это такого рода, что немецким властям представляется вопрос, у места ли их великодушное понимание своих обязанностей относительно Франции и не в интересах ли самой Франции должны они дать более строгое толкование договору от 28-го января?
Что касается, впрочем, 3-х армий, о которых говорит Лорье, то обращаем внимание на то, что после того как армия Бурбаки частью взята в плен, частью бежала в швейцарские владения, Франции остались только остатки 2-х армий. В заключение следует сравнить извещение Лорье с следующим извлечением «Daily Telegraph» о взглядах Гамбетты на положение дел и на то, что должна Франция делать. Корреспондент английской газеты говорит: «Разговор касается войны вообще, и на мой вопрос, будет ли конец войны после сдачи Парижа, Гамбетта отвечал, что сдача Парижа не будет иметь никакого значения для продолжения войны, если Пруссия останется при своих настоящих требованиях. «Я говорю это, – так продолжал он, – не только от моего имени или от имени здешней правительственной делегации, я повторяю, напротив, только твердое намерение моих сотоварищей внутри и вне Парижа, по которому война должна продолжаться, несмотря на расходы и последствия, которые вследствие того могли бы произойти. Если Париж падет завтра, то он благородным образом исполнит свой долг относительно Франции, но я не могу допустить, чтобы Париж когда-нибудь сдался. Я полагаю, что жители сами скорее сожгут город и сделают из него вторую Москву, чем допустят врага овладеть им». «Но предположим, – отвечал я, – что, несмотря на это, капитуляция состоялась бы». «В таком случае, – возразил Гамбетта, – следует продолжать войну в провинциях. Не включая армии, находящейся в Париже, мы имеем в действительности в настоящую минуту полмиллиона войск и сверх того еще 250 000 человек, готовых примкнуть к армии или покинуть свои сборные пункты. Мы еще ни разу не коснулись контингента 1871 года и женатых людей не ставили в полки. Первый доставит нам 300 000 рекрутов, а последние доставят 2 миллиона сильных людей. Оружие мы имеем из разных мест, и в деньгах тоже недостатка нет. Нация со включением всех политических оттенков на нашей стороне, и дело будет состоять только в том, кто из двух сильнее и настойчивее, наш народ или немецкий. Нет, – так продолжал он, ударяя крепко кулаком по письменному столу, – я считаю математическою невозможностью, чтобы мы, обладая настойчивостью и продолжая войну, не достигли наконец того, что выгоним вторгнувшегося врага из Франции. Каждые 24 часа составляют для нас только сутки, но нашим врагам каждый час замедления увеличивает затруднения. Англия сделала большую ошибку, что не вмешалась прежде и не сказала Пруссии, что, перешагнув известные границы, она в глазах Англии даст повод к войне».
Вскоре после часа опять приехали французы, но шеф с министром поехали верхом, как предполагали, в один из фортов или в какое-нибудь место, откуда далеко видна окрестность, так как они взяли с собою подзорные трубы. Герстекер и Дюбок навестили меня, и с последним, который был корреспондентом в саксонском лагере, я пошел в дворцовый парк. На возвратном пути я узнал, что шеф был в Сен-Клу, а французы между тем ожидали его в нашем парке.
За столом были у нас гости: Одо Россель и один высокий, полный молодой человек в темно-синем мундире, как мне говорили, граф Брай, сын министра, бывшего прежде при баварском посольстве в Берлине.
Шеф обратился к Росселю: «Английские, а также некоторые и немецкие газеты порицали мое письмо к Фавру и находили его слишком суровым. Но сам он, кажется, не того мнения. Он говорил мне совершенно добровольно: «Вы были правы, напомнив мне мои обязанности. Я не смел уходить прежде, чем это закончится». Министр тут же похвалил это самосознание. Он еще раз повторил, что наши парижане – народ непрактичный, и что мы постоянно должны быть их советниками и помощниками. Он присовокупил, что они и теперь, кажется, норовят требовать изменений конвенции от 28-го января. Вне Парижа выказывается мало готовности способствовать снабжению его провиантом; например, правление руанско-диеппской железной дороги, на которую рассчитывали, отозвалось, что недостает подвижного состава, так как локомотивы разобраны и отправлены в Англию. Поведение Гамбетты еще сомнительно, но, кажется, он думает о продолжении войны. Необходимо, чтобы Франция получила скорее надлежащее правительство. Если они не в состоянии установить свое, – продолжал он, – то мы дадим им государя. Все уже к тому подготовлено. Амедей пришел в Мадрид, в короли Испании с дорожной сумкой в руках, и, кажется, дело идет. Наш придет со свитой, министрами, поварами, камергерами и с армией».
Разговор после этого коснулся состояния Наполеона, которое считали различно, то очень большим, то незначительным, и Россель сомневался, чтобы оно было значительно. Он полагал, что императрица по крайней мере не могла иметь большого состояния, так как она не более 6000 фунтов положила на сохранение в английский банк. Потом упоминали, что граф Мальтцан уже прибыл в Париж, и шеф сказал, когда добавили, что его еще никто не видал: «Хотя бы с этим толстым господином ничего не приключилось». Затем он рассказывал, что по дороге в Сен-Клу он встретил сегодня много людей с домашнею утварью и постелями, вероятно, жителей соседних деревень, которые не могли выйти из Парижа. «Женщины имели вид очень приветливый, – заметил он, – а мужчины, завидя наши мундиры, принимали тотчас угрюмый вид и геройскую осанку. Это напомнило мне прежнюю неаполитанскую армию, в которой существовала команда – вместо нашей команды: «Орудие направо, к атаке!» там говорили: «Faccia féroce!», то есть «принимайте яростный вид». Все основано у французов на величественных позах, великолепной манере говорить и важном виде, как в театре. Лишь бы только звучало хорошо и имело какой-нибудь вид, содержание же все равно. Подобно тому, как у потсдамского гражданина и домовладельца, который сказал мне раз, что речь Радовица его глубоко тронула и потрясла. Я спросил его, не может ли он мне указать то место, которое ему особенно нравилось. Он не мог указать ни одного. Прочитав ему все, я спросил, какое самое трогательное место, и тогда оказалось, что там ничего не было ни трогательного, ни возвышенного. Собственно, его поражали вид, манера, поза оратора, которая выглядела, будто он говорит что-то глубокое, важное и животрепещущее, далее выражение лица, благоговейный взор и выразительный голос. С Вальдеком было то же, хотя тот не был таким ловким человеком и таким важным явлением. У того большое значение имели седая борода и ловкие суждения. Дар красноречия многое портит в парламентской деятельности. Много времени употребляется на то, чтобы дать высказаться всем тем, которые хотят что-нибудь сказать, хотя они ничего нового не скажут. Слишком много говорится на ветер, а мало – о деле. Раньше все уже решено в отдельных фракциях; на общем собрании говорят много слов только для публики, которой хотят показать, что мы можем сделать, и для газет, которые должны хвалить. Дойдет еще до того, что красноречие будет считаться общевредным качеством, и станут наказывать за то, если речь будет долго продолжаться. У нас есть нечто, которое не пускается в красноречие, и, несмотря на это, сделал для немецкого вопроса гораздо более, чем кто-нибудь другой; это союзный сейм. Я помню, сначала были сделаны некоторые попытки в направлении красноречия. Я же это отрезал. Enfin, сказал я им приблизительно: господа, красноречием и речами, которыми можно убеждать, тут делать нечего, потому что каждый приносит с собою свое убеждение в кармане, т. е. свою инструкцию. Это только трата времени. Я думаю, мы должны ограничиться только изложением фактов. Так и установилось. Никто больше не произносит длинных речей. Зато дела подвигались быстрее, и союзный сейм действительно сделал многое».
Вечером читал депеши и проекты. Потом написал и отправил 3 телеграммы: одну – о Бельфоре и 3-х юго-восточных департаментах, другую – о препятствиях по снабжению Парижа провиантом и последнюю – о затруднениях, которые делают Федэрб и Даржан.
Пятница, 3-го февраля. Ненастная и холодная погода. Перед обедом, пока шеф был занят, Вольманн и я поехали опять в Сен-Клу, развалины которого все еще дымились и издавали запах гари, а потом далее до первых домов Suresnes у подошвы Мон-Валерьяна. На берегу Сены стоят еще наши часовые; остальное все имеет миролюбивый вид, и только поражает глубокая тишина, господствующая по ту сторону реки, хотя большой город стоит весьма близко. Там не видно ни одного человека, и только видна некоторая жизнь на реке, по которой скользят 2 лодки, по-видимому, рыбацкие челноки.
За завтраком Бухер рассказывал разные характеристические черты из жизни Гладстона. В час пришел Вахенхузен, который намерен проскользнуть в Париж.
В четверть четвертого я был позван к шефу. После Лорье и Гамбетта дает о себе знать и, кажется, совершенно с воинственной деспотической стороны. 31-го января обнародована подписанная им прокламация французам, в которой говорится:
«Чужеземцы нанесли французам жестокое оскорбление, которое в эту несчастную войну пришлось испытать нашему народу. Неодолимый Париж, вынуждаемый голодом, не в состоянии был удержать вдали от себя немецкую орду. 28-го января он пал».
«Кажется, печальный рок желает приготовить нам еще более горя и бедствий. Не посоветовавшись с нами, подписано перемирие, и об этом легкомысленном поступке, достойном наказания, мы узнали слишком поздно. Перемирие сдает пруссакам департаменты, еще занятые нашими войсками, и обязывает нас 3 недели оставаться спокойными, чтобы при несчастных обстоятельствах, в которых находится страна, собралось национальное собрание. Мы требовали объяснений относительно состояния Парижа и до получения уведомления молчали. Мы хотели дождаться необходимых известий из Парижа и одного члена правительства, в руки которого мы думали передать наше полномочие. Однако же из Парижа никто не приехал, итак, мы должны начать действовать, чтобы уничтожить во что бы то ни стало низкие планы врагов Франции. Пруссия рассчитывает на то, что перемирие ослабит и расстроит наши войска. Она живет надеждой, что собрание после целого ряда несчастий и под страшным впечатлением падения Парижа придет в уныние и будет готово согласиться на постыдный мир. В наших руках уничтожить означенные расчеты и повлиять, чтобы решительные меры, принятые для уничтожения духа сопротивления, напротив, его еще более вновь оживили и подкрепили. Воспользуемся перемирием для обучения наших молодых солдат и потребуем организации защиты, а также войны более энергичной, чем когда-либо. Сделаем все возможное, чтобы вместо реакционного и малодушного представительства, на которое надеются пришлые чужеземцы, состоялось бы действительно национальное, с республиканским духом собрание, которое пожелает мира только в том случае, если он обеспечит честь и неприкосновенность нашего отечества, но которое тотчас же способно и готово желать войны, чтобы воспрепятствовать совершить над Францией коварное убийство. Французы! Вспомним наших отцов, которые оставили нам Францию тесно соединенной и нераздельной. Будем остерегаться предательства против нашей истории и против того, чтобы полученное нами в наследство владение не перешло в руки варваров».
Этот фанатический акт заканчивается воззванием: «К оружию! Да здравствует Франция! Да здравствует единая и нераздельная республика!»
Вслед за этим Гамбетта издал распоряжение, которое объявляет многих лиц неизбираемыми. В нем он говорит:
«Справедливость требует, чтобы все соучастники правительства, которое началось покушением 2-го декабря и закончилось капитуляцией Седана, теперь же были поставлены в такое же политическое бессилие, в котором находится и династия, которой они были орудием и участниками. Это необходимое последствие ответственности, которую они на себя приняли, помогая императору в исполнении различных действий правительства. Сюда принадлежат все те лица, которые со 2-го декабря 1851 г. до 4-го сентября 1870 г. занимали должности министров, сенаторов, советников или префектов. Далее исключаются из избираемых в национальное собрание все те лица, которые при выборах в законодательный корпус в продолжение со 2-го декабря 1851 г. до 4-го сентября 1870 г. каким-нибудь образом выступали кандидатами правительства, а также члены тех домов, которые управляли Францией с 1789 г.».
Вследствие этого распоряжения телеграфировал я по приказанию шефа в Лондон и Кёльн, что бордоское правительство, исключая из выборов целые классы народонаселения, признало неизбираемыми: министров, сенаторов, советников и всех бывших прежде официальных кандидатов. Высказанное графом Бисмарком опасение во время переговоров о конвенции 28-го января о том, что не будет свободных выборов, получило теперь подтверждение. Государственный канцлер вследствие этого опасения предложил созвать законодательный корпус, но Фавр на это не согласился. Теперь же против исключения тех лиц шеф в одной ноте подал протест, и со стороны немцев будет признано только то новое правительство Франции, которое избрано собранием, состоявшимся только при свободных выборах, как того требует конвенция.
Шеф поехал с актом Гамбетты о выборах к королю, между тем в гостиной находился парижский префект полиции, приехавший поговорить с ним; но шеф к обеду не вернулся и остался обедать в префектуре. Вследствие этого за нашим столом председательствовал Абекен; тут же сидели Шейдтманн и граф Генкель.
Позванный в 8 часов к шефу, я получил приказание отправить копии с телеграммы Рейтера из Бордо, от 2-го февраля, для напечатания в «Moniteurs». В ней сказано:
Журналы «La Libérte», «La Patrie», «Le Français», «Le Coustitutiounel», «L’Universel», «Le Courrier de la Gironde et Province» объявляют протест против распоряжения делегатов от 31-го января об ограничении свободы выборов. Они говорят, что до опубликования своего протеста они считали долгом послать к Жюлю Симону трех депутатов, чтобы осведомиться, не существует ли распоряжение, изданное парижским правительством относительно выборов и опубликованное в «Journal Officiél». Жюль Симон ответил, что такое распоряжение существует с 31-го января и единогласно принято членами правительства и что в нем все ограничения выборов исключены. Только неизбираемость префектов в тех провинциях, где они находятся на службе, оставлена [31] . Выборы назначены в Париже на 5-е, а в департаментах – на 8-е февраля. Депутаты должны собраться 12-го. Газета «Officiél», в которой помещаются эти распоряжения, разослана по распоряжению парижского правительства во все департаменты. Жюль Симон, получив пропуск, выехал в то же утро. По приезде своем в Бордо Жюль Симон созвал собрание членов делегации, чтобы разъяснить им положение дел, и вечером разъяснения продолжались до 4 часов. Жюль Симон объяснил представителям прессы, что он согласен на исполнение распоряжения парижского правительства и уполномочил их обнародовать это объяснение. Подписавшиеся представители прессы должны только теперь ожидать исполнения парижского распоряжения». Следуют подписи. Диктаторство Гамбетты существовало, значит, дольше всех. Его упрямый ум теряет под ногами почву.
Еще раз позванный к шефу, я должен был телеграфировать об успехе сражений при Понтарлье южногерманской армии под командою Мантейфеля. При этом мы взяли в плен 15 000 французов, в том числе 2 генералов, 19 орудий, а также отняли 2 знамя (орла).
Граф Герберт Бисмарк прибыл сегодня к своему отцу из Германии. В 9 часов он был у него.
Суббота, 4-го февраля. Погода теплее вчерашней. Рано утром читал входящие бумаги и проекты. Я узнал, что шеф протестовал против Гамбетты об ограничении выборов двояким образом: один протест направлен к нему самому телеграммою, а другой в ноте к Фавру. В телеграмме сказано: «Во имя свободы выборов, гарантированной конвенцией о перемирии, протестую я против распоряжения, изданного от вашего имени, которое лишает многочисленные классы французских граждан права быть избранными в собрание. Выборы, произведенные под давлением, под господством произвола, не могут дать те права, которые конвенция о перемирии предоставляет депутатам, свободно избранным».
В депеше к Фавру сказано после кратко изложенного содержания декрета Гамбетты о выборах:
«Я имею честь, ваше превосходительство, предложить вопрос, видите ли вы в этом согласие с постановлением конвенции, что собрание должно состояться при свободных выборах. Дозвольте мне, ваше превосходительство, воскресить в вашей памяти переговоры, предшествовавшие договору от 28-го января. Я высказывал опасение уже тогда, что при настоящих обстоятельствах трудно будет обеспечить свободу выборов и препятствовать каждой попытке нарушить их. Ввиду опасения, которое сегодняшний циркуляр Гамбетты, кажется, подтверждает, я поднял вопрос, не правильнее было бы созвать законодательный корпус, образующий законный авторитет, избранный на основании общего права подачи голосов. Ваше превосходительство это отклонили и дали мне положительное обещание, что не будут влиять на избирателей, и выборам будет дана полная свобода. Я обращаюсь к справедливости вашего превосходительства с просьбою высказать ваше мнение, законны ли в декрете, о котором идет речь, означенные исключения кандидатов всех категорий и согласуется ли это со свободою выборов, требуемою конвенцией от 28-го января. Я надеюсь выразить полнейшую надежду, что тот декрет, применение коего противоречит с определением конвенции, немедленно будет объявлен недействительным, и что правительство национальной обороны примет необходимые надлежащие меры, которые обеспечены конвенцией в статье 2-й относительно свободы выборов. Мы не признаем за лицами, выбранными на основании бордоского циркуляра, права, которые конвенцией о перемирии предоставлены депутатам собрания».
В 9 часов уже прибыли 2 офицера парижской национальной гвардии: один – молодой, другой – старый, которые вручили шефу письмо, – может быть, ответ Фавра.
После 10 часов позвал меня шеф и спросил: «Из Берлина жалуются, что английские газеты сообщают гораздо больше известий, чем наши, и что в наших газетах очень мало сообщено о переговорах относительно перемирия. Отчего это?»
– Да, ваше сиятельство, – отвечал я, – это происходит оттого, что англичане имеют больше денег, чтобы быть везде и получать известия. К тому же они имеют вход к высокопоставленным лицам, которые знают все, и, наконец, есть некоторые военные, которые не всегда молчат о вещах, которые до времени должны быть еще скрыты. Но из переговоров о перемирии я мог только то опубликовать, что должно было быть опубликовано.
– Ну так, – сказал он, – напишите еще раз об этом и скажите, что виноваты обстоятельства, а не мы.
Я позволил себе потом поздравить его с грамотою на почетное гражданство, которую он должен был получить на этих днях, и присовокупил, что Лейпциг – хороший город, лучший в Саксонии и бывший всегда дорогим для меня.
– Да, – возразил он, – почетный гражданин я теперь, и саксонец, и гамбургец, так как и из Гамбурга имею грамоту. В 1866 году этого никто бы не ожидал.
Когда я собирался уходить, он сказал мне: «При этом мне пришло на ум – это принадлежит также к чудесам нашего времени – напишите, пожалуйста, подробнее о странном факте, что Гамбетта, который так долго делал вид, будто защищает свободу и борется против влияния правительства на выборы, что он теперь, когда достиг власти, сам своими распоряжениями делает страшные стеснения выборам и что всех тех, которые с ним не согласны, он лишает права быть избранными. Вся чиновная Франция, за исключением тринадцати республиканцев, исключается. Я против желания Гамбетты и его помощника и союзника Гарибальди доставить французам вновь свободу выборов – чту тоже странно.
– Не знаю, было ли это ваше намерение, – сказал я, – но в вашем протесте против Гамбетты странно выделяется эта противоположность. Вы au nom de la liberté des élections защищали против les dispositions en votre nom pour priver des catégories nombreuses du droit d’étće élues. Это можно также упомянуть.
– Да, – сказал он, – сделайте это. Вы можете, – прибавил он, смеясь, – напомнить и о том, что Тьер после своих переговоров со мной назвал меня любезным варваром – barbare aimable. В Париже меня называют теперь un barbare astutieux – лукавым варваром, ну а теперь я, может быть, буду un barbare constitutionnel.
Приведу здесь для сравнения одну главу о других эпитетах графа, которые найдены во французских газетах и книгах с 1870 до 1874 года. Список этот был помещен в немецком листке, название которого я не мог узнать, так как билетик, который был приклеен к газете и на котором было обозначено это название, потерялся. Приблизительно там сказано так.
Союзный канцлер сказал о себе на рейхстаге весною 1874 года, что от берегов Гаронны до Невы он самый ненавидимый человек в Европе. Следующее в состоянии указать чувства французов, главных врагов Бисмарка, и объяснить это замечательное выражение. В понятиях французов государственный канцлер занимает почти то же самое место, какое занимал Ганнибал у римлян. Как великий пуниец был у квиритов воплощением коварства и козней – всего того, что народу могло препятствовать и затруднять, так такое же отношение господствует теперь у французов к Бисмарку. Его имя стало пугалом для Франции, так же как и Ганнибал ante portas был страшилищем для римлян. Во всем, что французам неприятно, Бисмарк считается виновником; бессознательно приписывают, таким образом, искренно ненавидимому человеку качества, которые не могут принадлежать ни одному человеческому существу: вездесущность, всеведение и всемогущество. К высказываемой ненависти невольно примешивается большая доля удивления; подобно Валааму [32] , французы иногда благословляют его тогда, когда хотят проклинать его. Во французской прессе это явление можно проследить с большею точностью. Обыкновенно французские газеты говорят о Бисмарке, когда не имеют с ним ссоры, как о monsieur de Bismark. Не всегда игнорируют они и титул, который ему принадлежит; иногда, хотя не очень часто, имеют дело и с prince de Bismark. Титул князя напоминает им уже заслуги, которыми он приобрел его и которые совпали с ослаблением могущества французов. По своему официальному положению для своих друзей на запад от Вогезов он – Chancelier; к этому иногда добавляют титул Prince Chancelier, Illustre Chancelier, Archi-Chancelier или Grand Chancelier. Относительно его политического направления французы не всегда одного и того же мнения, большею частью они весьма различного взгляда. То газеты называют его le d’éfenseur des idées aristocratiques, то – le champion du Libéralisme moderne et de la raison humaine или еще – l’apôtre du Libéralisme. Во французских газетах с либеральным направлением встречаются часто рядом эти обозначения, предполагающие в Бисмарке две души. Легитимисты и клерикалы выражаются последовательнее; у них он есть и остается се révolutionnaire. Высокие качества союзного канцлера, как государственного человека, также вполне признаются французами. В дипломатическом отношении он – l’illustre diplomat, l’homme de Biarritz, когда желают обозначить великий успех его, подобно тому как l’homme de Sédan обозначает ужасное поражение. Он – habile, le Passe partout, la Main partout. Il voit dans les plus petites causes les moyens d’arriver а son but. При воспоминании о политике союзного канцлера, которою он победил Францию, о нем говорят: «Il profite de nos embarras avec une science admirable; toujours il se fait adroitement valoir». В отношении бедной, несчастной Франции, которая никому и воды не замутит, которая любит мир, и не предъявляет никаких требований, и желает только покойно жить и прозябать, он l’implacable chancelier allemand. По поводу внутренней и внешней политики Бисмарка и ее успехов говорят: «L’homme de la force primans le droit». Как немецкие демократические газеты, так говорят и французские листки, называя его политику политикою крови и железа. Он – l’auteur célèbre de cette politique de fer et de sang. Или же он опять le macchiavellique chancelier. Сверх того его называют l’homme des nobles moeurs et de la crainte de Dieu – в смысле иронии. Как известно, это выражение, собственно, употребляется только в применении к Пруссии, но по воззрению французов, в Бисмарке страна вочеловечилась, канцлер есть совокупность качеств пруссаков, их типа и квинтэcceнции (всего лучшего), le grand homme Prussien, le grand Prussien. Последнее выражение есть изобретение журнала «l’Union» и очевидно в pendant велико-турку. Потому что Бисмарк для французских ультрамонтанов представляется не более не менее как турком, он для них воплощение злого принципа, антихрист, вельзевул. Открытием этого может гордиться клерикальная газета «Revue de la Presse». С плохо скрытым недоброжелательством и завистью «Constitutionnel» называет его далее le pivot de la société, осью, вокруг которой вертится все нынешнее общество. Для обозначения одним словом великих успехов, достигнутых Бисмарком, его называют не le vainquer de Sédan или подобным образом, а le vainquer de Sadowa. Победы его над Францией игнорируются, таких совсем не существует; французы видят только предательство Наполеона и его генералов. За то приходится отвечать бедным австрийцам, которые не столь непреодолимы, как французы. Для прославления великих деяний Бисмарка ему дают почетный титул Richelieu de la Prusse, который в уме французов означает соединение всех способностей государственного человека и дипломата. Другие же не могут его так высоко ставить и спускают его на ступень ниже, называют его только Polignac en politique, но, конечно, Polignac réussi l’audacieux et puissant ministre. Творение Бисмарка, новая Германская империя, есть наконец для французской клерикальной прессы l’empire athйe de Monsieur de Bismark – конечно, потому, что чего же более можно ожидать от вельзевула? Свое сомнение в продолжительности этого творения французы выражают словами: il est un terrible joueur; a что основание Германской империи в глазах их не представляет ничего особенного – они выражают словами: Bismark n’est qu’un copiste.
Я возвращаюсь к описанию дневника о событиях 4-го февраля 1871 года.
В это утро шеф имел более времени и более интересовался прессой, чем в последние дни. До обеда я был шесть раз позван к нему. Один раз он дал мне лживую французскую брошюру «La guerre, comme la font les Prussiens» и при этом заметил: «Я бы хотел вас просить написать в Берлин, чтобы они составили что-нибудь подобное в нашем духе с обозначением всех жестокостей, варварств и нарушений конвенции французами. Но не очень обширно, а то никто читать не станет; это надобно исполнить скоро».
Другой раз дело шло о разных вырезках из газет, которые следовало собрать в сборник. Потом он показал небольшую брошюру, изданную неким Armand le Chevalier, 61. Rue Richelieu, с приложенным гравированным на дереве портретом канцлера и сказал: «Посмотрите вот, – указывая на покушение Блинда, предлагают меня убить и для этого прилагают мой портрет, подобно тому как давалась фотография вольным стрелкам. Вы знаете, в Арденнских лесах найдены были в карманах вольных стрелков фотографии наших лесных сторожей, которых приказано было застрелить. К счастью, нельзя согласиться, что мой портрет удался особенно, – так же как и жизнеописание. Это место (он прочитал его и потом отдал мне брошюру) должно быть помещено в печати, а потом в брошюре».
В заключение он дал мне еще несколько газет, сказав: «Вот посмотрите, нет ли там чего-нибудь относящегося ко мне и к королю. Я хочу скорей уйти, а то те из Парижа опять нападут на меня».
В брошюре г. Chevalier действительно приведены слишком сильные слова какого-то Ferragus о том, что Франция одобрительно бы приветствовала убийство шефа, хотя он в самом деле благодетель французов. Автор, который по стилю принадлежит к школе Виктора Гюго, говорит между прочим:
«Бисмарк оказал Франции, может быть, более услуг, чем Германии. Он работал над ложным единством своего отечества, но так же деятельно работал и над действительным возрождением нашего отечества. Он нас освободил от империи, он нам возвратил деятельность, ненависть к чужеземцу, любовь к родине, презрение к жизни, самоотвержение – словом, все добрые качества, которые отравил в нас Бонапарт. А потому хвала этому жестокому врагу, который нас спасает, желая нас погубить! Он, намереваясь нас убить, призывает нас к бессмертию и в то же время дарует нашей земной жизни свободу. Кровь, которую он проливает, оплодотворяет наше отечество; ветви, которые он срубает, заставляют дерево больше наполниться соком. Вы увидите, какими мы сделаемся великими, когда выйдем из этих страшных, но целебных сетей. Мы должны быть наказаны за 20 лет забвения своих обязанностей, за безнравственность и рабский образ мыслей. Испытание жестокое, но последствия будут славные; в доказательство указываю на мужественную стойкость Парижа и на жажду справедливости и чести, которые наполняют грудь нашу. Проходя теперь мимо оперного театра, чувствуешь себя пораженным стыдом. Эта нагота, которую так ярко освещало монархическое солнце, смущает стыдливость республики; отворачиваешься от этого символического памятника другого века, другой степени цивилизации. Бисмарк дал нам эту пуританскую гордость. Не будем благодарить его за это, но заплатим ему сильною ненавистью за это непрошеное благодеяние чужого человека, который сильнее в разрушении, чем в созидании, и охотнее проклинается, чем приветствуется. Пруссия сделала из него своего великого человека, но 8-го мая 1866 года вся страна сожалела о судьбе одного молодого фанатика – студента, который, предчувствуя в нем врага свободы, сделал по нему 5 выстрелов из револьвера.
«Бинд (сочинитель называет так пасынка Блинда) принадлежит к тому классу восторженных людей, к которому причисляются и Карл Занд, убийца Коцебу, и Стапс, хотевший заколоть кинжалом Наполеона в Шенбруне, и Оскар Бекер, первый покусившийся на жизнь короля прусского. Бинд не обманулся, чувствуя в себе дух римлянина; он стойко вел себя после ареста и порезал себе пульс или горло, чтобы не доставить палачу лишнюю жертву.
Если бы мы услыхали теперь, что предпринято более удачное покушение на жизнь Бисмарка, разве Франция не была бы настолько великодушна, чтобы рукоплескать этому? Но несомненно, что этот страшный вопрос об убийстве из политических причин до того времени, пока он смертною казнью и войною не искоренен из совести народа, всегда будет вопросом относительной нравственности.
В настоящее время, в октябре 1870 г., мы были бы в состоянии приветствовать как спасителя человека, которого несколькими месяцами ранее клеймили бы как наглого убийцу». Несомненно, прекрасный признак возрождения, которое, по словам статьи, должно было совершиться во Франции, а также и жажда справедливости и чести, которые наполняют грудь сограждан автора!
Шеф в час выехал верхом, но все-таки на него успел «напасть» приехавший в это время Фавр, и оба вместе работали в маленькой гостиной наверху.
За обедом были князь Путбус и граф Лендорф. Шеф рассказывал прежде всего, что он обратил внимание Фавра на то, что он, прославленный деспот и тиран, граф Бисмарк, должен был протестовать во имя свободы против прокламации Гамбетты, адвоката свободы, который хотел сотни своих граждан лишить права быть избранными, а остальных лишить свободы выборов, и потом присовокупил, что Фавр признал справедливость этого, сказав: «Oui, c’est bien drôle». «Впрочем ограничение свободы выборов, сделанное Гамбеттой, теперь же парижским правительством частью уничтожено и отменено. Он мне сообщил это сегодня письменно (письмо доставлено офицерами национальной гвардии), а раньше обещал это словесно», – сказал он.
Потом упоминали, что многие немецкие газеты недовольны капитуляцией, так как они ожидали немедленного вступления наших войск в Париж. Шеф заметил на это:
«Это зависит от полнейшего незнания положения дел здесь и в Париже. С Фавром я мог бы сладить, а народонаселение? У них сильные баррикады, 300 000 людей, из которых, наверное, сражались 100 000. Довольно пролито крови – немецкой – в эту войну. Если бы мы употребили силу, то было бы пролито еще больше при возбужденном состоянии народонаселения. И только для того, чтобы их унизить, – это стоило бы слишком дорого. – После некоторого размышления он продолжал: – И кто им сказал, что мы не войдем и не займем одной части Парижа? Или по крайней мере пройдем, когда они охладеют и примутся за разум. Надо полагать, что перемирие будет продолжено, и тогда мы можем требовать за наше согласие занятие Парижа на правом берегу. Я надеюсь, что в какие-нибудь три недели мы будем там. 24-го (он подумал) – да, 24-го было опубликовано основание Северо-Германского союза. Это было 24-го февраля 1859 г., когда мы во Франкфурте переживали эту особенно гнусную историю. Я сказал им тогда, это вам отплатится. Вы увидите. Exoriare aliquis. Мне жаль только, что тогдашний вюртембергский посланник при сейме, старый Рейнар, не дожил до этого. Но Прокеш пережил, и это меня радует, он был самый худший. Теперь он во всем соглашается с нами, хвалит разумную и энергичную политику Пруссии и (министр засмеялся насмешливо) всегда или уже давно предлагал сойтись с нами».
Потом шеф упомянул, что он сегодня был на Мон-Валерьяне. «Прежде я там никогда не был, – сказал он, – и когда посмотришь там на эти сильные укрепления и множество приспособлений для защиты, то надобно сознаться, что при штурме мы бы уложили множество людей – нет, об этом совсем не следовало думать».
После этого он сообщил нам, что Фавр приезжал сегодня за тем, чтобы просить выпустить из Парижа массу крестьян, которые в сентябре туда бежали. Большая часть этих людей из Banlieue, и их должно быть около 300 тысяч. «Я ему в этом отказал, – продолжал он, – присовокупив, что их дома заняты нашими солдатами, и если владельцы придут и увидят, что их собственность занята и разорена, то они могут прийти в ярость, в чем я их не могу осуждать и обвинять наших солдат, и последствием этого может быть опасная драка, а может быть еще худшее».
Затем опять он возвратился к своей поездке в Saint Cloud и Suresnes и рассказал между прочим:
«В то время, когда я осматривал погорелое место, где прежде стоял замок, и углубился в думу, в каком состоянии находится теперь та комната, в которой я обедал с императором, там находился тоже хорошо одетый господин, которого провожал один блузник, может быть, пришедший из Парижа. Я мог хорошо слышать их разговор, так как они говорили громко, а у меня слух хорош. «C’est l’oeuvre de Bismark», – сказал тот в блузе. Другой же только ответил: «C’est la guerre!» Если бы они знали, что я это слышал».
Граф Бисмарк-Болен сообщил потом, что ландвер где-то тут в окрестностях насчитал одному французу 75 сабельных ударов, который сопротивлялся и ударил перочинным ножом офицера.
«Семьдесят пять, – сказал шеф, – гм, это уже очень много».
Кто-то рассказал о подобном же происшествии в местечке Мо, где солдаты в то время, когда туда приезжал граф Герберт Бисмарк, накинулись на мельника, который бранил графа Бисмарка и высказывал желание видеть его между двумя жерновами, повалили мельника и так страшно избили его, что он в продолжение двух часов не мог пошевельнуться.
Потом упомянули о программе выборов, которую любезным согражданам рекомендуют кандидаты в национальное собрание. Некоторые выражения из нее были приведены, и вообще замечено, что они еще думают о себе много и в Бордо обещают совершить еще великие дела.
«Да, – сказал шеф, – я этому охотно верю. Фавр тоже пробовал раза два говорить со мною высоким тоном. Но это продолжалось недолго. Я всегда осаживал его легкой шуткой».
Некто вспомнил о речи, которую говорил Клачко 30 января в делегации рейхсрата против сближения Австрии с Пруссией и о разоблачении Гискры, которое было помещено в утреннем выпуске «National-Zeitung» от 2-го февраля. Последний говорил, что Бисмарк посылал его из Брюнна в Вену с мирными предложениями, которые привели к следующим условиям: не говоря о status quo Венеции до войны, граница прусской гегемонии до Майна, никаких военных издержек, но отстранение Франции от всякого вмешательства при заключении мира. Гискра с этим предложением послал барона Герринга в Вену, но тот был холодно принят Морицом Эстергази и после шестнадцатичасового ожидания был отпущен с уклончивым ответом. Отправившись в Никольсбург, он там только застал Бенедетти и получил в ответ: «Вы явились слишком поздно». Итак французское вмешательство, как уверяет Гискра, стоило Австрии тридцать миллионов военных издержек.
Кто-то заметил, что Пруссия могла бы в то время еще более отнять у Австрии что-нибудь из земель, например, австрийскую Силезию, может быть, Богемию.
«Это весьма возможно, – возразил шеф, – но деньги? Но что же они более могли дать! Конечно, Богемия составила бы порядочное приобретение, и были люди, которые о ней подумывали. Но мы этим навалили бы на себя много затруднений; и австрийская Силезия для нас не имела бы большой цены. Там именно более, чем в других местностях, симпатии стоят на стороне царствующего дома Австрии. В подобных случаях надо всегда спрашивать о том, что нам необходимо, а не о том, что возможно приобрести».
Вслед за этим он прибавил, что однажды в Никольсбурге вышел он в штатском платье и встретил двух жандармов, которые арестовали какого-то человека. «Я спросил, – продолжал он, – что тот сделал, но как штатский, не получил от них никакого ответа. Тогда я об этом справился у него самого, и тот мне ответил, что его взяли за то, что он неуважительно отозвался о графе Бисмарке. Чуть-чуть они не забрали и меня также с собой, потому что я сказал, что многие сделали бы то же».
«Это мне напоминает, что я однажды сам себе принужден был прокричать «ура». Было это в шестьдесят шестом году, вечером, после вступления войск. Я был болен, и жена моя не хотела пустить меня из дому. Я все-таки вышел тайно, и, когда намеревался около дворца принца Карла опять перейти улицу, там собралась большая толпа людей, желавшая мне сделать овацию. Я был тогда в штатском платье и в моей шляпе с широкими полями, которую я напялил на лоб; я не знаю наверняка, за что именно я показался подозрительным, некоторые же глядели на меня очень враждебно, так что я счел за лучшее вторить их “ура”».
С восьми часов читал проекты и входящие бумаги, между ними ответ Фавра на запрос шефа по делу об избирательных маневрах Гамбетты. Там говорится:
«Вы правы, обращаясь к моему чувству справедливости; вы никогда не увидите, чтобы я грешил против него. Ваше превосходительство были совершенно справедливы, когда усиленно понуждали меня признать, что единственно возможное средство к исходу – созвание прежнего законодательного корпуса. Я отказался от этого по некоторым причинам, о которых совершенно лишнее здесь упоминать и о которых вы, вероятно, не забыли. На доводы вашего превосходительства я отвечал, что я достаточно хорошо знаю свою страну, чтобы быть в состоянии утверждать, что она желает только свободных выборов и что принцип державности народа есть его единственное спасение. Довольно будет вам сказать, что я не могу допустить ограничений, стесняющих права избирателей. Я не для того поборол систему правительственных кандидатур, чтобы вновь ее ввести для пользы существующего правительства. Потому, ваше превосходительство, можете быть уверены, что если декрет, о котором вы говорите, был издан бордоской делегацией, то он вновь будет отменен правительством народной обороны. Я требую для этой цели только возможности достать официальное доказательство существования такого декрета, что можно достигнуть только посредством телеграммы, которая только сегодня еще может быть послана. Итак, между нами не существует никакого различия в мнениях, и мы должны оба действовать заодно, чтобы строго выполнить конвенцию, нами подписанную».
В девять часов был позван к шефу, который поручил составить статью на тему, что вступление наших войск в Париж в настоящее время непрактично, но впоследствии возможно. К этому его понудила статья «National-Zeitung» о перемирии. Там говорилось в начале, что война всегда богата нечаянностями; это мы видим и теперь в парижском деле; это великое событие наступило наконец, сопровождаемое непредвиденными обстоятельствами. Не только в Германии большинство полагало, что наше войско с блеском совершит в один прекрасный день свой вход в открытые ворота враждебной столицы; но и сами эти храбрые войска рассчитывали на это заслуженное военное возмездие. Они же вместо того довольствуются теперь занятием наружных укреплений и смотрят оттуда вниз на побежденный город, где все солдаты линейной и подвижной гвардии количеством до двенадцати тысяч человек положили оружие и находятся в положении пленных. Не только версальский договор представляется со стороны менее блистательным, но и наши приобретения также кажутся менее полными, чем тогда, когда мы тотчас же со вступлением в город забрали бы в свое распоряжение все его боевые средства. Далее утверждалось: «В ноябре Фавр думал о войне, в январе – о мире». Против этого можно возразить: «Вход с блеском был бы входом через баррикады. Поэтому подобное желание доказывает полное незнание положения вещей, незнание того, чту при существующих обстоятельствах могло случиться, даже, по всей вероятности, случилось бы. Французское правительство, без всякого сомнения, согласилось бы на занятие нашими войсками Парижа, если б мы на том настояли; но при существующем возбуждении умов большая часть населения вооружилась бы против нас, так что этот вход стоил бы опять много крови, которой на самом деле уже достаточно было пролито в течение этой войны. Подождем немного, пока обстоятельства изменятся, пока в Париже охладеют. Вход с блеском, занятие какой-нибудь части Парижа нисколько не исключаются конвенцией от 28-го января; на это даже указывается. Параграф 4-й говорит только: «В продолжение перемирия немецкое войско не вступит в Париж». Перемирие, по всем вероятиям, будет продолжено и при этом, как вознаграждение за наше согласие, поставится условие, чтобы мы имели право войти в Париж, что может быть тогда выполнено в три недели без всякой борьбы и потери с нашей стороны. Национальная гвардия будет также распущена и переорганизована постепенно французским правительством. Мы не можем тут ничему помочь, нам не придется помогать управлять. Фавр отклонил переговоры о мире, говоря, что в этом только компетентно народное представительство».
Позже опять был позван к шефу. Статья в «Volks-Zeitung» из Кёльна указывает на то, что ультрамонтаны предложили денежную субсидию вождям общего немецкого рабочего союза для того, чтобы они действовали в пользу выбора клерикальных кандидатов. Мы это себе заметим и при случае будем говорить в прессе о партии Савиньи-Бебеля или о фракции Либкнехта-Савиньи.
Суббота, 5-го февраля . Теплый день; весна, как кажется, приближается. С раннего утра прилежно работал. У шефа сидят в гостях Фавр, Гериссон и директор западной железной дороги с приятным, улыбающимся, широким лицом, с виду около тридцати лет. Фавр, который сидит выше других за столом, имеет вид озабоченный, расстроенный и убитый, голову опускает то на сторону, то на грудь; то же делается и с его нижней губой; когда он перестает есть, то руки складывает на столе друг на друга – знак покорности судьбе или скрещивает на груди à la Napoléon premier – знак, что при ближайшем рассмотрении положения дел он еще не теряет мужества. Шеф говорит во время обеда только по-французски и преимущественно тихим голосом, а я слишком утомлен, чтобы быть в состоянии следить за его речью.
Вечером несколько раз требовали меня к шефу, и многое отнес я в печать. Четыре члена бордоской делегации, как извещает о том телеграмма, обнародовали, что они оставляют в полной силе распоряжение Гамбетты касательно выборов. Там говорилось, что член парижского правительства, Жюль Симон, доставил в Бордо один избирательный декрет, который не согласовался с таким же декретом, изданным бордоским правительством. Правительство в Париже заперто уже в продолжение четырех месяцев и отрезано от всяких сношений с общественным мнением, и еще более того, оно находится в эту минуту в положении военнопленного. Нельзя ничего возразить против предположения, что оно, узнавши лучше дело, действовало бы заодно с бордоским правительством; точно так же мало доказано, что, когда оно давало в общем смысле инструкции Жюлю Симону для выборов, у него уже было принято безусловное, твердое решение против неизбираемости некоторых личностей. И таким образом, бордоское правительство считает себя обязанным остаться при своем избирательном декрете, несмотря на вмешательство князя Бисмарка во внутренние дела страны; оно считает такую меру необходимой ради чести и интересов страны.
Этим возбуждено открытое несогласие в враждебном лагере, и можно ежеминутно ожидать отставки Гамбетты. Парижское правительство в прокламации к французам от 4-го, которое напечатано в «Journal Officièl» и которую мы перепечатаем в «Moniteur», дает Гамбетте жесткие названия, как-то «несправедливый и безрассудный» (si iujuste et si téméraire), и потом объявляет: «Мы призывали Францию к свободному избранию собрания, которое в этом крайнем кризисе должно высказать свое мнение. Мы ни за кем не признаем права навязывать ему это мнение, будь оно за мир или будь оно за войну. Нация, истощенная могучим врагом, борется до последней крайности, но она всегда остается судьей того часа, в который сопротивление признается более невозможным. Это должна решить страна, когда спросят о ее судьбе. Для того чтобы воля ее была для всех обязательна как уважаемый закон, необходимо внешнее выражение свободной подачи голосов всех вообще. Итак, мы не допускаем, чтобы этому голосованию были положены произвольные ограничения. Мы побороли империю и ее практику, мы не намерены опять ее возобновить, вводя путем исключений вновь официальные кандидатуры. Совершенно верно, что были сделаны громадные ошибки и от этого возникли тяжелые ответственности, но все это исчезает перед несчастьем отечества; да наконец, если б мы себя унизили до роли людей партий, для того чтобы наших прежних противников подвергнуть опале, мы бы навлекли на себя стыд и горе, побивая тех, которые бок о бок дерутся с нами и проливают свою кровь. Вспоминать прошлые раздоры в ту минуту, когда враг массами стоит на нашей земле, упитанной кровью, значит, умалить нашим злопамятством великое дело освобождения отечества. Мы ставим принципы выше этих средств. Мы не хотим, чтобы первое распоряжение к созванию республиканского собрания в 1871 году уже было поступком полного неуважения к избирателям. Им надлежит принять важное решение, пусть они подают свой голос без всякого пристрастия, и отечество будет спасено. Итак, правительство национальной обороны отвергает незаконно изданный декрет бордоской делегации, объявляет его недействительным и призывает всех французов без различия для подачи голосов в пользу тех представителей, которые им кажутся более достойнейшими защитить Францию».
В то же время в сегодняшнем номере «Journal Officièl» помещено следующее распоряжение: «Правительство национальной обороны ввиду декрета от 31 января, изданного бордоской делегацией, по которому разные категории граждан, имеющих право, как гласит указ правительства от 29-го января 1871 г., быть избранными, объявлены неспособными к избранию, постановило следующее: вышеупомянутый декрет, изданный делегацией в Бордо, объявляется недействительным. Декреты же от 29-го января 1871 года остаются во всех пунктах во всей своей силе».
Кёльнская газета, без сомнения, с некоторою осторожностью, сделалась органом жалоб на опустошения, производимые нашими чиновниками во французских лесах. Я думаю, она могла бы заняться чем-нибудь лучшим, чем заботиться о том, по правильной ли системе мы пользуемся казенными лесными участками Франции. Мы поступаем по основным правилам лесоводства, если и не по французской системе вырубки лесов. Впрочем, нам было бы позволительно самое бесцеремонное истощение этого источника, помогающего врагу, так как через это он поторопился бы скорей заключить мир с нами.
Весьма замечателен поступок герцога Мейнингенского. Он вместо того чтобы сидеть в Версале, пользоваться спокойствием и иногда наслаждаться из прекрасного далека зрелищем какого-нибудь сражения, следовал за своим полком в корпусе под начальством принца Альберта, разделял с ним труды, лишения и опасности и оказал большие услуги к улучшению участи своих подданных, сражавшихся за свое отечество в рядах немецких войск.
Понедельник, 6-го февраля . Погода теплая. Шеф хочет немедленно иметь статью против Гамбетты, которую надо поместить в «Монитере», и я написал следующее:
«Конвенция от 28-го января, заключенная между графом Бисмарком и Жюлем Фавром, озарила вновь надеждою всех искренних друзей мира. После событий 4-го сентября военная честь Германии получила достаточное удовлетворение, так что могло получить простор – желание вступить в переговоры о заключении мира с правительством, действительно представляющим французскую нацию, – такого мира, который охранил бы плоды победы и обеспечивал бы нашу будущность. Когда заступающие в Версале и Париже правительства пришли наконец к соглашению относительно договора, который принудительною силою фактов определил предоставить Францию себе самой, они имели право ожидать, что этот первый шаг в новой эре взаимных отношений обеих стран будет уважаться всеми вообще. Распоряжение Гамбетты, которое гласит, что прежние высшие должностные лица и сановники, сенаторы и официальные кандидаты не могут быть избираемы в национальное собрание, быть может, и было необходимо для того, чтобы показать Франции всю глубину пропасти, которая открылась перед нею с тех пор, как диктатура, принося в жертву драгоценнейшую кровь Франции, отказалась созвать правильным путем представительство нации.
«Статья 2 конвенции от 28-го января гласит следующее: «Достигнутое путем такого соглашения перемирие имеет целью дозволить правительству национальной обороны созвать свободно избранное собрание, которое выскажется по вопросу – нужно ли продолжать войну или же заключить мир и на каких именно условиях? Собрание будет происходить в городе Бордо. Начальники немецкой армии предоставят всевозможные облегчения выборам и съезду депутатов, которые войдут в состав собрания».
«Из этого определения ясно и определительно видно, что свобода выборов составляет одно из условий самой конвенции, и было бы невозможно допустить воспользоваться другими представляемыми конвенцией выгодами и в то же время сузить круг условий, которые только во всей своей совокупности содержат элементы примирения. Протягивая руку помощи в выборах, Германия имела в виду лишь существующие во Франции законы, но не каприз и произвол того или другого народного трибуна. Таким образом, было бы точно так же легко созвать в Бордо незаконный парламент и сделать из него орудие для победы над другою половиною Франции. Мы заранее убеждены в том, что все честные и искренние патриоты во Франции выскажутся против лишенного всякого здравого смысла произвольного действия, совершенного бордоской делегацией. Если бы этот акт имел какую-либо надежду, что он окружит себя анархическими партиями, признающими диктатуру, насколько она представляет собою их любимые идеи, то это неизбежно имело бы своим последствием самые глубокие усложнения.
«Германия не имеет намерения вмешиваться каким бы то ни было образом во внутренние дела Франции, но посредством соглашения от 28-го января она приобрела право, чтобы в присутствии ее была назначена власть, обладающая качествами, необходимыми для того, чтобы вести переговоры о заключении мира от имени Франции. Если оспаривать право Германии вести переговоры о заключении мира со всею нацией, если желательно заменить представительство нации представительством одной партии, то соглашение относительно самого перемирия не имело бы никакой силы и было бы ничтожным. Мы охотно соглашаемся, что правительство национальной обороны в Париже признало, колеблясь, справедливость жалоб, заявленных графом Бисмарком в его депеше от 3-го февраля. В благородных, достойных словах это правительство обратилось к французской нации, чтобы дать ей отчет о трудности положения и об усилиях, сделанных для того, чтобы предотвратить конечные последствия несчастной кампании. В то же время оно объявило ничтожным распоряжение бордоской делегации. Будем надеяться, что попытка г. Гамбетты не встретит отголоска в стране и что выборы произойдут в полном согласии с духом и буквой конвенции от 28-го января».
Потом составил другую статью со следующим ходом мыслей: «Нужда в Париже не должна быть еще очень большая, она по меньшей мере не угрожает тою опасностью, которую следовало бы допустить вследствие заявлений Фавра. Съестные припасы, которые из наших складов восемь дней назад отданы в распоряжение парижанам, не были ими вовсе тронуты. Согласно уведомлению генерала фон Стоша, оттуда не был взят ни один фунт муки или мяса. Затем значительные запасы сухарей и солонины оставлены ими в фортах, когда они очищали их, и наши люди, бывшие в Париже, видели в их магазине еще много муки – даже в сравнении с числом населения».
«Это нужно выставить рельефнее, – заметил шеф, – потому что продовольствование совершается медленно, а надлежащие приказания должны проходить длинный путь от генерала до караульного».
В одиннадцать часов еще раз переспросил у него, должен ли я защищать Фавра от известных нареканий, высказываемых некоторыми французскими газетами.
«Парижские журналы упрекают Фавра за то, что он обедал у меня, – сказал шеф. – Мне стоило много трудов, чтобы его склонить на это. Но ведь совершенно неловко требовать, чтобы он, поработавши со мною в продолжение каких-нибудь восьми или десяти часов, или голодал бы, как убежденный республиканец, или пошел бы в гостиницу, куда за ним побежит народ, как за известной личностью, и уличные мальчики бегали бы за ним!»
С двух до четырех часов французы опять здесь; их шесть или семь человек, в том числе Фавр и, если я не ошибаюсь, генерал Лефло. За обедом находились в гостях старший сын шефа и граф Дёнгофф.
Вечером я написал еще одно опровержение на телеграмму «Times’a» из Берлина, по которой мы при заключении мира за военные издержки хотим потребовать от французов двадцать панцирных судов, колонию Пондишери и десять миллиардов франков. Я назвал ее грубым вымыслом; едва можно понять, чтобы в Англии могли поверить этому и оно могло бы вызвать опасение. Я указал и на источник, откуда, по всему вероятию, вышел этот вымысел, – именно голову какого-нибудь беспомощного человека в дипломатическом мире, который нам недоброжелателен и интригует против нас.
Вторник, 7-го февраля. Теплая погода. Утром туман, который только в полдень исчез. В Букареште, по-видимому, правительство князя Карла действительно близится к концу. В Дармштадте с пребыванием Дальвигка еще крепко держится старое враждебное империи настроение, и известная интрига продолжает беспрепятственно действовать. Из Бордо телеграфируют ожидавшееся известие: Гамбетта объявил вчера префектам циркуляром, что вследствие уничтожения изданного им избирательного декрета парижскими товарищами он заявил этим последним о своем выходе из членов правительства – это хороший признак: он, вероятно, не чувствует за собою сильной партии, иначе едва ли он ушел бы. В Париже правительство распустило подвижную национальную гвардию (парижские полки).
За обедом были в гостях генерал Альвенслебен, граф Герберт Бисмарк и банкир Блейхредер. Из разговоров нечего занести в дневник, разве то, что шеф большею частью говорил тихо с Альвенслебеном. Я чувствую себя усталым, вероятно, вследствие ночной работы по поводу дневника. Придется прекратить его или составлять покороче. Сегодня заношу только прекрасное дополнение для характеристики деятельности Гамбетты. «Soir» извещает, что спустя несколько дней после последней вылазки парижан во всех не занятых нами селах по приказанию диктатора прибита была публично следующая депеша:
« Трехдневный бой, 17, 18 и 19 , среда, четверг и пятница. В пятницу, в последний день, огромная вылазка; 200 000 человек войска под начальством Трошю направлены на Сен-Клу и через Гаршские высоты. Пруссаки вытеснены из парка Сен-Клу, где происходила страшная резня. Французы подвинулись до акцизных ворот Версаля. Результат: 2000 пруссаков выбыло из строя, все верки их разрушены, пушки взяты, заклепаны или брошены в Сену. Национальная гвардия сражалась в первых рядах». Если Гамбетта говорит так о Париже, где его донесения легко могут быть контролированы, то чего только он не навязал жителям провинции!
Среда, 8-го февраля. Воздух теплый, как и вчера; небо ясное и солнечное. Я устаю все больше и больше, голова у меня тяжела, со мною делаются обмороки, чуть не валюсь с ног. Быть может, это обычная весенняя слабость. Шеф поднялся необыкновенно рано и уже в десять часов без четверти поехал к королю. Незадолго до часа дня приезжал Фавр с целым роем французов: их, должно быть, десять или двенадцать человек. Он вел переговоры с министром, который до этого завтракал с ними. Кроме того, при этом еще присутствовали Денгоф и зять Гацфельда, г. Мультон; последний несколько смелый, но веселый молодой человек.
Вечером шеф обедал со своим сыном у наследного принца, но до этого он был еще некоторое время у нас. Он заметил опять с признательностью, что Фавр не рассердился за его «злобное письмо», но поблагодарил его за него и прибавил, что он, шеф, повторил ему на словах, что он обязан был и расхлебать вместе то, что помогал заваривать. Потом он упомянул о том, что сегодня обсуждалась контрибуция с Парижа, что французы хотели заплатить большую часть ее кредитными билетами и что это для нас могло быть убыточно.
«Какая стоимость того, что они предлагают, этого я не знаю, – сказал он. – Но во всяком случае, им хотелось бы выиграть при этом. Но они должны заплатить все, что было условлено; я не сбавлю ни одного франка». Когда он встал с места, чтобы уйти, он отдал Абекену телеграмму на розовой бумаге и сказал: «Вся суть заключается в этом; я справлюсь без орлеанов, а в крайности и без Людовика».
Четверг, 9-го февраля. Сегодня парижан здесь не было. Поутру я читал прощальную речь Гамбетты французам, сказанную им шестого числа пополудни. Она гласит:
«Моя совесть налагает на меня обязанность отказаться от деятельности в качестве члена такого правительства, с которым я не чувствую себя солидарным ни в воззрениях, ни в надеждах. Я имею честь заявить вам, что я уже сегодня подал в отставку. Благодарю вас за патриотическое и исполненное самоотвержения содействие, которое я всегда встречал с вашей стороны, так как цель его заключалась в том, чтобы привести к хорошему концу предпринятое мною дело. Я прошу вас позволить мне сказать вам, что, по моему глубоко продуманному убеждению, ввиду краткости сроков и серьезности интересов, долженствующих быть затронутыми, вы окажете республике большую услугу, если распорядитель приступит к выборам 8-го февраля, и удержите за собою право после этого срока составлять такие решения, которые вы найдете достойными себя. Прошу вас принять выражение моих братских чувств».
Сегодня шеф поехал верхом еще до двух часов с графом Гербертом Бисмарком и одним молодым лейтенантом гвардии, сыном его двоюродного брата, Бисмарка-Болена (который генерал-губернатор в Эльзасе), и вернулся только после пяти. Из разговора за столом, где присутствовали оба эти господина, можно отметить следующее. Канцлер заметил, говоря опять о парижской контрибуции: «Стош сказал мне, что он может найти помещение пятидесяти миллионам кредитных билетов для платежей в пределах Франции за провиант и подобные вещи. Что же касается остальных ста пятидесяти, то они должны быть нам покрыты должным образом».
Наконец относительно басни, будто мы умышляем завладеть Пондишери, приводя разные основания несообразности этого вымысла, он заявил: «Я и не желаю никаких колоний. Они годятся только как места призрения. – Для нас, немцев – эта история с колониями была точь-в-точь то же самое, что соболья шуба с шелковым верхом у польских аристократических родов, у которых нет рубашек». – Эту мысль он потом развивал дальше. Вечером шеф прислал мне для прочтения [33] королю очень напыщенное, нелепое, наполненное насмешек и извращений письмо Якоби, помещенное в «France». Потом я написал три статьи, из них для нашего «Монитера» следующую:
«Демаркационная линия, проведенная согласно конвенции от 28-го января, пересекает город Сен-Дени таким образом, что большая половина его находится на нейтральной полосе. Так как жители этой половины без свидетельства не могут получить съестных припасов из немецкой полосы и не могут уже попасть в Париж, то следствием этого явилась значительная дороговизна, во время которой страдавшее население не переставало осаждать пост немецких офицеров, занятых проверкою свидетельств. Уведомленный об этом положении вещей граф Бисмарк обратился к Жюлю Фавру с письмом, содержание которого мы здесь обнародуем. В то же время канцлер обратился к немецким военным властям и просил их выдавать населению Сен-Дени предварительно и в виде дара съестные припасы. Его величество император между тем отдал приказание и из магазинов немецкой армии раздать пятнадцать тысяч порций. Письмо же графа Бисмарка гласит вот что: «Община Сен-Дени разделена демаркационной линией на две части таким образом, что большая половина падает на нейтральную полосу. До времени конвенции съестные припасы доставлялись из города Парижа и распределялись через посредство мэрии (городского управления) Сен-Дени. В настоящее время жители, принадлежащие к нейтральной полосе, отрезаны от Парижа, который уже не доставляет им ничего, и им запрещено добывать съестные припасы вне демаркационной линии. Отсюда для этого несчастного, уже самой войной тяжко удрученного населения возникло состояние, которое следует облегчить в интересах человеколюбия. Я имею честь обратить внимание вашего превосходительства на этот пункт и просить вас принять меры, необходимые для обеспечения средств к жизни той части населения Сен-Дени, которая живет в нейтральной полосе. В ожидании этих мероприятий я просил немецкие военные власти содействовать продовольствованию этого населения тем, чтобы уступить ему в виде дара некоторое количество провизии из наших запасов».
Глава XIX От выхода Гамбетты до заключения прелиминарного мира
Пятница, 10-го февраля. Новые жалобы на происки Дальвигка и именно на меры, угрожающие национальным избирательным округам Гессена устранением их представителей и победой коалиции, состоящей из ультрамонтанов и демократов. Необходимо будет организовать быстро энергический поход в печати против того и другого беспорядка нашего доброго друга Бейста. Шеф желает, чтобы в «Монитере» был перепечатан длинный список нарушивших свое честное слово французских офицеров, убежавших из Германии. Теперь таких в общей сложности (сверх известных трех генералов) 142 имени, между которыми находится полковник Тибоден 67-го линейного пехотного полка, два подполковника, три батальонных начальника и тридцать капитанов. «Mot d’ordre» приносит следующее странное известие: «Господин Тьер продолжает свои интриги в провинции. Он пытается уговорить г. Бисмарка в осуществимости достойной его престарелых лет комбинации, по которой корона Франции должна быть предложена королю бельгийцев, который ради достижения этого увеличения территории охотно подписал бы обеими руками уступку Эльзаса и Лотарингии и, наконец, даже Шампани. Эта чудная идея, впрочем, не новая. Г. Тьер уже заявлял ее четыре или пять месяцев назад в Вене и Петербурге, когда правительство национальной обороны, несмотря не энергический протест Рошфора и Гамбетты, отправило его от имени республики просить посредничества императоров русского и австрийского. Итак, в то самое время, когда Франция восстала, чтобы выгнать вторгнувшегося неприятеля, Тьер нагло изменил республике и совершил поступок, обесчещивающий его седую голову». – Я думаю, что не повредит, а быть может, и полезно будет, если «Монитер» завтра распространит в народе это известие без комментария. Ведь он не пишет историю, а должен помогать составлять историю.
За столом в качестве гостей присутствовали герцог Ратибор и некий г. Котце, муж племянницы шефа; оба с внешней стороны поразительно не похожи друг на друга.
Министр, между прочим, заметил, когда речь зашла о Струсберге, что почти все или по крайней мере многие члены временного правительства – евреи: Симон, Кремье, Маньен, также Пикар, которого он не подозревал в еврействе, «весьма вероятно, и Гамбетта, судя по его окладу лица».
«Даже Фавра я подозреваю по этой причине», – прибавил он.
Суббота, 11-го февраля. Прекрасная, ясная погода. Поутру я читал газеты и именно некоторые прения в английском парламенте, происходившие в конце прошлого месяца. По прениям заметил, как будто некоторые из наших добрых друзей за каналом немного нерешительно склоняются на сторону Франции, как будто они вовсе не прочь еще раз вмешаться и как будто в случае надобности возможен даже англо-французский союз. Как бы только не ошиблись в расчетах те, которые добиваются этого, как бы им только не сесть между двух стульев! Более вероятно, что в подобном случае произошло бы нечто другое. Как слышно и как говорят газеты, настроение здесь в стране настолько же неблагоприятно для англичан, а в известных сферах даже неблагоприятнее, чем для нас; и, быть может, в случае если б нам угрожало поведение Англии, наших родственников в Лондоне поразило бы нечто, что совсем противоположно франко-английскому союзу. Мы могли бы почувствовать себя вынужденными обратить серьезное внимание на возвращение Наполеона – крайняя мера, от которой до сих пор мы были далеки.
В обеденную пору слышно было много залпов из тяжелых орудий, как будто бомбардирование началось снова. Но это слышались только взрывы осадных орудий, доставшихся нам с фортами и не стоящих того, чтобы их брать с собою в Германию.
За столом из чужих находились граф Генкель и Блейхредер. Рассказывали, что Шейдтманн в переговорах с французскими финансистами употреблял относительно их различные, скорее сильные, нежели лестные выражения, так как он не знал, что некоторые из этих господ понимают по-немецки. Шеф заговорил о дерзости парижских газет, которые хвастались, что будто город не в нашей власти, и потом заметил: «Им следует объявить, что если это будет так продолжаться, то мы более не станем терпеть; пусть они перестанут, иначе мы пошлем им из фортов несколько бомб в ответ на их статьи».
Далее, когда Генкель заговорил о неблагоприятном настроении в Эльзасе, он заметил, что там, собственно, вовсе не следовало допускать выборов; он и не хотел этого. Но по ошибке инструкция тамошнему немецкому высшему начальству была составлена таким же образом, как и другим.
Потом говорилось о жалком положении, в котором находится князь румынский, и от румынских радикалов перешли к румынским биржевым бумагам. Блейхредер сказал, что спекуляция финансиста на бумагах рассчитана всегда на невежество массы и на ее слепую страсть к наживе денег.
Генкель подтвердил это и сказал: «У меня было много румынских бумаг, но когда я выиграл около восьми процентов на курсах, то я постарался отделаться от них, так как я знал, что они не могут приносить пятнадцати процентов и что только это обстоятельство могло бы поддержать их стоимость».
Рассказывали, что французы при продовольствовании Парижа делали всякие мошенничества. Они не приняли нашего содействия к продовольствованию не из гордости, а просто потому, что нечего было нажить при этом. Такой дух простирается даже до сферы правительственных лиц, и, таким образом, N на этих днях на покупке овец нажил семьсот тысяч франков.
«Надо им дать заметить, что мы это знаем, – сказал шеф, взглянув на меня, – это будет полезно при переговорах о заключении мира».
Приказание это было немедленно исполнено.
Вечером я написал несколько статей по поручению канцлера. Мы не могли терпеть дольше наглости парижских журналистов. Было бы выше меры и зашло бы за пределы снисходительной терпимости, если бы мы позволили французской печати в глаза насмехаться и клеветать на нас, победителей, стоящих перед стенами столицы, находящейся вполне в нашей власти. Их подстрекательство и ложь точно так же мешают заключению мира, так как это ожесточает обе стороны и замедляет наступление более спокойного настроения. Этого обстоятельства нельзя было предположить при заключении конвенции о перемирии, но при продлении перемирия, которое может понадобиться, нужно будет обсудить, какими средствами мы можем располагать, чтобы устранить должным образом дальнейшие подстрекательства. Наиболее подходящим средством было бы, без сомнения, занятие самого города нашими войсками. Мы избавили бы этим французское правительство от тяжелой заботы и в отношении предупреждения дурных последствий от раздражающих произведений печати могли бы с своей стороны исполнить то, что с их стороны, быть может, неисполнимо. «Progrès de Lyon» утверждал, будто имперский канцлер обманул Фавра относительно Бельфора и трех юго-восточных департаментов. Но это искажение и извращение положения дел, которое на самом деле было следующее: шеф при переговорах о перемирии требовал, чтобы из него была исключена осада Бельфора, следовательно, чтобы она могла продолжаться. Но Фавр, вероятно, введенный в заблуждение вымышленными успехами французского оружия, распространяемыми провинциальной печатью, и в том предположении, что Бурбаки еще может совершить против нас великие подвиги и заставить снять осаду Бельфора, потребовал, чтобы последнему также предоставлено было право свободного движения. Мы, конечно, не разделяли предположений, вызвавших это требование, но и не видели основания противиться ему. Напротив, если б мы стали уклоняться от исполнения этого требования, то с французской стороны сочли бы наш поступок за большую жестокость. Таким образом, со стороны лионской газеты обвинять нас по отношению к этому делу в нечестности есть наглость. Только лживые известия французов и основанное на этих известиях собственное желание их – причина случившемуся.
В передовой статье «Монитера», соединявшей в себе мысли обеих статей, это обстоятельство было изложено следующим образом:
«Progrès de Lyon» от 4-го февраля пишет: «Нельзя не заметить, что Бисмарк при заключении условия перемирия, которое представляет большое сходство с обезоружением, не забыл проявить уловку того ремесла, в котором он так отличается. Согласно депеше Жюля Фавра, военные операции на востоке могут продолжаться лишь до того момента, пока не придут к соглашению относительно демаркационной линии, проведение которой поперек трех помянутых департаментов предполагалось сделать при окончательном соглашении. Бисмарк, как безнравственный хитрец, говорит в коротких словах, но очень ясно, что враждебные действия перед Бельфором и в департаментах – Дубском, Юрском и Кот-д’Ор – будут продолжаться. Очевидно, тут Жюлю Фавру были отведены глаза, и очень может быть, что он заслужил упрек в легкомыслии, сделанный ему Гамбеттой относительно перемирия. Это легкое недоразумение вызвало ужасные последствия. По мнению Жюля Фавра, не требовалось много времени для отграничения нейтральной полосы между воюющими сторонами; к этому и было немедленно приступлено. Наша армия на востоке оставалась бы неприкосновенной до самого мира. Бисмарк же растолковал это дело как ученик Эскобара: вместо того чтобы отдать приказание о немедленном обозначении границ, он приказывает своей армии продолжать преследование с крайним рвением и в кратчайшее время совершенно уничтожить французскую восточную армию. Остальное известно: недобросовестное толкование перемирия Бисмарком стоит нам полного уничтожения новой армии приблизительно в сто тысяч человек, в том случае если бы национальное собрание пожелало продолжать войну».
«Это изображение должно быть решительно отвергнуто и названо настоящим его именем, т. е. нечестным искажением фактов. В действительности ход дела был следующий.
При переговорах о конвенции перемирия от 28-го января с немецкой стороны требовалось, чтобы осада Бельфора продолжалась и по заключении конвенции, в случае если бы Бельфор не сдался тотчас добровольно. Последняя была отклонена с французской стороны и требовалось, чтобы на случай продолжения осады и армии Бурбаки предоставлено было право свободного движения. На это последовало согласие с немецкой стороны, и, таким образом, произошло то, что под Бельфором и в вышеупомянутых трех департаментах продолжались враждебные действия.
Но упомянутая статья представляет лишь один пример той массы извращений и вымыслов, простодушных сказок, лишенных основания обвинений, пошлых насмешек и дерзких оскорблений, которые французская печать с парижскими газетами во главе до и после перемирия ежедневно фабрикует и выпускает в свет. Но ведь было бы слишком много, если предоставить парижанам право оскорблять подобным образом и вызывать победителя их твердынь во время перемирия, долженствующего подготовить мир. Такое поведение парижской печати, на которой вообще лежит существенная вина всей войны, представляет одно из главных препятствий мира. Оно мешает французам видеть необходимость мира и уменьшает готовность немцев заключить мир и довериться ему в будущем. При ожидаемых переговорах о продолжении перемирия со стороны Германии следует поставить на вид, что занятие Парижа есть самое действенное средство положить предел этому поджигательству против мира».
Воскресенье, 12-го февраля. Телеграф извещает, что Наполеон обратится к французам с прокламацией. Эта телеграмма будет перепечатана в нашей здешней газете. Шефу, по-видимому, нездоровится. Он не выходил к столу. Абекен садится на председательское место, которое он занимает с чувством собственного достоинства в качестве помощника статс-секретаря. О вступлении в Париж говорят как о неизбежном событии, и наш старик намеревается ехать в свите императора и для этого выписывает себе из Берлина свою треуголку.
– Надеть на себя шлем по этому случаю, – выразил он, – дело неподходящее, особенно если принять в соображение, что его носит и Вельмовский».
Гацфельд замечает, что греческий шлем с большими белыми перьями очень бы шел ему.
– Или с забралом, которое можно было бы опустить при вступлении в город, – говорит кто-то другой за столом. Болен предлагает вышитый золотом чепрак для серого коня тайного советника. Этот последний принимает все подобные шутки весьма серьезно.
Мне бы хотелось отделаться от упадка сил и обмороков, которые все возвращаются ко мне.
Среда, 15-го февраля. Вчера и третьего дня мне нездоровилось; однако я работал, а также и сегодня составил статью, в которой указывал на распущенность парижской прессы и намекал на то, что подобное поджигательство следует считать препятствием к миру и устранить его можно всего лучше занятием Парижа. Статья назначена для «Moniteur», который должен присоединить к ней извлечения из ругающихся и задорных газет. Содержание ее, в сущности, следующее:
«История будет считать конвенцию 28-го января неопровержимым доказательством той умеренности, которую Германия выказала по отношению к Франции. Это признано даже самим правительством национальной обороны, которое говорит по этому поводу в своей прокламации от 10-го числа этого месяца: никогда осажденный город не сдавался при таких почетных условиях, и эти условия были достигнуты тогда, когда уже нельзя было ожидать помощи извне и весь хлеб был уже съеден. Но в ту минуту, когда Германия дает побежденной Франции возможность освободиться от тяжелой диктатуры и вновь сделаться распорядительницей своей судьбы, парижская и провинциальная пресса извергает на германскую армию, германских государей, на политические и военные власти Германии такие оскорбления, которые у самых спокойных характеров вызвали бы краску негодования и которые в состоянии ожесточить всех, положивших свои силы на то, чтобы избавить от наказания тысячи невинных, наказания, вызываемого заблуждениями демагогии и обезумевшей прессы. Если бы французские войска были еще не тронуты, если бы избранник восьми миллионов не был военнопленным в Германии, если бы полмиллиона французов вследствие бесчисленных поражений не были водворены частью в Германии, частью в Бельгии, частью в Швейцарии и не разделяли бы судьбы своего повелителя, если бы, одним словом, военное счастье не выразилось так резко, то и тогда вечно повторяющиеся бранные и хвастливые выражения были бы неуместны. Что же следует думать об образе мыслей и поведении той части французского народа, которая считает себя наиболее разумной и благонамеренной, если она в то время, как общественное благо зависит от милости победителя, позволяет себе беспричинно и бесцельно оскорблять его? Германия могла бы все подобные выходки оставлять без всякого внимания, довольствуясь одним презрением к ним, если бы для нее не была ясна та цель, которую она старается достигнуть.
«Эта цель есть мир, и притом такой мир, который обещал бы, возможно, большую продолжительность. Между тем возбуждение, вызываемое парижской прессой, действует вдвойне неблагоприятно: оно ослепляет французов и ожесточает немцев. В Париже, по-видимому, не имеют ясного представления о настоящем положении вещей, то есть не принимают того в соображение, что мы владеем этим городом. Там не хотят заметить, что указываемые нами выходки не могут быть полезны для разумного решения вопроса о мире и войне, для которого теперь созывается национальное собрание. Поэтому вступление немецких войск и занятие города представляется единственным средством к ускорению мирных переговоров и к устранению оппозиции, которая давно уже затрудняет Европу».
Среда, 22-го февраля. На последней неделе составил несколько больших и мелких статей и отправил около дюжины телеграмм. В эти же дни побывал в форте Исси, на Мон-Валерьяне и на развалинах Медонского замка. Мы пришли на Мон-Валерьян в ту самую минуту, когда наши солдаты вывозили оттуда самую большую пушку, украсив ее венками из зелени. Остальные орудия в этом укреплении и в форте Исси отчасти взорваны порохом, отчасти направлены на город; с последней целью перестроены стены и брустверы.
Бордоское собрание высказывает разумное отношение к положению дел, наступившему в течение последних четырех недель. Оно низвергло Гамбетту и выбрало Тьера главой исполнительной власти и руководителем переговоров относительно заключения мира, которые начались здесь вчера. По отношению к последним шеф высказал вчера за столом, за которым присутствовал Генкель, следующее:
«Если они дадут нам еще миллиард, им, пожалуй, можно оставить Мец. Таким образом, мы получим восемь миллиардов и выстроим себе крепость в нескольких милях оттуда, где-нибудь около Фалькенберга или Саарбрюкена. Место там должно найтись вполне подходящее. Тогда у нас останется чистого барыша 200 миллионов. Я бы не хотел иметь такое множество французов, которые не желают оставаться под нашей властью. То же самое и с Бельфором. Там все французы. Но военные не упустят Меца, и, может быть, они правы».
Сегодня у нас в гостях генерал Камеке и фон Тресков. Шеф рассказывал о сегодняшнем вторичном свидании с Тьером.
«Когда я это (я не расслышал, что именно) от него потребовал, он, умеющий вообще хорошо владеть собою, подпрыгнул и проговорил: «Mais c’est une indignité!» Я понял смысл этих слов и с этой минуты заговорил с ним по-немецки. Он несколько времени слушал меня и, видимо, не знал, что ему делать, потом заговорил жалобным тоном: «Mais, monsieur le comte, vous savez bien, que je ne sais point l’allemand!» Я отвечал ему уже опять по-французски: «Когда вы сейчас употребили слово indignité, мне показалось тоже, что я не совсем хорошо понимаю по-французски, и я решился говорить по-немецки, на том языке, на котором я понимаю, что говорю и что слышу». Он сейчас же сообразил, в чем дело, и согласился на то, чего я требовал и что он только что назвал недостойным».
– А вчера, – продолжал он, – он говорил про Европу, что она вмешается, если мы не умерим наших требований. На это я возразил ему: «Если вы будете говорить о Европе, я буду вам говорить о Наполеоне». Он не придавал значения последнему, говоря, что им нечего уже бояться его. Я же доказывал ему, что он опять может обратиться к плебисциту, к крестьянам, офицерам и солдатам. Гвардия может занимать то положение, какое занимала прежде, только при императорском правительстве и при настоящем положении императора ему легко будет склонить на свою сторону солдат, находящихся в плену в Германии, в числе не менее ста тысяч. Нам стоит только вооружить их, пропустить через границу, и Франция опять будет принадлежать Наполеону. – Если вы нам дадите хорошие мирные условия, то мы в конце концов можем согласиться видеть у вас и Орлеанского принца, хотя мы уверены, что он через два или три года опять начнет с нами войну; если же вы не согласны, то мы должны будем вмешаться в то, что до сих пор избегали, и опять восстановить Наполеона. Это, кажется, подействовало на него, потому что сегодня, заговорив опять о Европе, он вдруг остановился и стал извиняться. Впрочем, он мне очень нравится, он весьма умен, имеет хорошие манеры и прекрасно говорит. Мне кажется только, что он не долго протянет; положение его очень тяжелое, но мы ничем ему помочь не можем».
Дальше канцлер говорил о своих переговорах с Тьером относительно военных издержек: «Он соглашался не более как на пять миллиардов контрибуции ввиду того, что им самим очень дорого стоила война. По его словам, все, что поставлялось для армии, было чрезвычайно дурно. Солдату достаточно было упасть, чтобы разорвать платье: так плохо было сукно. У башмаков подошвы оказались картонными. Такого же качества было и оружие, и особенно американское. Я возразил ему на это: подумайте, однако, если на вас нападет человек и начнет вас бить. Вы будете защищаться, справитесь с ним и потребуете у него удовлетворения, и что вы ответите, если он вдруг попросит вас обратить внимание на то, что палки, которыми он вас хотел приколотить, стоили ему дорого и притом весьма дурного качества? Впрочем, между пятью и шестью миллиардами разница небольшая».
После того разговор, я уже не помню каким образом, перешел к темным лесам Польши и ее болотам и вращался около одиноких крестьянских хижин в этих местностях и колонизации этих «задних лесов востока». По этому случаю шеф заметил:
«Прежде, когда еще не было того, что есть теперь, и когда нельзя было думать, что оно будет, я часто собирался, если дела мои пойдут дурно, взять последнюю тысячу талеров, купить себе двор в этих лесах и там хозяйничать. Но вышло иначе».
Под конец шел разговор о посольских сообщениях, которые, по-видимому, шеф ценил невысоко.
– Это все больше бумага и чернила, – говорил он. – Всего хуже, если этим затягивается дело. Мы уже привыкли к тому, что Б. присылает нам стопу бумаги с вырезками из старых газет; но если это другой пишет много, то становится досадно, так как на самом деле в его донесении ничего не заключается. Тот, кто будет писать историю нашего времени, извлечет немного дельного из таких документов. Я полагаю, лет через тридцать все дипломатические архивы будут открыты, но я бы открыл их еще раньше. Депеши и сообщения для тех, которые не знают личностей и побочных обстоятельств, почти совсем непонятны. Кто будет знать через тридцать лет, что за человек был, писавший депешу, как он смотрел на вещи, как он выразил в ней свою индивидуальность? И кто будет знать близко тех лиц, о которых он говорит? Надобно знать, как относились Горчаков, Гладстон или Гранвиль к тому, что сообщает их посол. Гораздо даже больше можно почерпнуть из газет, которыми пользуется правительство, где чаще высказывают то, что именно думают. Но и для этого важно знать все обстоятельства; более важное значение имеют частные письма и конфиденциальные сообщения, также словесные, но все они не входят в акты. Он привел значительное число примеров и заключил: «Все это можно узнать дружеским, но не служебным путем».
Четверг, 23-го февраля. Мы удержим Мец. Шеф с уверенностью сообщил это сегодня за столом. Что касается до Бельфора, то он, кажется, нами удержан не будет. Решено также вступление одной части наших войск в Париж. Сегодня вечером я послал следующее сообщение в «Moniteur».
«Уже неоднократно мы пытались оценить по достоинству тот высокомерный тон, с которым парижская пресса относится к победоносной германской армии, стоящей перед воротами столицы. Мы уже указывали на то, что занятие Парижа нашими войсками будет самым действительным средством к прекращению этих дерзких выходок. Ныне неприличные выражения, ложь и оскорбления не знают себе никаких пределов. Между прочим, в фельетоне «Фигаро» от 21-го февраля под заглавием «Les Prussiens en France» за подписью Альфреда Д’Оне рассказываются о германских офицерах и вообще о германских войсках самые позорные вещи; их обвиняют в воровстве и в грабеже. Мы слышали, что это поведение, которое мы не хотим обозначить достойным ему именем, делает тщетными всей усилия, которые употребляют парижские уполномоченные для воспрепятствования вступлению немецких войск в Париж, и что это вступление необходимо должно совершиться. Мы имеем самые достоверные сведения, что оно произойдет тотчас же по истечении срока перемирия».
Пятница, 24-го февраля. Утром была ясная, прекрасная весенняя погода, и сад позади нашего дома наполнился щебетанием птиц. Тьер и Фавр находились у нас с часа до половины шестого. После их отъезда велели доложить о себе герцог де Муши и граф де Губино, явившиеся, как говорят, с жалобою на притеснения со стороны немецких префектов, из которых префект в Бове, по-видимому, управляет своим округом если не жестоко, то довольно строго.
За столом шеф появился в статском платье в первый раз в течение этой войны. Должно ли это служить символом, что мир вскоре будет заключен?
Суббота, 25-го февраля. Из Баварии приходят неприятные известия. Днем был Одо Россель, но не виделся с шефом. Говорят, что Англия желает вмешаться в мирные переговоры [34] .
Вечером говорили о том, что сумма военных издержек, которую должны будут заплатить нам французы, понижена до шести или до пяти миллиардов франков и что прелиминарные условия мира, вероятно, будут подписаны завтра; так что для них нужно теперь еще только одобрение бордоского национального собрания. Мец уступлен нам. В следующую среду наши солдаты вступят в Париж и займут часть города между Сеной, предместьем Сент-Оноре и avenue des Ternes численностью в 30 тысяч человек, покуда национальное собрание не выразит своего согласия на предварительные условия мира. Это согласие, по-видимому, не заставит себя ждать, и поэтому еще в первой половине марта мы можем начать свое возвращение домой.
Среда, 1-го марта. Рано утром присутствовал на смотре, который король производил войскам, вступавшим в Париж. Я находился за понтонным мостом у Сюреня, затем перешел на лоншанское поле около Булонского леса и смотрел на зрелище с полуразрушенной трибуны ипподрома. На смотре участвовали и баварские полки. Завтра, как говорят, двинут и гвардию.
За обедом, на котором присутствовали вюртембергские министры фон Вехтер и Митнахт, шеф рассказывал, что он также въезжал в Париж и был узнан народом; но против него не последовало никаких демонстраций. Какой-то человек в толпе особенно сердито смотрел на него, шеф подъехал к нему и попросил у него огня; тот исполнил его желание очень охотно. Митнахт рассказывал другую историю об одном высокопоставленном лице, о любопытстве которого шла речь раньше.
«Я не знаю, известно ли вам об этом, – говорил он, – как он одному представлявшемуся ему господину заметил: “А мне очень приятно, я слышал о вас так много необыкновенно хорошего – правда ли это?”»
Общий смех. Только один Абекен, как всегда, относится к таким вольным разговорам с состраданием и чуждается их.
Четверг, 2-го марта. Фавр приехал в половине восьмого и хотел видеть шефа. Но Вольманн не согласился будить его, и парижский сановник остался весьма недоволен. Фавр ночью получил известие, что национальное собрание в Бордо соглашается на предварительные условия мира; он желал сообщить это и просить при этом очищения Парижа и фортов на левом берегу Сены. Это требование он оставил письменно.
Понедельник, 6-го марта. Прекраснейшая погода. Скворцы и чижи исполняют сигнал нашему отъезду. Мы должны завтракать в Sabot d’or, так как наша столовая посуда уже уложена. В час экипажи приходят в движение, и мы с облегченным сердцем двигаемся к тем воротам, в которые въехали пять месяцев назад, и проезжаем через виллу Кублэ, Вилльнев-Сен-Жорж, Шарантон и Фазаннери в Ланьи, куда мы попадаем через семь часов езды и размещаемся на правом берегу Марны, в двух садовых домиках, шагах в трехстах выше затопленного моста.
На следующий день мы выехали отсюда с экстренным поездом в Мец, куда прибыли поздно вечером и остановились в гостинице. Шеф остановился у графа Генкеля в префектуре. На следующее утро мы искрестили город в разных направлениях, посетили собор и осмотрели с одного из бастионов крепости местность к северо-западу от города. Около одиннадцати часов мы опять сели в вагоны, чтобы отправиться через Саарбрюкен и Крейцнах в Майнц, а оттуда во Франкфурт. Повсюду, в особенности в Саарбрюкене и в Майнце, шефа принимали с энтузиазмом, только во Франкфурте было тихо. Отсюда, куда мы прибыли поздно вечером, мы двинулись в путь дальше в ту же ночь и в половине восьмого следующего утра были уже в Берлине, в котором я отсутствовал ровно семь месяцев. Оглянувшись кругом, можно сказать, что за это время было сделано все то, что могло быть сделано.
Примечания
1
По словам «Constitutionel» от 8-го августа, «давление общественного мнения в Вене обнаруживается постоянно яснее и так сильно, что «Neue Freie Presse» в один только день получила более тысячи писем, в которых подписчики объявляли, что они не будут принимать газеты, если она будет продолжать служить интересам Пруссии ко вреду Австрии». – Здесь и далее примеч. авт.
2
Нижеприведенная выписка относится к нашей остановке в Барледюке. Charles Loizet рассказывает в парижском журнале «Revue politique et littéraire» (февраль и март 1874 г.) следующее: «В одном из городов западной Франции, который имел жалкую честь приютить на несколько дней высокопоставленных героев нашествия и где второпях решен был форсированный марш на Седан, прогуливался пресловутый Бисмарк без всякого конвоя по самым отдаленным улицам. При этом он весьма беспечно относился к тому, что изумленный народ указывал на него пальцами и посылал ему проклятия. Какой-то человек, огорченный своими домашними неудачами, обращался к разным лицам с секретною просьбою дать ему на время оружие для одного предприятия, которое наделает много шуму. Хотя ему было и отказано, все-таки опасались, чтобы он не достал, чего хотел. Но жители этого патриотического города были обезоружены. На следующий день этот человек повесился, и его намерение было похоронено вместе с ним. А канцлер в полной форме прогуливался один по пастбищу за чертою города». Грусть, с которою заканчивает свою статью Loizet, имеет в себе нечто трагическое.
3
Здесь я должен пропустить одно сообщение, чрезвычайно характерное как для канцлера, так и для императора.
4
Истинное извещение этого происшествия мы приводим ниже.
5
Ср. с этим речь, сказанную г. фон Бисмарком в 1847 году 15 июня в соединенном ландстаге; она заключает в себе следующее:
«Я того мнения, что понятия христианского государства так древни, как cidevant святая Римская империя, как все европейские государства, вместе взятые, что оно именно представляет ту почву, на которой эти государства пустили свои корни, и что каждое государство, желающее обеспечить свое существование и доказать право на него, должно выходить из религиозного основания; слова «Божиею милостию», прибавляемые к своему имени христианскими монархами, не составляют для меня пустого звука, напротив, я вижу в них признание, что монархи желают управлять своим скипетром, который им вручил Бог, по его воле. За волю Божию я, однако, могу признать только то, что проповедуется христианским Евангелием; я считаю себя вправе назвать такое государство христианским, которое поставило себе задачею осуществить христианское учение. Если раз вообще признать религиозное основание государства, то, по моему мнению, этим основанием может быть только христианство. Если мы отнимем это религиозное основание от государства, то получим вместо последнего только случайный агрегат прав, войну всех против одного – понятие, выставленное некогда философией. Его законодательство не будет возникать уже из источника вечной правды, но из шатких и неопределенных понятий гуманности, подобно тому, как они создаются в умах тех, которые стоят наверху. Что в подобных государствах можно оспаривать идеи, например, коммунистов о безнравственности собственности, о высоконравственном достоинстве воровства, как попытки восстановить прирожденные права человека, право первенствовать, если они чувствуют в себе силу к этому, для меня непонятно. Эти идеи многими из их носителей также считаются гуманными и даже первым расцветом гуманности. Поэтому, м. г., не будем ставить народу границ его христианству, указывая ему, что для его законодателей оно не нужно; не будем отнимать у него веру, что наше законодательство черпается из источников христианства, а что государство имеет целью осуществление христианского учения, хотя бы оно не всегда и достигало этой цели. Если бы я должен был себе вообразить жида как представителя помазанника Божия его величества короля, которому я должен был бы подчиняться, то, признаюсь, я чувствовал бы себя глубоко придавленным и приниженным и во мне исчезли бы радость и прямодушное чувство чести, с которыми я теперь стараюсь исполнять мои обязанности относительно государства».
6
Buschlein.
7
Это неверно. См. ниже. Но во всяком случае, это помещение не может вместить большого собрания.
8
Еще не самое худшее было следующее. В «Petit journal» от 14-го сентября Томас Гримм, пожаловавшись сначала, что пруссаки отлично умеют методически грабить и разорять по всем правилам искусства, что везде – в Нанси, в Бар-ле-Дюке, в Реймсе, Шалоне и Труа – они будто бы оставили за собою одну только пустыню, что они избили там мужчин и женщин, что они расстреливали отцов, чтобы иметь возможность бесчестить дочерей и пр. Этот Гримм разражался такими тирадами: «Восстаньте, работники, крестьяне, граждане! Пусть вольные стрелки вооружаются, организуются, входят в общение между собой. Пусть они выступают и отрядами, и поодиночке, чтобы утомлять и истощать силы врага. Пусть они, подобно охотникам, выслеживающим зверя, ложатся в засаду у опушки лесов, в ямах, у заборов; пусть самые узкие тропинки и самые глухие закоулки послужат им местом собраний. Теперь все средства хороши, потому что это – священная война. Всякое оружие – ружье, нож, серп, бич – позволительно употреблять против врага, когда он попадется к вам в руки. Будем ставить для него волчьи западни, будем бросать его в колодцы и на дно цистерн, будем жечь его в лесах и топить в реках, будем зажигать хижины, где он ищет себе ночной отдых. Берите с собой все, чем его можно истреблять. В засаду! Бейте его!»
«Combat», орган гражданина Феллиса Пиа, хочет открыть подписку на поднесение почетного ружья тому, который «уберет с дороги короля прусского хотя бы и выстрелом из-за угла».
9
Я привожу эти стихи со всеми их ошибками и нелепостями.
10
Этого молодца впоследствии отправили в Майнц. Чтобы избавиться от тюрьмы, он дал честное слово не бежать оттуда. Но через несколько дней он все-таки бежал.
11
Этот анекдот напоминает мне другой, который описывали французские газеты, но где обмануты были не французы, а немцы. Герой был лесничий Боннэ.
12
Прусский орден иоаннитов учрежден 1812 г. для дворян и в 1852 г. преобразован, получив название – уход за больными. Все члены ордена дворяне и евангелического исповедания. Орден оказал большую услугу во время последних войн устройством госпиталей. – Примеч. пер.
13
Как известно, с ним случилось последнее.
14
Шпандау – крепость близ Берлина. – Примеч. пер.
15
Швейцарский кантон Невшатель, у немцев – Нейенбург, в 1707 году достался по праву наследства прусскому королевскому дому, от которого в 1806 году перешел к Франции, а в 1814 году снова возвращен королю Пруссии, который хартией 1814 года дал ему права совершенно самостоятельного государства, не связанного никакими интересами с Прусскою монархией. В 1856 году в ночь со 2-го на 3-е сентября монархистская партия кантона овладела силою замком, но на другой же день должна была уступить республиканцам, и монархисты частью были убиты, частью отданы под суд. Тогда Пруссия потребовала прекращения процесса роялистов под угрозою войны, однако дело кончилось тем, что хотя процесс был уничтожен, но король прусский отказался от всех своих прав на Невшатель. – Примеч. пер.
16
Мы увидим дальше, что от подозрения, которое высказано здесь, по-видимому, не без достаточных причин, основываясь на внешнем положении дела, в конце концов осталось не более как недостаток в уходе за больными и вообще; с другой стороны, в нашем рассказе высказывается человеколюбие и справедливость министра, ради чего я и занес в дневник этот эпизод.
17
Подробности ниже.
18
Повесть о похождении Мюнхгаузена – ряд невероятных комических сцеплений и обстоятельств, известная книга на немецком языке, достигшая 10-го издания в 1870 году. – Примеч. пер.
19
Необыкновенно любезный молодой врач из Луивилля, в Кентукки, который отлично говорит по-немецки и посвятил себя заботе о больных в главной квартире. Я с ним познакомился через Мак-Лина. Он потом сделался жертвой медленной, но смертельной болезни, полученной им вследствие тех лишений, которые ему пришлось испытывать во время междоусобной американской войны.
20
Фербеллин – небольшой городок в потсдамском округе в Пруссии. Близ этого города в 1758 г. происходила битва между пруссаками и шведами. – Примеч. пер.
21
Фридрих Вильгельм, курфюрст Бранденбургский (1640–1688), собственно, основатель прусской монархии. – Примеч. пер.
22
Этого человека звали Листре, и благодаря тому, что было доказано лишь укрывательство оружия, он отделался довольно счастливо. Ему пришлось только помимо собственного желания отправиться в Германию.
23
Hold – приятный. – Примеч. пер.
24
Это ошибка. Такое письмо могло существовать, но то лицо, о котором здесь идет речь, – нотариус Тарель из Рокруа в департаменте Арденн, был отправлен в Германию. Он еще в июне 1871 года сидел в Вердене, но вскоре после того его освободили по требованию французского правительства.
25
В 1817 году в Пруссии лютеранская и реформатская церкви были соединены в одну общую церковь посредством общего таинства причащения, или составили унию. – Примеч. пер.
26
Это предположение неверно. Поводом к изменению взгляда канцлера был циркуляр Фавра от двенадцатого января.
27
Это ошибка, впрочем, простительная; то была герцогиня де Муши.
28
Клятву эту косвенно обнародовало национальное собрание, которое объявило себя державным после того, как Бальи и Мирабо ввели сюда третье сословие, к которому присоединились члены и других двух сословий. Клятва гласила: «Национальное собрание, долженствующее дать государству новую конституцию, не должно дозволить препятствовать продолжению своих совещаний; вследствие этого члены его клятвенно обязуются не расходиться, напротив, так долго собираться в одном каком-либо месте, пока конституция не будет окончена и прочно утверждена». Три дня спустя, 23-го июня, началась революция на основе этой клятвы. Король велел предложить собранию трех сословий конституцию, которой было предпослано 15 пунктов, запрещавших прямо радикальное переустройство государственного быта, как того требовали либералы. Речь, которую министры заставили сказать короля, заключалась словами: «Я приказываю вам, господа, разделиться тотчас, собраться завтра в залах, назначенных для каждого отдельного сословия, и там начать снова свои заседания». Хотя это были сильные слова, но они были сказаны слабым государем. Гражданские депутаты вопреки королевскому приказу остались все вместе, и, когда великий церемониймейстер, маркиз де Дре-Брезе, предложил им идти, ему ответил Мирабо: «Вы, милостивый государь, не можете быть органом короля в национальном собрании, ибо вы не имеете здесь ни места, ни голоса, ни даже права напоминать нам о словах, сказанных нам королем. Скажите своему господину, что мы здесь собрались волею народа и что нас можно разогнать только силою штыков». Король не обратил внимания на такое сопротивление, и, когда ему о том доложили, он дал ответ: «Ну, если господа из третьего сословия не желают оставить залу, то оставьте их там».
29
Вместе с тем он выразил мнение девяти десятых частей немецкого народа – я разумею, настоящего немецкого народа, а не народа либеральной прессы и трибуны.
30
Pequin на французском солдатском жаргоне – насмешливое обозначение статского.
31
Распоряжение это в главных его частях изложено выше.
32
Валаам, пророк (2 Петр. 2, 15. 16), современник Моисея, приглашенный царем моавитским Валаком для проклинания евреев, он против собственной воли произнес троекратное благословение над ними.
33
При печатании второго издания я узнал из сообщения «Wage», что Якоби заявил, что каждая строка этого письма вымышлена.
34
Канцлер говорил мне потом, 4-го марта, что этот слух верен, но что вмешательство касалось только денежного вопроса и вообще явилось слишком поздно.



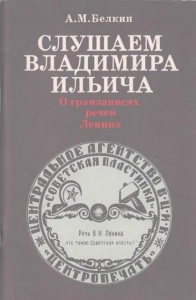



Комментарии к книге «Так говорил Бисмарк!», Мориц Д. Буш
Всего 0 комментариев