Наталья Громова Именной указатель
Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить…
Б. Пастернак “Охранная грамота”© Громова Н. А.
© Черногаев Д. Д.
© ООО “Издательство АСТ”
* * *
Чтение указателей – особый жанр. Бывает, что книга берется в руки только ради одного имени. Ссылка может обнаружить связь между персонажами, которые, казалось бы, не должны были встретиться в одной книге, но внезапно пересеклись. Именной указатель похож на карту звездного неба, где можно, если постараться, увидеть скрещения судеб.
Порой просматривание именных указателей похоже на прохождение сталкера по таинственной местности. Ты сам сначала не осознаешь, что ищешь. Бывает так: когда-то имя сфотографировалось в памяти и прежде ничего не значило, но вот ты встречаешь его в указателе и как по нити Ариадны выходишь к новому сюжету или находишь ответ на давно неразгаданный ребус. Поэтому нет ничего более упоительного, чем, как бусины, перебирать строчки цифр и находить на страницах текста пересечения во времени и в пространстве одного героя с другим. А если повезет, то за этими цифрами и буквами окажутся еще живые люди, которых можно расспросить, увидеть их письма, услышать воспоминания и рассказы.
Самые чудесные связи и пересечения открылись мне во внезапно обнаруженных дневниках Ольги Бессарабовой и Варвары Малахиевой-Мирович. Я перелистывала страницу за страницей и не верила своим глазам; казалось, все известные люди начала ХХ века решили собраться на одном пятачке истории. Марина Цветаева и Татьяна Скрябина, Лев Шестов и Алла Тарасова, Даниил Андреев и Владимир Фаворский, Игорь Ильинский и Сонечка Голлидэй и многие другие. Именно тогда я поняла, как тонок был интеллектуальный слой России. Как легко его можно было свести на нет, стереть из памяти. Сколько тайн и смыслов скрыто в упоминании, что такой-то и такой-то оказался в том или ином месте или встретился с тем-то. В начале века эти пересечения и сближения играли огромную роль в возникновении чертежа судьбы.
Путешествие, в которое я отправилась несколько десятилетий назад, отвечало вполне понятной задаче: собирать свидетельства уходящего времени, разыскивать архивы, писать документальные книги. Однако почти каждый человек, встреченный на моем пути (неважно, был он живым или архивно-книжным), не только становился источником сведений, но и незаметно входил в мою жизнь. Мне повезло встретить людей, которые пришли ко мне из другого времени. Встречи с ними могли быть короткими или длинными, случайными или намеренными, но главное, они оказывались для меня мостом из настоящего в прошлое. Я часто понимала, что получаю свидетельства не только от моих непосредственных собеседников, но через них – от того, кто не дожил, с кем не удалось встретиться…
В этой книге я рассказываю и о тех, с кем дружила и с кем виделась лишь однажды, кого встретила в архивах или в чьих-то устных историях. За пределами этих страниц осталось еще столько же героев и сюжетов, ждущих своего продолжения. И я надеюсь и дальше рассказывать о людях, которые встретились на моем пути.
Люди
Энциклопедическое
Юность моя проходила в издательстве “Советская энциклопедия”, где я наблюдала удивительные сцены.
В годы перестройки, когда еще было плохо понятно, что можно, а что нельзя, один редактор несся по коридору с гранками статей “Бухарин”, “Рыков” и “Троцкий”, а за ним бежал его начальник с криком “Не сметь!”. Редактор пытался обходным путем показать статейки высшему начальству. Он задыхался и почти что плакал. Строчка, заметка в огромном справочнике пробивала бреши умолчаний, открывала двери истории. Но за каждым таким шагом могли быть сердечные приступы, исступленная борьба, разрыв отношений.
“Энциклопедия” была огромным материком, где под одной крышей существовали все направления человеческих знаний и умений. Но она была еще и советским материком; все колебания почвы советской жизни, старые и новые веяния отпечатывались на страницах словарей как складки на горной гряде.
Под обложкой нашего словаря должны были собраться “Русские писатели” с 1800-го по 1917 год. В редакции литературы “Советской энциклопедии”, где решили осуществить эту отчаянную попытку, я стала работать в начале 1980-х младшим редактором.
Почти сразу я поняла, что попала в странный, немного призрачный мир. За окнами унылый застой. Каждую неделю распределялись заказы (курица, гречка, пачка индийского чая, иногда батон сырокопченой колбасы). Газеты выписывали только затем, чтобы вычитать что-то между строк. С тревогой обсуждали польскую “Солидарность”, говорили о тех, кто уезжает или кого высылают.
Здесь же шла отдельная жизнь. Редакторы вели себя так, словно владели неким тайным знанием. Во время чая, в перерывах между непрерывной работой, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, мне объясняли, что история России – это и есть история литературы и литераторов. Здесь писали все: горничные, пожарные, ученые, путешественники, цари, сторожа, женщины без всяких занятий, князья, артисты, машинисты, повара, актеры. Кто тайно, кто явно. В России не было ни политики, ни общественной жизни, ни партий, ни профсоюзов… только литература и журналистика.
Просто при ближайшем рассмотрении оказывалось, что здесь больше ничего и не осталось. И вот словарь и стал попыткой сшивания культурной ткани, разорванной на тысячи лоскутов.
– Мы страна Слова, – провозглашали редакторы. – Если мы не опишем это явление в биографиях и судьбах, этого не сделает никто и никогда.
Произносили речи обычно за чаем, за рюмкой, на улице, когда шли до метро. Словно делились тайным знанием. И я понимала, что попала в Церковь, куда тебя могли принять, а могли не пустить даже на порог, несмотря на то, что ты тут служишь.
В двух длинных комнатах с высокими окнами, выходящими на Покровский бульвар, стояло около десяти столов, за которыми сидело обычно по два редактора; остальные, как правило, работали дома или в библиотеке. В высокие потолки упирались полки с папками, на корешках которых были написаны белой краской фамилии литераторов.
В полном составе редакция собиралась раз в неделю на летучке. Все вместе редакторы производили на меня, особенно вначале, неизгладимое впечатление. С виду очень приличные интеллигентные люди, теперь они метались и кричали, обвиняя друг друга в смертных грехах. Я никак не могла ухватить суть их конфликта. Они выкрикивали фамилии своих героев с такой страстью, словно речь шла об их близких родственниках. Их возмущало, что на того или иного литератора было отпущено мало знаков. Количество знаков говорило о том, сколько текста уходит на статью. Одни писатели раздувались, разрастались и отбирали жизненное пространство у других. Особую ненависть снискали писатели знаменитые – типа Гончарова, Достоевского или Блока.
Считалось, что про них и так уже сто раз было всё написано и давно всё известно, а теперь они своими объемами отнимали знаки у писателей неизвестных, маленьких или забытых.
Члены редакции “Литературы и языка” “Советской энциклопедии”: Николай Пантелеймонович Розин, Сергей Михайлович Александров, Татьяна Бударина, Константин Михайлович Черный, Юрий Григорьевич Буртин
Некоторых из таких потерявшихся писателей редакторы ласково называли “кандидаты”. О них обычно было известно ничтожно мало. Рождение. Смерть. Несколько публикаций. Всё. Они были “табула раса”. У каждого редактора был свой отряд авторов-поисковиков, которых они по-отечески пестовали, наставляли, в глубине души понимая, что только они знают на самом деле, как сделать настоящую статью о любом писателе. Это была тайна верескового меда, которую они не доверяли никому.
Вся русская литература в словаре была поделена на периоды. Пушкинским периодом заведовала Людмила Щемелева и Николай Розин, народниками и писателями середины XIX века – Юрий Буртин и Людмила Боровлева, концом XIX века – Сергей Александров, а началом XX века – Константин Черный и Людмила Клименюк. Первое, что мне бросилось в глаза, – редакторы как-то странно перевоплощались в людей того или иного периода литературы. Они разделяли взгляды своих персонажей, говорили теми же словами и словечками, а главное, бились с другими периодами за главенство своего.
Николай Пантелеймонович Розин был фигурой во всех смыслах необычной. Худой, высокого роста, немного сутулый, с бородкой клинышком, голубыми глазами, которые смотрели или глубоко в себя, или вдруг с невероятным озорством – на всех окружающих. Он любил выбрасывать руку вперед и кричать по-ленински о победе революции, о которой так долго говорили большевики. Большевиков он ненавидел яростно и люто. Он снискал славу человека, который свои небольшие статьи о писателях-стукачах в Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ) подписывал – Гпухов или Гпушкин. Однажды он рассказал, как во время войны мать везла его на санках из одного села в Курской области в другое; бежали от немцев. Вернувшись в свое село, он увидел, как партизаны расправились с его односельчанами. Говорил, что его ужаснула та жестокость, с которой он столкнулся. Людей вешали прямо на березах или прибивали к ним гвоздями.
Он обожал обманывать начальство “Энциклопедии”, разрабатывал целые операции, чтобы протащить тех или иных писателей, старался ввести в словник как можно больше религиозных литераторов, горячо любил эзопов язык.
Он был неофит в церковной жизни, искал смысл в обрядах, мог прийти на работу с рассказом о том, что стоял в церкви на службе, а в голову ему лезли матерные слова, о чем он тяжко сокрушался. Был яростным борцом за мораль и нравственность. Вбегал утром на работу с криком, что не может ездить летом в транспорте, потому что у всех женщин – голые спины!
Над ним смеялись, а он смеялся над собой вместе со всеми.
Людмила Макаровна Щемелева, работавшая с ним в паре, часто была недовольна им и ругала его, хотя была вдвое моложе. Он уважительно слушал ее, но иногда хватал себя за бороду и огромными шагами выбегал из комнаты. Прийти мог через несколько часов, тихий и умиротворенный. Люся, как мы звали Людмилу Макаровну, вообще не признавала никаких авторитетов и разговаривала со всеми на особом языке. Он состоял из философских сентенций, простых человеческих слов и детских выкриков. В построении ею фразы почти никогда не прослеживалась логика, она запросто опускала целые речевые периоды, ее мысль летела, скакала, ей некогда было объяснять собеседнику подробности. С ней было очень интересно, но ее темперамент сносил всё на своем пути. Она была полна множества познаний, имела железную волю и неумолимый характер. Ссорилась с Розиным раз в месяц, не разговаривала с ним, общаясь исключительно письмами. Впрочем, она почти со всеми общалась письмами, и, чтобы их разобрать, требовались огромные усилия. Это были крючки, стрелы, буквы, которые тоже летели через периоды. Для меня же это была великолепная школа. После того как я перепечатала сотни страниц с ее правкой, мне уже был не страшен никакой почерк на свете.
Ее почитали все, хотя она могла обругать и директора издательства, и Ю. М. Лотмана. Я видела своими глазами, как она трясла как грушу худого и тонкого Сергея Сергеевича Аверинцева, требуя от него статью, а он только жалобно оправдывался. Она могла остановить человека на улице и объяснять ему что-нибудь про величие русской литературы или рассказывать об очередном писателе. Она не делила людей на простых и сложных. Персонажей из словаря ощущала живыми и говорила с ними и о них, будто они что-то выкинули, учудили, устроили только вчера.
С Юрием Михайловичем Лотманом Люся делала статью о Пушкине[1], и статья эта разрасталась до огромных размеров. Шла напряженная переписка с Тарту. И вот в один прекрасный день дверь открылась и в лучах осеннего солнца появился человек небольшого роста в больших седых усах и с тросточкой. Я сидела в своем углу. Он вошел и раскланялся.
– А! – закричала Люся. – Юрий Михайлович! Вот вы и попались.
– Я сам пришел! – немного обиженно ответил Лотман.
Но Л. М. не унималась, она ворчала, что его Пушкин превысил все возможные объемы и теперь уж она устроит Лотману!
Я тем временем неотрывно смотрела на него. Он был абсолютно не похож ни на кого. Маленький, улыбчивый, каждую остроумную реплику, которую он подавал в ответ на крики Люси, он сопровождал взглядом артиста по сторонам: “Ну как?” Мое лицо, видимо, выражало идиотскую радость, поэтому Люся решила выстрелить из всех орудий.
Дело в том, что я пописывала небольшие статьи для энциклопедии “Ленинград” про разных писателей. Все видные авторы от этой неблагодарной работы отказались. Я втянула туда недавно освоенное мною понятие “петербургский текст”. Люся меня хвалила и усердно, по-редакторски, переписывала мои статьи. И вот я и еще один юноша вместе написали статью о Пушкине, которую Л. М. недавно “довела до ума”.
Теперь глянув на меня, она вдруг пронзительно закричала:
– А вот Наташе, Юрий Михайлович, удалось всего на трех страницах всё сказать про Пушкина… и вполне…
Лотман вскинул на меня глаза. И, не улыбаясь, как-то картинно встал, поклонился и развел руками:
– Могу только завидовать и восхищаться…
Я сделалась даже не пунцовой, а, наверное, серо-буро-малиновой. Глаз я больше не подымала и в душе кляла Люсю на чем свет стоит. Но они уже забыли про меня и перешли к своей огромной статье. А я слушала их восхитительные препирательства. Лотман был абсолютно нездешний. От того, как он говорил, шутил и смеялся, до того, как видел другого человека. Он был настолько живой и настоящий, без капли высокомерия, чванливости, что потом, спустя годы, когда разочаровывалась в том или ином известном человеке, то вспоминала Лотмана и понимала, что мне удалось увидеть такое высокое измерение личности, что мне нечего расстраиваться по подобным поводам.
Учиться приходилось на ходу. Как-то мне дали список редколлегии словаря и попросили пригласить всех на большое совещание. Я начала обзванивать каких-то допотопных академиков от литературы. Я просто не слышала еще таких имен; была абсолютно невежественна и разговаривала со всеми с одинаково наивным прямодушием. Сначала позвонила литературоведу Макашину и стала ему вежливо сообщать, куда и во сколько надо прийти.
– Деточка, – проскрипел он, – а Илья Самойлович будет?
Я быстро глянула в список:
– Зильберштейн? Конечно, будет.
– Тогда я не приду, – хрипнула трубка и раздались короткие гудки.
Люся, которая при этом присутствовала, страшно закричала. Я сначала даже не поняла, в чем дело.
– Как же можно звонить Макашину, не зная, что он терпеть не может Зильберштейна!? – разрывалась она. – Что за непрофессионализм! Как же теперь мы будем без Макашина!? Ты сначала выучи, кто, как, к кому относится, а потом звони!
Я сидела пораженная в самое сердце. Потом я не только выучила – я стала ходить на цыпочках по досочкам литературного мира вперед и назад, влево и вправо, зная, где ожидает засада, а откуда раздастся пулеметная очередь. Тогда же смиренный Юрий Григорьевич Буртин, мой добрый редактор, сказал Люсе, что это он во всем виноват, потому что не дал мне правильных указаний. Он был для меня настоящим старшим другом. У него были седые вьющиеся волосы, очень мягкий дружеский взгляд и открытое приветливое лицо. Когда я глядела на него, то часто чувствовала внутри себя какую-то уютную дочернюю радость и сладко думала о том, что вот таким должен был быть мой отец, если бы он не пошел в советскую армию и не загубил бы там свой дар.
Юрий Григорьевич Буртин когда-то работал в “Новом мире” у Твардовского. Он был полон народнических представлений о мире и считал, что основа всего – правильное просвещение людей. Достоевский был ему глубоко антипатичен и чужд, но статья о нем выпала на его период, и он вынужден был ее редактировать. Иногда он с добрым прищуром смотрел на меня и спрашивал:
– Неужели, Наташа, вам нравится этот великий путаник?
Я задыхалась от возмущения. Слова с бульканьем выкатывались из меня. Я тоже научилась горячо отстаивать любимых писателей. Юрий Григорьевич только улыбался в ответ. Для него словарь был своего рода Дворцом просвещения, именно такие великие книги будут спасать народ от темноты. Он писал огромные простыни-обоснования необходимости всем навалиться на великую культурную задачу этого столетия. Он создавал методички для новичков. Вынимал из-под земли писателей-самоучек, учителей, врачей, путешественников, адвокатов… Когда-то для него таким был “Новый мир”. Его авторы – в основном это были молодые застенчивые дамы, похожие на курсисток, – приходили к Буртину со статьями, которые он правил понятным красивым почерком.
Сергей Александров когда-то работал в издательстве “Искусство”. В редакцию он пришел недавно и представлял собой тип неуравновешенного человека конца XIX – начала XX века с очень смутным мировоззрением, что удивительным образом ложилось на его работу в этом периоде. Он мог разделять откровенно черносотенные взгляды и восхищаться поэзией Мандельштама, прекрасно разъяснять поэзию и прозу, быть тончайшим знатоком культуры, но при этом страдать каким-то пещерным антисемитизмом. Он очень благоволил ко мне. Проповедовал христианские истины. Но однажды на мое жесткое утверждение о том, что еврейство и Христос неделимы, вдруг как-то истерично воскликнул: “Как бы вы отнеслись к людям, которые бы убили вашего Отца?!” Я немного растерялась, но, тут же опомнившись, выпалила ему про еврейское происхождение Апостолов. Надо сказать, он этого ждал, но, ответить ему было нечего, поэтому, зашипев, он выбежал из комнаты. Так протекали наши частные стычки, но они не становились фатальными. Мы на время примирялись, и я с наслаждением снова и снова слушала его рассуждения о литературе.
Константин Михайлович Черный Александрова не любил. И не раз пытался меня предостеречь от общения с ним. Но говорил об этом так двусмысленно и непонятно, что я не обращала внимания на его слова.
Константин Михайлович Черный был предметом женских грез и героем многочисленных романов, которые протекали в стенах “Энциклопедии”. Он соединял в себе множество типических черт персонажей начала ХХ века, статьи о которых вел как редактор. Сюда входили игры, намеки, эпиграммы, мистификации и перевертыши – все это было его стихией. Судьба распорядилась так, что именно его сделали заведующим редакцией литературы. Люся тут же объявила это назначение монашеским послушанием Черного: работа на этой должности покроет все его прежние прегрешения. Но о прегрешениях я почти ничего не знала. Только смутно догадывалась. Вообще, в редакции было множество внутренних тайн, о которых шутили, говорили намеками, писали друг другу к дням рождениям послания, в которых угадывался второй смысл. На вопросы отвечали редко. Постепенно я вошла во внутреннюю атмосферу этой жизни и начала что-то нащупывать в сложной конфигурации отношений между редакторами.
Черный же в минуту откровения однажды сказал мне вполне в духе своих героев-декадентов:
– Вы знаете, Наташа, работой я заполняю внутреннюю пустоту.
Слышать это было нестерпимо, потому что он был, несомненно, яркий и артистичный человек, но с трещинкой внутри. Он поднял огромный груз и погиб под его тяжестью. Он умер очень рано, в пятьдесят три года. Случилось это в 1993 году.
Еще задолго до этого, в начале 1980-х, в редакции собрались знаменитые филологи, чтобы отметить начало работы над словарем “Русские писатели”, и один из них произнес тост. Смысл его сводился к следующему. Такого рода многотомные книги, осмысляющие прошлое, требуют спокойствия и сосредоточенности. Был когда-то похожий словарь – Русский Биографический, но падение русской монархии в 1917 году прервало его составление, кажется, на букве “М”, затем был словарь Венгерова, и он пресекся на букве “Н”, потому что случилась Октябрьская революция. А вот теперь-то мы уже доведем наше дело до конца, теперь уж нам не угрожают никакие перемены и уж тем более революции…
Революция все-таки произошла, хотя никто и представить не мог, что она случится. Поначалу все было тревожно и прекрасно. Шел 1986 год. На совещании у директора издательства утрясали дела по первому тому. Хуже всего было то, что в нем были такие фигуры, как Гиппиус и Гумилев. Начальство трепетало. Тут была еще и своя специфика.
Зам. директора “Энциклопедии” Терехов, огромный краснолицый мужчина уже когда-то поплатился за Гумилева. В 1960-е, будучи директором издательства “Просвещение”, он выпустил антологию поэзии ХХ века, где было два стихотворения Гумилева. Терехова посчитали Робеспьером и понизили в должности. К 1980 году он все-таки поднялся до зам. директора издательства “Советская энциклопедия”. И вот опять на его пути встал проклятый Гумилев.
В тот день все складывалось очень тяжело; редакция в полном составе сидела в кабинете главного редактора издательства Нобелевского лауреата по физике Александра Прохорова. Это был уже очень пожилой господин. На его худой фигуре, как на вешалке, висел пиджак. Недавно я шла по Ленинскому проспекту, где в начале одного из скверов возник памятник тому самому Прохорову, и вспомнила, как он сидел тогда во главе длинного блестящего стола и грустно смотрел на нашу компанию. Он абсолютно не понимал, что делать с редакцией, с этим томом словаря, с этим Гумилевым и прочими идеологическими заковыками, которые, кроме неприятностей, ничего не сулили. Собрание шло рывками. Выступал с обоснованиями Черный, что-то кричала Люся, строго говорил Буртин. Но лица Прохорова и Терехова ничего не выражали. Все понимали, что падение несчастного Гумилева – уже в который раз – дело времени. И вдруг случилось нечто невероятное.
Из-под двери появилась газета. Сначала было непонятно, зачем ее просунули и что она тут делает, но, внимательно ее рассмотрев, мы по очереди теряли дар речи. На первой же странице “Литературной России” красовался портрет поэта с подписью – “К столетию Гумилева”. Теперь газета, как живая, ползла по поверхности стола. Каждый, мимо кого она проезжала, менялся в лице – на нем возникала безумная улыбка. Терехов заволновался.
– Что у вас там, товарищи? Почему отвлекаетесь? – Перед ним развернули газету с огромным портретом Гумилева. Сначала он смотрел на нее с абсолютно непроницаемым видом, потом приблизил к глазам. Кажется, он даже попытался ее понюхать. Видно было, как ему тяжело. Он вздохнул и молча положил газету перед Прохоровым.
Академик оказался сообразительным.
– Ну, это другое дело, товарищи, – радостно возвестил он. – Если имя Гумилева принято на самом верху, то у нас не будет возражений, – и он посмотрел на Терехова.
Тот только промычал что-то в ответ. Нельзя было описать, как мы отмечали тот день в редакции. Какие тосты подымали и как пили за наше счастливое будущее.
Мое же собственное будущее было в тумане. Я работала на так называемой “беременной ставке”, и теперь молодая мать выходила на службу; при всей любви ко мне редакции надо было искать новое место. Это выглядело безнадежно и печально.
И тут появилась Нина Виноградова, очень обаятельная женщина, небольшого роста, с шапочкой коротких рыжих волос. Она служила в тот момент в редакции педагогики. Почему-то именно ей пришло в голову устраивать мою судьбу.
До “Энциклопедии” Нина работала в атеистическом журнале “Наука и религия”, где внезапно освободилось место редактора, и ей показалось, что меня туда возьмут. Особенно экзотично было то, что мне предлагалось место в отделе “Ислам в СССР” с обязательными поездками по восточным республикам и отчетами о том, как там обстоит с атеистической пропагандой. Трудно даже представить, что могло ожидать молодую женщину в исламских республиках, пусть и советских, но в то время почему-то я об этом не думала и смотрела на свое будущее немного со стороны. Но что-то не заладилось. Журнал принадлежал ЦК КПСС. Мою кандидатуру долго перетряхивали, взвешивали и наконец сообщили, что мне решено отказать. Я ходила по коридорам Энциклопедии в глубокой задумчивости. Скоро я должна была остаться без работы.
И тут Нина вызвала меня к себе и, посадив напротив, начала рисовать какой-то странный график.
– Вот, посмотрите! Первый заведующий журнала “Наука и религия”, – и она показала его имя в прямоугольнике, – умер на столе, когда у него вырезали аппендицит. На его заместителя в подмосковном лесу напали волки.
Я с ужасом следила за ее рукой, выводящей странные значки.
– А вот и другие сотрудники редакции, – она чертила крестики возле фамилий, – у всех болезни, несчастья и разводы… Вы ведь догадываетесь, почему?
Мне казалось, что я догадываюсь, но сказать об этом вслух было неудобно, ведь Нина сама отправляла меня в это атеистическое логово. Я молчала. И, видимо, отвечая на мои мысли, она проговорила:
– Я к вам так привыкла за последнее время, что отдать вас в этот журнал на верную погибель было бы обидно. – Последние слова Нина произнесла с большой торжественностью.
Нине удалось сделать так, что я стала работать младшим редактором в редакции педагогики. Там я попала под начало Юрия Николаевича Короткова, который вместе со своими подчиненными производил на свет странную книгу под названием “Педагогическая энциклопедия”.
Статьи, которыми были наполнены два тома этого коллективного труда, были большей частью про пионеров, совет дружины, моральный кодекс строителей коммунизма, родительские советы, пионерские лагеря и т. д. Сначала меня даже веселило то, с какой страстью редакторы правят статьи и спорят на летучках, как лучше написать о пионерском движении, но постепенно это становилось невыносимо. Я убегала на третий этаж, в свою бывшую редакцию, и каждый раз удивлялась разрыву двух миров: здесь люди говорили о жизни, смерти, судьбе, литературе, каждый человек втягивался в орбиту настоящего дела, а там царил какой-то игрушечный и искусственный мир, где все притворялись, имитировали жизнь. Авторы-педагоги тоже показались мне не очень вменяемыми: один рассказывал о своем руководстве пионерлагерем так страстно и с таким надрывом (он писал теоретическую статью “Пионерлагерь”), что, глядя на него, я думала, оглядываясь вокруг: “Ну не может же он всерьез это говорить, почему же никто не смеется?”
Так получилось, что от редакционной тоски я придумала с друзьями из других редакций (все это теперь известные люди) рукописный научно-публицистический журнал. Шел 1987 год. Один из сотрудников “Педагогической энциклопедии”, психолог по образованию, лет тридцати, с которым я сидела в одной комнате, наблюдая за моей активностью, однажды сообщил мне, что они нас будут вешать на фонарях. Я догадалась, что они – это комсомольские активисты “Энциклопедии”, с которыми этот редактор стал ездить за границу от бюро молодежного туризма “Спутник”. И теперь он по праву считал, что такие, как я, расшатывают привычный миропорядок, который ему так удобен. Надо сказать, что именно от него я впервые узнала, что я либерал и какое наказание мне за это полагается. Но в то же время я понимала, что раз он человек сильно пьющий, то нападки на меня можно отнести на счет его тяжелого похмельного синдрома.
Однако все оказалось гораздо печальнее. Некоторое время спустя Нина вызвала меня в курилку на лестницу и встревоженно сообщила, что на меня написан донос, с которым к Короткову пришел человек из 1-го отдела.
– А что такое 1-й отдел? – спросила я и тут же поняла, что сморозила какую-то глупость.
– КГБ, – строго ответила Нина.
Оказывается, сотрудник 1-го отдела принес большую бумагу от некоего лица (подпись на бумаге была заклеена), где было сказано, что я создаю в стенах “Энциклопедии” рукописный антисоветский журнал. Что это порочит наше учреждение и что со мной надо бы разобраться по всей строгости советских законов. Этот донос предъявили Короткову, который смертельно испугался и через Нину потребовал, чтобы с этого дня я сидела в комнате рядом с ним и не смела бегать в прежнюю редакцию, и даже в туалет выходила бы под его присмотром.
Нина строго посмотрела на меня:
– Я должна вас предупредить, как надо себя вести на допросах, если вас вызовут на Лубянку.
– А меня вызовут? – упавшим голосом спросила я.
– Если делу дадут ход, – деловито и в то же время торжественно ответила Нина, – вы должны будете там молчать и стараться не отвечать ни на какие вопросы.
Холодок пополз по спине. Я вспомнила, как в детском саду мы обменивались с товарищами по группе соображениями, о том, кто из нас выдержит пытки, а кто – нет.
На несколько месяцев я была прикована к своему столу, сидя под надзором Короткова, и горько оплакивала свою жизнь.
И вдруг меня вызвали в мою прежнюю редакцию литературы на третий этаж. Там мне радостно сообщили, что для меня лично выбили место. Что теперь мы навсегда неразлучны и я спасена.
Очень скоро Юрий Николаевич Коротков умер. И велико же было мое удивление, когда на его похоронах я увидела Натана Эйдельмана, называвшего моего заведующего своим близким другом. Из его выступления перед гробом я узнала много нового. Что когда-то Юрий Николаевич был смелым офицером, дошел до Вены. Что в 1960-е годы Коротков заведовал редакцией “ЖЗЛ”, где выходили замечательные биографии, а потом он создал журнал “Прометей”, где напечатал впервые много того, что раньше не пропускала цензура. Но в 1970-е, когда атмосфера изменилась, его сослали в “Энциклопедию”. Туда ссылали в те времена очень и очень многих. И он стал руководить сначала редакцией истории, а потом – педагогики. Но почему-то он сломался. Об этом Эйдельман, наверное, не знал. А я стояла и думала, что застала человека потерянного и запуганного, и так жаль, что мне ничего не было известно о его прежней свободной жизни.
Я вернулась в свою дорогую редакцию, в свой дом, и первое время это было счастьем. Однако очень скоро я почувствовала, что мой срок жизни в этих стенах почему-то исчерпан. Я чувствовала это, понимала, но откуда пришло это знание – не могла понять. Надо было отправляться в путь.
Новые перестроечные времена перевернули жизнь редакции литературы и изменили судьбу словаря. Из тайной ложи, резервации, объединяющей людей духа, она превратилась в открытую всем ветрам корпорацию, на которую очень скоро перестали давать деньги. Это была оборотная сторона медали. Редакторы забыли, что советская власть подкармливала интеллигенцию только затем, чтобы получать от нее идеологический продукт. Иногда позволялось немного заняться “культурой”, но не настолько, чтобы забыть, для чего все это делается. Неслучайно почти до конца 1980-х от Константина Черного требовали вступления в партию; его обрабатывали у начальства на каждом собрании, потому что иначе и быть не могло. Когда же советская власть рухнула, великий порыв интеллигенции по спасению прошлого признавался всеми, но только денег на это больше не было. Началось строительство капитализма. Место партии прочно заняла церковь. И на место главного редактора “Энциклопедии” пришел церковный мальчик из любимцев Патриарха, превративший издательство в “Православную энциклопедию”. “Русские писатели” вступили на путь долгой и страшной борьбы за существование, которая не заканчивается и по сей день. В процессе этой сокрушительной борьбы ушли из жизни почти все первые редакторы – хранители верескового меда…
Людмила Клименюк.
1980-е
Именно в то переломное время случилось уже совсем несусветное. Настоящая трагедия. Мир редакции разорвался. После 1993 года все громче стали звучать речи о заговорах, о продаже России. Раньше если в стенах редакции такое и говорилось, то шепотом и с оглядкой. Это было неприлично. Когда-то редакция была единым, оборонявшимся от внешних сил, монолитным телом. И вот теперь даже коварные большевики становились ближе, чем новая либеральная власть и – как уже говорили на каждом углу – продавший Россию Ельцин.
Черный к тому времени уже умер. Не было в редакции Юрия Буртина, он тяжело болел. Менялись заведующие, я ушла на вольные хлеба и приходила уже сюда только как автор статей.
В тот злосчастный день я принесла статью, заказанную мне Людой Клименюк, женщиной невероятно правдолюбивой и страстной. Она взяла на свои плечи весь период начала ХХ века и работала не покладая рук.
Так как меня в тот момент занимала история церковной реформации начала ХХ века и попытки религиозного возрождения, я решила посмотреть статью о Сергее Нилусе, который был известен тем, что распространял текст “Протоколов Сионских мудрецов” (оказавшийся фальшивкой), пришедший из Франции. В нем, как известно, говорилось, что евреи разрабатывали идею “захвата” и “порабощения” всего мира. Этот псевдодокумент Нилус передал Николаю Второму, и он оказал влияние на царя, к которому этот своебразный проповедник (собиравшийся получить сан священника) стремился попасть в духовники. Этот “документ” стал обоснованием погромов для черносотенцев и тем самым усиливал революционный накал в еврейских местечках. Нилус перехватил идею канонизации Серафима Саровского у Серафима Чичагова, который десятилетиями занимался собиранием документов и свидетельств о старце.
В девяностые годы ХХ века Нилус снова пригодился – его тексты с “протоколами” вновь стали продаваться в церковных лавках, и он вернулся в обиход определенного круга деятелей. Собственно, поэтому я и хотела посмотреть, как его трактуют теперь и что за статья готовится у нас в словаре. Редактором был Александров. Я пробежала глазами панегирический текст биографии, но это меня не так уж удивляло, я понимала, что Александров будет проводить именно такую линию, однако более всего меня поразила и даже обескуражила библиография в конце статьи. Часть ссылок на труды Нилуса отправляли читателя во Франкфурт 1939 года! То есть в то время, когда фашистское правительство использовало его труды для обоснования уничтожения евреев.
Конечно же, я показала статью Люде. Но я и представить себе не могла, что эта история перерубит ее жизнь пополам. Я-то ушла. Но с этого дня до меня стали доноситься отзвуки истории с Нилусом.
Люда огласила текст этой статьи и потребовала от своих товарищей – реакции. Но никто особенно не желал влезать в это дело. У всех была своя работа, жизнь была трудная. Александров же возмущался, что зашли на его территорию, и считал, что статья – его личное дело и что нужно опубликовать ее в словаре, немного только смягчив текст.
Было принято решение – доработать ее с автором и снять отдельные одиозные фрагменты. Люда же считала, что исправить подобный двусмысленный текст просто невозможно, и поэтому обратилась в Редколлегию словаря, чем вызвала раздражение редакции, так как “вынесла сор из избы”. Редколлегия категорически потребовала: или статья о Нилусе будет серьезно переработана, или часть ее членов покинет Словарь. В результате статья была снята вовсе.
И тут внезапно и резко началась Людина болезнь, которая сначала выглядела как панкреатит, а затем оказалась скоротечным раком. События развивались так стремительно, что, когда я оказалась на Людиных похоронах, я не верила, что все это могло произойти так внезапно и необратимо. Мне казалось, что это я сдвинула какой-то маленький камушек, и теперь он вызвал этот чудовищный обвал.
На поминках в редакции Александрова не было. Его попросили не приходить. Он, правда, звонил больной Люде незадолго до ее ухода и говорил, как хорошо было бы ей теперь креститься. Она послала его куда подальше.
А теперь все говорили про ее трудовые подвиги, про то, что она была честная и правдивая. На меня же с фотографии смотрела Люда со своей обычной немного ироничной улыбкой, как бы спрашивая: “Ну что, промолчишь?” Я не работала в “Энциклопедии” уже десять лет. Но это была моя семья, где меня научили лучшему, что определило мою жизнь. Поэтому я встала и сказала, что мы все должны просить у Люды прощения, потому что она погибла, борясь за правду и справедливость. Она, не имея ни капли еврейской крови, сражалась против лжи, антисемитизма, потому что была человеком чести.
И тут на меня закричал Розин. Перескакивая с одного на другое, он говорил, что я не знаю всего, что она неправильно поступила, вынеся дела редакции на всеобщее обозрение, что все надо было делать не так.
Я ответила, что Люда, в отличие от всех нас, за свои взгляды заплатила жизнью.
У меня остался свой маленький памятник нашему прошлому – пьеса-капустник “Пантеон”, где в центре был сон героини про то, как редакция воскрешает Русских писателей и получает в свое ведение гостиницу “Пантеон” для размещения там оживших больших и маленьких литераторов. Писатели не дают покоя ни редакции, ни друг другу, так как сосуществовать под одной крышей – не могут. Я читала ее на наших веселых собраниях и, благодаря этой пьесе, ушла из “Энциклопедии”, открыв дверь в абсолютно другую жизнь.
Театральное
Есть люди, которые с детства любят театр, ходят на все главные премьеры, а потом потихоньку превращаются в актеров, режиссеров или драматургов. Я же зашла в театр не с того входа, не в ту дверь, оттого, наверное, мое пребывание в нем оказалось таким кратким. Чаще всего я любила не тот театр, который на сцене, а тот, который вычитывался прямо из жизни.
Новых молодых драматургов собрали на – тогда еще всесоюзный – фестиваль в огромном комплексе, построенном для комсомольских работников в Химках, в бывшем дачном месте под названием “Свистуха”. Еще никто не знал ни своего настоящего, ни будущего. Все было и шумно, и одновременно церемонно. Михаил Михайлович Рощин, приехавший недавно из Америки после операции на сердце, был бодр и, как мог, руководил этой огромной массой молодых людей, отличающихся как разнообразными талантами, так и непомерным честолюбием, которое никак не могло реализоваться в прежние застойные годы. Людмила Петрушевская устраивала нам сеансы психодрамы, от которых, честно говоря, стыла кровь. В них надо было включаться, участвовать, и были эти странные спектакли прообразами будущих телевизионных ток-шоу с исповедями, саморазоблачениями, с какой-то открывающейся неприятной наготой. Но ведь когда ты входишь в мир взрослых больших драматургов, то тебе кажется, что тут все устроено как надо.
Рядом со мной в комнате в нашей комсомольской гостинице жила и собиралась своя тусовка из Литинститута с Леной Греминой во главе и тогда еще застенчивым молодым драматургом из Кирова Мишей Угаровым, с Машей Арбатовой, к которым присоединились Ольга Михайлова и Александр Железцов. Я же общалась с людьми по большей части немосковскими, оригинальными, иногда странноватыми.
Например, я встретила там Сергея Говорухина, сына известного режиссера, который горько жаловался на отца. Он пробовал себя в драматургии, снимал квартиру в Москве. Отец давно расстался с его матерью, и Сергей рассказывал, как он приходил к отцу и просил у него талоны то на сахар, то на сигареты. Тогда талоны выдавались по месту прописки. В Москве он был на птичьих правах. И Сергей каждому встретившемуся мстительно пояснял, как ему неприятна громкая фамилия отца, которую он вынужден носить.
В этом огромном комплексе, где мы жили в комнатках-сотах, в последний раз собрались молодые люди со всего Союза, который скоро должен был стать бывшим. Во дворе был огромный сад с цветущим жасмином и другими невиданными кустами, сверкающими разными цветами и листьями. Вдоль них прогуливались утром и днем наши наставники и после прочтения пьесы делали свои замечания и давали советы молодым авторам. Так и я ходила по дорожкам с Виктором Славкиным, который как-то отстраненно и даже растерянно говорил мне, что не знает, хорошо мое сочинение или плохо, потому что теперь, наверное, новые веяния, в которых он не разбирается, а я пыталась понять, что же не так в моей пьесе, и была целиком была обращена в слух. Но наставник был весь как-то поверх и меня и моего слуха, и наконец я поняла, что мы не разговариваем с ним вовсе, а просто он сейчас со мной “работает”. Нельзя сказать, что я обижалась на него: я понимала, что тут такие правила.
В один прекрасный день на фестивале обнаружился необычный молодой человек, огромного роста, бритый, как молодой Маяковский, с низким рокочущим голосом. Собственно – он любил изображать Маяковского к месту и не к месту, зная о своем сходстве с ним.
Оказалось, что это одноклассник моего мужа – Олег Матвеев, часть своей жизни проработавший врачом, а теперь написавший пьесу с причудливым названием “Даешь Сальвадор!”, которую должны были разыгрывать на фестивале. Мы сразу же с ним подружились, тем более что его жена была мне немного знакома – она писала статьи для словаря “Русские писатели”. Олег был абсолютно детский. Он бросался на помощь, слушал, восхищался и негодовал, и делал это очень необычно. Он не умел взвешивать, вычислять результат. И его пьеса была ему под стать.
История была такая. Молодые люди собирались у кого-то дома и долго пили. Причем пьяные разговоры они записывали на магнитофон. Проходило время. Они собирались вновь, включали магнитофон и прослушивали все то, что наговорили в прошлый раз. Смеялись, кричали и комментировали свои прежние беседы. Среди прочего они обсуждали: как бы на балконе выращивать огурцы, а затем их продавать на рынке или как бы поехать искать “колчаковское золото” в Сибири и так далее. Но однажды в компанию пришел один из друзей с криком, что сейчас началась заваруха в южно-американском Сальвадоре и можно будет записаться в особом месте и поехать туда воевать. Вся компания горячо поддержала предложение и пошла записываться на войну в Сальвадор. Конец. Занавес.
Мне и тогда показалось, что Олег что-то нащупал в нашем времени и поколении, которому было уже все равно, куда бросаться, хоть в Сальвадор, хоть на Северный Кавказ. Лишь бы вырваться из тупого однообразия… Их жизнь крутится в пустом самоповторе, как на том магнитофоне, на котором были записаны их пьяные застолья. Но сегодня эта пьеса и вовсе стала зловещим предсказанием событий от Чечни до Донбасса, куда из депрессивных городов, из подобных компаний отправляются солдатами удачи всё новые поколения. Олег и сам участвовал в опасных операциях, перегонял машины из Армении в Карабах, уходил от преследования бандитов. После фестиваля он поступил на Высшие сценарные курсы и в Литинститут. Но учиться нигде не смог. Что-то в нем уже было надломлено. Он умер в начале 2000 года в сорок лет от рака легких. Он был добр и светел и ушел туда, где все остаются детьми.
В начале 1990-х фестиваль переместился из Химок в усадьбу Станиславского “Любимовка” и в дальнейшем получил такое же название. 1992 год стал годом моего первого и последнего торжества в театральной жизни. Я написала пьесу “Дьяконов, его родные и знакомые”. Про режиссера Александра Дьяконова, жившего в начале века. Он был верным сыном декаданса, создавал странные рассказы про повесившихся священников, про инцесты и кровавые преступления. Порвал со своей купеческой семьей из Ярославля. Радостно принял революцию, но, когда вокруг него начали исчезать и гибнуть его близкие, вдруг пришел к мысли, что революция началась с него самого. Собственно, эти слова я обнаружила в какой-то записке его архива. Для этого были определенные причины. Потому что этот человек перевернул все вокруг себя именно “до основания”. В этой пьесе почти все было документально.
Собственно, все началось с дневника Елизаветы Дьяконовой, его сестры, который я заказывала для редакторов, когда еще работала в “Энциклопедии”. Я взяла домой огромный синий том с золотым тиснением, который открывался словами, что в 1903 году в горах погибла двадцатишестилетняя Елизавета Дьяконова, причина ее смерти осталась неизвестной. Поиски девушки шли около месяца.
Конечно, я читала не отрываясь. Я была поражена не только откровенностью дневников, но и тем, что они как бы стали ответом купеческой дочки на нашумевшие записки утонченной художницы-полуфранцуженки Марии Башкирцевой. Елизавета даже пыталась перещеголять ее в откровенности. Смерть Дьяконовой была сначала описана в дневниках, а затем исполнена. Все это было очень в духе наступающего ХХ века. Издание этих дневников вызвало невероятный резонанс в России, очень многие откликнулись на них, и по-разному; среди прочих были Василий Розанов и Марина Цветаева.
Но мне не давала покоя одна мысль, я понимала, что такая публикация была тогда настоящей бомбой; ведь все члены семьи Дьяконовых еще были живы. Издателем оказался – Александр Дьяконов, родной брат Елизаветы, выступавший на сцене под говорящим псевдонимом Ставрогин. В то время он был не только режиссером, но и доверенным лицом поэта Юргиса Балтрушайтиса по вопросам его публикаций. Все эти сведения, соединяясь, приводили меня в изумление. И я решила писать пьесу. При том что не могла отказаться от его имени; оно словно приклеилось к нему. Так и появилась пьеса “Дьяконов”. После представления ее на фестивале в “Любимовке” М. М. Рощин, подмигнув мне, сказал, что он знал моего героя уже стариком. Я не особенно радовалась, понимая, что смешала вымысел и правду.
В Ленинграде ее ставил известный режиссер-шестидесятник Владимир Малыщицкий. Он приехал летом 1992 года на любимовский фестиваль из голодного Питера, и я встречала его на вокзале возле бюста Ленина в центре зала. Вокруг режиссера, настороженно глядя на меня, стояли человек десять актеров. Малыщицкий как-то жестко и совсем неулыбчиво посмотрел мне в глаза и сказал, что мне нечего запоминать их имена; они просто скажут мне, кто из них кто по роли. И каждый, здороваясь, стал произносить имя своего героя. И это был своеобразный пролог к пьесе. Сам же спектакль прошел в начале июня в “Любимовке” с триумфом.
Примерно через месяц была премьера в Ленинграде. Те же самые актеры играли пьесу прямо у ног зрителей. А я смотрела все время в пол. Мне было страшно. Реплики, которые произносили актеры, вышли не из истории и литературы, а непосредственно из моей жизни. Иногда я что-то выдумывала, опираясь на дневники и письма этой семьи, но чаще писала что-то сокровенное, из собственного опыта и размышлений. И теперь слова эти звучали во всеуслышание.
Потом, когда осенью на фестивале в БДТ спектакль с треском провалился, знающие люди мне объяснили, что его – придуманный и сыгранный по-особому и интимно – грубо перенесли на огромную сцену. Он там потерялся и не получился. Была едкая рецензия в “Петербургском театральном журнале”, и со мной уже никто в театре не хотел говорить. Неудача стала целиком моей. Но втайне я вздохнула с облегчением.
А тогда, на фестивале в Любимовке, в начале лета 1992-го, когда спектакль завершился, я подумала, что сейчас мы с труппой наконец поговорим, обсудим, как все получилось. И вот все сели, выпили и уже минут через десять лежали, кто под столом, а кто просто уснул, где сидел. Напряжение было огромным, и оно сказалось мгновенно. Я в недоумении смотрела то туда, то сюда, пытаясь обнаружить хотя бы одного участника спектакля; стол был длинный, и многих из присутствующих я не знала, и вдруг с торца услышала голос:
– Что, не нравится? В театре надо принимать все как есть.
Володин Александр Моисеевич[2]
Его позвал Малыщицкий, потому что поставил несколько его пьес. Володин подсел ко мне и сказал, что боялся идти на спектакль. Он говорил, что его постоянно приглашают, он смотрит столько всякой дряни, а ведь надо что-то говорить, натужно улыбаться. Нельзя же обижать людей. А тут оказалось: хорошо. Даже очень. Я смотрела, как он разухабисто опрокидывал одну рюмку за другой, и почему-то ответила, что не верю ни одному слову нетрезвого человека. Так и сказала. Его книги с таким названием я еще не видела.
Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно:
– Я все это повторю и трезвый.
Александр Володин.
1990-е
– Не верю, – отвечала я.
– А я повторю, – настаивал Володин.
Все так и было. Позвонил и повторил. Написал в газете. Я оказалась не готова к театральной жизни. И театр покинул меня. Наверное, для того чтобы я делала совсем другое. Прошло восемь лет, и я приехала к Володину в гости. Это были две странные встречи. Одна веселая, а вторая прощальная.
Он говорил мне почему-то, что к нему все время приезжают и читают свои рассказы, при этом плачут, и он тоже пытается пустить слезу, чтобы не обижать людей. Не знаю, может, он и меня подозревал в чем-то похожем? Но я рассказывала ему про книжки, которые делала, о Татьяне Луговской и Сергее Ермолинском. Он вдруг сказал: “Интеллигент – это человек, который занимает мало места”. Стал рассказывать горькую историю семьи. Мать умерла, когда он был еще маленький, а отец женился на богатой тетке. Бросил его, отдал дяде Соломону. У него не было одежды и денег, хотя у детей дяди все это было.
Еще была история про то, как невероятно он любил Пастернака. И почему-то считал, что тот обязательно должен был прогуливаться по Гоголевскому бульвару. И поэтому Володин, когда бывал в Москве, часто ходил и оглядывался, не идет ли Пастернак. И однажды он его действительно увидел. Тот шел именно по Гоголевскому бульвару. И Володин не только побоялся к нему подойти, но кинулся со всех ног наутек.
Как-то в Комарове он сидел за столом у Ахматовой. Все громко разговаривали, так как Ахматова была глуховата. Бросали остроумные реплики. Когда дошла очередь до Володина, он стал делать вид, что говорит что-то на ухо соседу. И тут мать Баталова, Ольшевская, обратилась к нему: “Может быть, вы скажете вслух, нам всем интересно”. Он ответил что-то невнятное. Ольшевская сказала: “Какой молчаливый гость нам сегодня достался”. А Ахматова ответила: “Нет, он просто все время говорит в себе”. “Так оно и было”, – сказал мне Володин.
Потом стал рассказывать, как последние годы страшно пил. В рюмочной, где обычно напивался, просил теток, отпускавших ему алкоголь, что если придет снова, то ему надо строго-настрого сказать: “Мужчина, вы уже пили, вам продавать водку не велено”. Говорил: “Я проживу еще два года, столько я себе отпустил”.
Во второй раз мы пришли к нему с Колей Крыщуком, делали интервью для журнала “Искусство кино”. Мы сидели за накрытым столом. Пили. Но он был уже слабенький и совсем не такой живой и веселый, каким я его видела в нашу первую встречу. Все уже было понятно. Он прощался.
Я поняла, что разминулась на годы и с Володиным, и с театром.
Ермолинский Сергей Александрович
Самого Сергея Александровича я знала очень мало, мы виделись всего несколько раз. Но гул имени Булгакова из книги, написанной Ермолинским в начале 1980-х[3], доходил до меня. Моя свекровь считалась его племянницей, так как Татьяна Луговская – жена Ермолинского – была ее родной теткой. Я только недавно вошла в этот дом и наблюдала за ним издалека. Он был известный советский кинодраматург, один из авторов “Неуловимых мстителей”.
На его похоронах зимой 1984 года были близкие, друзья и поклонники: Берестов, Эйдельман, Юрский, Чудакова, Данин, Крымова, Эфрос и другие. Все плохо помещались в небольшой комнате, поэтому часть народа столпилась на кухне, где я помогала по хозяйству. Нервно причитала Петрушевская: “Нас, как пожарных, выставили на кухню”. Она повторяла и повторяла эту фразу. “Вы что-нибудь слышите? Слышите?” – спрашивала она у тех, кто стоял ближе к дверям.
Меня же в тот момент больше всего занимал небольшой красноносый человечек, который с удовольствием сел у краешка кухонного стола и, опрокидывая одну рюмку за другой, говорил:
– А вот еще один анекдот. Как-то мы с Сережей выпивали…
Его рассказ заглушали голоса. Люди входили и выходили. Звенел звонок. Гудели в прихожей. Красноносого человечка никто не слушал. Его это не смущало, он все говорил, говорил. Цеплял огурец, опрокидывал стопку и продолжал свое шутливое бормотание. Я смотрела на него с изумлением. На лице его не было ни скорби, ни сожаления. Напротив, он вспоминал что-то залихватски веселое. Один раз, заметив мой взгляд, он как-то криво подмигнул мне и опять потянулся за огурцом. Его лицо явно выпадало из общего выражения гостей этого дома. Может быть, это сосед?
Но спросить было неловко. Да и не у кого. На кухню прибивало людей малознакомых, сосредоточенных на том, чтобы получше расслышать происходящее в большой комнате. Я носила туда-сюда посуду, краешком выхватывая обрывки фраз, звучащих за основным столом. Вернувшись в кухню, я заметила, что человечек исчез, а на его месте уже кто-то сидит.
Сергей Ермолинский, Наталья Крымова, Вениамин Каверин, Сергей Юрский.
Переделкино, 1983
И тут рядом оказалась племянница Ермолинского, называемая в доме Мухой. Ее я и спросила, кто был этот странный господин, который явно был ни с кем не знаком.
– А, да это Аникст, – ответила она. – Все называют его Фальстафом.
Это был настоящий удар. В то время для меня почти не существовало близкого прошлого и современности. И, конечно, главным был Шекспир и еще, наверное, Достоевский. Я читала книги Аникста о Шекспире, о теории драматургии. Конечно же, и на него падал отсвет личности Шекспира. Он всю жизнь занимался им. Во всяком случае, я так думала тогда. Урок, который я получила, был огромной силы. Мимо меня прошел живой Фальстаф, а я не почувствовала это.
Потом его имя вдруг всплыло в трагической книге Бориса Рунина “Записки случайно уцелевшего”, в воспоминаниях о том, как перед войной исчезали преподаватели Литинститута. Имя Аникста мелькнуло в книге в связи с тем, что у него были арестованы родители, ранее работавшие за границей, а он – преподаватель курса западноевропейской литературы – был уволен.
Но что можно узнать о человеке в мимолетную встречу? Только запечатлеть образ, если, конечно же, сумеешь[4].
Сергей Ермолинский и Натан Эйдельман. Внизу подпись: “Февраль 1983 год, гнилая зима. Натан, Боба, Татьяна Александровна. Через год, 18 февраля 1984 года, дяди Сережи не стало”.
Литография Бориса Жутовского
Спустя год был вечер памяти Сергея Александровича. Февраль 1985 года. Я опять помогала на кухне. За столом возле Татьяны Александровны Луговской сидела натянутая, как струна, Алла Демидова. Напротив нее – понурый и мрачный режиссер Анатолий Эфрос. Я не знала, что происходит, но по виду Демидовой было понятно, что присутствие Эфроса ей настолько неприятно, что она еле сдерживается, чтобы не сказать ему какую-то резкость. Татьяна Александровна шутками пыталась разрядить атмосферу.
Только потом я связала эту сцену с назначением Эфроса главным режиссером Театра на Таганке. Тогда я просто почувствовала разлитое в воздухе негодование. Я носила туда-сюда чашки, и вдруг Эфрос меня увидел. Обычно гости этого дома мало обращали внимания на неизвестных людей. Потому что здесь все были известные или неизвестные. Эфрос вдруг стал спрашивать меня, не тяжело мне носить посуду? Что я делаю в жизни? Как меня зовут? Но, как ни странно, это были не светские вопросы. Спрашивая меня, он смотрел с такой болью, словно говорил не о чашках и моем имени, а пытался просить о помощи или найти ответ, как спастись. Я же, отвечая про стол и посуду, понимала, что он почти не слышит ответов. И мне так хотелось сказать ему что-то исцеляющее. Он очень скоро умер. Это случилось в начале 1987 года. Не знаю, надо ли было ему занимать место изгнанного Любимова. Но то, что Эфрос был живой и ранимый человек, – я это увидела.
У него не было “рыбьего глаза”, который бывал у людей с именем.
С уходом Сергея Александровича началось неожиданное движение, своеобразная война за “булгаковское наследство”. Волею судеб я оказалась на самом переднем крае этой схватки, хотя все окружение Ермолинского было живо и находилось в полном здравии. Разбираясь в хитросплетениях жизни вокруг Булгакова, я поняла, что и сам Ермолинский плохо себе представлял ту историю, в которую он попал. А проще говоря, он ее не знал вовсе. И тут, дорогой читатель, я ставлю многоточие, потому что история эта заслуживает отдельной документальной повести, которую я собираюсь рассказать дальше[5].
Эйдельман Натан Яковлевич[6]
Впервые Эйдельмана я увидела у Сергея Александровича. Любя декабристов, я любила и Эйдельмана. Однажды в сопровождении Александра Свободина – театрального критика, который работал у моей свекрови на сценарной студии, – и прекрасной итальянки из Венеции Мариолиной, – о которой теперь весь интернет пишет, что она была возлюбленной Бродского, а тогда это была известная в Москве славистка, – он пришел в наш дом на Смоленском бульваре.
Мариолина хотела где-то встретиться с Эйдельманом, и был выбран наш дом. Он очень пылко отвечал на ее вопросы и вдруг стал рассказывать о каком-то неизвестном поэте ХХ века, который писал, служил, а потом исчез. Я не помню ни имени, ни обстоятельств, но помню, как он печально сказал, что хотел бы в будущем заняться литературной историей ХХ века и искать ушедших людей, раскапывать в архивах их утраченные биографии. Тогда эти слова проскользнули мимо моего сознания, но спустя годы, когда умерший Натан Яковлевич становился все дальше, его мечты о поиске людей ХХ века возвращались ко мне с удивительной настойчивостью. Возникало странное ощущение, будто он именно для меня, хотя он вряд ли обратил на меня внимание тогда, сказал эти слова. Потом стало приходить ощущение общей связанности, которое не покидает до сих пор.
Натан Эйдельман.
1980-е
Второй эпизод был исторический. И тоже не обошелся без последствий. Это было в марте 1987 года в Малом зале Дома литераторов. Предполагалось обсудить тридцатые годы небольшой группой историков. Я еле втиснулась в зал. Пришлось стоять, мест не хватало. За столом сидело несколько человек, в том числе и Эйдельман. Выступающие говорили осторожно, не переходя за флажки. Говорили о том, что все и так знали. Непонятно, когда сорвало резьбу.
Это получилось как-то неожиданно, само собой. Кажется, кто-то из выступавших решил спросить о репрессиях. И тогда встала дама и сказала, что ее фамилия Мостовенко (потом я узнала, что это была вторая жена Данина), ее отца расстреляли, у нее есть свидетельство о смерти, но там одна дата расстрела, а в бумагах по реабилитации – другая. И кто ей скажет, какой дате верить? Потом встал очень пожилой человек с седой бородой и представился секретарем А. М. Горького. Звали его Илья Шкапа. Почему-то он стал говорить о деле, по которому его арестовали, и о том, что он так и не понял, что это было за дело.
И вдруг за спинами президиума поднялся юноша с дипломатом в руках и невозмутимо сказал, обращаясь к старику:
– Ваше дело за номером таким-то, вас обвиняли в том-то и в том-то. Но согласно вашему делу было то-то и то-то.
По залу пробежал даже не ропот, а какая-то волна недоумения и восторга. Я помню, что Эйдельман сделался пунцово-красным, тяжело задышал и как-то восторженно выкрикнул:
– Кто вы? Пройдите сюда, молодой человек!
Тот вышел.
– Я Дмитрий Юрасов, – ответил юноша, – историк-архивист.
Шкапа хотел что-то еще спросить, но началось невероятное. Люди вскакивали и кричали. Моя фамилия такая-то, что стало моим отцом, моей сестрой, матерью? Тогда этот юноша открыл портфель, вынул какие-то карточки и начал отвечать всем по очереди. Он переспрашивал, просил назвать дату расстрела, номер дела, дату реабилитации. Поразительно, что многие носили сведения про близких и родственников с собой. Потом он сказал, что у него есть восемьдесят тысяч карточек. Что он работает в архиве и тайно добывает там сведения. Кто-то крикнул из зала:
– Не надо, не говори!
Все это время у Эйдельмана было абсолютно счастливое и торжествующее лицо.
Где-то в воздухе зала, в шелесте голосов вдруг почувствовалось едва заметное изменение воздуха истории.
Вольпин Михаил Давыдович[7]
Высокий седой старик пришел к нам в дом на Смоленском бульваре с одной целью – рассказать о своем близком друге и соавторе, уже покойном к тому времени Николае Эрдмане. Конечно, назвать Вольпина стариком было невозможно. Он был очень красивый, с прямой спиной и очень яркими живыми глазами. Он начал рассказ со своего ареста.
В первой половине 1930-х годов его арестовали в первый раз. Вольпин отбывал заключение и ссылку с троцкистами, которые и в тюрьме продолжали спорить, ругаться и драться с большевиками-ленинцами и эсерами, – их еще было немало в то время. Когда же он отбыл срок, то вернулся домой в Москву. Шел 1937 год. В поезде вместе с ним оказался сотрудник НКВД, ехавший из Архангельска в отпуск. Насмерть перепуганный Вольпин сказал своему соседу, что он обычный сценарист и возвращается из командировки домой. Чекист много и безобразно пил и требовал, чтобы тот пил вместе с ним. Так они ехали несколько суток. В какой-то момент полупьяный сосед проникся к Вольпину симпатией и стал говорить ему, что прекрасно понимает, откуда тот едет, и хотел бы дать ему добрый совет. Вольпину нельзя ни в коем случае возвращаться в Москву, потому что ходить на воле ему недолго. Он видит и по его лицу, и по глазам, что тот дойдет до первого угла и будет снова арестован. Чекист взывал к его разуму, пьяно плакал, размазывая по щекам слезы, и звал его к себе в Архангельск, клялся, что спрячет от неминуемой гибели. В конце концов признался, что работает… палачом, то есть комендантом и расстреливает сам. Вольпин говорил, что не мог дождаться, когда будет Москва и они уже наконец расстанутся. Палач в конце поездки был настолько пьян, что его выносили из поезда.
В начале войны Вольпин оказался с Николаем Эрдманом – другом и уже постоянным соавтором – в Рязани, откуда они с невероятными приключениями пробирались к Ставрополю и дошли до действующей армии. Там их взяли на работу в Ансамбль песни и пляски НКВД, где Берия собирал самых талантливых режиссеров, сценаристов и актеров. Об Эрдмане Вольпин говорил с невероятным почтением, считая его великим и непревзойденным драматургом, недооцененным современниками. Под конец он рассказал нам, что в доме престарелых в полном одиночестве доживает свои дни Вероника Витольдовна Полонская, последняя любовь Маяковского, и что они с товарищами собирают ей деньги. Так странно было слышать, что он говорил о своем долге перед Маяковским, которого знал… Но это все было уже под занавес. Он оставил нам машинопись пьес Эрдмана “Мандат” и “Самоубийца”. Пьесы тогда не показались мне ни смешными, ни гениальными. Теперь понятно, что без контекста времени, который мы не знали, понять их было невозможно.
А от Вольпина осталось чувство пронзительной ноты. Он очень скоро погиб в автомобильной катастрофе. Все, кто ехал с ним, остались живы, не получив даже царапины. А я часто ловила себя на мысли: спросить бы у Вольпина про Есенина, Мандельштама, Ахматову – он всех видел и всех знал. Но он считал себя лишь младшим другом великого драматурга-сатирика Николая Эрдмана.
Тарковский Арсений Александрович
Он сидел в фойе переделкинского Дома творчества, уже очень старый, но по-прежнему такой же красивый, как на многих своих фотографиях. Глубокие вертикальные морщины превращали его лицо почти в графический портрет.
Я сидела напротив и ждала знакомого театрального критика. Так, пребывая в абсолютной тишине и пустоте, мы глядели друг на друга. Я, конечно же, смотрела на него с любопытством: гениальный поэт, вот уже старик. Думала о соотношении таланта и его возрастного угасания. Правда, заметила я, что он тоже внимательно смотрит на меня. Возможно, потому, что ему просто надо было на кого-то смотреть, а возможно, он пытался угадать, к кому из обитателей здешнего дома я пришла. Видно было, как он мысленно взвешивал мой возраст, внешность и перебирал в памяти имена своих знакомых, пытаясь соединить их со мной. Так продолжалось некоторое время.
Вдруг в фойе появился человек, которого я видела первый раз в жизни, но не могла не узнать по черной повязке на глазах. Он был слепой. Книгу с его стихами и фотографией мне тысячу раз подсовывали ученицы фармацевтического училища, где я преподавала эстетику. Это был Эдуард Асадов. Несчастный человек, зарифмовавший все пошлости на свете.
И тут Арсений Тарковский вскочил на одной своей ноге и крикнул: “Эдуард!” – “Арсений!” – выкрикнул в ответ Асадов, и они бросились друг к другу в объятья.
Для меня эта картина была разрушением иллюзий и печальным признанием того, что жизнь ходит своими путями. “Да, они фронтовики, – думала я. – Это выше эстетических разночтений. Но все же!”
Ревич Александр Михайлович[8]
Как-то Ревич сказал мне про Арсения Тарковского, что тот был инфантилен. Любил, чтобы к нему относились, как к ребенку, но опекать других не умел. Все знали про его страсть к телескопам, которые стоили больших денег. А его детям было очень трудно. Но, кажется, про телескопы мне рассказывал другой человек, не Ревич.
Тарковский и Ревич дружили несколько десятков лет. Мы с Александром Михайловичем говорили о внутренней эмиграции в переводы, что было и с самим Ревичем, который большую часть жизни как поэт был в тени. А теперь очень бурно и ярко сочинял стихи и поэмы. Я подружилась с ним, когда ему было около девяноста, но и тогда он был удивительно страстен в своих суждениях.
В 2007 году я вела вечер в Литературном музее, посвященный столетию Марии Петровых. Из-за кулис я видела все происходящее очень подробно. Александр Михайлович выступал, сидя на стуле, опершись руками на палку с собачьей головой. Я и раньше слышала его выступления и каждый раз удивлялась тому, что он не говорил ни одного ненужного, затертого или пустого слова. Он рассказывал о Марусе Петровых с такой нежностью и таким дружеским участием, словно они только что простились или она где-то сидит в зале. Я тогда остро почувствовала, что для него все, кого он любил, остаются абсолютно живыми, кажется, что он никогда и не прекращает говорить и общаться с ними.
Мария Петровых, вместе с А. Тарковским и А. Штейнбергом, была одним из самых близких друзей Ревича. Все они были “тихими” поэтами, много лет прячущимися в переводы. В каком-то смысле их судьбы повторяли один и тот же путь: первую, бо́льшую часть жизни они отдавали переводам (блистательным), а затем появлялись книги стихов, признание. Это был поздний расцвет. У Ревича он произошел позже всех.
На вечере, посвященном Марии Петровых, я выступала с небольшим рассказом об ее жизни в эвакуации в Чистополе. Это была история ее рождения как поэта, в чем огромное участие принял Борис Пастернак. Он устроил ее вечер и написал от руки множество объявлений, расклеив их по людным местам Чистополя. Он представил ее как настоящее чудо, явленное им всем во время войны.
Александр Ревич. На вечере Натальи Громовой.
ЦДЛ, 2009
Я выступила с этой историей, а затем продолжила вести вечер. Но с той минуты, когда я закончила свой рассказ, я почувствовала, что Ревич не спускает с меня глаз. Когда вечер закончился, он подошел ко мне, опираясь на палку, и сказал, что хочет читать мне свои стихи и маленькие поэмы. Я поняла, что он меня – выбрал. Нам не надо было объясняться, кто из нас что думает и знает – я отдала ему свои книги, а он стал мне читать стихи.
Он принадлежал дорогому для меня поколению, которое, пройдя войну, могло прямо смотреть в глаза и народу, и государству. Он попал на войну в двадцать один год, прошел все мыслимое и немыслимое: плен, штрафбат, Сталинградский фронт. Он был и по-настоящему милосерден. Пинаемого многими фронтовиками Владимира Луговского, о котором я много писала, искренне жалел. Ревич говорил мне, что, в отличие от многих, сам с рождения не знал, что такое страх. Что не раз дерзко смотрел в небо, на огромные бомбы, которые прямо над его головой вываливались из брюха самолета.
Они с товарищем-фронтовиком пришли к Луговскому домой на Лаврушинский. Поэт крупный, не очень трезвый встречал их за столом в кальсонах. Видимо, только недавно встал с кровати. Предложил выпить. Ревич по сравнению с Луговским был совсем небольшого роста, тот назвал его, кажется, “полумерок”. А потом спросил их, воевали они или нет. Они сдержано ответили, что да. Луговской склонился над стаканом. Ревич рассказывал об этом немного снисходительно. А я так и видела эту жуткую картину. Два невысоких юноши с постаревшими глазами смотрят на большого поэта, который не знает, куда деваться от стыда и муки, и все понимают, что у него в душе. Каково было немолодому поэту, каким после войны был Луговской, встречать этих мальчиков с выжженными глазами и душами.
– Луговской – добрый, красивый, но пустой. Нет глубины, таланта. Звенящий бубен, – сказал мне Ревич.
Но я возражала: нет, не так все просто. А Ревич хитро посмотрел ярким голубым глазом и сказал: «А может, вы и правы».
Сам Ревич вскоре ушел в поэтический семинар к Сельвинскому, которого до конца дней считал большим и недооцененным поэтом. Но при этом он иногда вспоминал довольно жесткие картины из его жизни. Как Сельвинский однажды позвал его поговорить о работе в газете, кажется, это была “Литературная Россия”. Ревич тогда был неустроен, эта работа могла стать для него выходом. Они встретились в Переделкине в 1958 году. По дороге навстречу им шел Пастернак. Ревич поздоровался, а Сельвинский промолчал. И когда они прошли мимо, Сельвинский раздраженно сказал Ревичу:
– Вы разочаровали меня, молодой человек!
И так, молча, они дошли до Дома творчества. Потом он снова повторил:
– Как вы могли?
Ревич не знал, что ответить, и они расстались. Полгода Сельвинский молчал, а потом позвонил с вопросом: “Куда же вы пропали?”
Поколение Ревича было тайно влюблено в Пастернака. Они образовывали свое тайное братство и узнавали друг друга на расстоянии. И своим старшим товарищам то знаменитое предательство любимого поэта они не просили. Их голос еще был слаб. Но душа запомнила все.
И в тоже время он восхищался стихами своего учителя, а я его влюбленность в Сельвинского не разделяла и за это заслужила не один час прослушивания многих страниц поэзии любимого Ревичем мастера. В его изложении, в его страстном порыве многие из стихов Сельвинского показались и мне настоящими шедеврами. Ревич наполнял их собственной жизненной силой.
Он стал мне близок именно потому, что умел любить не только написанное собой, его отличала страстная, бескорыстная любовь к поэзии и прозе – других.
Как богач, перебирающий сокровища, он вынимал из своей кладовой чужих стихов то бриллиант, то алмаз, то изумруд. И всегда требовал восхищения. Каждый полюбившийся стих он читал, вкладывая в него всю силу души. И если я все-таки говорила, что какой-то из стихов мне не очень нравится, у него тут же менялся голос, и видно было, как и для него тоже тускнело сокровище. Но с ним, несмотря иногда на невероятную категоричность в оценках (все знают, как он ругал за “салонность” Осипа Мандельштама – в этих случаях я просто пускалась в крик), все равно было легко. Он был один из самых живых и подлинных людей, каких я знала.
Он приехал уже очень нездоровый на вечер Павла Антокольского в Музей Цветаевой, где я работала. Мы сидели рядом, я видела, как он хватает ртом воздух, в зале было душно. Его никак не объявляли. Пели хвалы Антокольскому, читали его стихи, говорили о нем то, что редко остается в памяти, потому что – так говорят всегда. И Ревич бормотал почти на весь зал: “Не то, не то”. Я и сама знала, что не то. И наконец вызвали его. Он снова сел в центре зала на стуле, опершись на палку. И стал пронзительно говорить о затаенной боли, о спрятавшемся таланте Павла Антокольского.
– Я был свидетелем его падения. Я пришел к нему домой. Он сидел, как подбитая птица, как памятник Гоголю, когда его объявили космополитом. “Пришел все-таки, не побоялся…” Накануне я позвонил ему по телефону и сказал, что у меня имеется первая книга его стихов. “А у меня ее нет, – сказал Антокольский. – Там есть стихотворение «Последний»? Стихи о Николае Втором?” Я сказал: “Да, есть”. Это был 1948 год. После собрания я приехал к нему и подарил эту книгу. Что он сделал? Он пролистал книгу, нашел это стихотворение. Вырвал его и разорвал на мелкие, мелкие клочки. Он боялся всего на свете!
И Ревич стал читать стихотворение, которое сам автор пытался уничтожить. Оно было о расстреле царской семьи. Я приведу его целиком, потому что с него началась работа над одной из последних поэм-воспоминаний Александра Михайловича Ревича.
ПОСЛЕДНИЙ
Над роком. Над рокотом траурных маршей, Над конским затравленным скоком. Когда ж это было, что призрак монарший Расстрелян и в землю закопан? Где черный орел на штандарте летучем В огнях черноморской эскадры? Опущен штандарт, и под черную тучу Наш красный петух будет задран. Когда гренадеры в мохнатых папахах Шагали – ты помнишь их ропот? Ты помнишь, что был он, как пороха запах И как “на краул” пол-Европы? Ты помнишь ту осень под музыку ливней? То шли эшелоны к границам. Та осень! Лишь выдохи маршей росли в ней И встали столбом над гранитом. Под занавес ливней заливистых проседь Закрыла военный театр. Лишь стаям вороньим под занавес бросить Осталось: “Прощай, император!” Осенние рощи ему салютуют Свистящими саблями сучьев. И слышит он, слышит стрельбу холостую Всех вахту ночную несущих. То он, идиот подсудимый, носимый По серым низинам и взгорьям, От чёрной Ходынки до желтой Цусимы, С молебном, гармоникой, горем… На пир, на расправу, без права на милость, В сорвавшийся крутень столетья Он с мальчиком мчится. А лошадь взмолилась, Как видно, пора околеть ей. Зафыркала, искры по слякоти сея, Храпит ошалевшая лошадь. …………………………………………………. Отец, мы доехали? Где мы? – В России. Мы в землю зарыты, Алеша. 1919Когда он прочел последнюю фразу: “Мы в землю зарыты, Алеша”, – она прозвучала прямо из того времени и ударила, как хлыст. Мне казалось, что после этого можно было бы вечер закрывать, потому что возник иной масштаб, иной уровень судьбы поэта Антокольского. Но все покатилось по той же дороге.
А в Ревиче рождалось свое, как ответ, как страстный разговор с учителем, который ушел. И он скоро прочел мне по телефону свое горестное автопризнание про то, как и ему, школьнику, открылась мрачная пропасть в истории России. Он рассказывал в своих маленьких поэмах о 1937 годе, о советских каторжниках, проходящих улицами Ростова, о начале войны, о плене, о смерти, о чуде своего воскресения. Он был словно глазами и ушами того времени. Перед смертью он несколько раз попадал в больницу и рассказывал, как уже был “там”. Когда возвращался, читал “оттуда” пришедшие строки.
25 октября 2012 года я записала в дневнике: “Вчера умер А. М. Ревич. Я много раз думала, что вот не успею сказать то-то и то-то. А теперь уже буду кричать ему на Небо”.
Агранович Леонид Данилович
Я все время помнила, что должна прийти к нему домой, поговорить про Ташкент времени эвакуации. Еще была жива его прекрасная жена Мирра, которая там была. А я все не шла и не шла. Книга была написана, и я плохо понимала, что я буду делать, если даже узнаю что-то новое.
И вдруг он пришел сам – на мой вечер, посвященный книге об эвакуации писателей[9]. Он ездил во время войны по этим местам с арбузовской студией, в которой были Плучек и Галич (тогда Александр Гинзбург). Рассказывал, как слушал в Ташкенте чтение Ахматовой в ее конурке, которая была когда-то кассой, где до войны выдавали зарплату. Я потом его спросила:
– А как она согласилась вам читать?
– Да она всем читала, всем, кто ее просил. Лежала на своей узкой кровати и читала стихи.
Я стала приходить к нему в квартиру на Аэропорте. К тому времени умерла его прекрасная жена Мируша, и он остался один. Леонид Данилович относился ко мне с расположением и нежностью. Я же хотела быть ему хоть чем-нибудь полезной. К счастью, он писал книгу, я стала его редактором (довольно формальным), но зато выполнявшим роль заинтересованного слушателя.
Агранович играл у Мейерхольда в последние годы жизни мастера на свободе. Познакомился с Мейерхольдом он благодаря своей первой жене Любови Фейгельман, известной по стихам Смелякова.
Посредине лета высыхают губы. Отойдем в сторонку, сядем на диван. Вспомним, погорюем, сядем, моя Люба, Сядем посмеемся, Любка Фейгельман!..Особенно его веселил куплет про транспортного студента.
– Ну, какой, к черту, я розовый, да еще и транспортный? – веселился он.
Мне передавали, что ты загуляла — лаковые туфли, брошка, перманент. Что с тобой гуляет розовый, бывалый, двадцатитрехлетний транспортный студент.Леонид Агранович. На презентации книги Н. Громовой о Ташкентской эвакуации “Все в чужое глядят окно”.
Музей Маяковского, 2001
И вот та самая знаменитая Любка Фейгельман была знакома с Зинаидой Райх и ходила заниматься в студию к мастеру. Леонид Данилович умел показывать Мейерхольда, которого бесконечно любил, помнил его спектакли, свои роли в его театре. Себя же он изображал очень иронично. Это было гораздо ярче, чем его мемуары. Он был в первую очередь драматургом и режиссером и все видел объемно. Один из ярчайших сюжетов – как он узнал про расстрел маршала Тухачевского.
Это было на какой-то южной станции, когда он ехал с окружным театром по гарнизонам. Стояла страшная жара, и он вышел прогуляться по перрону. Вокруг лежали бесконечные пески. Он подобрал с земли маленькую черепашку. Вдруг музыка, которая лилась из тарелки репродуктора, сменилась правительственным сообщением. И тут он услышал, что группа маршалов вместе с Тухачевским – расстреляна. На время он забыл обо всем. Черепаха же, пытаясь освободиться, зажала ему палец, и он случайно выпустил ее из рук. Она упала на камни и разбилась. Из трещины на панцире выступила кровь.
Агранович отнес ее на траву. Но ужасное чувство, что он своими руками погубил эту невинную черепашку, совместилось с сообщением о расстреле. С проступившей полоской крови на панцире. Самого Тухачевского он видел лишь однажды. Мейерхольд попросил маршала сделать Аграновичу отсрочку от армии, чтобы актер смог продолжать работать у него в театре. Удивительнее всего, что эта отсрочка действовала даже тогда, когда маршала расстреляли. Из-за этого Аграновича не брали на фронт. Так он оказался с актерской бригадой в Ташкенте. Отсюда шла его дружба с Галичем, который часто пел у него в его квартире. Дома у Аграновича были записаны на магнитофон многие его песни…
Леонид Агранович.
1960-е
В актерской бригаде он подружился с Зиновием Гердтом. Они оба были очень любвеобильны, часто меняли жен и возлюбленных. Леонид Данилович привез одной своей жене-актрисе очень красивую трофейную материю, из которой она сделала себе шарф. И вот однажды, когда шел мимо театра Станиславского, он увидел Гердта в том самом шарфе из трофейной ткани. Тут он все понял. Был развод, суд, усыновление Гердтом только что родившегося ребенка.
Но потом в жизни Аграновича появилась Мирра. А у Гердта – Татьяна Правдина. Леонид Данилович сказал мне, что понял, что мужчины часто блудят или бродят в поисках единственной женщины, которая им необходима. Так он дошел до Мирры. Она была переводчицей и поэтом. Но стихотворство забросила из-за семьи. А когда началась история с космополитами и Леонида Даниловича за его еврейское происхождение выгнали отовсюду, Мирра кормила семью переводами, которые делала под чужим именем. Так они просуществовали до смерти Сталина.
Леонид Агранович и Алексей Каплер.
Конец 1940-х – начало 1950-х
Агранович с Гердтом продолжали дружить, обожая Пастернака, который был их общим кумиром. Они читали его друг другу наизусть, открывая глаза новичкам, которые еще не знали чудесных строчек поэта. Так, Гердт однажды в лесу заставил слушать Пастернака своего соседа по даче в Красной Пахре – Твардовского, который очень недоверчиво относился к поэту. Это было уже после смерти Пастернака. Гердт на прогулке по лесу прочел Твардовскому стихотворение “Август”. Прочел так, как только они с Аграновичем умели. Без надрыва и ложной многозначительности. Спокойно и трезво, как нечто свершающееся и сбывающееся. Даже будничное. И Твардовский был потрясен. Он вдруг услышал Пастернака и понял (может, только на миг!), что прошел мимо огромного поэта. Для Гердта и Аграновича такое событие стало настоящим праздником.
Я действительно больше никогда не слышала, чтобы кто-то читал стихи, как Агранович. Казалось, что они возникают прямо при тебе, как результат его раздумий и размышлений. Это было “умное” чтение, которое было начисто лишено нажима, пафоса.
Леониду Даниловичу было немного неловко за свой солидный возраст, за то, что он стал передвигаться на ходунках, а не как прежде – с палкой. Как-то мне Мария Иосифовна Белкина сказала: “Все приличные люди поумирали, а я живу”. Кажется, что он думал точно так же. Это было спрятано где-то в глубине. Он часто рассказывал об арестах своих ближних и дальних, о войне, о процессе над космополитами. И вдруг из него могла вырваться фраза:
– Вот же повезло дураку, не попался. Не посадили, не расстреляли.
Агранович к отпущенным годам – мы общались, когда ему было девяносто лет, – относился, как к возможности отдать долги. Он написал две книги о своем времени, первая называлась “Стоп-кадр: Мейерхольд, Воркута и другое кино”, а вторая – “Покаяние свидетеля”. Он испытывал острое ощущение вины за многое, что происходит вокруг. Он мог писать о своей постановке пьесы, где впервые сыграл Олег Даль, историю, главными героями которой были офицеры военного городка, и тут же сбиваться на современную дедовщину, на историю солдата Сычева. Это и было его покаяние. Он рассказывал о фильмах, которые так и не смог снять. Одни нельзя было снять, за другие – попросту было страшно браться.
Он считал, что обязан был сделать фильм о Мейерхольде, которого боготворил. О Воркуте и ГУЛАГе, куда попал в командировку (!) по странной путевке от киностудии, – считалось, что он должен был описать труд строителей Севера. Там он встретил своего товарища Алексея Каплера и много других известных зэков. Он хотел снять фильм о Якире… И еще он писал о том, как, работая над фильмами, шел на компромиссы, чтобы картины все-таки выходили.
Многое, что ему казалось позорным, таким не являлось. Но он мучился прошлым, разговаривал с ним, как с живым. Если сегодня представить, что на экране в 1960-е появились бы фильмы, в которых перед нами предстала бы наша трагическая эпоха, где были бы и лагеря, и расстрелы, и гибель лучших людей, скорее всего, нынешняя наша история и жизнь выглядели бы иначе. Кино шестидесятых смогло бы сделать то, что не могли сделать книги; оно заставило бы всю страну сопереживать. Но так не случилось.
Его вторая книга вышла, когда ему было уже девяносто пять лет. Он написал мне на ней: “Я люблю Вас – это не метафора – а констатация. Любовь еще быть может. Ваш Л. Агранович. 13 февраля 2010”.
Почему-то я прочла этот инскрипт только после его ухода.
Либединская Лидия Борисовна[10]
Лидия Борисовна устроила свою жизнь так, что мир вращался вокруг нее, и ее это вполне устраивало. Ко мне она прекрасно относилась, и мне с ней было очень хорошо. Но все-таки я была не светской знакомой; я задавала вопросы и как-то скоро увидела историю ее жизни не совсем так, как она привыкла всем ее предъявлять. В первую очередь все упиралось в Юрия Николаевича Либединского, который был, несомненно, для нее горячо любимым мужем, но ведь еще он был и писателем, и, как оказалось, очень посредственным. Конечно, Лидия Борисовна не могла с этим прилюдно согласиться, но тот факт, что ей в голову не приходило читать и переиздавать его тексты, говорил о многом. Я же и после ее ухода вынуждена была читать не столько его прозу, сколько мемуары о людях, которых он искренне любил. Но даже эти тексты были написаны казенно и по-советски скучно. Он и был отчасти создателем казенного литературного языка.
У Лидии Борисовны, безусловно, был хороший литературный вкус, и поэтому она спасла себя и покойного мужа, написав “Зеленую лампу”, вышедшую в середине 1960-х годов. Это была живая, веселая книга о детстве в 1930-х годах, о ее необычном литературном окружении, о людях, которых она очень любила. Среди прочих там был и Юрий Николаевич Либединский, выглядевший в этой книге как один из известных ей литераторов. Не думаю, что она добивалась такого эффекта, но так получилось. Когда я в юности читала эту книгу, то для меня Либединский был человеком из какой-то другой эры, которая не имела отношения ко всем остальным героям: Юрию Олеше, Артему Веселому, Михаилу Светлову и Марине Цветаевой – все они были полны внутренней энергии, и портреты их были написаны очень ярко.
Но откуда взялись все эти люди в ее еще совсем юной жизни? Конечно, от мамы, которая “носила клетчатую кепку, дружила с футуристами и ненавидела советскую власть”. Фразой про советскую власть в книге пришлось пожертвовать, потому что мать жизнь положила на то, чтобы скрыть подобные слова и мысли, чтобы никто и знать не знал, что милая дама, прогуливающаяся с детьми Юрия Либединского по двору в Лаврушинском, – поэт, писатель и мемуарист Татьяна Вечорка. Она запретила дочери первую фразу про советскую власть. Лидия Борисовна в своей “Лампе” вроде бы и упоминала о Татьяне Владимировне, но как-то очень косвенно. Так уж сложилось.
Татьяна Вечорка (Толстая) и ее дочь Лида Толстая (Либединская).
Середина 1920-х
И вот как-то Либединская пожаловалась мне, немного даже смущенно, что так и не издала ни мамины стихи, ни воспоминания. Она дала мне стихи, куски из дневников, что-то еще “из маминого” со словами, что сколько народу хотело издать, напечатать, разобрать, а вот так и не сделали ничего. И когда я стала читать поразительные записки Татьяны Владимировны, когда узнала о ее драматической судьбе, то все встало на свои места – и радостный эгоцентризм Лидии Борисовны, и служение Юрию Николаевичу, а после его смерти – себе, а рядом самоотверженность ее матери. Она умудрялась одной рукой писать книги о детстве Лермонтова, другой – воспитывать внуков и как-то держать весь дом. Татьяна Владимировна принимала жизнь такой, какая есть, хотя талант ее был особый, требующий развития и огранки. И когда мне выпало составлять и писать книгу о Либединской[11], то получилась в каком-то смысле книга о ее матери, попавшей со своим даром в жесточайший переплет времени, из которого она вышла с поразительным чувством собственного достоинства.
Лидия Либединская.
1990-е
Но жизнь ведь не про то, как надо. Она интересна именно своим удивительным узором отношений, ситуаций и характеров. Счастливый характер Либединской заключался в жажде жизни и в жажде счастья. Она изо всех сил хотела преодолеть страх бабушки и матери с их попыткой спрятать прошлое. Она хотела жить сегодня и сейчас в том настоящем, которое ей выпадало. Ее брак с классиком советской литераторы – Либединским, а не с милым юношей – начинающим художником Иваном Бруни был попыткой вырваться из горестного круга своих близких, где уже все в прошлом. Она хотела жить сегодня и сейчас! И поразительно, что у нее все это получалось.
Она была уместна в любое время, с самыми разнообразными людьми. И продолжала любить настоящее. То, что было перед ней. Потому что обладала удивительным качеством – любовью к таланту. Как ловец жемчуга, она находила людей одаренных, с признаками или задатками таланта или совсем уж гениев и приручала, и привечала. Ошибалась, но кто же не ошибается. Я редко встречала человека, который свой радостный эгоцентризм, который никак нельзя отнести к положительным качествам характера, смог обратить в достоинство. И быть любимым, если не всеми, то многими.
В роковой день, когда я навсегда рассталась со своей мамой, дома меня ожидала записка: “Звонила Л. Б. Либединская, просила зайти к Апту и Стариковой”. Я перезвонила Лидии Борисовне и начала судорожно говорить о внезапной кончине своей мамы. Слушая меня, она повторяла одно:
– Как бы я хотела так умереть!
Это был наш последний разговор. Через десять дней, съездив на Сицилию и вернувшись домой, она легла спать и не проснулась.
Целое десятилетие, общаясь с людьми этого возраста, я стала привыкать к тому, что они могут внезапно уйти. Но в каждом уходе была своя неповторимая тайна, к которой я вдруг подходила близко-близко.
Апт Соломон Константинович и Старикова Екатерина Васильевна[12]
Соломон Константинович принадлежал к братству любящих Пастернака. Это был огромный тайный орден, который образовался после войны. Они любили его преданно и навзрыд. Знали наизусть. Находили друг друга по его строчкам.
Интересно, что Апт и Старикова жили этажом выше Леонида Даниловича Аграновича, и я просто подымалась на этаж. Хотя визиты были не такими уж частыми. Соломон Константинович Апт, подвижный, маленький, очень доброжелательный человек, как-то сразу же оказывался с тобой на дружеской волне. Апт рассказывал, что стал переводить “Иосифа и его братьев” лично для себя, зная, что роман ни за что не напечатают. Переводил и выбрасывал. Только восьмой вариант стал окончательным.
Как-то я попросила его выступить на вечере, он со своей немного стеснительной усмешкой сказал: “Но я же не Цицерон какой-то”. Подарил мне свою переписку с Верой Пановой, которая была очарована его переводами.
В свои последние годы он хотел издать книги жены Кати – критика Екатерины Васильевны Стариковой. Он испытывал какую-то неловкость, что она так и не достигла известности в литературе. Обе ее книжки оказались очень необычными.
И автобиографическая проза, где она откровенно и даже иногда беспощадно рассказывала о детстве, матери и своей семье. Она называлась “В наших переулках”. И повести с рассказами тоже очень запоминающиеся. Соломон Константинович честно обошел несколько издательств, а потом выпустил книгу за свой счет.
Екатерина Васильевна даже в старости осталась красавицей, с гладким лицом, густыми седыми волосами и немного капризным голосом. В 1940-е годы она работала в ИМЛИ и занималась Достоевским, но ей предусмотрительно предложили написать диссертацию про Леонида Леонова. Она встречалась с писателем, чтобы собрать материал для диссертации. Они гуляли по улицам, и Леонов рассказывал ей истории из своей жизни, делился мыслями. После возвращения домой Леонов звонил ей и требовал, чтобы она все забыла и ни в коем случае ничего не записывала. Так было несколько раз. Наконец ей все это надоело, вдобавок еще выяснилось, что близкие друзья, которые были родственниками Сабашниковой, жены Леонова, отзывались о писателе неприязненно. В роду Сабашниковых было много арестованных, а Леонов запрещал жене общаться с оставшимися на воле, и поэтому друзья Екатерины Васильевны очень плохо относились к советскому классику. Но все-таки монография была написана.
Екатерина Васильевна имела много поклонников и романов, и брак их с Соломоном Константиновичем не раз бывал под угрозой. К счастью, уцелел. Они были очень необычной парой. Рядом с ней – крупной и царственной женщиной – Апт казался еще меньше ростом, но его неслыханное обаяние, живой и веселый ум притягивали, и очень скоро именно он оказывался в центре внимания. Их парный конферанс уже давно был “сыгран”. Они постоянно друг над другом подтрунивали и насмешничали. Екатерина Васильевна вела себя с Аптом капризно и кокетливо. А он нежно, но с достоинством ставил ее на место. В нем была какая-то затаенная грусть или боль, которая вдруг мелькала и тут же исчезала. Почему-то в первый же раз, когда я их увидела, то сказала себе, что, наверное, он уйдет первый, а она останется одна. Так и случилось.
Я познакомилась с ними после того, как не стало Лидии Борисовны. Старикова говорила, что их последняя общая встреча была уже из “загробных”. Когда Либединская была у них в гостях, как раз накануне поездки на Сицилию, у нее было совсем другое лицо и потусторонний голос. Так ей по крайне мере показалось.
Екатерина Старикова, Соломон Апт, Лидия Либединская.
1970-е
Мы сидели на кухне и пили водку из маленьких стопок. И тут Екатерина Васильевна вдруг стала говорить про вещие сны. Они часто ей снились, и ей хотелось обсудить, насколько они вещие. И тогда Соломон Константинович, смехом прервав ее, сказал, что не верит ни в какую мистику. Я удивилась, напомнила ему про сны из библейских глав “Иосифа и его братьев”. Но он упорствовал и, доказывая свою правоту, привел абсолютно обезоруживающий довод. Когда-то у него была тяжелая операция на сердце, и он увидел все сверху: врачей, себя, весь ход операции, ему было открыто все, что происходило в коридоре и за его пределами. Но главное – его встретили там, наверху, под потолком, какие-то добрые существа.
– И что же это было?! – поразилась я.
– Такое свойство мозга, – не моргнув, отвечал он.
Мы долго смеялись. И Екатерина Васильевна сказала:
– Вот он всегда так!
Они рассказывали, что веселее и остроумнее всех на их памяти была Маргарита Алигер. Со своими одесскими историями и анекдотами. Ощущение было такое, что я дружила с ними много-много лет.
Я записала рассказ Екатерины Васильевны про знаменитое прощание со Сталиным в Москве. В тот день она была у себя в редакции журнала “Дружба народов”, начальство на работу не вышло, а редакторов погнали на похороны. Она думала, что будет недолго, пройдут по Садовому, а потом переулками до Колонного зала. В толпе все сотрудники потерялись и шли уже поодиночке. Люди, плотно прижатые друг к другу, текли по бульвару очень медленно. Везде по сторонам улиц стояли грузовики с солдатами. Вдруг с домов в толпу стали прыгать мальчишки и бежать по плечам людей вперед. Было холодно. Когда дошли до Трубной, то сверху открылось темное море людей, раскачивающееся то в одну, то другую сторону. Люди были насуплены, замкнуты и молчаливы. Екатерина Васильевна решила вырваться, тем более что оказалась рядом с грузовиком. Она попросила солдата открыть дверь кабины и через нее выскочила на другую сторону улицы. Город был пуст. Давки еще не было. Все только начиналось.
Умер Апт почти внезапно. Хотя почти полгода до этого никого не хотел видеть, мучился депрессией, что было очень на него не похоже…
Она позвонила мне, прочитав мою книгу “Распад. Судьба советского критика”, и сказала, что многое хотела бы мне сказать, но не может, ей неловко перед Соломоном Константиновичем. Апт еще был жив. Эта книга была посвящена судьбе критика А. К. Тарасенкова, который всю свою жизнь собирал коллекцию всевозможных изданий поэтов ХХ века, страстно любил Пастернака и даже одно время дружил с ним. Но, к великому несчастью, писал о Пастернаке ругательные статьи по заказу сверху. Я знала, что Екатерину Васильевну когда-то связывали с Тарасенковым романические отношения, и понимала, что она хотела бы поговорить о нем.
Я пришла к ней на двадцатый день после ухода Соломона Константиновича.
Мы сидели на кухне и тихо обсуждали последние новости, и тогда я ей сказала:
– Расскажите, пожалуйста, что вы хотели мне рассказать после прочтения моей книги.
– Но ведь Соломон Константинович, наверное, нас слышит? – ответила она, и мы почему-то одновременно посмотрели на потолок. Я вспомнила про добрых существ, которые к нему приходили.
– Если слышит, то и так уже все знает и понимает. Я почему-то чувствую, что с ним все хорошо.
– Почему вы так думаете? – спросила она.
Я сказала, что у них очень легко дышится дома, и вообще нет тяжести после ухода Апта. Он словно ушел, тихо прикрыв за собой дверь.
В 1950-е годы Тарасенков за ней ухаживал. Читал наизусть множество замечательных стихов. Это его удивительное свойство привлекло к нему немало женщин, да и мужчин тоже. Хотя она не разделяла его взгляды, и его статьи в партийной печати были ей неприятны. Но он был очень обаятельным, мягким и добрым.
– Когда он за мной заходил или заезжал – это было обычно в обеденное время, – все сотрудники стояли у окон и смотрели на нас. Естественно, об этом скоро стало известно всей Москве. Как-то мы сидели в Александровском саду, и он буквально плакал на плече и говорил, говорил: “Я же солдат партии, а партия приказала меня написать про Пастернака, вот я и написал”.
…Незадолго до смерти (у него было больное сердце) он приехал, вызвав ее с работы, – тогда она уже служила на Тверской, в “Советском писателе”, – и сказал, что ему мало осталось жить и что он уезжает в “Узкое” в больницу, скорее всего умирать, и потому хочет попрощаться. На улице было очень холодно, он задыхался. Они сели в такси и поехали в Ботанический сад, где было много растений, и ему сразу же стало легче дышать. И тогда он стал ей рассказывать о ее будущем без него. Говорил, что она будет критиком, что с ней все будет хорошо. И вдруг внезапно перескочил на свою жену – Марию Белкину. Он говорил, что очень тревожится за нее и сына. И все время повторял: “Вот Маша такая избалованная, неприспособленная к жизни, как же она будет справляться в этом мире без меня?”
Старикова говорила, что была просто поражена, что встречу, которую он считал последней, он посвятил рассказам о далекой для нее жене Маше. Умер он спустя месяц. Стоял февраль. Екатерина Васильевна в это время находилась в Доме литераторов. Был день открытия ХХ съезда – 14 февраля 1956 года. Позвонили на вахту ЦДЛ, рядом с ней стоял ее двоюродный брат, критик Андрей Турков, который взял трубку. О смерти Тарасенкова она услышала от него. Турков вызвал такси и поехал в “Узкое”.
Когда я все это слушала, то меня все время донимала мысль, что я приду домой и позвоню Марии Иосифовне Белкиной, и расскажу, как Тарасенков думал и беспокоился о ней. Как тревожился за ее будущее. И не понимал, какой силы женщина была с ним.
Такой рассказ мог ее развеселить…
Но тут я словно вышла из сна, очнулась и поняла, что ее уже нет на свете и я уже не смогу ей ничего рассказать.
Белкина Мария Иосифовна[13]
Она говорила мне: “2007 год был для меня ужасным. Видите, у него семерка как топор, а 2008-й – это же бесконечность, он будет для меня счастливым”. Она умерла в самом начале 2008 года в возрасте девяноста пяти лет. Перед своим уходом стала очень внимательна к метафизическим мелочам, говорила про странности, которые происходили на могиле ее родителей на Новодевичьем кладбище. Сама она туда давно не ходила. Не могла. Ей рассказывала одноклассница ее сына, которая там бывала. Однажды на Пасху кто-то положил на плиту большое мраморное розовое яйцо с прожилками. Мария Иосифовна почему-то очень волновалась: кто это был? Что означал сей дар? Она хотела успеть написать о своей собственной жизни. Рассказывала, как ей позвонила Эмма Герштейн и сказала: “Маша, я прочла вашу книгу. Теперь вы должны написать о себе!” Белкина со смехом говорила, что это глупо и нескромно – писать о себе. А потом вдруг спохватилась, но было очень-очень поздно. Я физически чувствовала, как утекает ее время.
А она хотела рассказать про поездки от Совинформбюро к Димитрову, у которого провела некоторое время в Болгарии. Я слушала ее вполуха. Только помню, что она говорила о его страхе перед Сталиным.
С Лилей Брик она познакомилась, когда только вышла замуж за литературного критика Анатолия Тарасенкова. Он стал водить по гостям ее и с гордостью показывать своим друзьям и знакомым. Так она оказалась у Бриков. Хотя каждый из них имел свою семью, людей они по-прежнему принимали вместе. Лиля с первой же минуты спросила, нравится ли ей поэзия Маяковского. На что Белкина абсолютно честно ответила, что совсем не нравится. Лиля почему-то очень обрадовалась такому ответу и попросила ее называть по имени и на “ты”. Их дружба продлилась несколько десятилетий. И когда умер Тарасенков, Лиля не оставляла Марию Иосифовну и постоянно куда-то вытягивала, говорила с ней. М. И. считала ее настоящим другом.
Когда М. И. от Совинформбюро послали в Париж на женский конгресс, одевала и собирала ее Лиля. В Париже Мария Белкина ходила в гости к Эльзе Триоле.
Клементина Черчилль и участницы 1-го мирного международного конгресса женщин. Крайняя справа – Мария Белкина.
Париж, 1945
Послали ее в Париж для того, чтобы она постаралась встретиться там с мадам Черчилль и вручила ей страшный альбом, который сделала сама, когда в конце 1944 года работала в комиссии от Совинформбюро “по зверствам немцев”. Эта комиссия собирала чудовищные фотографии-свидетельства, которые сами немецкие солдаты делали, пребывая на советских землях. Пытки, казни, расстрелы они снимали на пленку и хранили эти снимки иногда даже в нагрудных карманах. Комиссия занимала огромный ангар, заставленный картотечными ящиками, в которых хранились эти жуткие фотографии. Люди работали там по несколько месяцев, а потом отправлялись в санаторий или к психиатру. Однажды начальник мрачно спросил у М. И., есть ли у нее дети. Она ответила, что есть маленький сын, который находится в эвакуации с родителями. Тогда начальник сказал ей, что если она еще хочет сохранить себя как мать для своего ребенка, то ей лучше как можно скорое отсюда уволиться. И вот тогда М. И. напоследок сделала этот страшный альбом.
Было известно, что союзники, особенно английские, плохо представляли, что творили немцы в тылу. И М. И. обратилась к председателю Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому, который очень хорошо к ней относился, с предложением показать на женском конгрессе эти снимки.
В Париже М. И. прорвалась к ведущей заседание Клементине Черчилль – и та увидела страшные страницы альбома. У меня сохранились несколько фотографий этого удивительного события.
Мария Белкина.
Бромберг, 1945
Несколько историй Марии Иосифовны я записала слово в слово:
В 1943 году я оказалась в Ленинграде. Ходила к Вере Кетлинской[14]. Шла бомбежка. На улице звучал метроном, чтобы было слышно, что работает радио. Вдруг сказали: “Правая сторона улицы опасна, идет артсобстрел”, – я перешла на левую сторону. Когда поднялась к Кетлинской, она сидела дома, была брюхатая. Мы разговаривали, вдруг в нижнюю квартиру (она была без окон) влетел снаряд. Он не взорвался, а полетел дальше. Нас только очень сильно тряхнуло.
Страх я испытала только однажды в блокадном Ленинграде. Тарасенков назначил мне встречу у Оленьки Берггольц. Ее обожали в городе. Но жила она на пятом этаже в доме, где все жители вымерли, она так и сказала мне, что в квартирах все умерли. Лестница была крутая и в некоторых местах без перил. Я осторожно поднималась в полной темноте вверх, отсчитывая этажи, как вдруг в длинном черном коридоре, дверь которого была вырвана взрывной волной, увидела голубой огонек, который двигался на меня. Я застыла в ужасе. Первый раз в голову мне пришла мысль о привидениях, которые должны были населять эти квартиры. Я влетела на следующий этаж абсолютно с белым лицом. Тарасенков и Берггольц не могли понять, что случилось. Оказалось, что в подъезде остался в живых древний старик, это он и ходил со свечой по коридору.
Мария Белкина и Анатолий Тарасенков.
Ладога, 1942
В 1943 году, работая в Совинформбюро, я узнала от Евгении Таратуты, которая дружила с Андреем Платоновым, что он голодает. Я пошла к нему на Тверскую. Открыла дверь женщина, его жена, а он стоял у нее за спиной. Я тогда не знала, что только что умер от туберкулеза его сын. Я спросила его, не хочет ли он что-нибудь написать для Информбюро. Он решил, что меня прислали из органов. Ему было ужасно плохо. И он просто выгнал меня. Такой была моя первая и последняя встреча с Платоновым.
В Данциге я оказалась в бомбоубежище вместе с немцами. “Катюши” стреляли через город в море, где находились немецкие суда. Было не очень-то приятно, когда ракеты пролетали прямо над головой. Там была немка, хорошо знающая русский. Мы разговорились. Я стала возмущенно спрашивать, как же они не видели концлагерей, которые находились прямо в окрестностях города. Она доказывала, что не знали, не понимали. Потом я вспомнила этот разговор и подумала: а мы-то разве что-нибудь видели вокруг себя, мы обращали внимания на концлагеря?
8 мая весь день радио на всех языках объявляло победу над немцами. И только у нас ничего не говорили. Мне было ужасно больно оттого, что наше государство молчит о победе.
На День победы в Совинформбюро был праздничный вечер вместе с Антифашистским комитетом. Объявили вальс. Ко мне подошел Михоэлс и пригласил на танец. Я была польщена, это был великий актер, которого я видела в роли Лира в шекспировской постановке. И вдруг я поймала на себе страшный взгляд первого секретаря комсомола – Мишаковой (считалось, что не без ее помощи был арестован первый секретарь комсомола Косарев). Я не могла понять, почему она смотрит на меня с такой ненавистью. Потом подумала, может дело не во мне, а в нем? Прошло несколько минут. Комсомольская чиновница остановила вальс, приказав гармонисту играть “русского”. И она с каменным лицом пошла вприсядку посреди зала.
С Тарасенковым они несколько раз пытались расстаться уже после войны. М. И. говорила, что после войны уже никто не мог быть прежним. Рушились браки, уходило понимание друг друга. Возникло особое ожесточение. Выжившие люди пытались жить одним днем. Кроме того, М. И. многое открылось про раздвоенность Тарасенкова. Она не раз говорила мне, что прервала бы отношения, если бы он не начал после войны тяжело болеть. Тем не менее у него были романы, об одном из которых Белкиной сообщили “доброжелатели”. Тогда они еще жили в Конюшках – Большом Конюшковском переулке. Она собрала его вещи в чемоданчик, и когда он пришел с работы – а дело было поздней осенью, – сказала ему, что больше он тут жить не будет. Но он никуда не ушел. Всю ночь простоял под дверью с этим чемоданчиком. Утром его, холодного, замерзшего, она пустила в дом. Он сказал, что жить без нее все равно не сможет. После смерти отца М. И. от открытой формы туберкулеза Тарасенков, который, по всей видимости, от него заразился, стал просить о квартире в новой строящейся секции в Лаврушинском. За него хлопотал Фадеев, и в начале 1950-х они семьей переехали в большую квартиру, где Тарасенков прожил всего несколько лет. Там хранилась его знаменитая картотека поэтов, и он знал, что жена сможет закончить его дело. Она сделала из его карточек библиографический справочник “Русские поэты XX века” и написала книгу о Цветаевой “Скрещение судеб”.
Рунин Борис Михайлович[15]
Я никогда с ним не встречалась, но часто слышала о нем от его друзей. Потом прочла его абсолютно незабываемую книгу “Мое окружение. Записки случайно уцелевшего”, которая по исповедальности и откровенности не уступала “Скрещению судеб”. Мария Иосифовна Белкина часто говорила мне: “Мы все думали, что Бобка – трус, а оказалось, что он нес в себе – жуткую тайну”. Оказалось, что он был родственником Троцкого.
Дело в том, что его родная сестра Генриэтта Рубинштейн (это была их настоящая фамилия) полюбила уже сосланного Сергея Седова – сына Троцкого – который отказался уезжать из страны, оставшись в СССР инженером. Их роман развивался стремительно. Они познакомились в Сочи в июле 1934 года. Генриэтта, в то время еще студентка, была женой кинооператора Андрея Болтянского, приятеля Сергея Седова. В конце 1934 года Генриэтта и Сергей начали совместную жизнь, а в феврале 1935 года зарегистрировали брак.
Борис Рунин.
1940-е
Борис Рунин, его жена Анна (слева) и Вера Острогорская.
Коктебель, 1956
Уже после реабилитации Генриетта вспоминала, что только перед загсом Седов признался ей, что он сын Троцкого. Борис Рунин писал о нем: “Сергей Седов был всего на четыре года старше меня, но его скромность, его сдержанная, близкая к застенчивости манера поведения, его молчаливая внимательность к людям – все это казалось мне тогда верхом солидности. И хотя его присутствие у нас на Маросейке <…> вскоре стало привычным, мне о нем самом мало что было известно. <…> О нем можно было сказать, если по-современному, технарь, но с гуманитарными наклонностями. Его стойкий читательский интерес, преимущественно к западной литературе, был мне близок, что дополнялось некоторой общностью наших эстетических вкусов вообще. <…> Весь его облик был настолько далек от всяких ассоциаций с неистовым организатором Красной Армии, каковым я привык считать Троцкого с детства, и тем более со злейшим врагом советского народа, каковым его считали вокруг, что в такое почему-то не хотелось верить”.
Дмитрий Волкогонов, разбираясь спустя годы в этой истории, писал, что в январе 1937 года “Правда” опубликовала статью некоего корреспондента Пухова: “Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих генераторным газом”. Выступавшие на митинге говорили: “У нас в качестве инженера подвизался сын Троцкого Сергей Седов. Этот отпрыск продавшегося фашизму отца пытался отравить газом большую группу рабочих завода”.
Сестра Рунина была арестована вслед за Сергеем Седовым, которого, конечно же, вскоре расстреляли. Генриетта провела двадцать лет в лагерях. Девочку – внучку Льва Троцкого, которая родилась незадолго до расстрела отца, – бабушка и дедушка успели взять себе. Вместе с ребенком они были сосланы в Сибирь, что можно было считать по тем временам своеобразным везением.
А тем временем жизнь московского литературного критика Бориса Рунина превратилась в постоянную смертельную игру с НКВД и властью, со сменой рабочих мест, уклонением от любых опасных разговоров, попыткой быть незаметным. Хотя он был хорошим другом, его любили товарищи. Но все думали, что он трусоват. Потому что он всегда молчал. И только книжка, написанная после перестройки, за несколько лет до его смерти, открыла всем глаза на страшную тайну, с которой он жил.
Мне и в голову не могло прийти, когда я в начале 2000-х общалась в Санкт-Петербурге с Валентиной Георгиевной Козинцевой, вдовой известного кинорежиссера, что история Бориса Рунина и история Козинцевой окажутся связаны. Хотя, скорее всего, они никогда не знали друг о друге…
Козинцева Валентина Георгиевна[16]
Дом, где они жили с Козинцевым, стоял прямо напротив “Ленфильма”. У них была большая ленинградская квартира, наполненная разными музейными раритетами. Почему-то на первой же встрече Валентина Георгиевна сказала, что ее мама дважды попадала в лагерь. Когда она приехала к ним в дом с каторги и увидела из окна широкую Неву – то сказала, что эта темная стремительная вода похожа на воды Колымы. Наверное, поэтому ей был неприятен Ленинград.
Я спрашивала, кто была ее мать, как ее посадили. Валентина Георгиевна отвечала мне уклончиво, но однажды все-таки сказала, что та была литературным секретарем у Виктора Шкловского, что посадили ее из-за мужа, который был сценарист и который ее бросил.
– Как ее звали? – спросила я.
– Ольга Гребнер, – ответила Валентина Георгиевна.
И все. Это имя ушло на дно памяти.
И вот передо мной маленькая папочка из архива с делом о реабилитации Ольги Гребнер, возбужденным по запросу Валентины Козинцевой. В ней всего две тонкие бумажки.
О. И. Гребнер осуждена ОСО НКВД СССР 25 апреля 1936 года за связь с контрреволюционным элементом к 5 годам лишения свободы. На следствии Гребнер обвинялась в том, что находилась в тесной связи с сыном Троцкого и его женой – Гребнер О. Э., от которой получила стих. антисоветского содержания. О направлении Вам заявления Козинцевой сообщено.
Сов. юстиции РоговК моему великому изумлению, оказалось, что первую жену Сергея Седова звали Ольга Эдуардовна Гребнер и она, судя по отчеству, была сестрой Георгия Эдуардовича Гребнера, бывшего мужа матери Валентины Козинцевой! Мать Козинцевой – Ольга Ивановна Гребнер – была арестована только из-за совпадения имени и фамилии с именем и фамилией сестры ее бывшего мужа! Самого Гребнера не взяли, а его бывшая жена попала под жернова НКВД.
Сокамерница Ольги Ивановны Н. А. Иоффе[17] вспоминала: “Очень милым и интересным человеком (совсем из другого круга) была Ольга Ивановна Гребнер. В прошлом секретарь Виктора Шкловского, она встречалась со многими интересными людьми. <…>
Ольгу Ивановну погубила фамилия. Племянница (скорее всего сестра. – Н. Г.) ее мужа Гребнера, Лёля Гребнер, была первой женой Сергея Седова, младшего сына Троцкого. С мужем Ольга Ивановна разошлась, с племянницей не имела никаких контактов, Сергея вообще не знала. Тем не менее получила пять лет колымских лагерей. Она была близко знакома с очень известным режиссером (речь о Борисе Барнете. – Н. Г.). Ночью, когда за ней пришли, он был у нее. Когда ее уводили, она просила его: «Не оставляй Валентину» (Валя – ее 16-летняя дочь).
Он не оставил Валентину и женился на ней. Они оба помогали Ольге Ивановне в лагере и деньгами, и посылками. А Валентина стала потом женой Козинцева и написала воспоминания о нем”.
Валентина Георгиевна легко отозвалась, когда я позвонила ей из Москвы по поводу Алма-Атинских сюжетов, посвященных эвакуации писателей и режиссеров.
– Заходите, выпьем кофе, поговорим.
Я сказала, что живу в Москве. Пригласила приходить, как приеду в Петербург.
Огромная квартира была наполнена антиквариатом и живописью из дома Эренбургов.
– Григорий Михайлович был братом жены Эренбурга Любови Михайловны, которая была ученицей Фалька и сама очень хорошей художницей.
Валентина Козинцева. 1930-е
Конечно, я была очарована и домом, и его хозяйкой. На каблуках, с пышными волосами, в какой-то расклешенной юбочке, очень доброжелательная. С пер-вых минут она стала говорить мне комплименты. Потом я увидела, как она точь-в-точь их повторяла всем, с кем я приходила к ней в дом. Наверное, это было проявлением хорошего тона, однако смущала некоторая дежурность слов.
Судьба ее была чрезвычайно любопытна. О своем браке с Барнетом она написала сама.
Так как мать была литературным секретарем Шкловского, юная Валентина близко была с ним знакома с детства. Она рассказывала, что Шкловский был безумно влюблен в нее и в Алма-Ате ходил за ней как привязанный. Писал ей письма “О любви”[18], но она сожгла их все в печке в 1949 году, когда была арестована ее мать. Демонстрировала прекрасную, покрытую изразцами печку, в которой сгорели злополучные письма. Говорила, что Сима (Серафима) Суок поехала в эвакуацию вместе с ней и носила те самые письма Шкловского от него к ней, а уже несколько лет спустя захватила адресата.
Козинцева действительно очень дружила с сестрами Суок, в том числе и с Ольгой, женой Олеши, и даже оказалась рядом, когда погиб ее сын, выбросившись из окна писательского дома на улице Горького.
Одна история была настолько ужасна, что, мне кажется, выдумать ее просто невозможно. Перед отъездом в эвакуацию Валентина Григорьевна жила в Переделкино, где скрывалась от московских бомбежек. За ней настойчиво ухаживал Катаев. Однажды они стояли и разговаривали, он держал в руках приблудного котенка и, гладя его по мягкой шерстке, приговаривал, что она – такая же нежная и мягкая, как этот котенок. А потом он, глядя ей в глаза, взял и бросил его в колодец. Она говорила, что люто возненавидела его после этого случая. На все мои просьбы показать свои фотографии в молодости отвечала отказом, говоря, что все их уничтожила. Это уж совсем было странно.
Знакомство с овдовевшим Козинцевым полностью перевернуло ее жизнь. Конечно, было много историй и про Ахматову, и Шварца, и Германа. Но они были скорее бытовые. Она часто повторяла, что Козинцев сказал ей перед своим уходом, что только с ней понял, что такое настоящая любовь. Наверное, так оно и было. Она дожила почти до девяноста шести лет, и в последние годы ее жизни мы уже не встречались…
Дейч Евгения Кузьминична[19]
В Москве многие знали Евгению Кузьминичну Дейч. Маленькую, немного суетливую, очень пожилую женщину, чрезвычайно преданную своему мужу – литературоведу, театральному критику, переводчику, полиглоту Александру Дейчу. Она была младше его на двадцать шесть лет. Так как к пятидесяти годам он почти ослеп, Евгения Кузьминична стала ему не только женой, но и секретарем.
Она делилась познаниями о прежнем литературном мире, радушно откликалась на любые вопросы, любила принимать гостей и обязательно кормить. Я и мои сочинения пришлись ей по душе. Но уже с первой же встречи она сообщила мне, что я очень наивная исследовательница, потому что слушаю кого попало. И прибавила, хитро улыбаясь: “Мне об этом сказали очень осведомленные люди”.
Пришла я к ней из-за книги о ташкентской эвакуации писателей, куда, будучи медсестрой, она приезжала санитарным поездом, как она говорила, к мужу, Александру Иосифовичу Дейчу. Но тут и начиналось странное. Дело в том, что во всех источниках того времени, от дневников Мура (сына Цветаевой) до писем Ариадны Эфрон, упоминается жена Александра Дейча Лидия Бать, критик, которую все хорошо знали. На эту несуразность Евгения Кузьминична всегда отвечала, что Лида Бать – это просто двоюродная сестра Дейча, в Ташкенте они жили под одной крышей, она ему помогала, и все думали, что она его жена. Действительно, после войны мужем Лидии Бать был абсолютно другой человек[20]. Это запутанное обстоятельство так и не распуталось, и я перестала на него обращать внимание.
Александр Иосифович Дейч был человеком с поразительной биографией. Он знал больше тридцати языков. Его отец, киевский врач Иосиф Дейч, был зачинателем физиотерапии, создал первую в России водолечебницу, где лечились известные деятели литературы и театра Мария Заньковецкая, М. Садовский, М. Коцюбинский, Леся Украинка, И. Северянин. Был конструктором множества медицинских приборов. Был знаком с Зигмундом Фрейдом.
Евгения Кузьминична, которая в молодости увлекалась фрейдизмом, просила мужа рассказать что-нибудь о знаменитом докторе. Но Александр Иосифович говорил, что единственное, чем потряс его Фрейд, так это своим высоченным цилиндром. В 1908 году отец взял его, четырнадцатилетнего мальчика, на медицинский конгресс. Тогда к ним в номер зашел Фрейд и предложил погулять с мальчиком по берегу Дуная. Они шли, и великий психоаналитик излагал перед юным Дейчем какие-то тезисы своей теории, а тот, как мог, старался поддерживать разговор.
И вот спустя годы Евгения Кузьминична вдруг находит в архиве покойного мужа письмо, написанное красивыми готическими буквами. Оказывается – от Зигмунда Фрейда. В нем он пишет отцу Александра Дейча, что часто вспоминает незабываемую прогулку с юным вундеркиндом, который так правильно воспринял его теорию. Я, конечно, спросила, как же Дейч не помнил о таком письме. На это она мне ответила: “Может быть, и знал, но забыл, а может быть, решил, что оно пропало”. Дело в том, что их семейный архив неоднократно разорялся. Особенно в войну в Киеве. Тогда из дома исчезли письма Игоря Северянина и множество рисунков и писем Ремизова, который лечил у И. Я. Дейча свою тещу.
“Со мной произошла удивительная история, – продолжала она. – Как-то в конце 1960-х в Париже я зашла в галерею, где шел аукцион картин. Увидела полотно Леонида Пастернака. Я знала эту картину, она висела в доме А. Дейча в Киеве и называлась «Молящийся еврей в пустыне». Я подумала, может быть, это копия? Подхожу к девушке, торгующей картинами, и спрашиваю: «Нет ли надписи на обороте картины?» «Есть», – отвечает она. И я вижу: «Моему другу Иосифу Дейчу – Леонид Пастернак». Я пошла в посольство и спрашиваю: как такое стало возможно? Они сказали, что, скорее всего, оно было вывезено во время войны и перепродано”. Конечно же, я спросила Евгению Кузьминичну, как ей кажется, как картина могла попасть в Париж? Есть ли у нее своя версия событий? Она рассказала почти кинематографическую историю.
В Киеве с Александром Дейчем дружил некий Бурхард; сначала они сидели на одной скамье в гимназии, а затем учились вместе на романо-германском отделении университета. Он был большим поклонником искусства и хорошо знал, в каком доме Киева находятся какие картины, раритеты, произведения искусства. Потом он оказался в Германии (может, еще во время Гражданской войны), а в 1941 году в нацистской форме вошел в Киев и стал вывозить из знакомых домов все то, что представляло ценность.
Конечно, я не могла не спросить, как все-таки состоялось их знакомство с Дейчем и почему она, совсем еще юная девушка, заключила союз с человеком, который был вдвое старше нее. И она с удовольствием рассказала. Это случилось в конце 1930-х годов. Она училась одновременно в институте тонкой химической технологии и на вечернем отделении в ИФЛИ. Как-то одна подруга сказала ей, что где-то читает курс А. И. Дейч. Они очень любили его книгу о Гейне[21]: буквально зачитывались ею. Горький, говорила Евгения Кузьминична, недаром поставил ее первым номером в открывшуюся серию ЖЗЛ. Это был 1939 год.
А потом они случайно встретились в гостях у В. И. Качалова.
– А как же вы узнали Качалова? – спросила я.
– У меня было много его фотографий, которые он мне подписал. (В скобках замечу, что Е. К. была классической театральной “сырихой”[22]. – Н. Г.) Мы с подругами не пропускали ни одного спектакля, ходили к нему за кулисы. И он стал приглашать нас к себе домой, мы подружились с его женой Ниной Николаевной Литовцевой. Он был человек широкий, обожал застолья, любил выпить. В то время к нему часто приходил А. И. Дейч; он как раз расставался со своей женой, я ее не знала. И Качалов стал нас сватать. Правда, сначала между нами была прекрасная дружба. С Дейчем было невероятно интересно. Когда я сказала маме, что хочу выйти за него замуж, она была в обмороке. Разница в двадцать лет (двадцать шесть! – Н. Г.), конечно же, мама была против такого брака. Но я была влюблена и решила, что, если не выйду за Дейча, то не выйду ни за кого. Мама сказала: “Делай что хочешь!”
Конечно, они принадлежали к абсолютно разным мирам. Евгения Кузьминична была активная общественница, секретарь комсомольской организации. А он очень скоро стал говорить ей всё, что думал о Сталине, о том, что творится вокруг. Он ведь дружил в свое время с Антоновым-Овсеенко и Михаилом Кольцовым. У нее – другая среда, друзья, знакомые. Она считала, что он просто что-то недопонимает в жизни страны и надо непременно ему объяснить, что к чему. Он терпеливо и спокойно пытался ее просветить. “Когда мы переезжали с Большого Каретного, я обнаружила какой-то мешочек; там лежали зубная щетка, полотенце, смена вещей. Я спросила, зачем ему это, он сказал, что всегда ждал ареста. И приготовил все необходимое заранее”. Расписались они только в 1943 году, вернувшись из эвакуации. У него была прогрессирующая слепота, его комиссовали.
Они ехали в эвакуацию с Лидией Бать в эшелоне Высшей школы, со всеми академиками. В Ташкенте их поселили в здании, принадлежавшем ГУЛАГу. Сами энкавэдэшники перешли на первый этаж, а ученых расселили в том же доме. Дополнительная сложность состояла в том, что в дверях всегда стоял часовой, которому необходимо было предъявлять пропуск, который он накалывал на штык.
Они жили вместе с Жирмунским, историками Сказкиным, Готье и многими другими. Там была столовая и давали по талонам обеды. Раз в неделю у Дейча кормился Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, он заканчивал в Ташкенте последний класс средней школы, оказавшись там после смерти матери. В отличие от других писательских детей, которые были в эвакуации с родителями, он был абсолютно один и пытался и учиться, и одновременно искать себе пропитание. А. И. Дейч и Л. Г. Бать – друзья Ариадны Эфрон по журналу “Журналь де Моску” – помогали ему.
Евгения Кузьминична бывала в Ташкенте наездами, она работала в санитарном поезде, который привозил в город раненых с фронта. У Дейча была комната, выгороженная из какого-то большого зала с роялем. Там играл Гольденвейзер, собирались Жирмунский, который тогда расстался с прежней женой и жил уже с Ниной Сигал, Михоэлс с женой Асей, востоковед Е. Бертельс, поэт Николай Ушаков.
В Москве после войны Евгения и Александр Дейчи поселились на Большой Каретной, 17. “Там жил один невозможный мальчишка, – рассказывала Евгения Кузьминична, – он без конца залезал на крыши, бил стекла, был невероятно отчаянным. Это – Володя Высоцкий. Наша домоуправша хваталась за голову при звуках его имени. То крысу кому-нибудь подбросит, то что-нибудь еще выкинет. Если в доме что-то происходило, всегда говорили: это Высоцкий!”
Приходила к Дейчу Ахматова – консультироваться по поводу переводов Ивана Франко. Как рассказывала Е. К., Ахматова с Александром Иосифовичем любили вспоминать дореволюционный Киев, детство, гимназию. Он учился в Киевской мужской классической 2-й гимназии, а через забор находилась женская, где училась Ахматова. Вспоминали про заборчик, отделявший одно здание от другого, про дырку в заборе, через которую гимназисты с гимназистками проникали друг к другу, про знаки, которые они подавали, – то ли два свистка, то ли три, что нет надзирателя и проход свободен. Вспоминали, где какая стояла кофейня, где был “ХЛАМ” (кафе художников, литераторов, артистов, музыкантов)[23].
В “ХЛАМе” состоялась знаменательная встреча Мандельштама с Надей Хазиной, будущей Надеждой Яковлевной Мандельштам. Это было 1 мая 1919 года. Тогда там отмечали день рождения Александра Дейча. Были Тычина, Терапиано, Нарбут, Надя Хазина, И. Эренбург.
После войны Дейчи дружили с Верой Инбер и ее мужем, известным врачом Страшуном. Как-то Вера Инбер выпустила книжку с воспоминаниями о детстве, а какой-то художник написал ей, что хорошо помнит, чья она родственница. Как она, будучи двоюродной племянницей Троцкого, сидела у того на коленях и писала ему стихи. Страшун, знаменитый врач, должен был быть арестован по “делу врачей”. Но ученики спрятали его в психиатрической больнице. Он вышел оттуда абсолютно изменившимся, забыл науку, сидел в кресле на даче и вышивал подушки крестиком. И больше ничего не делал. Только вышивал. Вера Инбер очень страдала. Всего боялась. Этим она объясняла и свое выступление на известном московском собрании писателей против Пастернака в 1958 году. Говорила, что ей позвонили и сказали, что Троцкий вовсе не реабилитирован, и, если надо, они ей напомнят, что он ее родственник. Тогда она поехала и выступила.
В моих дневниках сохранился тяжелый разговор с Евгенией Кузьминичной про Тарасенкова и Белкину.
Но эти разговоры, пусть неприятные, учили меня умению не верить на слово, а включать все механизмы аналитики, опыта. А главное, все перепроверять.
24 декабря 2005 я записала:
Сегодня вышла моя маленькая книжечка “Хроника издательства «Узел»[24]”. Поехала к Е. К. Дейч и отвезла ей книгу. Далее состоялся разговор про Тарасенкова и Марию Иосифовну Белкину. Записываю, потому что сама нелепица обвинений многое объясняет. Сначала про Тарасенкова, что он доносчик и подлец.
– Допустим, – говорю я, – но покажите или скажите, где найти ту рецензию на Квитко, на которую вы ссылаетесь, считая, что Квитко из-за этого посадили.
– Не могу найти – видела в переписке Дейча с друзьями.
Я говорю, что вообще-то Тарасенков сам издал в Гослите последний сборник Квитко, какой смысл ему было на себя же писать разгромную рецензию? Другой вопрос, что он мог это сделать после посадки Квитко. Написать от страха. Она не смогла не согласиться.
Но потом снова говорит: “Белкина написала книгу «Скрещение судеб» про Цветаеву, на самом деле чтобы отмыть и обелить Тарасенкова. Она пишет, будто Аля с ним советовалась, спрашивала его совета. Да ей просто имя его было нужно.
Я: Наверное, имя. Но советовалась, точно, все задокументировано.
Д.: А еще Белкина выступала на одном из первых вечеров про Цветаеву и опять вспоминала про Тарасенкова (М. И. неоднократно рассказывала мне, что всегда отдавала себе отчет в том, что, не будь Тарасенкова, его библиотеки, никогда бы она не познакомилась с Цветаевой. – Н. Г.). Она письма и рукописи перед бегством из Москвы все уничтожила – Пастернака и Цветаевой…
Я: Какие там могли быть рукописи Цветаевой? И вообще, откуда это известно?
Д.: Был человек, который при этом присутствовал.
Я: Кто?
Д.: Не могу назвать.
Я: Сундучок с рукописями Цветаевой хранился у Садовского в Новодевичьем монастыре, об этом написано подробно в книге. Что же касается Пастернака, тетрадь с записями Тарасенкова о Пастернаке была опубликована полностью. В письме М. И. пишет, что взяла ее с собой в эвакуацию.
Евгения Кузьминична не слышит и твердит, что ей достоверно известно, что Белкина все сожгла. Про книгу “Скрещение судеб” Е. К. сказала: “Писала, не приходя в сознание”. Удивительно, что Мария Иосифовна даже не помнит Евгению Кузьминичну. Знает другую жену Дейча – Лидию Бать. Странно, что здесь ее обсуждают и даже ненавидят. Я пришла домой, позвонила Белкиной и, среди прочего, безлично сказала, что про нее говорят неприятное.
На это она бесстрастно ответила:
– Запомни, ты еще про меня много всякого услышишь, это такой мир.
И не спросила, кто говорил. И не спросила, что о ней говорили. Бывает поразительное достоинство личности, особый рисунок поведения, по которому видно всё.
Чуковская Елена Цезаревна[25]
В первый раз я увидела ее близко на открытии выставки Корнея Чуковского в Гослитмузее. Она абсолютно удивительно реагировала на речи выступающих. На каждую реплику следовало изменение мимики лица: удивление, восторг, открытое выражение скуки, усмешка, раздражение. Это была настоящая девочка-подросток, вынужденная жить в образе пожилой женщины.
Мы познакомились. Она живо интересовалась моими архивными расследованиями и позвала меня к себе. Квартира Чуковского на бывшей улице Горького, а теперь Тверской не показалась мне особенно роскошной. Мы сидели в небольшой комнате – бывшей столовой, в которой все стены были в книжных полках.
В смежной комнате за дверью жила когда-то Лидия Корнеевна, на стенах были фотографии Ахматовой, Фриды Вигдоровой и юной Елены Цезаревны (Люши).
С ней, с Люшей, которую все так называли за глаза, в принципе можно было говорить обо всем на свете, у нее было замечательное чувство юмора, острый глаз и умение слушать, а не только говорить. Но при этом в ней не было легкости. Это был человек закрытый, даже жесткий, хотя и очень доброжелательный. Возможно, сказывалась какая-то ее неуверенность в себе. Она морщилась, когда ее называли литератором, мемуаристкой. Ей было трудно стоять рядом со своими именитыми родственниками, хотя она полностью разделила их жизнь и судьбу.
– Дедушка гениально придумал завещать весь свой архив мне, – иронизировала над собой она, – он же знал, что я его не подведу.
Она вправду не подвела. Отдала почти всю жизнь на разбор и публикацию его наследия. Но о К. Ч. говорила всегда с юмором и очень легко; его раздвоенность, страхи, игру с советской властью никогда не оправдывала – и тут эхом слышался отзвук речей Лидии Корнеевны. Хотя историю травли Чуковского Крупской Елена Цезаревна рассказывала всегда очень страстно, не жалея обидчиков деда.
Но все-таки определенные сложности в наших разговорах возникали – когда мы касались Лидии Корнеевны. В музей Ахматовой Люша не приезжала, потому что там неправильно выступила Зоя Томашевская, и они не так ответили на упреки Лидии Корнеевны. Тень матери стояла или сидела тут же рядом с нами и строго (через Люшу) давала оценки тому или иному человеку или событию. Я вспоминала, как Мария Иосифовна Белкина рассказывала мне, что где-то к ней подошла Лидия Корнеевна и с пролетарской прямотой спросила: “Я все никак не могу понять: вы с нами или с ними?” Мария Иосифовна заносчиво ответила: “А я сама с собой!”
Елена Цезаревна Чуковская.
Апрель 2008
Но все равно я чувствовала, что Люша – человек непрямолинейный и тонкий. Поэтому в одну из первых встреч я ее спросила, как же она решилась напечатать “Ташкентский дневник” Лидии Корнеевны, написанный в 1942 году во время ссоры с Ахматовой, где они обе предстают в неприглядном виде. Люша задумалась и сказала, что Л. К. до последнего не знала, что делать с дневником, то хотела его уничтожить, то оставить. Когда она умерла, Люша посчитала, что самое лучшее, чтобы избавиться от любых сплетен, – напечатать дневник как есть.
Надо сказать, этот поступок вызывал огромное уважение к ней; она ничего не утаивала, не подчищала прошлого. Еще был сюжет с публикацией таких же непростых дневниковых страниц Лидии Корнеевны о Солженицыне. Я оставила об этом небольшую запись.
24 октября 2008
Два дня назад говорила с Е. Ц. про дневниковые записи Лидии Корнеевны о Солженицыне. Она очень обрадовалась, что я позвонила, что есть отклик. Я сказала, что была очень рада внутренней правдивости Л. К. Тому, что она не оставалась в плену собственных иллюзий. И тут Елена Цезаревна напряглась и сказала, что ее немного пугают такие отклики. Вот ей позвонил бывший близкий друг Бен. Сарнов (один из недоброжелателей и даже, как она сказала, врагов) и тоже очень радовался этой публикации и благодарил. Но чему тут пугаться, когда Л. К. высказала в дневниках то, что все говорили вслух, а она искренне недоумевала тому, как относился Солженицын к текущей российской политике. А Лидия Корнеевна на всё отвечала и всегда неустанно повторяла: зато он “Архипелаг” написал. “Огромный талант и ошибки его огромны”, – пишет Л. К. Я сказала Е. Ц., что это хорошая мысль. Что не надо бояться признавать за таким человеком ошибок. Но ведь презирал он интеллигенцию, которая была для него всем. Е. Ц. грустно кивнула. Замечательна мысль у Л. К., что Сахаров – западник, Иванушка-дурачок, а Солженицын – настоящий Штольц, славянофил.
Но главное, что дневники Л. К. огромны, оттуда сделаны только огромные выдержки, но заниматься Елена Цезаревна ими пока не может, потому что ей бы закончить с К. И. и с его архивом.
– А жаль, – сказала она, – что все, что с мамой, я помню и знаю – не то что с дедушкой.
Опять подумалось про странную долю детей масштабных родителей.
История про Алю, которую вдруг увидела всю, без глянца в полной версии писем к Тесковой. Увидела, что Цветаева была права в том, что в дочери отсутствовала цельность и как следствие – собственный путь.
Незадолго до ухода Елены Цезаревны у нас был грустный разговор. Я пришла к ней, как-то на бегу. Мы обменялись книжками. И она сказала мне: “Я сирота”, – хотя у нее не было недостатка в родственниках. Почему-то она так говорила не один раз. И вдруг на возникший разговор о том, сколько ей осталось жить на свете, когда я в утешение привела в пример долгожитие Лидии Корнеевны – она печально заметила:
– Мама в этом возрасте только изредка ходила, в основном лежала, я все за нее делала, ухаживала, кормила, поэтому она прожила столько. Со мной все будет иначе.
Так и вышло. Когда она ушла, я была далеко. Но ощущение от ее ухода не было горьким. Казалось, будто Люша просто перешагнула порог, оставив у себя за спиной десятки томов, сочинений своего деда и своей матери. Ее миссия на земле закончилась.
Коржавин Наум Моисеевич
Одним полуслепым глазом он прочел с экрана компьютера мою книжку “Узел”[26]. Это был 2005 год.
– Я напишу к ней послесловие?! Хочешь?
– Ну конечно же хочу! До ужаса хочу.
Потом уже скажет:
– Я тебя буду защищать, уверен, что будут нападать.
Казалось, его лицо и улыбку, и невидящие, глядящие в разные стороны глаза, нарисовал какой-то веселый мультипликатор, перепутав поэта с гномом. В нем и вправду было что-то от большого диснеевского гнома, сварливого и доброго, вникающего во всё и ничего не понимающего в текущем политическом моменте. Он, видимо, всегда знал, что нелеп, смешон, и был таким до конца. В нападках на всех на свете и больше всего – на Бродского, в том, что говорил взахлеб, как переустроить новую Россию, хотя не жил в ней и плохо понимал, что происходит здесь на самом деле. И в тоже время – он был рыцарем Дон-Кихотом Ламанчским. Своими слепыми глазами Коржавин видел то, что не видели другие. Он видел и чувствовал – людей. Жалел их, любил и дружил как никто. Ему было абсолютно все равно, какой у человека статус. Известен ли он. Что говорят о нем в узких кругах.
Схватив меня однажды за руку после того, как я выступила на вечере Берестова, он уже меня не отпускал. А я потом узнала, что когда-то он так же схватил за рукав Глазкова, Слуцкого, Самойлова, а до того – пытался – Пастернака. Но великому поэту тогда было не до Коржавина.
Наум Моисеевич (для меня было только так, и никаких Эмка, Эмочка), конечно же, много и страстно вдумывал, вчитывал в свое время, в котором было столько недоговоренностей, умолчаний и неразгаданных тайн. Поэтому он с таким жаром набросился на мои разыскания в архивах, публикацию писем, мои записи его современников. Их поколению не хватало объяснений, почему случилось так, а не иначе. Некто N – был стукачом, предателем или просто колебался? Ушел целый пласт людей, не сложивший свою картину прошлого, не отрефлексировав его, не ответив себе на главные вопросы. И было так странно, так неправдоподобно, что от меня не только Коржавин, но и другие ждали ответов на вопрос, что было с писателями старшего поколения. У меня по случайности оказался в руках ключ – возможность работы в семейных и государственных архивах, некоторое умение складывать картины и потребность увидеть тридцатые годы без гнева и пристрастия. Но больше всего меня связывала с прошлым любовь к отдельным героям и невыразимое сострадание их судьбе.
Наум Коржавин. На вечере в ЦДЛ.
2007
И когда Коржавина называют по форме абсолютно советским поэтом, наделенным антисоветским пафосом, то становится очень больно за него и его друзей. Наверное, это правда, и их видимая простота уходит корнями в народническую традицию, однако их народничество, пришедшее по большей части из эвакуации, ссылки или с войны, было связано с их огромной благодарностью (чаще всего это были благородные еврейские юноши) за то, что их отогрел, не дал умереть с голоду, одел и выслушал какой-то русский мужик или русская женщина. И эта благодарность разлилась в стихах Коржавина, стала его непреходящим, почти некрасовским народничеством, и тут нельзя не обратить внимание на похожие рефлексии его протагониста Иосифа Бродского, тоже ссыльного, который встретил свой народ, оказавшись в изгнании в российской глубинке.
Приведу записи из моего дневника:
8 мая 2005
Он остановился на улице 1905 года. Когда-то там были пятиэтажки, вереницей спускающиеся к Ваганьковому кладбищу, – теперь современные дома с прекрасными подъездами. На огромной застекленной кухне, за которой виднелась необъятная лоджия, среди солнечного сияния, за столом – небольшой человечек Наум Коржавин завтракает за столом. Мы сразу же заговорили о тридцатых годах и, перепрыгивая с одного на другое, прикатились к Сталину и сталинизму. Он стал читать свои стихи о Сталине и страстно заговорил, что если народ не изрыгнет из себя этого дьявола, то он погибнет. Он много говорил о страхе. Каждого из ушедших друзей определял: боялся – не боялся. Или, например, “испугался на всю жизнь”. Основной его тезис был такой: если на тебя наставят пистолет, ты подымаешь руки, но жить всегда с поднятыми руками, чувствовать в этом какое-то удовольствие – это уже извращение.
Рассказывал, как пришел к Ахматовой и просил послушать Олега Чухонцева. Она сказала, что с двумя сразу не встречается, так как следствие может выбить из двух свидетелей на нее показания. Дело происходило в 1960-е годы. “До какой же степени можно было замордовать человека!” – воскликнул он.
Снова читал свое стихотворение о человеке (Сталине), не понимавшем Пастернака”.
Календари не отмечали Шестнадцатое октября, Но москвичам в тот день – едва ли Им было до календаря. Все переоценилось строго, Закон звериный был как нож. Искали хлеба на дорогу, А книги ставили ни в грош. Хотелось жить, хотелось плакать, Хотелось выиграть войну. И забывали Пастернака, Как забывают тишину. Стараясь выбраться из тины, Шли в полированной красе Осатаневшие машины По всем незападным шоссе. Казалось, что лавина злая Сметет Москву и мир затем. И заграница, замирая, Молилась на Московский Кремль. Там, но открытый всем, однако, Встал воплотивший трезвый век Суровый жесткий человек, Не понимавший Пастернака.“Я спросила, почему такая оппозиция: Пастернак – Сталин? Сказал, что Пастернак был для них мерилом всего, гений. И тут же рассказал историю о том, как он ходил к Пастернаку.
«Пастернак был похож на избалованного вундеркинда. Когда мы с Берестовым явились к нему, Пастернак сказал, что куда-то идет и не может нам уделить времени. Я приехал к нему из Москвы, мне было очень обидно. Но он сказал, что в следующий раз обязательно примет. В следующий раз я приехал уже один. Он раздраженно спросил, почему у меня нет с собой тетради? Я спросил, неужели он не понимает стихов на слух. В общем, я стал читать, и атмосфера улучшилась»”.
Наверное, читал ему свое “16 октября”. Почему-то тогда не спросила.
Наталья Громова, Наум Коржавин, Андрей Турков. На презентации книги “Узел. Поэты: дружбы и разрывы”.
Дом-музей Марины Цветаевой, 2006
27 ноября 2005
У Коржавина три часа проговорили, а скорее проспорили о его поэтических пристрастиях. Хотя он и монологичен, но слушать умеет. Интересно, что к таким людям легче пробиться с книгой, рукописью, чем с живым словом. Я говорила о Бродском и Пастернаке. Причем у Бродского он все-таки признал несколько стихотворений гениальными. Но основная его претензия сводится к неприятию всякого имморализма. Он ругал Пастернака за стихотворную строчку “И манит страсть к разрывам”, что ими (ею?) он разрушает цельность стихотворения. А я все убеждала его в том, что это и есть глубина, объем, который передан замечательно. Он же твердил мне, что поэтическое высказывание имеет свою гармоническую цельность, а если ее нет, то и самого высказывания нет. Цельность связана моралью. И т. д. В общем, модернизм разрушил культуру, ХХ век напрочь лишен жизни, за редким исключением.
В 2006 году Коржавин приехал получать “Большую книгу” – ему дали специальный приз “За вклад в литературу”.
“Я как Буратино, – смеялся он. – Мне дали в награду какую-то железную птицу. Не знаю, куда ее девать! «А где деньги?» – спрашиваю. Они говорят: «Будут, но потом». Карточку дали”.
Хватает меня за руку: “А вдруг Лужков теперь подарит квартиру! Честное слово, останусь здесь!” – Потом грустно мнет губами: “Но ведь не даст”.
Была еще проблема с медицинскими страховками. С тем, что Америка его приняла полностью на свой счет. И продлила ему жизнь до 93 лет.
Свой телефонный спич, который он произносил почти каждую неделю, он заканчивал словами:
– Я молюсь за три страны! Сначала за Россию, потом за Израиль, потом за Америку.
Или в другом порядке. Но Россия всегда у него была на первом месте. Страдал, когда выбрали Обаму, именно потому что боялся за Израиль, за его судьбу. Этот православный еврей, патриот-почвенник, глубоко любил Израиль, любил Америку. Такое чудо мог сотворить только ХХ век со всеми его катаклизмами, которые продолжались и после войны и длятся поныне. А потом за всех друзей, за близких. Кто теперь будет оберегать все три страны? Кто будет оберегать нас?
Историческое
Брежнев
Шел март 1982 года. Мою свекровь Людмилу Владимировну Голубкину Михаил Шатров пригласил на премьеру своей пьесы о Ленине “Так победим!” Мне предложили пойти вместе с ней. Премьера была во МХАТе на Тверском бульваре. До театра я ехала на троллейбусе в сторону Никитских ворот. Вдруг какой-то огромный чин милиции остановил троллейбус: на погонах у него были крупные звезды, и при этом он вел себя как простой регулировщик – полосатой палкой разворачивал транспорт. Открылись двери, нас попросили выйти. Шел мокрый снег. Прохожих сгоняли с бульвара. Я растерянно стала объяснять, что мне надо в театр, и меня почему-то пропустили. Перед театром стоял забор из милиционеров, я с трудом просочилась сквозь него. Тут я увидела, как Шатров, размахивая руками, что-то объяснял моей свекрови. Как потом выяснилось, он был страшно взволнован и говорил, что на премьеру, видимо, собирается какое-то важное начальство, но кто это, он себе не представляет.
Когда мы вошли в зал и заняли свои места, оказалось, что возле каждого ряда стоят одинаковые люди в одинаковых костюмах. Они внимательно смотрели на зрителей и следили за каждым их движением. Неожиданно в зале включился полный свет, и обе ложи – слева и справа – стали заполняться людьми. Оказалось, что в них втекал длинный список членов Политбюро, который обычно произносили как белый стих: Андропов, Брежнев, Катушев, Гришин, Громыко, Кириленко, Мазуров, Капитонов, Тихонов, Устинов… И так далее. Зрители повскакивали со своих мест и как по команде стали бурно аплодировать. Я увидела, как волной подбросило мою свекровь, и она с абсолютно непроницаемым лицом зааплодировала вместе со остальными.
Потом все сели. Начался спектакль. На сцену вышел Ленин (Калягин). Он стал нервно ходить около секретарши, которой, как мы вскоре все догадались, он диктовал “Письмо к съезду”. Было видно, что актеры не совсем в себе. Они неестественно дергались и почему-то ужасно кричали. Скоро я поняла, что их, видимо, предупредили, чтобы они говорили громко. Потому что первая реплика из правительственной ложи была: “Не слышу!”
Но самое интересное началось минут через десять, когда Ленин-Калягин стал перечислять фамилии будущих преемников и диктовать секретарше слова про дурные стороны Сталина. И тут раздался скрипучий, громкий, но при этом знакомый до боли голос Генсека.
– Хто это?! – выкрикнул он. – Хто?
– Ленин, Леонид Ильич, – строго ответил ему сидящий рядом Андропов. И мы все услышали этот ответ.
Зал больше не смотрел на сцену. Действие переместилось туда, откуда доносились реплики и комментарии. Теперь сотни глаз наблюдали за ложей. Ленин-Калягин, поняв, что Генсек плохо слышит, подошел ближе и стал громко говорить прямо в ложу.
На некоторое время Брежнев затих. Стали меняться декорации. На сцене была Красная площадь, где Ленин-Калягин прощался с умершим Свердловым и произносил над гробом прощальную речь. И тут Брежнев неожиданно вскрикнул:
– Кого хоронют?
И тут же ответил себе сам:
– Суслова!! Суслова!!
Честное слово, старика было просто жалко. Он все воспринимал, как ребенок. Кто-то рядом из Политбюро прямо-таки зашипел на него:
– Это не Суслов, Леонид Ильич, а Свердлов!
По залу пробежал осторожный смешок. Было видно, что актеры еле сдерживаются, чтобы то ли не заплакать, то ли не начать смеяться вместе с залом.
Мне показалось, что из всех самым искренним и чистосердечным зрителем спектакля был Брежнев, который по-детски все переживал.
Я даже вспомнила, как в детстве смотрела в “Современнике” “Белоснежку” и, когда ее пыталась отравить злая ведьма, стала страшно кричать и звать напомощь гномов. Тогда меня увели из зала, и какие-то билетерши уверяли, что все непременно будут живы.
А тем временем в спектакле про Ленина снова изменилось пространство, и перед нами возник строгий Ильич, который ругал рабочих за то, что они хотят создать независимый профсоюз. Он ругался на них, не давая открыть им рта, обзывая их оппортунистами. Перед Лениным понурившись стоял оппозиционер Шляпников и мял свою кепку. За Шляпниковым стояли рабочие, которые неубедительно гундосили что-то про свои права.
И тут опять неугомонный Леонид Ильич включился в действие.
– Это “Солидарность”, – закричал он. – Это поляки. “Солидарность”!
В зале уже в голос захохотали.
Тут в ложе что-то грохнуло и зашуршало. Через несколько минут мы, устремив глаза в темноту, увидели, что наш Генсек исчез. А Андропов с Устиновым с нескрываемым вниманием, облокотившись на край ложи, продолжили следить за действием пьесы.
Во время перерыва, когда мы ходили парами по коридору, почти за каждым из нас следовали молодые люди. Это меня невероятно веселило, хотелось что-то особенное сказать, но свекровь крепко сжимала мой локоть. Когда мы вернулись в зал, то Политбюро снова заняло свои места, Леонида Ильича уже с ними не было. Наверное, его увезли домой и положили спать. Стало как-то скучно. Актеры суетливо доиграли свои роли. Занавес закрылся. Члены Политбюро вежливо похлопали.
Когда после спектакля мы пришли домой, кухня была полна народу. Мы стали возбужденно говорить, что мы сейчас расскажем нечто невероятное. Но все были заняты каким-то общим разговором и посмотрели на нас без всякого интереса.
– Если вы про Брежнева, то мы уже все слышали по “Голосу Америки”, – ответили нам и вернулись к своей теме.
Академик Сахаров
В 1987 году мы отдыхали в Эстонии в курортном поселке Отопи. Стало известно, что сюда, недавно вернувшись из ссылки, на дачу Галины Евтушенко приезжает Андрей Сахаров с Еленой Боннер.
Скоро мы увидели старенькие “Жигули”, а затем и пару, прогуливающуюся на большом поле перед озером, где одиноко стояло заржавевшее Колесо Обозрения. Это был Андрей Сахаров с женой. Велико же было наше изумление, когда мы увидели, как Андрей Дмитриевич, приложив антенну небольшого транзистора к металлической конструкции колеса, усилил работу приемника так, что новости то ли “Свободы”, то ли “Голоса Америки” разнеслись по всему поселку. Кажется, речь шла об испытаниях ядерной бомбы в Китае. Сахаров стал громко комментировать возмутительное поведение китайцев и что-то горячо объяснять жене.
Мы были еще достаточно юными и стеснялись к нему подойти. А вскоре они уехали.
Разговоры
Лиходеева (Филатова) Надежда Андреевна[27]
Мы познакомились с ней на вечере памяти Сергея Ермолинского. Это было в начале 2000 года, когда отмечалось сто лет со дня его рождения.
Мне хотелось узнать подробности о Елене Сергеевне Булгаковой, которую в какой-то момент Надежда считала почти родственницей. Выяснилось, что после войны она была невестой Евгения Шиловского, старшего сына Елены Сергеевны. О себе рассказывала, что в то время ее звали Надей Филатовой и работала она в “Огоньке” с 1949 года – сначала при Суркове, потом при Софронове. Считала, что при Суркове работать было легче.
Евгений Шиловский, ее жених, умер от гипертонии почек. Той же болезни, что была и у М. А. Булгакова. Получилось так, что Елена Сергеевна дважды пережила похожую смерть близких людей. Сначала слепота, потом медленный мучительный конец сына, которому было всего тридцать семь лет. “Если бы знала, что Женя умрет, я бы не ушла к Булгакову”, – говорила Елена Сергеевна. Женя без нее в детстве переболел скарлатиной, что дало осложнение на почки. Дети были поделены: старший остался с отцом, а младшего Елена Сергеевна забрала себе. Она считала смерть старшего сына платой за брак с Булгаковым.
Надежда Лиходеева. В гостях у С. А. Ермолинского.
18 февраля 2000
Знакомство Елены Сергеевны с Булгаковым было таким. Оба пошли на вечер, на который идти не хотели. Е. С. сильно выпила, залезла под рояль и хватала всех гостей за ноги. Булгакова это очень веселило.
Младший сын Сергей, когда вырос, играл на бегах и продал всю библиотеку Булгакова и многое из его вещей.
Перед смертью Елены Сергеевны Филатова привела к ней своего мужа Леонида Лиходеева, и тот ей очень понравился.
“Как ты думаешь, мы встретимся там с Мишей? – спрашивала она Надежду. – А если не встретимся, то и жить не стоит”.
Когда Булгаков болел, он несколько раз впадал в странные состояния: требовал, чтобы Е. С. взяла рукопись “Мастера” и сожгла ее. Е. С. делала вид, что выполняет его требование, а сама прятала ее, пока он не возвращался в нормальное состояние.
Когда я пришла к Надежде Андреевне в квартиру на “Аэропорте”, она почему-то сразу же заговорила со мной об опыте Иной жизни, той, что за порогом смерти. Вероятно, она много думала об этом – недавно умер ее муж. Стала рассказывать, как ей делали операцию на сердце и как она наблюдала за всем сверху. Как видела сидящего в коридоре мужа и детей. И как вернулась в тело. И как перестала бояться смерти после того случая. Она выговаривала все это для себя. Я просто присутствовала при ее рассказе. Виделись мы всего однажды. Она очень скоро ушла из жизни.
Она была очень красива, несмотря на свой преклонный возраст. Яркие голубые глаза и правильные черты лица.
Святловская Ольга Ильинична (Попова Люся)
От детства до Пастернака
Ольга Ильинична Святловская, юная подруга Бориса Пастернака (с 1946 года), а затем и друг Ольги Ивинской, – человек удивительной судьбы. В 1946 году она познакомилась с поэтом и оказалась необходимой ему как помощник и друг. Ольга Ильинична родилась в 1924 году. Ее деда-инженера В. В. Попова направили на строительство железной дороги возле Беломорканала. Получилось так, что росла она в Медвежьегорске, прямо на территории лагеря, дружила с заключенными. С самого детства главным ее стремлением жизни стала помощь людям. Хотя она была и актрисой, и организатором вечеров, и художником-графиком, и педагогом. Здесь приводится наш разговор в ее доме в 2016 году[28].
Ольга Святловская.
Конец 1940-х
О. С.: Вообще мне очень везло, вы знаете. Мне повезло, что я попала в эту Карелию, Медвежьегорск. Можно всю жизнь прожить в Москве и не встретить таких людей, которых там собрали. И главное, что я видела, кто караулит и кого караулит. Это так было ясно. Мне вообще повезло там.
Н. Г.: Как вы туда попали?
О. С.: У мамы характер был четкий, твердый. Они с моим отцом вроде как сошлись, должна была я родиться, они собирались повенчаться. Но он заболел аппендицитом. Мама пошла его навестить, а там какая-то молоденькая девушка лет восемнадцати, говорит: “Вы кто?” Мама сразу все поняла. Говорит: “Я его квартирная хозяйка”. А девушка: “А я его невеста”. Когда отец вернулся из больницы, мама сказала: “Илья Михайлович, вот ваши вещи, а внизу извозчик”. Это был 1923 год. Я родилась в 1924-м, 4 января мне будет девяносто три.
Н. Г.: И больше папа с вами никогда не общался?
О. С.: Мама даже не виделась с ним. Ни денег не брала, ничего. Не было его! У нее такой характер! Она как считала нужным поступать, так и поступала.
У меня нет никаких национальных предрассудков. Прадед у меня немец Павел Генрихович фон Дикгоф, горный инженер. Рабочие его очень любили. Жена его была англичанкой, дочка Павла Генриховича вышла замуж за русского, моего деда Попова Владимира Васильевича, инженера путей сообщения. Он строил Черноморо-Кубанскую дорогу, Туркистано-Сибирскую, и мама и я жили и ездили с ним вместе. Родилась я в Краснодаре. Потом мы переехали в Алма-Ату и Фрунзе (Бишкек) и там жили и строили Туркестано-Сибирскую.
Когда Туркестано-Сибирская кончилась, поехали в Ленинград, где было управление железных дорог. От управления Мурманской железной дороги деду дали назначение в Медвежьегорк, где строили Беломорканал. Им мешала железная дорога, и ее надо было перенести в сторону. Он был главным инженером по переносу трассы. Вот так мы попали в Медвежью Гору.
Н. Г.: Туда плавали наши писатели в 1933 году.
О. С.: Да, это уже потом они плавали. А мы приехали туда в конце 1920-х годов. Мы уезжали из Ленинграда. Пока ждали назначения деда, часто ходили с мамой в гости. Я была еще совсем маленькая. Как-то пошли с мамой отмечать чей-то день рождения, именины или еще что-то. За столом шли разные разговоры. Я помню, как человек в пенсе встал и сказал: “У нас сейчас так: если на груди тельняшка, а на боку пистолет, то человек понимает во всем. В науке, в сельском хозяйстве, в машиностроении, в чем угодно. Если дальше пойдет, то наша огромная богатая страна не продержится больше ста лет”. Я помню до сих пор его слова. Когда мы ушли из гостей, мама сказала: “Никому не рассказывай то, что там говорили. Потому что кто-то может обидеться. Не надо”. Я понимала, что рассказывать не надо. И поэтому, когда мы приехали в Медвежку, я была уже подготовлена. Мне было семь лет, и я прекрасно все понимала. Ко мне очень хорошо все относились. Мне мама никогда не говорила: “Это ты не читай, это тебе рано”. У нас была очень хорошая библиотека, которая с нами ездила, часть пропала из-за этих переездов. Но я брала что хотела и читала. Ничего со мной не стало.
Потом у мамы был совершенно четкий принцип, что человеку в беде надо помогать. Порядок там был такой. В Медвежке были дома и избы, в которых жили заключенные, и были лагерные зоны с колючей проволокой. Оттуда выходили люди, становились в колонны, конвойные, собака как у клоуна Карандаша была. Ее звали Зека, она откликалась. Она просто сопровождала колонны. Колонны шли вдоль поселка Медвежья Гора и расходились по учреждениям, где работали. В поликлинику шли врачи.
Н. Г.: То есть это была чистая работа? Не с кайлом?
О. С.: Нет, с кайлом было на самом канале. А это был Медвежьегорск, где было управление Беломорканала. Я как-то поехала в Повенец. Девчонкой я там везде моталась. Там валуны. И всё делали вручную. Никаких машин или взрывов я не слышала. Вручную разбивали это все, вытаскивали, выкатывали на тачках. Я видела собственными глазами мосточки, проложенные через эти каналы, внизу речка журчит. Помню сейчас картинку. Упала тачка вместе с человеком – мосточки эти сломались. Тот, кто со мной был, моментально меня увел. Я только потом узнала, что не вынимают этих людей. Тогда я думала, что ему помогут и он будет дальше работать.
Я пошла в первый класс. Там была железнодорожная школа, очень хорошие педагоги, возможно, какие-нибудь родственники заключенных. При Ягоде и частично при Ежове были так называемые “поселенцы”. Это были зеки, заключенные, приговоренные к срокам, но они жили в частных квартирах с семьями. Я познакомилась с одной такой семьей. Когда мы жили еще в Ленинграде, меня лечил такой профессор Морев. Тогда в дом ходили частные врачи, они были фактически членами семьи. Такие были отношения. И когда профессор Морев узнал, что мы едем в Медвежью Гору, он сказал, что у него там живет учитель, профессор Фурман, и дал к нему письмо. Так что дальше меня лечил профессор Фурман. Вот этот профессор как раз жил в частном доме, за ним присылали начальники лагерей, они в нем нуждались, он был хороший врач.
Мы жили в бараке, там еще жил бухгалтер. Уборная была в самом бараке. Но мы жили на втором этаже. Канализации там никакой не было. Я даже видела пекарню, в которой люди месили тесто ногами. Был театр, в основном из заключенных.
Заключенные работали вместе с вольнонаемными. Могли выйти на крыльцо, никто не караулил. И вот когда они приходили на работу, с ними можно было общаться. Они давали мне свои письма родным, а я бежала и бросала их в почтовый вагон. Я была в первом или втором классе, прекрасно понимала, что мне об этом распространяться незачем. Таким образом письма шли без цензуры, я просто бросала их в почтовый вагон. Когда кому-нибудь нужно было повидаться с близкими, а свиданий не давали, они просто приезжали к нам в гости.
Потом нам присылали посылки, а я их разносила. Варежки там, какой-нибудь жилетик теплый, носки. Это все украдут, но какое-то время у людей было теплое. До сих пор удивляюсь, почему нас не посадили. Это, очевидно, лотерея. Борис Леонидович Пастернак потом мне тоже говорил: “Меня огорчает, что я на свободе, люди мне близкие все сидят… Меня это как-то позорит”.
Н. Г.: А за вами не следили?
О. С.: Следили, наверное. Потому что маму как-то вызывали.
Когда кончился перенос трассы, дед должен был поехал сдавать отчет об окончании работы в Ленинград. Но он упал на трубы с лесов и отшиб себе почки. Его положили в больницу, но прооперировать не успели, он скончался от уремии. Нам должны были дать квартиру в Ленинграде, но у мамы было плохо с легкими. В Медвежьей горе для легочников был подходящий климат. Там даже был туберкулезный санаторий. И мама не поехала в Ленинград. Мы с ней остались там, она работала чертежницей, сначала в пятой дистанции пути, потом в управлении Беломорканала. И мы с ней жили вдвоем.
Расскажу вам один анекдот. Вот был Ягода. Стояло здание управления Беломорканала, а перед ним клумба, стеллочка и бюст Ягоды. Когда Ягоду тютюкнули, поставили Ежова. Но там народ грамотный жил. На этой тумбе появилась надпись “Memento Mori”. Надпись очень быстро убрали и сняли всё. Берию уже не ставили.
Люблю жизненные анекдоты и совпадения. У меня много таких в жизни.
Я девочкой со всеми дружила, ко мне хорошо относились. Там были философы, художники, музыканты. Почему они со мной разговаривали обо всем? Я думаю, я для них была девочка, которая что-то понимает. А у них семьи где-то, они скучают по детям. Им было интересно, что я такая маленькая, но вроде бы уже разбираюсь что к чему, могу что-то рассказать, передать. Я с удовольствием все слушала.
Я познакомилась с философом Александром Константиновичем Горским, когда его уже освобождали. У меня его маленькая фотография была, я передала ее в библиотеку Федорова.
Свое послешкольное время я делила между конюшней и театром. Кроме балета, там было все: и оперетта, и драма, и опера. Шли “Пиковая дама”, “Царская невеста”, “Евгений Онегин”, “Риголетто”. Известные актеры, дирижеры, музыканты. Такой Пшибышевский был, музыкант, дирижер, потом Гинзбург и другие.
В Медвежке я очень любила читать стихи, там была хорошая библиотека. Она то терялась, то собиралась. Я очень любила стихи Бориса Пастернака. Мне попался однотомничек, и я его возила везде и всюду. Это были уже тридцатые годы. Мне было пятнадцать-семнадцать лет. Когда мы познакомились с Александром Константиновичем Горским, мне было десять-одиннадцать. Он мне сказал: “Из тебя будет толк. Если увидишь такие-то книги…”
Вот у нас показывают, как Гитлер книги сжигал. А я видела собственными глазами, как жгли наши библиотечные книги, я их крала из библиотеки. Например, в Вологде я украла Иоанна Златоуста, в кожаном переплете, тисненном золотом. Я воровала книги, которые знала, что уничтожат. Их уничтожали.
Мама была знакома с Лениным, Крупской и Марией Ильиничной. Она была из той интеллигенции, которая встретила революцию вполне благожелательно. Считала, что она должна была случиться, так как люди находились в рабстве, в нищете. Я потом спрашивала маму, она Дзержинского тоже встречала: “Что вы так вцепились в свою революцию?” – “Нам было стыдно жить лучше других”. – “Но вы же жили не за счет поместий. Дед работал. С зарплаты имел возможность купить что-то”. И вот она пошла работать в Наркомпрос. Там познакомилась с Крупской, с Марией Ильиничной Ульяновой. Еще при Ленине. Он кошек любил, а она кошатница. Но потом с Крупской рассорилась в дым, когда та выдала список запрещенных книг. “Это же наша классика!” – “Мы на этих книгах не можем воспитать нового человека”, – говорила Крупская. “Значит, хотите не того человека воспитать”. Она с Макаренко была в хороших отношениях, до самой его смерти, и с его женой, и с его учеником, который стал тоже педагогом.
Когда я выросла, я влюбилась в актера, который был в заключении. Это был 1941-й. Нас не регистрировали, потому что до восемнадцати – нельзя, а когда началась война в виде исключения нас зарегистрировали. Он был лирический баритон. Мой первый муж – Простаков Георгий Акимович. Из Соловков привезли его и актера Привалова. Там часть их везли на гору и убивали. А часть везли на материк. Вот так они попали в театр. Я пошла его провожать на гастроли, села в поезд и поехала. Меня устроили помощником гримера. А маме попросила передать, что я уехала. Тот у меня еще характер. Я ездила по Вологодской области, заключала договоры на гастрольные поездки. Со всеми прекрасно договаривалась. Если я поехала – я договорюсь. Мне везло.
Еще шла война. Мы бежали от немцев, немцы шли по Карелии, театр драпал до Вологды. Вологда – город эвакуированных. Мы там жили некоторое время. Я работала гримером в Вологодском театре. А потом пошла в КЭБ – Концертно-эстрадное бюро. Мне еще не было восемнадцати. К нам очень хорошие гастролеры приезжали: Барсова и Пирогов из Большого театра, мхатовцы Хмелев, Грибов, Тарасова. Козин Вадим Алексеевич со своими аккомпаниаторами. У него тогда был Давид Ашкенази, Козин потом был в ссылке. В мои обязанности входило встретить их на вокзале, обеспечить им номер в гостинице. Тогда была карточная система, нужно было еще с обкомовской столовой договориться, чтобы их кормили три раза в день, чтобы дали талоны, по которым кормили. Им давали УДП – усиленный паек, в просторечье называлось “умрешь днем позже”. И еще чтобы на сцене было все в порядке. И встретить на вокзале и отправить обратно. С машинами было плохо. Я их встречала на лошадях. Коляску могла и запрячь, и править – все умела.
Я поехала поступать в Москву, а муж – в Уфу, в театр. Он бывший заключенный, в Москве нельзя было тогда жить. И вот я приехала в Москву и решила поступать в театральный институт, хотела быть актрисой. Приехала в ГИТИС. Все мхатовцы были мной вполне довольны. Я хотела поступать в драматический. Я была очень маленького роста. Худенькая и выглядела как ребенок. Но чтобы получить карточку, таскала из типографии афиши в цех расклейки. Сначала мне негде было жить, поскольку я нигде не работала и не училась. Я жила у актеров. Но я стеснялась, день-два ночую, а потом говорю – меня позвали в другое место. Но кому я нужна? Ночевала на вокзалах, на подоконнике в кинотеатре, треугольный такой подоконник, как ниша, завешенный занавеской. Свернусь калачиком. Потом уже я получила место в общежитии на Трифоновке. Знаменитое общежитие, где жили и художественные институты, и театральные, и музыкальные. У Рижского вокзала.
Потом поступила во Всесоюзное гастрольное концертное объединение. ВГКО. Устроилась администратором по концертам солистов. Гинзбург Григорий Давыдович, заведующий сектором открытых концертов, решил меня определить: “Ты не из тех, ты с ними (с артистами. – Н. Г.) на равных. Ты не из тех, кто ест снег из-под калош Козловского (имеются в виду фанатичные поклонники артистов. – Н. Г.)”. Барсова ужасно их боялась, и Хмелев боялся. Они кусок могли оторвать, еще что-то. Когда я ходила к Лемешеву что-то подписать, он меня предупредил: “Осторожно, там их полная лестница”. У меня никогда не было никаких фанатичных настроений.
Борис Пастернак.
Конец 1940-х
Был конец войны. Еще нельзя было особенно ходить свободно по улицам, забирали в милицию.
Так как я была в хороших отношениях с Лавутом[29], он мне сказал, что в Политехническом будет вечер Пастернака. Я пошла туда. С ним был еще Женя, его сын. После вечера я подошла к Пастернаку и пыталась ему сказать, что благодарна за его стихи, а сама волнуюсь и запинаюсь. Женя пытается мне помочь объяснить, что я хочу сказать, и все не так, как надо. И Борис Леонидович это понял. Поэтому он говорит: “Вы знаете, вот вам мой телефон, вы мне позвоните, мы с вами встретимся. Женя, ты все не то говоришь”.
Они ушли, а позвонить я постеснялась. Следующий вечер был в зале в Университете, где Манежная площадь. Опять мне Павел Ильич Лавут сказал, что там Пастернак, и я пошла. Написала ему две записки. “Как вы относитесь к сопоставлению Достоевского и Толстого?”, а вторая: “Как вы относитесь к Соловьеву и Федорову?” И передала их ему, а Пастернака просили читать записки вслух. Записки шли и шли, а моей всё нет. Когда кончился вечер, он сказал: “Вы знаете, тут столько записок, я их все прочту дома”. И в такую черную сумку положил. Следующий вечер Пастернака был в Доме ученых. Первое отделение прошло. Я там была своим человеком, так как проводила концерты, отвечала и за сборные, и за сольные. Подумала, попробую поговорить, познакомиться. И вдруг Пастернак говорит в антракте (Женя, правда, этого не помнил): “Одну минуточку. На прошлом вечере мне подали бесконечное количество записок. Я постарался их все прочесть. Среди них было две записки”. Он наизусть прочел две мои. Я очень хорошо помню, потому что была поражена. “Если здесь есть человек, который писал эти записки, может быть, он подойдет ко мне после вечера? Люди, которых это все интересует, должны быть знакомы между собой”. Я так обрадовалась. Прошла за кулисы, когда концерт кончился. Там был Журавлев, еще кто-то, может быть Яхонтов, Антон Исаакович Шварц. Борис Леонидович вышел, озирается. Поздоровался со мной. “Что же вы не позвонили?” Я говорю: “Знаете, я постеснялась звонить”. – “Ну вы все-таки позвоните, позвоните”. Кто-то говорит: “Может быть, мы вас подвезем?” А он отвечает: “Нет, я вот тут жду, может быть, автор записки подойдет”. Я говорю: “Борис Леонидович, это я автор записки”. Он: “Что?!” Надо было меня видеть, полтора метра роста, платьице из вискозного шелка в полосочку. В общем, он удивился страшно. И тут же мы договорились встретиться. “Откуда вы это все знаете?” – спросил он. Я ему вскользь сказала, когда мы вместе выходили, что была знакома с Александром Константиновичем Горским. Он спросил: “Вы можете ко мне на дачу приехать?” Я ответила, что могу.
Приезжаю на дачу, подхожу, у калитки Зинаида Николаевна возится в огороде. Я со всем почтением… Я была и с Нейгаузом знакома, и всю историю их жизни знала.
Зинаида Николаевна спрашивает: “Вы куда?” – “К Борису Леонидовичу, хотела повидать”. Она посмотрела на меня: “Вы по делу или просто так?” Я очень удивилась. Говорю: “Вы знаете, я просто так, но мы с ним договорились”. Она отвечает: “Он про это забыл, он сейчас у Чуковских”. Вот такая Зинаида Николаевна. Так мы с ней познакомились. Она не питала ко мне никаких теплых чувств. Вообще ни к кому не питала.
Я знала Чуковского и могла к ним сама пойти. Я сказала: “Тогда мне лучше уйти”. – “Конечно”. И я пошла к Чуковским. Тут они мне встретились на дороге – и Чуковский, и Лидия Корнеевна, и Борис Леонидович. Пастернак воскликнул: “О, я опоздал! Вы уже пришли?” Я говорю, так и так, мне сказали, что вы забыли о нашей встрече. Он засмеялся. Я сказала: “Вы знаете, я не пойду к вам больше”. Ему было неудобно, но в тоже время он очень обрадовался, что так, чтобы не было лишних сложностей с Зинаидой Николаевной. Мы с ним погуляли, побеседовали и познакомились. Он захотел меня познакомить с Ахматовой, но я не хотела.
Я оказалась ему нужна для самых разных дел, но это меня не унижало, я с детства привыкла помогать. Ездила по его поручению к Сергею Николаевичу Дурылину, возила ему рукопись.
Еще мы с Борисом Леонидовичем ходили на почту и в сберкассу в том же писательском доме в Лаврушинском, где он жил, с другой стороны. Потихоньку от Зинаиды. Он брал деньги, давал мне адреса, а я отправляла переводы Шаламову, Анастасии Цветаевой, Ариадне Эфрон. Я считаю, что это делало честь мне. Он мне доверял. Мы разговаривали с Б. Л. много о жизни, о всяких философских и политических проблемах. Очень откровенно разговаривали. Я работала как собака, мне иногда было трудно с ним встретиться. Мы договорились так: он мне звонит, там телефон на улице был, в Переделкино. Он мне звонил домой, говорил, что хотел бы видеть, и, если я могла, я в назначенное время приходила.
Зинаида Николаевна и Борис Леонидович Пастернаки.
Переделкино, конец 1940-х
И вот он как-то мне звонит и говорит: “Мне очень нужно вас видеть. Зины на даче не будет”. Я приехала к нему. Он меня встретил у калитки, ждал. Открывает: “Люся, я полюбил!” Он говорил об Ольге Ивинской. Я совершенно опешила. Говорю: “Борис Леонидович, что теперь будет с вашей жизнью?” Я так сказала, потому что представила себе Зинаиду Николаевну. А он ответил: “А что такое жизнь?” Это дословно наш с ним разговор. “Я хочу, чтобы вы с ней познакомились, я ей про вас рассказывал. Вот тут ее телефон. Познакомьтесь с ней, я очень хочу, чтобы вы с ней познакомились”. Я позвонила Ольге Ивинской, мы договорились встретиться, и мне она понравилась. Я поняла, почему он ее полюбил. Во-первых, она женственная, такая настоящая женщина. Потом, она любила его стихи. Она красивая.
Н. Г.: Она вам не показалась легкомысленной?
О. С.: Нет. И что значит легкомысленная? Какая-то такая богемистость в ней, конечно, была. Была такая забавная история. Она мне вдруг сказала: “Знаешь, скажи Пастернаку, что ты занята на некоторое время. Мне надоело слушать, какая ты хорошая”. Потом это все как-то обошлось. Вначале с ней в хороших отношениях была и Лидия Корнеевна. И Эмма Герштейн. Она стала никуда не годной, “проституткой”, когда влюбилась в Бориса Леонидовича, когда он стал ходить к ней в “Новый мир”. Та же Лидия Корнеевна говорила: “Мы были в Зале Чайковского, в Консерватории. Смотрим, идет Борис Леонидович. Мы думали, он к нам сейчас подойдет. А он смотрит туда, где сидит вульгарно накрашенная Ольга Ивинская. Идет к ней”. Если всерьез подумать, на кого приятнее было смотреть: на Лидию Корнеевну или Ивинскую – на Ивинскую, конечно. Она никогда вульгарно не красилась – это совершеннейшее вранье. Она чуть-чуть подкрашивала губы. Она сама по себе была красивая, очень женственная, и в ней был такой шарм.
Ольга Ивинская.
Конец 1950-х
Между прочим, была со мной одна история. Я по каким-то делам ехала в Переделкино и с Борисом Леонидовичем встретилась на вокзале. Он тоже ехал на дачу. Я ехала не то к Сельвинскому или еще по каким-то делам. И я упала, когда мы шли рядом со станции, у поворота к его дому, и так здорово расшибла колено, прямо в кровь расцарапала, что не могла и ступить. “Мне же надо обратно ехать”, – сказала я. “Так зайдемте к нам, мы чем-нибудь промоем колено”, – ответил он. Это вполне естественно, по-моему. Мы пошли, он буквально на себе меня поволок. Зинаида Николаевна встретила нас без всякого энтузиазма, вынесла кружку воды, чтобы я промыла ногу, и ушла. Мы промыли, и я зашла на террасу сбоку. Сижу, не знаю, что делать, – ступить на ногу не могу. Борис Леонидович говорит: “Вы знаете, я узнаю, нет ли машины поблизости”. Не то у Федина, не то у кого-то была машина. Но все ехали в Москву только утром. Тогда Борис Леонидович спрашивает: “А может, переночуете?” Я отвечаю: “А как это будет?” Он куда-то ушел, вернулся, надо сказать, без особой радости на лице. Сказал, что сейчас все в порядке, что меня сейчас покормят. Был день, потом вечер, и вот он принес простоквашу в майонезной банке и хлеба.
Н. Г.: А вы сидели все это время на веранде, и вас в дом не пускали?
О. С.: На веранде. Это же лето. И тут входит Татьяна Матвеевна (домработница). Она говорит: “Вы взяли простоквашу? Зинаида Николаевна не велела трогать”. Я говорю: “Ну что ж теперь, я ем, и что?” Она говорит: “Вы скажите Зинаиде Николаевне, что это вы взяли. Это не я дала”. Я говорю: “Да-да, я скажу”. Пастернаку было очень неловко это слушать и обсуждать. Короче говоря, он открыл комод и постелил мне на диванчике какую-то простыню.
Н. Г.: А в какой комнате вас положили?
О. С.: На веранде, с которой вход. Свечку потом зажгли. Я потом еще стихи такие смешные написала: “Приличье в этой суетне с дороги сбилось. / Вы то врывались в сон ко мне, то к ней в немилость. / И простыня, замкнувши круг абракадабры, / Вдруг стала скатертью к утру, притом парадной…” Это действительно так и получилось.
Борис Леонидович действительно заглядывал и спрашивал: “Ну как вы тут?” Я говорю: “Все хорошо. Спокойной ночи”. В общем, к утру, когда он пришел, нога у меня распухла и почернела. Он говорит: “О, как хорошо”. Я на него посмотрела и рассмеялась. А он говорит: “Да это хорошо! Зинаида увидит, что это не притворство”. Ее я больше не видела. Тут он ужаснулся: “Слушайте, так это скатерть лежит. Я вам постелил вместо простыни – скатерть”. Я говорю: “Снимайте скорее, а то увидят!” Скатерть мы сняли и положили обратно. “Стало скатертью к утру, притом парадной”.
Н. Г.: Какой ужас. Может, З. Н. знала, что вы связаны с Ивинской?
О. С.: Я тогда не была еще с ней знакома. Это такой человек. Она ж ему говорила: “Слушай, у тебя дети. Напиши, что тебе там велят”. Это разные установки. Вот Борис Леонидович – другого круга. Ивинская тоже другого круга.
Н. Г.: Когда ее арестовали, вас начали вызывать. Что от вас хотели на допросах?
О. С.: Пастернака тоже вызвали. Он мне позвонил. “Люся, меня вызывают, но я не буду говорить, куда – вы догадаетесь”. По-моему, если кто-то подслушивал, то тут же догадался. Ну он такой был человек. “Я думаю, что мне хотят отдать ребенка”. Я говорю: “Не знаю, вряд ли”. – “Я сказал Зине”. А когда он пришел туда – ему дают письма к Ивинской. Он говорит: “Я ей писал, ей и отдайте”. Ну, Борис Леонидович…
Н. Г.: А вас о чем спрашивали?
О. С.: В основном, о Пастернаке. Что говорил, куда ходил. “А вот вы тоже, Суркова не любите, а любите Пастернака”. И про Ивинскую, о чем я с ней говорила, что она делала.
Ольга Ивинская и Борис Пастернак.
Измалково, 1959
Н. Г.: И что вы отвечали?
О. С.: Я отвечала все, что надо. Допрашивал меня Семенов, ее следователь. Он мне вечно какие-то анекдоты рассказывал. Я говорила, что такого не слышала. Ну что Пастернака больше любила, чем Суркова – это точно, это я подтверждаю. А анекдотов таких не слышала. А потом он мне говорит: посидите. Вызывает стенографистку, диктует вопрос-ответ, вопрос-ответ. И там все, что меня спрашивали, и ответы, какие ему надо. Я думаю, что же мне делать. Говорю: “Что вы делаете?” – “Работаю. Вы тут неделю ходите”. – “Я не буду этого ничего подписывать”. – “Как не будете?” – “Очень просто. Я знаю, почему вы хотите, чтобы я подписала”. – “Интересно, что вы тут знаете”. – “Когда я пришла, вы мне дали подписать, что за дачу ложных показаний я отвечаю в уголовном порядке. Вы все время мне говорите, что мое место рядом с подругой, вы хотите меня посадить, и вот за дачу ложных показаний вы и хотите это сделать”. Как это я сообразила? Это система Станиславского. Какие-то уроки театральные. Он сказал: “Или вы совсем дура, или слишком умная”. Стенографистку убрал, и я подписала буквально полтора листочка.
Это было в 1949 году. Ходила туда, как на работу, целую неделю. Вызывали на допросы. Я приходила и сидела полдня. А я же только что родила совершенно больного сына. Трое суток рожала – у него кровоизлияние в мозг, асфиксия. Сцеживала молоко – и на Лубянку. Напротив сидел человек, который мог сделать с тобой, что захочет. Мог дать тебе в морду абсолютно безнаказанно, мог оставить тебя тут на веки вечные. Мог опозорить тебя, написать такие показания, что будь здоров. И никогда мне мама не сказала: подпиши все, что они хотят.
Н. Г.: А после ареста Ивинской вы не заходили уже больше к ней домой? Как там дети существовали?
О. С.: Ходила, а как же. Был такой Михаил Осипов. Он когда-то занял у Люси денег. По тем временам даже много. И не отдавал ей, когда ее посадили. Я ему сказала: “Если не отдадите деньги, я напишу на вас заявление, и будет ясно, что вы у врага народа берете деньги. Осталась Мария Николаевна (мать Ивинской. – Н. Г.) с детьми, на что жить?” Отдал. Борис Леонидович тоже помогал. Ивинскую беременной забрали.
А за несколько месяцев до ареста пришла ко мне Люся и сказала: “Знаешь, я в положении. Я не очень хорошо себя чувствую, я хочу с ним лично поговорить. Где я это сделаю? Пусть он придет к тебе, и мы поговорим”. Она просила позвонить Б. Л., потому что они по требованию Зинаиды Николаевны расстались. Когда Лёнечка, его сын, заболел, Зинаида Николаевна над его кроватью взяла с Бориса Леонидовича слово, что он больше с Ивинской встречаться не будет. Я пошла к нему на Лаврушинский. Он сказал: “То есть как беременна?” Я: “Борис Леонидович, неужели мне вам объяснять, как это бывает?” Он смеется: “Да, да, да”. И тут Зинаида Николаевна услышала наш разговор и говорит: “В чем дело?” Борис Леонидович сказал, ей, что пойдет к Ивинской, а Зинаида Николаевна ему: “Я вместо тебя пойду”. Я сказала: “Знаете, может вам не стоит?” – “Нет, я пойду, мне надо с ней поговорить”. А что я могла сделать? Я говорю: “Борис Леонидович, может, все-таки вы пойдете?” Но он никак не смел ей возразить. Она была очень четкий человек. Так всё по-солдатски. Очень жесткий. Когда мы шли к лифту, он вслед кричал: “Зина, будь добра! Добра будь”. Добра она не была. И никто не был. И Люся не была добра. Все говорила: “Он вас уже не любит, он любит меня”; “Он отец моего ребенка, у нас семья, вы его не получите”. Они вот так вот поговорили откровенно. Люся плохо себя чувствовала, она лежала. Потом Зинаида Николаевна ушла. Я не слушала их разговора, вышла из комнаты. Комната маленькая была в писательском доме на Фурманова, на пятом этаже. Потом его снесли. А Люся тогда наглоталась каких-то таблеток. Ей стало так плохо, что я вызвала врача и ей желудок промывали. Ну ничего, обошлось потом. Приезжала потом милиция. По-моему, ее в больницу забрали. Но никакого выкидыша тогда не было. При мне они с Б. Л. по телефону еще разговаривали.
Н. Г.: А вас это не удивляло? Его двойственное отношение к ней?
О. С.: Нет, я трезвый человек. Человек такой, какой он есть. Или я его принимаю, или не принимаю.
Н. Г.: А после возвращения Ивинской?
О. С.: Мы случайно встретились на мосту с Тагер (Елена Ефимовна Тагер, знакомая и поклонница Б. Л. Пастернака. – Н. Г.). Такая “Незнакомки, дымки севера”[30]. Здрасте-здрасте. “Вернулась Ивинская, она опять привязалась к Пастернаку. Прилипла”. Я говорю: “Что значит прилипла? Она его любит”. Тагер мне: “Она разрушила семью”. Я ей: “Зинаида Николаевна разрушила две семьи, вы же ее не ругаете. А Люся его любит”. Тагер: “Мы с вами тоже его любим, но мы же не лезем к нему в постель”. И тут я потеряла терпение. Я сказала: “Не знаю как вас, но меня в постель он не приглашал”.
Тогда же мы говорили с Пастернаком об Ольге. Я сказала ему: “Борис Леонидович, я бы на вашем месте как-то определилась, у нее ведь все неприятности из-за вас”. А он мне ответил: “Вы знаете, Люся, я весь: и душа моя, и любовь, и мое творчество – все принадлежит Олюше, а Зине, жене, остается один декорум, но пусть он ей остается, что-то должно остаться, я ей так обязан”. Я ему на это: “Это вам повезло, что это не я, что у нас нет никаких романтических отношений”. А он: “Да, да, да, как хорошо, что у нас нет романтических отношений…”
Н. Г.: А после Нобелевской премии вы с Борисом Леонидовичем общались?
О. С.: Мало. У меня дочка уже родилась в 1958 году. С первым мужем, актером, не было детей, потом вышла замуж за литератора, потом я не вышла замуж за Кириллиного отца, потом вышла замуж за Жениного отца, это друг моего детства. Только и делала, что выходила замуж. Затем на Камчатку поехала. На похоронах Пастернака я была, фотографии есть в заграничном журнале.
Пастернак однажды написал Ольге Святловской:
…Я в неоплатном долгу у Вас. Я рад доставить Вам удовольствие; я дважды обязан Вам счастьем, а это больше, чем жизнью. Меня огорчило Ваше письмо. Не ставьте себе рамок и преград, отвергайте угрозы пошлой тупости. Пошли Господь Вам мужества оставаться собой. Верьте мне – Вы имеете на это право. Я люблю Вас за светлый ум и щедрое, чистое сердце. Храни Вас Бог. Ваш Б. Пастернак[31].
Разговоры с Натальей Дмитриевной Журавлевой
Наталья Дмитриевна Журавлева (1937–2017), актриса МХАТа, чтица, педагог. Ее отец Дмитрий Журавлев, знаменитый чтец, актер и режиссер, был учеником Елизаветы Яковлевны Эфрон, дружил с Мариной Цветаевой, Борисом Пастернаком, Святославом Рихтером и многими другими известными людьми ХХ века. В доме Журавлевых в Москве царила атмосфера радости, игры и живого общения. Наталья Дмитриевна умела по-особому показывать знаменитых друзей отца и своих друзей, увлекательно рассказывать их истории. К сожалению, расшифровки наших разговоров мало передают ее живую манеру говорить, а тем более изображать.
Н. Ж.: Папа всегда говорил: один мой брат сидел, а другой бальзамировал Ленина.
Дядя Саша был медиком. (А. Н. Журавлев – анатом, приглашенный в 1924 году в группу Збарского для бальзамирования Ленина. – Н. Г.) Он был ученик Павлова.
Однажды папа приехал в Питер, пришел в гостиницу, а дядя Саша стал его кормить. А там что-то стоит в банке.
– Саша, что это?
– А это срез мозгов, – ответил брат. Папе стало плохо.
Второй брат – дядя Миша. Михаил Николаевич Журавлев. Когда папа первый раз должен был ехать за границу, его стали проверять. Стали допрашивать: “А вот ваш брат служил в белой армии”. Папа говорит: “Да, его по демобилизации забрали в белую армию, он прослужил там пять дней, а потом (папа криком кричал) платил за это всю свою жизнь!!!” Дядя Миша очень интересно рассказывал, как он в лагере себе не позволил ни разу сказать матерное слово. Ни разу. Он был учетчик, урки его пугали. Пытались купить.
Н. Г.: А где он сидел? Не помните, в каких местах?
Н. Ж.: Я помню, что, когда дядю Мишу только выпустили, он жил в Острогожске. А когда ему разрешили поселиться в Москве и он вернулся, у него была страшная язва. Его спасла Зинаида Виссарионовна Ермольева (советский микробиолог и эпидемиолог, близкая знакомая брата, А. Н. Журавлева. – Н. Г.). В то время только-только появился пенициллин. Для простых смертных он был недоступен.
И еще помню. Детская. Я, наверное, в первом классе учусь, потому что палочки надо было выводить, а у меня не получалось. И я кричу: “Папа, пап, ну покажи мне, как”. Он подбежал, что-то мне нарисовал в тетрадке и убежал. Он мчался к Ермольевой за лекарством для брата.
Наталья Журавлева.
1980-е
…Было мне года три. Значит, это было до войны. Конец 1940-го – начало 1941-го. Стояла зима, и я заболела какой-то страшенной скарлатиной. Папа с Маняшей маленькой, на полтора года только старше, выселился из дома, к кому-то из вахтанговцев-соседей, чтоб Машку не заразить, а мы остались с мамой. Я всегда тяжело болела, и кто-то из врачей уже от меня отказался, сказал, что она у вас не выживет. Мама тогда всех прогнала. Я смутно помню, как она ходила со мной, уже трехлетней – я тогда крупная была, – носила на руках сначала в детскую, потом в темный коридор, потом в кухню, потом опять детская. У меня ноги были ледяные, совершенно горела голова, но она меня вы́ходила. Когда кризис прошел, я стала поправляться. Я помню папу, как они с Машкой подходили к окну, а я стояла на подоконнике, и мамка меня держала, а они под окном. Папка делал снежки и бросал в окно, я страшно хохотала и кричала слово “скибляй”, что должно было означать “соскребай”, “убирай”. Вот такое первое воспоминание. Я скорее помню эти ощущения и это слово.
Войну мы встретили в дачном поселке в Новом Иерусалиме. В июле 1941-го мне не было еще четырех лет, а сестре Маняше – чуть больше четырех. Мама с нами за ручки с дачи убежала.
Н. Г.: А как она догадалась, что надо бежать?
Н. Ж.: Не знаю, наверное, тогда все разговаривали про это. Видимо, знали, что немцы близко подходят. У нас дачи высоко стоят, напротив нашей террасы внизу течет река Иструшка. На большой луг, недалеко от нашего дома, упал сбитый немецкий самолет. Мама тогда схватила нас и побежала к станции, а поезда в Москву не ходили. Она так плакала, что к ней подошел какой-то дядька и говорит: “Что ты ревешь?” А она: “Что мне делать? Вот две маленькие девочки, муж в Москве, ни слуху, ни духу, что мне делать?!” Тот посадил ее на паровоз, и нас довезли до Москвы. Я помню, когда мы с дачи приехали в Москву, мы папу дома не нашли. Видимо, мама как-то вычислила, что он может быть в Ильинском у Ширвиндтов, с которыми они дружили. Тетя Рая была главным администратором филармонии. Мама, перепуганная и надорванная, поехала вместе с нами искать папу. И вот мы идем по дороге все вместе, а нам навстречу бежит человек и в голос рыдает. В голос! Оказалось, что это был наш папа!
Наталья Журавлева с родителями Валентиной Павловной и Дмитрием Николаевичем.
1980-е
И вот филармонию эвакуировали на Урал. Мы поехали в теплушке. Очень много стояли, потому что были бомбежки. Из поезда пересели на пароход и оказались в Перми, куда был эвакуирован Мариинский театр. Нас в Перми некуда было девать, и мы отправились в город Чердынь. Когда приехали, нам повезло, что там мы были единственной бригадой. Там нам давали даже сливочное масло, а те, кто остались в Перми, – голодали. Я помню в свои четыре года – кирпич сливочного масла на столе. Нам отреза́ли кусочек и давали есть.
Мы жили в избе: наша и Ширвиндтовская семья. Одна большая комната, посередине огромная печка, а другой стороны – вторая огромная комната. Была перегородка между комнатами и прорезь, в которую наши мамы что-то подсовывали друг другу ночью, когда у нас с Машкой что-то болело. Там, в Чердыни, сразу организовалось несколько бригад, и одна из них была Дмитрия Журавлева, потому что папа к тому времени был лауреат конкурса, а тетя Рая была главным администратором. Мы вернулись в Москву достаточно быстро, уже в 1943 году. Очень хорошо помню 1 мая 1945-го, когда Берлин взяли. Был грандиозный салют.
Жили мы в доме на улице Вахтангова, дом 12, в кооперативе театра Вахтангова. Прямо около Щукинского училища. Если стоять лицом, получается, что это левое крыло. И наш самый левый подъезд. Первая квартира на первом этаже. Крохотная. Две маленькие комнаты, коридор и довольно большая кухня. В детской жили мы с Машей и няней Лёлей, а в другой комнате – она считалась папиным кабинетом – стояла тахта, пианино, которое брали напрокат. Когда собирались гости, мама обязательно играла и пела.
Перед нашим домом была улица Вахтангова (сейчас – Николопесковский пер. – Н. Г.). Справа – то, что было Молчановкой, которую перерубил Новый Арбат, была Собачья площадка (я тогда думала, что фонтан – это памятник собакам), был дом, где жил Лермонтов, а рядом с ним находилась керосиновая лавка. Училась я в 71-й школе, которая находилась напротив поленовской церкви (храм Спаса преображения на Песках, который запечатлел В. Д. Поленов на картине “Московский дворик”. – Н. Г.). И вот если из нее выйти и пойти направо, то можно попасть в Спасо-Хаус (особняк Второва в Спасопесковском пер. – Н. Г.). Он и сейчас есть. Окна школы выходили во двор, а напротив был дом, который фасадом выходил на Арбат, там был знаменитый Зоомагазин, и туда же выходили окна той общей квартиры, в которой жила Нина Львовна Дорлиак[32] со своей мамой Ксенией Николаевной. У них были две комнатки. И потом, когда появился дядя Слава (Рихтер. – Н. Г.), то иногда можно было в окошке их увидеть. А я уже тогда, наверное, в классе пятом была, когда он появился, и, конечно, я сразу же пала жертвою его обаяния. От него все обмирали. Да и родители брали меня на все его концерты.
Папа обожал с нами возиться, назывались мы “девки”. И недавно кто-то из студентов говорит: “Ой, Наталья Дмитриевна, я услышал, как вы так интересно говорите «дефки»”. – “Я не интересно говорю, я говорю по-московски «дефки»”.
Папа записывал текст, чтобы его выучить. У него кругленький был почерк. У мамы крупный-крупный, а у него такие закругляшечки. Он прям тетрадки целые делал – тексты, тексты, тексты. Когда немножко уже их знал, папа с этими тетрадками уходил гулять по улицам от нас куда-то по Арбату. Он говорил, выговаривал. И когда уже хорошо знал текст, шел заниматься к Елизавете Яковлевне Эфрон. А так в основном кабинет его был – улица… И смешные бывали истории. Маме звонит кто-то из знакомых: “Валечка, у вас все благополучно?” Мама говорит: “Слава богу, да”. – “А где Димочка?” Мама отвечает: “Да вот пошел к зубному врачу”. И тут же пугается: “А что?” – “Мы встретили его, и у него было такое страшное лицо, мы думали, что у вас что-то случилось”. Мама звонит докторше, папа подходит: “Да нет, ну просто в это время Сальери бросал яд в стакан Моцарту, какое еще могло быть у меня лицо”. Потом однажды на даче мы его потеряли, кто-то приехал, а его нет, ушел гулять. Это называлось “папа пошел гулять”, то есть папа пошел заниматься. И мы побежали его искать, там мальчишки, мы их спрашиваем: “Мальчики, не видали такого дядечку в белой кепочке, с палкой и в зеленой куртке?” – “А это который с никем разговаривает, он туда пошел!”
Елизавета Эфрон. Марина Цветаева
Н. Ж.: Так вот сидящим в кабинете и занимающимся я его не видела. Но во второй половине жизни он стал заниматься с магнитофоном (репетируя, записывал себя и прослушивал эти записи. – Н. Г.), то есть, когда Елизавета Яковлевна была вначале слаба, а потом ее не стало, он ни с кем другим не стал заниматься, в смысле у него режиссера больше не было.
Н. Г.: А скажите, как происходили занятия с Елизаветой Яковлевной?
Н. Ж.: Она лежала. Это я всё видела. При входе в их комнату была маленькая – ее нельзя прихожей назвать, как бы кладовка, в которой и Мур спал, и Марина Ивановна. Там стоял сундучок – и сразу дверной проем. Сама комната такая длинная, и в конце – окно, которое выходило на стену кирпичного дома, но не впритык, я очень хорошо эту стену помню, красного кирпича. Тети-Лилина кровать, а тут – тетя Зинуша спала. (Имеется в виду Зинаида Ширкевич, подруга Елизаветы Эфрон. – Н. Г.) И стояли два стула или тоже какой-то сундучок, где сидели ученики и папа и где, по его рассказам, он впервые увидел Марину Цветаеву, которая сидела на одном из этих стульев.
Я себе очень хорошо представляю, хотя знала об этом по его рассказам, когда она читала “Чёрта”. Когда она кончила читать, было сильнейшее впечатление. Папа говорил, что она захватывала просто, хотя он и не понимал половину того, что там было написано, но плен был полный. И когда она закончила чтение, он стал просить что-то объяснить. А она в ответ: “Там все написано”, – и он притих. А вечером у него был концерт в Бетховенском зале Большого театра. Он читал программу “Багрицкий и Маяковский”. Отделение – Багрицкий, отделение – Маяковский. И вдруг на этот концерт пришла Марина Цветаева. Но он не знал, что она придет, он просто ее в зале увидел. И вот в “Контрабандистах” он страшно запутался: “Шаланды, Янаки, Ставраки и папа Сатырос”, запутался насмерть – он вообще часто забывал слова, и мы всегда умирали, когда он что-то забывал. Ну и все как-то пугались, это же не принято, артист же должен помнить текст, а ему хоть бы что – он умел выворачиваться. И вот он запутался совсем, пытался выкрутиться изо всех сил и ничего не получается – тогда он как стукнет ногой об пол: “Черт!” – и тут же все вспомнил, и пошел дальше читать. А в антракте Марина Цветаева подходит к нему и говорит: “Ну что, стало вам трудно, кого вы позвали?”
Елизавета Эфрон с учениками театральной студии при ЦДЛ.
1940
Тетя Зинуша. У нее был туберкулез ноги. Какая она была прелестная. Эти глазища. Родители звали ее “княжна Марья” за эти глаза. А тетя Лиля была красавица. Лежала в подушках из-за больного сердца. Она ушла из театра, она же играла Настасью Филипповну при Вахтангове[33], а потом ушла. Какая она была замечательная! Я так хорошо помню ее смех, она так смеялась заливисто, причем ясно было, что смеется она не просто оттого, что смешно, а она радуется, и вот это замечательно совершенно было, и так глаза сияли, я всегда вспоминаю Серафима Саровского: “Здравствуй, радость моя!” Вот ты к ней приходишь и видишь – это сияние.
Я помню замечательную встречу. Это было в Сочельник. Родители были где-то в отъезде, и мы с Машей, уже студентки, пошли к тете Лиле и тете Зине. Пришли туда, в Мерзляковский, на четвертый этаж, из лифта налево, четыре раза надо было звонить. И дверь открывает тетя Аля.
Н. Г.: Вы ее тетей Алей называли?
Н. Ж.: “Тетя Аля” – всегда… И смотрит на нас. А мы: “Здравствуйте, добрый вечер, мы к тете Лиле и тете Зине”. “Ну, проходите”, – поворачивается и уходит. А мы входим, так робко, и я выглядываю, а тетя Лиля заливается смехом: “Боже мой, так это же – коки!” Когда мы были совсем маленькими, нам втирали желток в голову, чтобы лучше волосы росли. И вот однажды мы к ней пришли, она открывает дверь, а там – две такие дуры с желтком на голове. И тетя Лиля с тех пор стала нас называть “коки”. И вот она хохочет: “Это же коки!”
А потом был дивный вечер. Аля, не замолкая, говорила. Возле кровати тети Лили в ногах был накрыт столик, такой маленький, и мы с Машкой там сели, а тетя Аля сидела напротив и рассказывала, как они с Мариной пришли на Арбатскую площадь, и вот тут повернули, и мама сказала… И я вдруг: “О-о-о!” “Ты что?” – она спрашивает. А я: “Ой, до меня дошло, кто такая мама”, – я тогда уже Марину боготворила. Аля много рассказывала, была в чудесном настроении, потом пошла мыть посуду и говорит: “Пойдем со мной”. И мы с ней мыли посуду, и вот там она рассказывала, как она боится, что сейчас в любой момент могут опять Марину закрыть, и что не надо никаких выпадов, не надо никаких дразнилок, надо быть аккуратной, не надо зверей дразнить ничем. Она со мной разговаривала, как со взрослым человеком. Для меня она была красавица, совершенная красавица, – не потому, что я понимала, что она Маринина дочь, я тогда особенно много и не читала, – а просто папа ее обожал. Мы вообще впитывали все время то, что было дома. И вот всегда от папы: “Алечка, Алечка”. Наверное, она к нам приходила, но, видимо, когда мы были маленькие. Ведь один раз Марина приходила и видела нас спящих в кроватках.
Н. Г.: Но Аля никогда не слышала, как вы читаете? Она знала, что́ вы читаете, что будете читать Марину? Таких разговоров вы с ней не вели?
Н. Ж.: Аля слышала. Я из-за Али-то стала читать Цветаеву. Она сказала папе: “Слушай, Митя, сейчас маму читают все кому не лень, почему ж твоя-то не читает?” Мне кажется, она один раз, может быть, а может быть и нет, могла слышать на Маринином юбилее в ЦДЛ. Потому что потом она не хотела ходить ни на один вечер.
Н. Г.: А папа читал Цветаеву?
Н. Ж.: Он совершенно замечательно читал стихи, посвященные Пушкину. Он читал “Не флотом, не ботом, не задом…”, “Нет, бил барабан перед смутным полком…” Со мной по ним тоже занимался и подсказывал замечательные вещи. Я Марину готовила – “Мать и музыка”, там про смерть матери, я и так нажму, и так сделаю, а он: “Нет, не так”. И вдруг одно слово сказал, но это такая была глубина, для меня – совершенство, и я завыла в восемь ручьев, а он говорит: “Что ты воешь?” – “Я так никогда не смогу!” А он ничего не сделал, он просто по-настоящему сказал – и всё, не стараясь быть похожим на Марину, не стараясь всех убедить.
Папа в ЦДЛ на вечере Цветаевой читал по книжке, тетя Люша, Цецилия Львовна Мансурова, читала наизусть, потом я помню Беллу (Ахмадулину. – Н. Г.), которая читала что-то, потом Алексей Эйснер. Выступления Эйснера я не помню, но он сам произвел на меня сильное впечатление, потом была такая Танечка Краснушкина, она тоже была ученицей тети Лили и дочкой знаменитого психиатра Краснушкина. Я к тому времени выучила “Цыган” из “Моего Пушкина”. Там была Аля, Эренбурги. Ко мне подошла Любовь Михайловна: “Боже мой, это наша Наташа”. А я в таком коротеньком платьице; у меня не было тогда никаких аксессуаров концертных, ничего. А потом Аля переслала своим чудным почерком переписанное для меня письмо из Ленинграда, где ее подруга хвалила меня. Аля переслала это письмо папе…
Фрагмент программы поэтического вечера “Артистические семьи”
…Папа был всем, я его безоговорочно обожала и слушалась. Но помню случай, как он меня попросил: у мамы такое плохое настроение, будь с ней поласковее, а я с ней поругалась тут же вечером, он пришел, и мама ему рассказала, он так на меня посмотрел и сказал: “Какая же ты дрянь”, – и больше со мной не разговаривал, довольно долго, ну, так мне и надо, так мне и надо, он не мог по-другому. Он не воспитывал, он просил меня. Был очень добрый, никогда не сердился, хотя был горячий, вспыльчивый…
Рихтер
Рихтер в нашем доме появился через маму. Мама училась у Ксении Николаевны Дорлиак, сначала у нее преподавал профессор Гандольфи – итальянец, но, кажется, он умер, и доучивалась мама у Ксении Николаевны. Тогда и началась дружба с Ниной Львовной, тетей Нинулей. В это время мама вышла замуж за папу, и Ксения Николаевна его очень полюбила. Ну, а вот в 1946-м мы жили еще не на даче в Иерусалиме, а в Загорянке. Я отчетливо вижу крыльцо, стоят папа, мама и я, а перед крыльцом, еще не войдя на него, стоит тетя Нинуля, тоненькая, хорошенькая, в каком-то сарафанчике, и длинный, рыжий, молодой, в голубой рубашке – дядя Слава. Но он всегда говорил о том моем воспоминании: “Ничего подобного. Вы вылезли из дырки под забором и кокетничать начали – да, в трусах одних, и стали со мной кокетничать. Это было”. Тогда у них с тетей Ниной начиналась совместная жизнь.
Святослав Рихтер.
1946
Она занятно рассказывала, как он к ней подошел и сказал: “Я бы хотел вместе с вами выступать”. А он уже был Рихтер, и она подумала: “Хорошо, наверное, половину отделения он, половину отделения я”, – и спросила: “Так?” А он: “Нет, я бы хотел вам аккомпанировать”.
Ксения Николаевна, ее мать, была необыкновенно умная, и, как потом, я помню, говорили родители, это был последний гениальный шаг Ксении Николаевны, что она их соединила. С тех пор появились дядя Слава и тетя Нинуля. Тетю Нину я всегда очень любила, обожала, как в старинных книжках у Чарской, такое девчачье обожание, я пыталась ей подражать… А поскольку мама с ней дружила, а Нина Львовна очень любила папу и была его поклонницей, то у них были чу́дные такие отношения. В общем, я вам должна сказать, что папа совершенно был очаровательный, ну кто-то его не любил, кому-то он не подходил, но он был совершенно очаровательный, и интересный, и горячий, и легкий. Вот почему его любил Пастернак, любил Нестеров – такие люди. Марина почему его любила. Он в книжке пишет, как пришел к Нестерову и восторженно что-то стал говорить – тогда только открылся музей Щукина, где были импрессионисты. Нестеров ему сказал: “Благодарите Бога, что он дал вам такие глаза”. Папа рассказывал, как Наташа Каверина говорила, когда они у Кавериных были в гостях: “Дмитрий Николаевич, вам, наверное, ужасно надоело, что вас все время просят читать”. Он говорит: “Наташечка, мне совершенно не надоело, мне надоедает, когда меня не просят читать”.
Был период, когда я с дядей Славой ездила на гастроли. Если Нина Львовна не могла ехать, то ехала я. Ну я не хвастаюсь, он ко мне очень хорошо относился, он меня любил, и ему весело со мной было. “Тутик, Тутик”. Знал с детства, и Нина Львовна не волновалась, когда я ехала. Во-первых, я все знала, что он любит – не любит, а во-вторых, она знала, что никаких посягательств с моей стороны не будет никогда. У него было такое выражение “набрасывать лассо”: “Ой, я так боюсь, она на меня набрасывает лассо, Тутик, пойдемте”. Дядя Слава не любил один что-то делать в большинстве случаев, особенно письма писать, обязательно я должна была рядом сидеть. Вот так: “Дорогая Таня!” Я: “Да, да” – “Получил ваше прелестное письмо, м-м-м?” – и так всю дорогу. Потом мне отдавалось это письмо, ни одного знака препинания он не ставил, и я сидела: тут восклицательный, тут запятая. Он просто не хотел, это его не занимало.
Я дальше про свою жизнь расскажу. Нескладная, и, в общем, актерских никаких талантов нет. Ну, нельзя гневить Бога… В этой жизни были родители и был дядя Слава, это абсолютно оправдывает мое присутствие на этой земле. Абсолютно. И то, что дядя Слава так ко мне относился, это, конечно, такое мое счастье, и так мне повезло… Он всегда говорил, что Тутик – самый веселый человек на свете. Я действительно была веселая, и вот эта легкость моя, мое веселье, я не знаю, как сказать, он всё был для меня.
Когда появился в моей жизни Саша Либединский[34] и стал устраивать мне сцены ревности, я ему говорю: “Ну как ты не поймешь, он для меня все, он для меня отец, он для меня сын, он для меня любимый человек, я не буду говорить возлюбленный, нет, не возлюбленный, но любимый мною человек, что ты психуешь?” – “Ты приходишь – на тебе лица нету, чем вы там занимались?” Я говорю: “Ну, Санечка, ну, ангел мой, ну что ты?” Как-то я пришла к дяде Славе после череды ссор и говорю: “Ой, дядя Слав, я не знаю, что делать, наверное, надо бросать или вас, или Сашку, он так ревнует!” Он подумал-подумал и говорит: “Тутик, знаете что, приходите к нам вместе”. И он, по-моему, всего за несколько вечеров его абсолютно обольстил, и Саша стал говорить: “Ты давно не звонила Святославу Теофиловичу”. Раньше не хотел меня отпускать к Рихтеру, а теперь стал говорить: “Поезжай, поезжай”.
Ахматова
Н. Ж.: У нас была кухня большая. Входишь, направо плита газовая, потом умывальник, раковина с краном; вода только холодная, две трубы огромные, по которым вечно текла вода, их закрашивали, а она все равно текла. Стоял стол квадратный, у стены стоял комод, который сделал своими руками дядя Миша, Михаил Николаевич Журавлев, он его покрасил в черный цвет и разрисовал белыми завитушками. На нем всегда сидел кот Васька, наш любимый кот, которого все обожали, а я его почему-то называла Абрам. И между буфетом и столом было красное место, в простые дни на нем всегда сидела я. И там же, на этом месте, у нас сидела Ахматова.
Ахматова бывала у нас несколько раз. Как-то Борис Леонидович дал папе живаговские стихи, которые еще никто не знал. Папа позвал Анну Андреевну, и они с Виктором Ефимовичем Ардовым пришли слушать, а меня черт попутал, я с самого начала не сидела и не слушала, а куда-то уперлась… Но было замечательное продолжение. Я пришла, когда всё отчитали. А папа потом рассказывал, как было: “Анна Андреевна вся постепенно разгоралась”. Все были на кухне. Анна Андреевна сидела в углу, где Виктор Ефимович – не помню, а мы тут все ютились на стульях. Вдруг: тук-тук-тук-тук, Наташа Антокольская, которая жила на третьем этаже, дочка Павла Григорьевича, Кипса, а с ней Слуцкий Борис Абрамович. Он, когда вошел и увидел Анну Андреевну – он же рыжий был, – пых, и стал красный совсем. А Анна Андреевна – просто не знаю, с какой королевой сравнить; сидит спокойно: высокая прическа и такой полный покой. Как-то снова уселись. У нас дом такой был – звонка не было, если что, все стучатся. И когда свои приходили, мы стучались так: “К нам, к нам благодать” – это из детства папиного, все братья так стучали: “К нам, к нам… тук-тук, тук-тук-тук”. Все уселись, и вдруг Анна Андреевна смотрит на Слуцкого и говорит: “Прочтите нам стихи”. И я помню, он вдруг становится белым, совершенно белым, тогда только вышли его замечательные “Лошади умеют плавать”. Он прочел. И вдруг опять: та-та та-та-та. Так стучала только тетя Нина, я подозреваю, что мама сказала, что у нас будет Анна Андреевна, потому что Нина Львовна Анну Андреевну просто боготворила. Входит Нина Дорлиак с Рихтером, и тут уж дело плохо, столько стульев нету, сидеть негде. На этот случай была доска в ванне обструганная, без заноз, которую клали на два стула, и тогда уже все могли усесться. Какая у нас была теснота, это нельзя себе представить, и сколько было народа. Принесли доску, и так получилось, что тетя Нинуля прижалась к папке, она тоненькая, я там втиснулась между, а дядя Слава, он как-то сел на углу, наверное, на эту доску. Но получилось, что все по диагонали от Анны Андреевны через квадратный стол. И между Рихтером и Ахматовой – диагональ. Но он почему-то ниже сидел. Я только точно помню, что смотрел он на нее снизу вверх. Когда она увидела Рихтера, она совсем превратилась в такую римскую царицу, ну просто второй век до нашей эры. Вдруг дядя Слава, никогда этого не забуду, глядя на нее снизу вверх: “Анна Андреевна, а можно вас попросить?” – я, может быть, не точно показываю интонации, но он как ученик, как маленький человек, просит вот это божество, это было изумительно совершенно. И дальше Анна Андреевна: “Что? Прочесть стихи?” – “Да”. И она читала:
…А я иду – за мной беда, Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса.И что-то еще, она долго читала. Был какой-то совершенно замечательный вечер. Дальше ничего не помню, как уходили, но это было настоящее событие моей жизни.
Пастернак
Н. Ж.: Я подхожу к телефону и слышу гудящий голос: “Это кто?” – “Это Наташа”. – “А, детонька, позови папу, это Пастернак”. Ну, я знала, что это Борис Леонидович, я сказала: “Борис Леонидович, а папа спит”. – “Ну, не буди, не буди его, ты знаешь, я сегодня закончил статью о гуннах”. Женя, Евгений Борисович – его сын – говорил, что никакой статьи о гуннах у Б. Л. не было. Но я помню, как начался длинный рассказ о гуннах, пересказ этой статьи, а я не понимаю ничего…
Н. Г.: А сколько вам было лет, хотя бы приблизительно?
Н. Ж.: Трудно сказать, боюсь наврать. Это мог быть конец школы, потому что папа был уже после всех переломов[35], или, возможно, потому что я очень хвасталась, это был первый курс школы-студии. Семнадцать-восемнадцать. Значит, 1956–1957-й. Про гуннов он долго говорил, а потом сказал: “Ну, хорошо, детка, спасибо, я выговорился, целую тебя”, – и повесил трубку.
А вот эта замечательная история случилась, когда я еще училась в школе. Папа сломал ногу, и мы его водили по улице, он был на костылях. Мы гуляли. За спиной был угол Собачьей площадки, маленький двухэтажный дом, а потом наш жилой дом, вахтанговский, тут – Щукинское училище, а наискосок – шаляпинская студия, а дальше Скрябинский музей. И вот мы с папой переходим улицу, и вдруг он кричит: “Боже мой! Борис Леонидович!” Кто из них первый крикнул-то? “Боже мой, Журавлев!” – и они кинулись друг к другу, я папу еле поймала, чтобы он опять не упал, и они обнимались, целовались. А мама лежала дома больная, и тут папа говорит: “Ну, пойдемте, навестим Валентину Павловну, пойдемте”, – и мы пошли в дом. И Борис Леонидович – он ведь был невысокого роста – мне так под шапку заглянул и говорит: “Боже! Совсем невеста! Когда они это успевают!” Это был 1954 год, потом мы с Лёней (его сыном) посчитали, что не такая уж я была маленькая, почему Б. Л. так удивился, что я совсем невеста. Итак, мы пришли к нам на первый этаж, в нашу квартиру. Мама лежала в детской, там по стенке стояли две наши кровати и оставалось еще маленькое пространство для бабушкиной. Борис Леонидович вошел и сел у нее в ногах. Мама была ужасно стеснительная, она так и обмерла, а он сел, положил ногу на ногу. Причем бывает, что такое идиотство запоминаешь! На меня произвело впечатление, что у него были в обтяжку серые в полоску брюки, и вот он сидел и что-то рассказывал, не помню, по-моему, про переводы, и, рассказывая, бил себя по ляжке, аж звон шел. Он довольно долго сидел и все время говорил, говорил, а мы тоже обмирали. Потом ушел, а на следующий день шофер привозит книгу “Шекспир. Переводы”, где Маршак и вот эта знаменитая надпись: “Дорогой Дмитрий Николаевич, горячий, пушкиноподобный, вот вам, только вам одному, библиографический подарок. Посылаю вам переводы двух сонетов Шекспира”. И заканчивается: “После ночной встречи в переулке”.
И еще история. Был папин вечер в Доме актера, и он читал Толстого. Наступает антракт. Зальчик был очень хороший, на сцену вели несколько ступенек. С другой стороны сцены, тоже по ступенькам вниз, был вход в небольшую артистическую, и я оттуда вошла к папе. В это же время со сцены вваливаются Пастернак и старая актриса Массалитинова и бросаются друг к другу с двух сторон, вот так обнялись, оба плачут, рыдают: “Да, да, вот так надо писать, вот так надо писать, какой Толстой, какой Толстой”, – повернулись и убежали.
И еще. Дом ученых. Это был период, когда у папы никак не получалось “19 октября”: “Роняет лес багряный свой…” Пушкинский концерт в Доме ученых, и папа читает “19 октября”, и ему кажется, что опять у него не получилось. И он такой измученный, расстроенный, на самого себя злой, а он ведь такой неврастеник был ужасный, я прям чувствовала, как у него болели все нервы, когда что-то было не так. Борис Леонидович пришел за кулисы и что-то стал говорить, а папа, представляете, папа, который его боготворил, говорит: “Не могу, не могу сейчас, не могу”. Вот я сейчас показываю похоже: “Не могу, не могу сейчас, Борис Леонидович, простите, простите, в другой раз, Борис Леонидович, я не могу”. “Да, да, да, дорогой”, – отвечает он. На следующий день папа опомнился и чуть ли не на коленях с телефонной трубкой звонит: “Борис Леонидович, какой ужас, что я наделал, простите, простите меня, я, вы…” – “Перестаньте сейчас же, это было совершенно нормально. Вы знаете, я днем был в Гослите, и там девочки-редакторши, они учили меня писать стихи, вот это было ненормально, а вечером вы устали, у вас не получилось, и вы не хотели ничего слушать, и это было нормально”.
Я не знаю, что случилось, но почему-то за какое-то время до смерти, до болезни Бориса Леонидовича кончились приглашения родителей к нему на обеды в Переделкино. Сейчас, когда я читаю о Пастернаке, то думаю, что, возможно, они перестали быть ему интересны, потому что стало интересно только то, что вокруг Ивинской. Я не знаю. Все началось еще до истории с “Живаго”.
А когда случился скандал с романом, я помню, как папе кто-то говорит: “Как, как ты мог? Ты трус. Почему ты не поехал к Борису Леонидовичу?” А папа сказал: “А он не хочет меня видеть”. А дома, может быть, немножко все и трусили. Ну не знаю. Всё может быть. Я только знаю, как он боготворил Бориса Леонидовича, так он, наверное, никого не боготворил. Вот с дядей Веней Кавериным они гуляли по Переделкино, папа иногда прям неделями жил у Кавериных. Они как-то встретились с Борисом Леонидовичем, поговорили, поговорили и разошлись. Папа говорит Каверину: “Я не знаю, что такое, мы перестали у него бывать, нас не вспоминают, не зовут”. А дядя Веня говорит: “Ну хочешь, я спрошу?” Папа отвечает: “Спроси, меня это так мучает”. Дядя Веня спросил, а Борис Леонидович ему на это сказал: “Ах, мы перед ними так виноваты, так виноваты” – и ушел. И не сказал, что, чего, кто и почему. “Ах, мы перед ними так виноваты, так виноваты”. Но после этой встречи с дядей Веней их позвали к Пастернакам обедать. Там была смешная фраза Бориса Леонидовича, когда они сели за стол: “Боже мой, у нас сегодня вторые тарелки, ах, у нас же гости”. Это, по-моему, один из последних, может быть, даже последний раз, когда папа его видел.
Н. Г.: А какие с Нейгаузом у папы были отношения?
Н. Ж.: У папы? Да дивные. Они обожали друг друга, но не так часто виделись. Кстати, Рихтера папа первый раз увидел, когда Борис Леонидович читал перевод “Гамлета”. Пришел Генрих Густавович, и пришел папа. Борис Леонидович тогда к папе: “Ну, почитайте, почитайте”, – и папа начал читать “Медного всадника”. Вдруг Генрих Густавович заплакал и замахал руками: “Не надо, не надо «Медного всадника»”. – “Почему, почему?” – “Я когда сидел, я все время читал «Медного всадника», я этим спасался”. И Борис Леонидович: “Ну не надо. Но все-таки Пушкина, Пушкина!” – и папа стал читать Пушкина. А Борис Леонидович говорит Нейгаузу: “А тебе не показалось, что сейчас на минуточку из-под стола выглянул Пушкин?”
Вокруг Даниила Андреева[36]
Диалоги с соседом Добровых по коммуналке В. Я. Алексеевым
Дом Добровых в Малом Лёвшинском переулке, 5, в котором до ареста в 1947 году прошла жизнь писателя Даниила Андреева, был открытым московским домом.
О доме Доброва в своей мемуарной прозе “Начало века” в главе “Старый Арбат” вспоминал Андрей Белый: “…Дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым…” До революции и после в доме побывало множество знаменитых людей: Андрей Белый, Константин Игумнов, Леонид Андреев, Борис Зайцев, Марина Цветаева.
Глава семьи Филипп Александрович Добров (1869–1941) был известным в Москве доктором, работал в Первой Градской больнице. В семье Добровых старшему сыну полагалось наследовать профессию врача, поэтому Филипп Александрович и стал доктором, хотя страстно любил историю и музыку, которую хорошо знал, прекрасно играл на рояле. Женой доктора Доброва была Елизавета Велигорская, тетка Даниила Андреева. В этот дом после смерти матери, любимой жены Леонида Андреева, Шурочки Велигорской, привезла Даниила его бабушка Евфросинья Варфоломеевна Велигорская (Буся).
Когда я писала об истории дома в Малом Лёвшинском и тех, кто с ним был крепко связан, я не знала самого главного – где же он стоял. Его давно уже разобрали, и след дома исчез. И вот уже после выхода книги стали приходить всё новые свидетели, соседи и рассказывать всё новые подробности.
С середины XVII века в этих местах находилась слобода стрельцов, где была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Лёвшине. Ее каменное здание возвели в начале XVIII века. Теперь на месте одной части дома в Малом Лёвшинском переулке кусты и асфальтированная дорожка. А на другой по адресу – Малый Лёвшинский, дом 5, корп. 2, – возвышается восьмиэтажный элитный жилой дом “Стольник”, буквально втиснутый в историческое пространство.
Зимой 2016 года я ходила по этим местам с соседом Добровых по коммуналке Вячеславом Яковлевичем Алексеевым. Он-то и показал мне, где стоял дом Добровых, и рассказал, что ему запомнилось (хотя ему было всего пять лет), когда Даниила Андреева арестовывали. Событие это было настолько ярким, что отпечаталось в его детском сознании.
В. А.: Родился я в роддоме Грауэрмана. Когда жили здесь Добровы, случилась революция, и в 1923 году позакрывали все монастыри в Москве, ну почти все. По крайней мере, Новодевичий монастырь точно. Там служила монахиней тетя Феклуша, дедушкина сестра, и когда Добровых уплотняли, ее подселили к ним, и она стала работать у них стряпухой.
Замечу в скобках: в письме Е. М. Добровой к Вадиму Андрееву от 5 марта 1927 года за границу, куда он уехал после революции, есть упоминание о монахине, которая жила в Добровской семье: “…живет у нас Феклуша, которая ходила за маминой и Бусинькиной (бабушка Вадима Андреева. – Н. Г.) могилами, а теперь живет у нас, так как ей некуда деваться”[37].
Н. Г.: Это была ваша двоюродная бабушка?
В. А.: Да. Я ее смутно помню, она умерла в 1945-м. Ей было под восемьдесят. Жили в полуподвале кухни у Добровых.
Н. Г.: Получается, ее поселили к Добровым, а ваша мама уже потом приехала к ней, своей тете, жить?
В. А.: Да, все верно. Мама с 1919-го, значит, приехала она сюда в 1933 году. То есть семейство Добровых уже десять лет как было уплотнено. Мама поступила в техникум при заводе “Серп и молот”. Начала работать по зерносушилке элеватора. Чертежник, а потом инженер-конструктор. Вот вся ее карьера. Прожила она восемьдесят три года. Я появился на свет в 1942-м, осенью.
Н. Г.: А где была комната тети Феклуши?
В. А.: Значит, в первой комнате, если от парадного входа, жил Даниил Леонидович со своей женой Аллой. Дальше Ломакины, Мартыненко, Макаренко, потом была кухонька, напротив кухни жила моя мама, сначала с тетей Феклушей, а потом это стала ее комната. Их комната – бывшая туалетная, то есть умывальня. Да и рядом ванная. В комнате был двадцать один метр, она была разделена вдоль как бы буквой Т: перед входом маленький тамбур и дальше комната в два окна. В другой половине жила некая Ольга, я ее очень смутно помню, такая решительная дама из рабфака. После того как забрали Андреевых и Коваленских, она выехала, ей дали комнату, отдельно где-то, все намекали, что она сексот или кто-то в этом роде. Мама про себя рассказывала, что ее тоже вызывали на Лубянку, но она им сказала: “Я повешусь”.
Еще одно упоминание о Феклуше есть в воспоминаниях о Данииле Андрееве: “Я так и не узнала, была ли здесь у нее (имеется в виду сестра Екатерина Михайловна Велигорская-Митрофанова. – Н. Г.) своя комната, или она ютилась вместе со старой няней Феклушей в полуподвальной кухне, довольно просторной и мрачной, где мы с нею беседовали во время наших посещений”[38].
Схема квартиры Добровых. Надпись: “Доктор Филипп Александрович Добров и его семья. Москва.
Пречистенка, Малый Лёвшинский пер., дом № 5, кв. 1”. Рисунок Бориса Бессарабова. 1919
В. А.: Аресты были в апреле 1947 года. Москва только вышла из войны, хотя носили еще, как я помню, стратостаты, еще были кресты на окнах…
В тот день около дома стояла полуторка. Вы такие машины, наверное, видели в кино. Внутри сидели автоматчики. Мы возвращались откуда-то домой, и я помню, как нам сказали: “Кто вы такие?” Потом меня с моим товарищем, Лёшей Ломакиным, сыном Василия Васильевича Ломакина, закрыли в комнате, а мы же обычно бегали. Но тогда нас не выпускали. И вдоль коридора стояли четыре человека автоматчиков…
Н. Г.: Прямо с автоматами?
В. А.: Да, да… Может, кто-то и с винтовкой, но автоматчики точно были. Потом, где-то через неделю, как я понимаю, когда Даниила Леонидовича уже забрали, прибегает Александра Филипповна (Доброва, сестра Д. Андреева. – Н. Г.) к маме моей, Анне Петровне: “Анечка, мы ни в чем не виноваты, дай нам, пожалуйста, икону, чтоб нас спасти! Чтобы Спас защитил нас!” У нас была икона тети Феклуши, из Новодевичьего монастыря, старинная, я думаю начала XIX века. Мама сняла икону, отдала им. Хорошая икона очень, а она отдала нам свою домашнюю икону Богородицы Казанской, кажется.
Н. Г.: А следующие аресты вы помните? Как забирали остальных?
В. А.: Нет, не помню. Понимаете, я же был пятилетний мальчик. Я только видел, что на двери наклеен сургуч. Квартиры стояли года два, вот так стояли пустые, закрытые.
Даниил Андреев.
1930-е
Если зайти с улицы, наш дом выглядел так. Вход, потом лестница – семьдесят восемь ступенек, а по бокам закрытые шкафы, даже не шкафы, а как бы лари, можно было крышку поднять. Там хранили всякие вещи. При входе стояло великолепное венецианское зеркало. Такое стрельчатое красивое, в оправе деревянной. В коридоре были, как я сейчас помню, ковры, ковровые дорожки. В маленьких комнатах, где жил Даниил Леонидович и где жили Коваленские, еще стояли ломберные столики. Там, может, раньше в карты играли, а потом уже, наверно, прессу читали.
Что меня поразило, когда открыли двери их комнат, сразу стали выносить всю мебель. Вот это зеркало огромное снимали несколько солдат, потом стали на полуторку его громоздить, и оно разбилось… Вот это действительно несчастье. Это реликвия была, думаю, еще до Доброва, может быть.
Мы шли по Малому Лёвшинскому переулку. Мне было интересно всё, что он рассказывал об этих местах, в которых жило много известных людей.
В. А.: Раньше здесь было две слободы – Зубовская и Лёвшинская, стрельцов Лёвшиных, потом здесь была усадьба дворянская, вот чья она – врать не буду, но дома построены уже после пожара Москвы, так как здесь жил Кропоткин, этот район старой конюшни он назвал, если вы помните, Сен-Жерменское предместье Москвы. Наш дом пять обычно пишется на подклете, но на самом деле здесь был полуподвал. Над подвалом был так называемый бельэтаж – не первый, а именно вот выше, чем первый. Вот здесь была дверь одна, которая вела на второй этаж. Первый этаж после пожара Москвы всегда был кирпичный. Вот, значит, первый этаж кирпичный, второй деревянный. Тут крыльцо было примерно. Вот это ворота были во двор, в полуподвале жил дворник Сдобновый, на засов всё закрывал, он и доносил, я так понимаю. Церковь была там, которую я не застал уже.
Дом 5 в Лёвшинском переулке.
1968
Ну, если вы знаете такую московскую особенность, все дворы были отделены друг от друга заборами. Поэтому дом пять – это наш. В дом семь – попробуй сунься.
А здесь были дровяные склады. Газ провели в 1947-м, когда Добровых уже не было. Здесь бегали и дразнили местного дурачка, не знаю, кто он был, мне и жалко его было. Там, напротив, – институт Сербского.
P.S.
Через какое-то время после этого разговора с В. Я. Алексеевым в ГАРФе (Государственном архиве Российской Федерации) нашелся еще один документ по де-лу Андреева. Он относился к февралю 1957 года. В это время Даниил Андреев находился именно на освидетельствовании в институте Сербского – на соседней улице с Малым Лёвшинским, улицей, где стоял дом, где прожил он всю свою жизнь и из которого его забрали десять лет назад.
Малый Лёвшинский переулок. Справа на месте современного дома и дорожки между домами стоял дом Добровых
В документе говорилось:
По делу Андреева Д. Л. постановлением особого Совещания при МГБ СССР от 30 октября 1948 года Андреев Д. Л., 1906 г.р., художник, беспартийный, служил с 1942 по июль 1945 г. в С. А., осужден к 25 годам тюремного заключения.
Кроме того, по этому делу были осуждены Коваленский, Андреева, Добров и др., всего 19 человек, протест о них не выносится.
Андреев Д. Л. признан виновным в том, что создал антисоветскую террористическую группу и руководил ею. Кроме того, лично готовил террористический акт против бывшего главы Советского Правительства, на протяжении длительного периода писал и распространял литературные произведения антисоветского содержания. В 1941 году высказывал пораженческие настроения… <…>
Антисоветская деятельность выразилась в том, что он в 1945/1947 годах писал роман “Странники ночи” и давал читать своим знакомым. В этом произведении он клеветал на советскую действительность и призывал к борьбе с советской властью вплоть до применения террора. В антисоветской агитации Андреев на предварительном следствии полностью признал себя виновным, но затем в своих жалобах от этих показаний отказался. Фактически же он в этих жалобах еще раз подтвердил свое враждебное отношение к советскому строю, утверждая, что, не убедившись еще в “существовании в нашей стране подлинных гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советского строя[39].
Даниил Андреев.
1959
Напомним, что участие в терроризме и создание террористической организации Андрееву вменялось потому, что в его романе “Странники ночи” был некий герой из антисоветского подполья по фамилии Серпуховской, на самом деле иностранный шпион.
Алла Андреева писала, что, согласно замыслу романа “Странники ночи”, Серпуховской, связанный с разведкой, был участником разработки планов террористических актов, ожидающим возможности начать реальные действия. “Алексей Юрьевич Серпуховской – экономист. Едкий, полный сарказма, офицерски элегантный и подтянутый, обладающий ясным и точным умом, он в своем докладе производит полный разгром советской экономики и излагает экономические основы жизни общества, которое должно быть построено в будущей свободной России”.
Следователи, считая роман руководством к действию, искали как самого Серпуховского, так и его группу, допрашивая о ней самых разнообразных людей.
И все-таки летом 1957 года, несмотря на ответ из МГБ, дело Андреева пришлось прекратить. Даниила Андреева освободили.
Поиски
Поиски Александра Коваленского
Есть такие документальные сюжеты, которые вряд ли будут мною продолжены. Но они все равно стучатся и приходят, обросшие какими-то новыми подробностями и поворотами. Поэтому возникает необходимость писать дополнительные заметки, чтобы не пропали и не исчезли важные факты.
Все, кто когда-нибудь будут писать или исследовать жизнь Даниила Андреева, не смогут обойти фигуру поэта Александра Викторовича Коваленского. Он вошел в знаменитый Добровский дом в Малом Лёвшинском, 5 в 1923 году как муж Шурочки Добровой, двоюродной сестры Даниила. Коваленские были соседями Добровых (они жили рядом, в доме № 3), и роман Александра и Шурочки развивался прямо под окнами Добровского дома. Коваленский был троюродный брат Блока и сам оригинальный поэт-мистик. С юности он был нездоров. У него был туберкулез позвоночника; больше года он пролежал в постели и носил гипсовый корсет. Поселившись в доме Добровых, сблизился с Даниилом Андреевым, на которого оказал большое влияние. Ольга Бессарабова, которая часто бывала в 1920-е в доме Добровых, написала о нем в дневнике: “Александр Викторович пишет что-то о лимурийцах, о Люцифере, о Лилит, о грехопадении. Он последний в роде, предки его насчитывают семь веков. В роду его были кардиналы, всякие удивительные люди. Даже привидения есть, у них в доме все как следует! По ночам кто-то будто ходит по дому. Иногда – враждебное, иногда доброе (благосклонное). В доме бывают молебны, кропят комнаты святой водой. Но пока существуют рукописи Александра Викторовича, в доме неизбежны всякие присутствия. Он их не уничтожит. Против враждебных сил – молитва и крест, а светлым силам мешать не подобает”.
Александр Коваленский.
1920-е
В то время мистический опыт, в избытке пережитый людьми за годы революции и войны, становился для таких, как Коваленский, личным “фаустовским” путем искания Истины. Разрыв эпохи обнажал бездну, из которой появлялись и разнообразные “рыцари-розенкрейцеры” (например, знаменитый в Москве поэт-импровизатор Борис Зубакин), и последователи Рериха с их поиском Шамбалы, и многочисленные группы любителей оккультного знания, куда входили многие актеры, режиссеры, историки, искусствоведы.
Так как Коваленский, как и многие другие, не мог издавать свои стихи, он ушел в детскую литературу, а потом нашел себе работу в артели по производству игрушек. Он делал модели самолетов, машин и даже в какой-то момент заведовал в калужской тюрьме производством моделей игрушек. В своей автобиографии он писал: “С 1930 года я все более и более втягивался в работу над конструкциями авиационных двигателей, моделей и полуфабрикатов. С 1931 года начал работать в Комитете по оборонному изобретательству при ЦС ОАХ СССР, затем в Авиатресте, конструктором-консультантом, а с 1933 года – <…> по организации новых производств в Исправительно-трудовых колониях, где проработал до 1938 года (УНКВД)”[40]. Видно, как он старался вписаться в новую реальность, если даже его не испугал пятилетний опыт работы в системе НКВД.
Тем не менее для Даниила Андреева Александр Коваленский – средоточие скрытых талантов и тайн.
Наверное, именно поэтому Коваленский становится прототипом главного героя потаенного романа “Странники ночи” – Адриана. Даниил Андреев начал писать роман в 1937 году, в котором пытался рассказать о мрачной эпохе арестов и ссылок, о московских углах, где продолжала теплиться культурная и религиозная жизнь. Люцифер, о котором Коваленский писал стихи и чьим предстоятелем себя иногда называл, оживет в этом герое. Идея, которую Даниил Андреев вложил в образ Адриана, состояла в том, что то зло, которое торжествует теперь на земле, Христу так и не удалось победить, поэтому ему придется повторить подвиг Спасителя – вызвать на себя смерть с последующим воскресеньем для пересотворения мира. Даниил Андреев, в комнате которого висел врубелевский “Демон поверженный”, называемый им “демоническим инфрапортретом” и “Иконой Люцифера”, – видел в фигуре Адриана из “Странников ночи” образ богоборца, который считает, что в его руках спасение человечества от нового зла. В конце романа Адриан избавляется от безумного замысла; его спасает любовь Ирины Глинской, в которой несомненно прочитывались черты двоюродной сестры Данииила – Шурочки.
После войны Даниил Андреев возобновил работу над романом. В доме появился новый человек – Алла, жена Даниила. Стал возникать дом-салон с гостями и читкой отдельных глав вслух, что в тех условиях было невероятно опасно. И хотя роман читался в основном близким людям, в окружении оказался человек, передавший роман в руки чекистов. Всех, кто слышал, читал или даже просто знал о существовании романа, арестовали в 1947 году. Сначала увели Даниила и Аллу Андреевых. Затем Коваленского. Осталась одна Шурочка Доброва. Когда ее забирали, девочка-соседка услышала страшный крик: “Что с ним?!” Это Шурочка требовала, чтобы ей сказали о судьбе любимого мужа. Ее увели. По радио в это время играли 2-й концерт Рахманинова – почему-то запомнила девочка. Сам Даниил Андреев через несколько дней после ареста привел следователей МГБ к своему дому, где под крыльцом был закопан последний экземпляр романа.
Шурочка отсидела срок в Мордовском лагере Потьма и уже к концу срока смертельно заболела и умерла, а больной с юных лет Александр Коваленский – выжил. Освободившись, он поехал в Мордовский лагерь и забрал оттуда тело жены. Ему удалось даже похоронить ее в общей могиле Добровых на Новодевичьем кладбище. Он написал Даниилу Андрееву жесткое письмо (он всегда был убежден, что именно его беспечность разрушила все их жизни).
“Я совершенно уверен, – писал Коваленский Даниилу Андрееву в тюрьму, – что, кроме тепла, у нее не осталось к вам другого чувства. Во всем случившемся она видела именно развязывание узлов, завязанных нами самими и ею в том числе, но как и почему – я говорить сейчас не в состоянии… Да, я видел то, что дается немногим. И под этим Светом меркнет всё без исключения. Я не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, почему именно мне, такому, как я был и есть, дан был такой неоценимый дар? И пока я пыжился что-то понять, читал, изучал, сочинял стихи и прозу – она шла и шла по единственной прямой, кратчайшей дороге. И пришла туда, куда я не доползу без ее помощи и через тысячу лет. Но я знаю, я чувствую, что эта помощь есть…”
Это письмо хранилось у Аллы Андреевой, и на сегодняшний день опубликован лишь его небольшой фрагмент в книге Бориса Романова о Данииле Андрееве[41].
После возвращения из лагеря в Москве у Коваленского уже не было ни дома, ни угла. Их комнаты в Добровском доме были заселены другими людьми. Он скитался по друзьям и знакомым. Приходил к подруге юности Даниила Зое Киселевой. Она была абсолютная красавица и вела тайную жизнь катакомбной христианки. Много катакомбников после уничтожения мечёвской общины[42] было прихожанами в храме Ильи Обыденного. Но уцелеть в Москве могли только семейные, годами проверенные общины. Многие из них считали, что живут в СССР в условиях оккупации. Эти семьи были очень осторожны и не пускали к себе даже знакомых. Но у Киселевых Коваленского кормили и поили, и на какое-то время ему показалось, что он сможет с Зоей соединить свою жизнь. Зое он тоже очень нравился, но теперь уже в дело вмешались родственники, и их разлучили.
Еще одна женщина издалека, но очень долго была влюблена в Коваленского. Я нашла ее имя – это Елена Павловна Омарова[43], одноклассница Даниила Андреева. Именно у нее, вероятно, и хранился архив Коваленского, умершего в 1968 году.
Когда мы с Галиной Мельник расшифровывали дневники Варвары Малахиевой-Мирович и пытались найти все ниточки, ведущие от Добровского дома, и, в частности, узнать о судьбе Александра Коваленского, то не оставляли попытки найти детей Елены Павловны. Было известно, что Елена (Нелли) Омарова, она же Нелли Леонова, училась в одном классе с Даниилом Андреевым и дружила с ним, он часто ездил к ней на дачу. Она преподавала французский язык, даже писала учебники, умерла в 1984 году. Ее дети были еще сравнительно молодыми людьми, и мы стали их искать. Мы искали в интернете адреса и телефоны на фамилию “Омаровы”, но все было безрезультатно. И тут Галя сделала остроумное предположение: а что если букву “о” в начале фамилии сменить на “а” и искать Амаровых. Я начала поиски. И как только обнаружился человек, которого звали Амаров Адриан Борисович, я почувствовала, что я у цели. Выяснилось, что он был инженером, и я довольно быстро нашла институт, где он работал. Институт был огромный, и, когда я туда позвонила, мне давали то один номер, то другой. И в конце концов, в отделе кадров мне сказали, что он недавно умер. Ниточка оборвалась.
Но вот в результате дальнейших поисков я обнаружила двух его сыновей, с которыми он, по всей видимости, давно не жил. Они долго не желали со мной разговаривать, пугались, спрашивали, откуда я знаю об их бабушке. Потом все-таки дали телефон своей тети, сестры отца. Ее звали Елена Борисовна. Взяв трубку, она долго не хотела признаваться, что она – это она, она расспрашивала, кто я, зачем, задавала наводящие вопросы. Допрос продолжался минут двадцать, пока она не призналась, что она и есть Елена Борисовна. Наконец рыдающим голосом сказала, что ее настолько травмирует внезапная смерть близких, что ей неприятно на эту тему говорить. Я сказала ей, что о Коваленском, которого, видимо, так любила ее мать, почти ничего не известно. Что я прошу рассказать хоть то немногое, что она знает. Она стала говорить… Выяснилось, что у нее была двоюродная сестра, дочь арестованного маминого брата, которая росла вместе с ними (она тоже умерла совсем недавно), и родной брат – Адриан Борисович, и вот они-то вместе и занимались бумагами и наследием Коваленского. А теперь они ушли друг за другом, и у нее депрессия. Она не желает, не хочет этим заниматься. Ей тяжело читать мамины письма и т. д.
Я попросила разрешения позвонить спустя время еще. Она разрешила. Наши разговоры были в основном светскими. С одной стороны, она была согласна, что надо бы все отдать в музей и что, конечно, она так и сделает, но с другой… Возникала тысяча причин, чтобы откладывать, уходить в сторону. Однажды я все-таки уговорила ее прийти ко мне в Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, где я тогда работала. Просто так, для разговора. Передо мной была пожилая, но еще моложавая дама, которая с интересом разглядывала наш музейный подвал. Я видела, что для нее это путешествие – скорее развлечение. Всю жизнь она учила иностранцев русскому языку.
О прошлом семьи она рассказала немного. У Нелли, ее матери, до них был сын Андрей, мальчик невероятной красоты и талантов. Она сказала, что все буквально столбенели, когда он входил, и спрашивали, кто это. Мальчик умер, когда ему было десять лет. Мать “животом лежала на могиле” – так сказала Елена Борисовна – и выла. Спустя несколько лет ей удалось родить Адриана (его назвали в память погибшего Андрея) и ее, Елену. Их отец умер в 1950 году, когда они были совсем еще маленькие. Я ей не сказала, но подумала, что ее мать не могла не знать, что Адрианом звали главного героя “Странников ночи”, который был написан с Коваленского. Совпадение? Даниил был другом Елены Павловны. Дочь сказала, что есть их общая фотография в деревне.
Александр Коваленский.
1960-е
Нелли была влюблена в Коваленского. Она ездила к нему в лагерь “на кукушке” – это такой маленький поезд. Бабушка умоляла ее не ехать, все-таки двое маленьких детей, но тщетно. Она была бесстрашной. Взяла Коваленского жить к себе в Лефортово после лагеря. Потом они поженились. Детей, то есть их с Адрианом, он не замечал, хотя и был их крестным. В этом, видимо, и была главная проблема новой семьи.
В Луцыно под Звенигородом (рядом с Олечкой Бессарабовой) они снимали дачу на лето всей семьей. Коваленский тогда писал пьесу про космос, но ее так и не взяли в Малый театр. Леонид Тимофеев, стиховед, друживший с Коваленским, послал ему в лагерь длинное кожаное пальто, и тот именно в нем вернулся в Москву, очень худой и длинный. Дети в школе и во дворе спрашивали брата и сестру с издевкой, откуда у них дома появился этот высокий, худой дядька. Их с братом эти вопросы это очень задевали. Они вообще росли в постоянном страхе, но всё скрывали от матери. Они видели, что и Коваленский боялся всего. Потом, когда Елена Борисовна выросла, ей уже было восемнадцать лет, Коваленский тяжело заболел, и она на себе таскала его в туалет. Так она говорила. В ее словах не было ни капли теплоты. Только брезгливость. Да, у нее сохранилось несколько писем из лагеря в лагерь от Шурочки к Коваленскому. Есть еще какие-то бумаги. Но она не хочет к ним прикасаться.
Все дальнейшие разговоры и переговоры – ни к чему не привели. И я перестала звонить. Я давно уже поняла, что есть странное свойство бумаг и архивов – неведомая сила, которую невозможно преодолеть, сколько бы ты ни бился, чтобы получить хотя бы листочек, а бывает наоборот, когда письма и документы прилетают к тебе сами.
Чекистка
На полях очерка Марины Цветаевой “Дом у Старого Пимена”
“Дом у старого Пимена” Марины Цветаевой стоит отдельно от ее автобиографической прозы. Этот очерк более всего похож на притчу о старой, мрачной России, погибающей, тонущей вместе с детьми и внуками в новом времени. И, конечно же, образ старика Дмитрия Ивановича Иловайского – отца первой жены Ивана Владимировича Цветаева, Варвары Иловайской, рано умершей, и соответственно деда единокровных сестры и брата Марины Цветаевой, Валерии и Андрея, вырастает в символ – кряжистой, древней Руси, от которой скоро не останется и следа. Дмитрий Иловайский остался навсегда человеком XIX века, в ХХ век так и не перешедшим. Автор многочисленных трудов и учебников по истории, по которым учились гимназисты, одновременно он был ярым монархистом, выпускавшим черносотенную газету “Кремль”. Иловайский – ее единственный автор – был открытым и страстным антисемитом.
Дмитрий Иванович Иловайский.
1910-е
Старику Иловайскому противостоят новые люди. Это большевики и чекисты. Цветаева пытается различить их лица, лица новых хозяев России. И они появляются на страницах очерка. Первый – ее сосед по квартире в Борисоглебском. О нем кое-что известно. Загадочной оставалась до последнего времени женщина-чекистка.
Но все по порядку.
В 1920 году большевики забрали Иловайского в ЧК. В то время ему было почти девяносто лет. Узнав, что его арестовали, Цветаева попыталась вызволить “чужого” дедушку через своего соседа по квартире в Борисоглебском переулке.
«“Генрих Бернардович!” – “Да?” – “Нечего сказать, хороши ваши большевики – столетних стариков арестовывают!” – “Каких еще стариков?” – “Моего деда Иловайского”. – “Иловайский – ваш дед?!” – “Да”. – “Историк?” – “Ну да, конечно”. – “Но я думал, что он давно умер”. – “Совершенно нет”. – Но сколько же ему лет?” – “Сто”. – “Что?” Я, сбавляя: “Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина”. – “Помнит Пушкина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но это же – анекдот… Чтобы я… я… историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал…” – “Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана”. – “Да, – быстро и глубоко задумывается, – это-то – действительно… Позвольте, я сейчас позвоню… – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ… недоразумение… Иловайского… да, да, тот самый… представьте себе, еще жив…”»
Елена Усиевич.
1920-е
Тут еще надо заметить, что Цветаева часто путает годы. Ей казалось, что Иловайский сидел в ЧК, а затем умер – в 1919 году, но это ошибка. Он скончался 15 февраля (а по другим данным 20 ноября) 1920 года, а в ЧК сидел, судя по всему, в первые недели 1920 года. Смерть и стала итогом его заключения. После того как Цветаевой удалось вызволить Иловайского, к ней пришел ее брат Андрей.
“На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда». – «Знаю». – «Три недели просидел. Ругается!» – «А ты сказал, через кого?» – «Да что ты!» – «Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс». – «Да что ты, матушка, он, если узнает – обратно запросится!»”
И вот неожиданное продолжение этой истории. Спустя год Цветаева со своей подругой Татьяной Скрябиной оказывается в гостях в доме, где внезапно слышит рассказ о том, как Иловайского допрашивали в ЧК. Скорее всего, это происходит зимой в конце 1920-го или в начале 1921 года, просто потому, что в начале 1920-го Цветаева и Скрябина еще не знакомы. Они узнают друг друга только летом 1920 года, когда будут провожать в эмиграцию жившего по соседству в Николопесковском переулке поэта Константина Бальмонта, и после этого уже подружатся.
“Которая зима? Все они сливаются в одну, бессрочную. Во всяком случае, зима «прыгунчиков», непомерно высоких существ в белых саванах, из-за белого сугроба нападающих на одинокие шубы, а иногда и, под шубой, пиджачную пару, после чего – уже запоздалый ходок – в белом, а непомерно высокое существо, внезапно убавившись в росте – в шубе. Так вот этой зимой прыгунчиков захожу с ныне покойной Т. Ф. Скрябиной к одним ее музыкальным друзьям и попадаю прямо на слова: «Необыкновенный старик! Твердокаменный! Во-первых, как только он сел, одна наша следовательница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа – пять томов судебного уложения. И когда я ей: “Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так убить можно!” – он – мне: “Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не страшусь, а книг уж и подавно – я их за свою жизнь побольше написал”. Начинается допрос. Товарищ N сразу быка за рога: “Каковы ваши политические убеждения?” Подсудимый, в растяжку: “Мои политические убеждения?” Ну, N думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: “Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?” Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: “К Ленину и Троцкому? Не слыхал”. Тут уж N из себя вышел: “Как не слыхали? Когда весь мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?” А тот, наставительно: “А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются”. Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»
– Историк Иловайский?
– Он самый. Как вы могли догадаться?
– А как вы думаете, он про них действительно не слыхал?
– Какое не слыхал? Конечно, слыхал. Может быть, другие поверили, я – нет. Такой у него огонь в глазах загорелся, когда он это произносил. Совершенно синий!
Рассказчица (бывшая следовательница Чека), сраженная бесстрашием деда и многих других подсудимых, менее древних, следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые – люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдел игрушек. Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын…”
Кем же могла быть эта женщина, бывшая следовательница ЧК? Что же за дом, в котором они со Скрябиной ее встречают? И почему Цветаева пишет о ней с такой симпатией?
Для того чтобы найти чекистку, которая присутствовала на допросе Дмитрия Иловайского, и квартиру, где она все это рассказывает, пришлось перебрать весь круг знакомых Цветаевой и Скрябиной. Все нити приводили в дом Татьяны Скрябиной.
Оказалось так, что из дома композитора Скрябина в Николопесковском переулке Советская власть организовала музей, директором которого личным распоряжением Ленина и назначила Татьяну Шлецер (Скрябину) – его гражданскую жену, вернувшуюся из Киева в голодную Москву. Она поселилась в доме покойного мужа с двумя дочерями и старой матерью-бельгийкой. Несмотря на то, что после гибели сына – талантливого юного композитора Юлиана (мальчик утонул в 1919 году в Киеве), она переживала тяжелейшую депрессию, ее дом был всегда открыт для друзей и знакомых, которых она старалась подкармливать положенным ей пайком.
Дом Скрябиных.
Большой Николопесковский, д. 11
В воспоминаниях подруги Ариадны Скрябиной Екатерины Жданко, которая жила у них в доме, говорится, что здесь часто бывала и даже ночевала некая Леночка. На следующих страницах Жданко раскрывает ее имя: “Елена Усиевич (ее отчество мне осталось неизвестным, окружающие звали ее просто Леночка) проживала тогда со своим малолетним сыном во 2-м Доме Советов в здании гостиницы «Метрополь». Всегда веселая и жизнерадостная, Леночка оказывала благотворное влияние на больную, иногда подолгу оставаясь при ней. Ее маленький сынишка, жалуясь на постоянное отсутствие матери, как-то сказал: «Неудачная мне мама попалась…»”[44]
Нетрудно догадаться, что слова Цветаевой: “Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын”, – относятся к Елене Феликсовне Усиевич, дочери ссыльного революционера Феликса Кона, жене убитого в 1918 году большевика Григория Усиевича. Они прибыли с отцом и мужем в 1917 году в Россию из Швейцарии вместе с Лениным и другими большевиками в бронированном вагоне. В конце 1928 года Елена Усиевич стала популярным советским критиком.
Ариадна Скрябина и ее мать Татьяна Шлецер (Скрябина).
1918
Но почему Цветаева называет ее следовательницей ЧК? Ответить на такой вопрос могли бы только архивные данные. Но архива критика Елены Усиевич в РГАЛИ (Российском государственном архиве литературы и искусства) не оказалось. Все биографические сведения о ней были крайне скудны. Однако в ГАРФе обнаружилось дело, в котором человеку приходилось рассказывать о себе почти всё. Это дело о персональной пенсии.
Итак, автобиография Е. Ф. Усиевич:
“Родилась в семье политических ссыльных каторжан 1893 году в Якутске. До одиннадцати лет жила в Сибири, затем, по окончании срока ссылки родителей, училась в Николаеве. В 1908 была арестована за участие в уличной демонстрации, исключена из гимназии. Ввиду того, что мне еще не было 16 лет, вместо ссылки отправлена за границу, где в то время находился эмигрировавший отец. Жила в Кракове, во Львове, где изучила польский язык. Зарабатывала уроками, перепечаткой на машинке, мелкой журналистикой. По партийной принадлежности отца вступила в ППС (Польская социалистическая партия Polskiej Partii Socjalistycznej).
В 1914 году поехала с грузом нелегальной литературы, с фальшивым паспортом в Варшаву. Там, по возникшим разногласиям, вышла из ППС. В начале Первой мировой войны жизнь в Варшаве на нелегальном положении стала чрезвычайно опасной, пришлось скрыться. При попытке пробраться обратно в Краков была арестована в Соснице, посидела полгода в тюрьме Берлина, в начале 1915 года была освобождена и приехала в Цюрих Швейцарии. Здесь была принята в РСДРП Цюрихской секцией с Лениным во главе и в 1917 году в апреле вместе с Лениным приехала в Россию в так называемом пломбированном вагоне.
Работала в Москве в городском районе секретарем райсовета рабочих и солдатских депутатов. Выступала на митингах и собраниях большевиков, участвовала в подготовке Октябрьской революции.
В октябрьских событиях принимала участие в гор. районе.
После октябрьской революции работала в прод. комитете секретарем отдела труда и рабочей группы. В апреле 1918 года вместе с мужем была отправлена в Омск для работы по обеспечению республики продовольствием. Однако в мае начался чехословацкий мятеж, и пришлось перейти на военную работу. До сентября 1918 года я работала в штабе, принимала участие в боях. В августе погиб в боях мой муж.
В сентябре, вернувшись в Москву, была направлена на работу в гетмановское подполье в Харьков. Там работала до прихода в январе 1919 года Красной армии. Затем до осени 1919 года, то есть до вступления Деникина в город, работала в Киеве в Наркомвоенморе (Народном комиссариате по военным и морским делам. – Н. Г.), агитатором.
С начала 1920 года работала следователем особого отдела ЧК. (Выделено мной. – Н. Г.).
В 1925 году поехала на работу в Симферополь, где работала сначала зав. отделом, а затем начальником Крымлита (Крымский отдел Главлита, где цензурировались тексты. – Н. Г.)”[45].
Усиевич пишет, что с начала 1920 года работала следователем Особого отдела ЧК. О ее жизни в Москве этого времени есть еще кое-какие сведения. Приведем письмо пятнадцатилетней Ариадны Скрябиной Варваре Малахиевой-Мирович, которую она очень любила как наставницу, была с ней связана еще по Киеву, где они все вместе пытались укрыться от ужасов Гражданской войны. Там, возможно, они и познакомились с Еленой Усиевич. Оттуда же прибилась к ним давняя знакомая Добровского московского дома – Эсфирь Пинес. Ее называли андрогином. Не мужчина, не женщина, кокаинистка – но умевшая быть всем невероятно необходимой. Она буквально “вползала” в разные семьи и сеяла там раздоры и драмы. И вот об этом и рассказывается в этом письме начала октября 1921 года.
Москва – Сергиев Посад
Ариадна Скрябина – В. Г. Мирович
Дорогая Варвара Григорьевна.
Вчера впервые познакомилась с Ольгой Бессарабовой, которая произвела на меня чудное впечатление. Звала меня в Сергиево, но я, к сожалению, должна была отказать, так как не могу бросить дом даже на сутки.
Завтра поеду в санаторию навестить Елену Феликсовну (не знаю, знакомы ли Вы с ней, наверное, слыхали). Представьте себе, что она поехала в санаторию лечить свои нервы и недели в три сильно поправилась. Неожиданно приехала к ней Эсфирь, пробыла с ней час и в этот час довела ее до такого состояния, что она повесилась. К счастью, ее успели вовремя снять с петли и спасли, но теперь она почти в таком же состоянии, что и мама, жизнь ее в опасности.
Впечатление, которое она произвела на меня, когда я увидела ее после этого, невозможно описать. С тех пор что-то неотступно давит меня. Мне хочется умереть, я молю об этом Бога. У меня такое отвращение к жизни, что трудно справляться с собой. Не знаю, чем заткнуть сердце, чтобы хоть временно не сочилось. Ах, если бы я могла стукнуться с этой тварью и отомстить ей за все, за маму, за Леночку, за себя, раздавить ее как подлое насекомое. Никакой пощады, никакого прощения. Только месть могла бы удовлетворить меня. Понимаете ли, я не могу больше смотреть на это безобразие, на все эти гнусности, не могу. Хотелось бы уйти в себя, и невозможно, надо все время быть внимательным к окружающему.
У нас все по-прежнему. Маме не лучше, но и не хуже. Марина (младшая сестра. – Н. Г.) меня тревожит, бедненькая, лежит, не может сделать движения без стонов от боли в боку и груди. О моем здоровье говорить нечего.
Целую Вас горячо.
Ариадна[46]Ариадна Скрябина.
1920-е
Скорее всего, после своей недолгой службы в ЧК Усиевич вынуждена была лечить нервы в санатории, что нередко случалось в то время. Навещать ее ездила Ариадна Скрябина, о чем оставила письмо.
Сама Усиевич в личном листке пишет, что проработала в ЧК с 1920 мая до 1922 как следователь особого отдела ЧК, но Иловайский умер 15 ноября, получается так, что допрашивать его она не могла? Хотя, упоминая работу в ЧК в документах, Усиевич каждый раз пишет разные месяцы своей службы. И мы можем утверждать с точностью, что Усиевич – единственный человек в окружении Цветаевой, которую называют “чекистка”.
Это подтверждает еще один удивительный документ. Это дневник маленькой Ариадны Эфрон. Запись сделана “4 (русского) февраля”, то есть, если прибавить 13 дней, то мы получаем 17 февраля 1921 года. Девятилетняя Аля рассказывает, как они с Мариной Цветаевой и красноармейцем Борисом Бессарабовым, который иногда останавливался в их квартире в Борисоглебском, а теперь часто помогает по хозяйству, по просьбе Цветаевой, Татьяне Скрябиной, идут в некую квартиру в “Метрополе”, чтобы почитать стихи. Маленькая Аля, как известно, поразительно описывала все мелочи.
ВИЗИТ В МЕТРОПОЛЬ
…М<арина> сказала: “Ну что ж, пойдем”. Иногда Марина выпускала мою руку из своей для того, чтобы спрятать нос в свой соболий воротник. “А скажите, мила ли ч<екистка>?” – “Ну как Вам сказать? Птица”. – “Птица или птичка?” – “Пичужка, сухая такая”.
Перед нами в темной ночи темное здание, а во всех окнах свет. Это Метрополь. Марина сходит с тротуара и хочет перейти улицу, как вдруг прямо на нас несется огонь, вылетающий из громадного газетного столба. Народ в испуге. <…>
Идем и входим. Громадная комната. Ослепительный свет. <…> …Борис и Марина получают пропуска, и мы идем. Широкая, удобная каменная лестница. По бокам картины. На 1-м этаже пахнет котлетами, а на 2-м – сигарами, а на 3-м – ребенком, на 4-м – мiром…
В комнате, посвистывая и попевая, ходит молодой человек. Сразу чувствую его назойливость. Входим в комнату. Этот попевала сжимает ноги по-военному. Чекистка дала нам стул.
“Чекистка” – так называют между собой ее взрослые, Аля слышит их разговоры и повторяет за ними.
Ариадна Эфрон.
1920-е
Марина села, я встала около нее и стала осматривать стены. Картин не было, был только портрет неприятного молодого человека. Чекистка просит попевалу принести воды и сахару. Тот нехотя идет… <…>
Каким-то чудом на столе появились 2 чайника и 3 чашки. Чашек больше не было и стульев тоже. Кто не умещался на трех стульях, должен был садиться на крохотный диванчик, стоящий у письменного стола. Чекистка сажает нас, но вдруг что-то вспоминает: “Ах! Простите! У меня нет чайных ложек!” Но потом лицо просияло, и она достала десертную ложку, помешала у всех по очереди, а ложку спрятала.
На стене у чекистки надпись: “Ах, ох!” А под ней большая красная звезда с белой и желтой каймой. Попевала, не стесняясь, продолжает петь. Тогда чекистка повторяет свою просьбу, но уже с некоторой злобой: “Перестаньте, Коля, ведь спят же!” А Марина в свою очередь: “Кто спит?” И чекистка: “Мой маленький сын”. – “Покажите мне его, пожалуйста”. Чекистка вводит Марину и показывает ей мальчика.
Потом чекистка просит прочесть стихи. Марина достает из сумки кожаную тетрадку и читает: “Где вы, Величества”, “Цыганская свадьба”, “Ты так же поцелуешь ручку”, “Царские вины пейте из луж”, “Большевик”, “И так мое сердце на РеСеФеСеРом скрежет – корми не корми как будто сама была офицером в октябрьские красные дни”[47].
Молодой попевала сидел с каменным лицом и смотрел книжку про грудного ребенка. Чекистка по-настоящему благодарит. <…> Чекистка берет меня на колени и поправляет колпак. Спрашиваю, кто его шил. “Это Кирочка”. (Кирочка это – спекулянт Эсфирь, еврейка в мужском и в очках. Вампир.) <…>
Тут попевало говорит, что ему пора идти. Марина говорит, что нам тоже. Чекистка безумно просит сидеть. Но Марина все-таки идет. Она нас провожает до двери.
Ариадна Эфрон с матерью Мариной Цветаевой.
1920-е
Итак, мы видим Елену Усиевич 4 февраля 1921 года глазами маленькой Али. Судя по письму Ариадны Скрябиной, процитированном выше, Елена Усиевич близко сойдется и познакомится в семье Скрябиной с той самой Эсфирью (Кирой). А зимой 1921 года они все встретятся – Цветаева и Татьяна Скрябина – в открытом московском доме доктора Доброва в Малом Левшинском переулке, где рос маленький Даниил Андреев. В этой семье останавливался большевик Борис Бессарабов и Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович.
Один факт, о котором пишет Цветаева: “…следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые – люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдела игрушек…” – выдает некоторую путаницу, которая возникла в отношении Усиевич, которая никогда служащей кустарного музея игрушек не была. В Сергиевом Посаде в музее игрушек работала Варвара Малахиева-Мирович и, скорее всего, рассказывала об этом за общим столом в Доме Добровых. У Цветаевой просто перепутались в воспоминаниях разные люди.
Усиевич же и дальше служила Советской власти в самых разных качествах. В одном из ее учетных листков сказано, что с 1922-го по 1925 год она работает в некой секретной коллегии. Но не очень понятно, что это за коллегия, однако уже в 1925 году она едет на работу в Симферополь, где служит сначала зав. отделом, а затем начальником Крымлита. То есть главным цензором крымских издательств.
“В 1927 году, – пишет она, – принимала активное участие в борьбе с троцкистской оппозицией. В 1928 году вернулась в Москву, работала в издательствах и стала выступать с критическими статьями. В 1930 году поступила в Институт Красной профессуры. А начиная с 1932 года одновременно работала зам. директора института литры Ком. академии, с 1933 года член ред. колегии журнала «Лит. критик»”[48].
Она боролась с РАППовской пропагандой, благодаря чему, видимо, и пригодилась впоследствии. Давала возможность на страницах журнала “Литературный критик” печататься опальному Андрею Платонову. Но с пролетарской прямотой бросалась обличать Николая Заболоцкого и многих других писателей и поэтов.
И еще одно пересечение Усиевич с цветаевским миром происходит, видимо, в 1937 году, когда Ариадна Эфрон вернулась в СССР и в мае устроилась на работу в Жургаз.
В своих воспоминаниях Ариадна писала: “Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в жургазовской редакции журнала «Ревю де Моску». Телефонный звонок. «Ариадну Сергеевну, пожалуйста!» – «Это я». – «С Вами говорит Елена Усиевич. Вы помните меня?» – «Нет». – «Да, правда, вы тогда были совсем маленькая… Как вы живете, как устроились?» – «Хорошо, спасибо!» – «А как едите?» – «Да я, собственно, достаточно зарабатываю, чтобы нормально питаться», – отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. «Ах, я вовсе не про то, – перебивает меня Усиевич, – едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали… Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас кормила М<арина> И<вановна>! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать…»”[49]
Но есть вещи, которые Усиевич в автобиографии не писала. О том, что ее жизнь в 1937 году висела на волоске. Об этом вспоминает репрессированная впоследствии секретарь райкома Ксения Чудинова:
“Совершенно растерянная пришла ко мне в райком Елена Усиевич. Дочь известного российского и международного революционного деятеля Феликса Кона. Член партии с 1915 года, будучи в эмиграции в Швейцарии, она стала женой Григория Александровича Усиевича… В 1917 году Усиевич был одним из руководителей борьбы за Советскую власть в Москве, членом ВРК. Погиб он в Сибири от рук белогвардейцев. В 1918 году Елена с огромным трудом сумела бежать из Омска и по тылам противника добралась к нам в Тюмень, где мы уже считали ее погибшей. Она воевала в 1-й Конной армии. Стала видным литературоведом и критиком. Отличительной чертой ее характера была нетерпимость ко всякой лжи, это был человек редкой искренности и порядочности. Но очередь дошла и до Елены, в Союзе писателей ее обвинили в утрате бдительности, и ей угрожало исключение из партии. С большим трудом мне удалось убедить партком Союза писателей снять с Усиевич все подозрения и прекратить травлю. В годы Отечественной войны Елена Феликсовна вместе с Вандой Василевской участвовала в создании Войска Польского”[50].
Об этом факте Усиевич упомянула в своей автобиографии. “В 1944 году была командирована в польскую армию для редактирования газеты военного совета, предназначенной для переброски на оккупированную территорию. С конца 1944 года занималась исключительно лит. трудом, т. к. по состоянию здоровья почти лишена возможности выходить из дому”[51].
Умерла Елена Усиевич в Доме Правительства (Доме на набережной) в 1968 году, оставив множество статей и книг, посвященных социалистическому реализму. Жаль, что самые интересные сюжеты из своей биографии она, по всей видимости, унесла с собой.
Леван Гогоберидзе: “ …всё теперь только для архива”
На это дело я наткнулась абсолютно случайно.
Я искала разные обстоятельства жизни писателя Евгения Лундберга, давнего товарища Бориса Пастернака и друга Льва Шестова. Оказалось, что жена Лундберга Елена Давыдовна была сестрой Левана Давидовича Гогоберидзе, видного грузинского большевика, расстрелянного в 1937 году. Конечно, трагический конец Левана Гогоберидзе не мог не сказаться на судьбе Лундберга, который после своего эсеровского дореволюционного прошлого всячески пытался проявить лояльность советской власти. Его арестовывали в конце тридцатых годов, но вскоре он вышел на волю. Связан ли был его арест с репрессиями вокруг семьи Гогоберидзе, было неясно, и, пытаясь ответить на эти вопросы, я решила посмотреть дело Левана Давидовича о реабилитации.
Гогоберидзе занимал высокие посты в партии. В 1923–1924 годах стал заместителем председателя СНК ССР Грузии, а затем служил в представительстве СССР во Франции, где был на разведработе и занимался разложением грузинского меньшевистского подполья. В 1926–1930 гг. был 1-м секретарем КП КП(б) Грузии, а с 1930 года жил в Москве и до 1934-го учился в Институте Красной профессуры. В 1934–1936 годах возглавлял в Ростове-на-Дону “Ростсельмаш”, был секретарем райкома ВКП(б). Был арестован в октябре 1936 года.
Архивная папка с когда-то засекреченным делом поразила меня абсолютно сюрреалистическим сюжетом и увела далеко от истории Лундберга.
Содержимое представляло собой обширную переписку МВД с прокуратурой в ответ на запросы Елены Гогоберидзе и было посвящено активным поискам ее брата – Левана Гогоберидзе в тюрьмах и лагерях. Дело в том, что расстрелянный в марте 1937 года Гогоберидзе, по мнению сестры, остался жив и поэтому возникал в рассказах разных свидетелей аж до 1952 года, о чем она и пишет в разные инстанции.
Ходатайства по поискам Левана сестра начала с писем Микояну сразу же после ареста Лаврентия Берии в конце июня 1953 года. Когда-то в 1919–1920 годах Леван Гогоберидзе вместе с Микояном были в Бакинском подполье, там же в Баку в мусаватистской контрразведке работал молодой Лаврентий Берия. Елене Давыдовне казалось, что именно переданная следствию информация о двойственной роли Берии (а именно: его работе на вражескую разведку), хорошо известная в их семье, спасет еще живого брата.
16 июля 1953 г.
Дорогой Анастас Иванович!
Я одновременно пишу тт. Г. М. Маленкову и Н. С. Хрущеву, но к Вам обращаюсь как к единственному человеку среди руководителей партии, кто с самой юности, в течение многих лет знал моего брата Левана Давыдовича Гогоберидзе. Помню и то, как искренно Леван любил Вас.
Сегодня наконец настал час, когда воочию стало ясно, что человек, загубивший Левана, – враг народа. Берия загубил его сознательно, боясь разоблачений.
Вряд ли Вам доподлинно известно, как Л. Берия ненавидел Левана за то, что в руках Левана оказались в свое время (1933 г.) материалы, свидетельствовавшие о позорных фактах его биографии. Серго велел Левану молчать, пока не будут собраны неоспоримые доказательства. Следующие два-три года, если Вы помните, Леван тяжело болел, а затем наступил 1936–1937 год и Берия разделался с ним.
Умоляю Вас, дорогой Анастас Иванович, спасите Левана, если он еще жив – мы ничего о нем не знаем вот уже 17 лет. (Осужден он был уже в Ростове на 10 лет.)
Если он жив, он много мог бы раскрыть сейчас – ведь свидетелей начала политической карьеры Берии осталось в живых очень мало. Но и независимо от того, нужны ли сейчас партии такого рода свидетельства, напомните о Леване, а если Леван уже погиб, спасите хотя бы его имя, имя честного большевика, прошедшего славный путь бойца, преданного партии и народу.
Я не знаю, какие показания вынуждали его дать, возможно, он и оговорил себя, но пусть его осудит тот, кто не знает, какие “методы воздействия” применял в ту пору Берия на допросах тех, кого он считал опасными для своей карьеры.
Посылаю Вам копии двух последних, можно сказать, предсмертных записок Левана, написанных в 1937 г. во внутренней тюрьме НКВД в Тбилиси. Оригиналы я послала Г. М. Маленкову. Если у Вас найдется время, примите меня, может, на словах мне удастся сказать больше, чем можно написать в письме.
С искренним уважением,Елена Давыдовна ГогоберидзеМосква, 1, ул. Ал. Толстого, д. 16, кв. 10Телефон К 4-51-34[52]Сестра была уверена, что Леван Гогоберидзе был арестован и репрессирован именно потому, что поделился со своим другом Орджоникидзе и еще двумя товарищами информацией о деятельности Берии; считалось, что Берия сдавал своих соратников. Сам Берия не отрицал свою принадлежность к разведке, но всегда настаивал, что работал там на большевиков. Однако после того, как Берия стал хозяином НКВД, листы из его личного дела исчезли. Серго Орджоникидзе резко осудил Левана за неосторожность и приказал молчать, пока не будут собраны материалы, подтверждающие преступное прошлое Берии. Но как указывает Елена Давыдовна в другом письме к Микояну – два других товарища незамедлительно выдали Берии ее брата.
Но главное, что она пытается донести до Генерального прокурора – это свою уверенность, в том, что ее брат жив, потому что несколько свидетелей сообщили о том, что видели его на пересылке и в лагере.
27 января 1954[53]
Генеральному прокурору тов. Руденко
…В свое время, сейчас и после ареста Берия, я написала т.т. Г. М. Маленкову, Н. С. Хрущеву и А. И. Микояну все, что я знала еще с 1933 года о резких столкновениях Левана Гогоберидзе с Берия. Сведения мои, как свидетельствует из обвинительного заключения, оправдались, и Л. Д. Гогоберидзе полностью реабилитирован…
Одно я знаю твердо, что вопреки справке, данной МВД руководству и следственными органами, брат мой Л. Д. Гогоберидзе был еще жив в 1952 году.
Она молит Руденко принять ее лично. Дополнительно передает сведения о свидетелях, которые видели ее брата, и текст телеграммы.
Телеграмма из Енисейска:
Летом 1939 года встретила Левана Давидовича Гогоберидзе Владивостоке на пересыльном пункте я уехала в Магадан оставив Левана Владивостоке Дальнейшее его следование мне неизвестно предполагаю поехал Калыму Письмо Ваше получила 10 февраля посылаю ответ авиапочтой.
Леся Петросян[54]“Таким образом с абсолютной точностью выяснено, – утверждает Елена Гогоберидзе, – приговор, вынесенный Л. Д. Гогоберидзе, 21 марта 1937 года не был приведен в исполнение: летом 1939 года брат мой был жив и находился во Владивостоке”.
Как я Вам уже сообщала, есть и более поздние свидетельства: летом 1952 года Л. Д. Гогоберидзе видели в поселке Ягодном (в 700–800 км от Магадана), откуда он будто бы был переселен в Певек.
ГУЛАГ при желании может это легко проверить, да и, кроме того, есть же у ГУЛАГа, по крайней мере должны быть, свои списки, свой учет, своя картотека, если последние сведения оказались не вполне точными. Если я смогла снестись с Енисейском сама, то ведь дальше мы совершенно беспомощны!
Мы вас умоляем, Роман Андреевич, не говоря уже о страшной судьбе самого Левана, учтите, что пережила за эти семнадцать-восемнадцать лет наша семья, потеряв отца, мужа и единственного брата! – помогите нам своей властью и авторитетом”.
Колеса огромной машины начинают медленно поворачиваться. Генеральный прокурор Руденко вынужден послать письмо Министру внутренних дел генерал-полковнику Круглову с просьбой как-то прояснить эту запутанную историю. Нельзя забывать, что подобное требование исходит еще и от бывшего друга юности Левана Гогоберидзе – Анастаса Микояна. Руденко пишет:
5 февраля 1954
…Из материалов дела видно, что Гогоберидзе был осужден 21 марта 1937 года выездной сессией Военной коллегии ВСССС в гор. Ростове-на-Дону к ВМС – расстрелу. В деле имеется справка 1-го спецотдела МВД СССР о чем составлен акт, хранящийся в томе № 10 лист 191. Мною объявлено о расстреле Л. Гогоберидзе его сестре (автору заявления).
Однако Е. Гогоберидзе утверждает, что якобы она имела сведения из достоверных источников, что ее брат был жив в 1942–43 гг. В подтверждение Е. Гогоберидзе ссылается на заявление Л. Петросовой, которая якобы в 1942 году встречалась с Гогоберидзе в Магадане.
(прошу Вас проверить и известить прокуратуру)
Р. РуденкоК письму была приложена справка Елены Гогоберидзе:
…В 1945 или 1946 в Тбилиси вернулась, отбыв свой срок, Люся Аркадьевна Петросова (Петросян, сестра Камо). Она сказала, что видела Левана Гогоберидзе в 1942 году в Магадане[55]. Впоследствии Л. Петросян в числе других была выслана из Тбилиси – адрес – Енисейск, Красноярский край. (Сведения Л. Петросян абсолютно достоверны, потому что она хорошо знала Л. Гогоберидзе). В январе 1954 человек, вернувшийся из дальних лагерей, сообщил, что видел Левана Гогоберидзе в 1952 году в поселке Ягодное (700–800 км) от Магадана, откуда Л. Гогоберидзе был переведен в Павек, Чукотка, Дальствой, ГУ в Магадане.
Вот это свидетельство:
Я встречал Левана Давыдовича Гогоберидзе в 1952 году летом в поселке Ягодном (Северное управление Д. С.) на Колыме. Работал в поселковой столовой сторожем. Беседуя с ним, он мне сказал, что после окончания срока имеет высылку и в скором времени выйдет в Чаин (Чукотское Управление) в поселок Певек, через некоторое время я в поселке Ягодное его уже не встречал.
Теймураз Ираклиевич ВашкелевичДаже через бюрократические отписки органов видна их растерянность. Ведь они точно знают, что расстреляли! И номер, и страница, и даже час расстрела – всё есть. Правда, расстрельщики, как выясняется, тоже впоследствии были расстреляны. МВД снова и снова высылают копию страницы дела с документами о расстреле.
18 февраля 1954 (лист 12)
Совершенно секретно
Справка
Гогоберидзе Леван Давидович, 1896 года рождения, уроженец гор. Гогаджи Грузинской ССР, был арестован 22 октября 1936 года УНКВД Азово-Черноморского края по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58–10, 58–11 УК, и 21 марта 1937 года Выездной сессией ВК ВС СССР в гор. Ростове-на-Дону осужден к расстрелу.
Согласно предписанию заместителя председателя ВК ВС СССР тов. Матулевича от 21 марта 1937 года № 007, приговор приведен в исполнение в гор. Ростове-на-Дону в 16 часов 21 марта 1937 комендантом УНКВД Азово-Черноморского края Генкиным в присутствии помощника прокурора СССР Прусс.
Как предписание, так и акт об исполнении приговора написано на одно лицо – Гогоберидзе Левана Давидовича.
Акт хранится в особом архиве 1-го спецотдела МВД СССР.
Сведений о том, что ГЛД якобы находится в ссылке в Отделе “II” МВД не имеется.
Начальник 1-го спецотдела ПлетневТут выплывает еще один драматический сюжет. Так как сестре неоднократно сообщали из МВД, что ее брату дали “десять лет без права переписки” и что он не расстрелян, а просто исчез в дебрях ГУЛАГа, то властным органам было очень трудно доказывать обратное. Отмашки сверху на то, чтобы сообщать всем желающим, что формулировка “десять лет без права переписки” – это завуалированная ложь, призванная скрыть массовые расстрелы, еще не поступало. Елена Давидовна ссылалась Генеральному прокурору Руденко именно на то, что в МВД ей изначально и не называли дату расстрела. И это было не только историей семьи Гогоберидзе; сотни тысяч людей все это время ждали возвращения своих близких, получив такой же ответ из НКВД. Теперь отдельные граждане получили возможность поднять завесу тайны над тем, что творилось с их близкими после ареста.
И вот начинается вызов свидетелей по делу Левана Гогоберидзе.
1 марта 1954 года военному прокурору Цумареву А. С. отправляется запрос из прокуратуры о том, что необходимо вызвать Вашкелевича и узнать, писал ли он заявление, уверен ли, что человек, которого он видел, – действительно Леван Гогоберидзе. И часто ли он встречался с ним ранее.
В протоколе допроса говорилось, что Вашкелевич (1919 г.р., Тбилиси) – кладовщик, осужденный за хищение боеприпасов к восьми годам, видел Гогоберидзе и заявление писал. В лагере он заговорил с грузином, которому было на вид сорок восемь – пятьдесят лет. Тот назвался Гогоберидзе. Рассказал, что из Тбилиси и что не был там с 1936 года, сказал, что срок отбыл. За что осужден, не говорил, но и не рассказывал, что был первым секретарем Грузии. Их разговор продолжался около 30 минут.
Потом Вашкелевич, вернувшись в Тбилиси в 1952 году, сразу после освобождения, говорил местным жителям, что видел на Колыме Гогоберидзе. Эти сведения, видимо, и дошли до семьи. Но уверенности у него, что это тот самый Леван Гогоберидзе, у него нет.
И вот оказалось, что Вашкелевич не обманывал, он действительно встречал Гогоберидзе. В рассказе Варлама Шаламова “Александр Гогоберидзе” говорится о человеке, которому он отчасти и был обязан своим спасением на Колыме, который взял его на службу к себе в лагерную больничку. “Он был не просто фельдшер кожного отделения Центральной больницы для заключенных на Колыме. Он был мой профессор фармакологии, лектор фельдшерских курсов. Ах, как трудно было найти преподавателя фармакологии для двадцати счастливцев заключенных, для которых ученье на фельдшерских курсах было гарантией жизни, спасения”. Шаламов пишет, что Гогоберидзе в прошлом был директором крупного научно-исследовательского фармакологического института в Грузии.
Небольшой рассказ заканчивается тем, что в 1952 го-ду Варлам Шаламов едет в один из поселков Колымы и там узнает от врачей, что у Гогоберидзе был срок 15 лет и 5 лет поражения в правах. И вот оказывается, что теперь “Гогоберидзе поселился в поселке Ягодном, на 543-м километре от Магадана. Работал там в больнице. Когда я возвращался на место своей работы под Оймякон, я остановился в Ягодном и зашел повидать Гогоберидзе, он лежал в больнице для вольнонаемных, лежал как больной, а не работал там фельдшером или фармацевтом. Гипертония! Сильнейшая гипертония!
Я зашел в палату. Красные и желтые одеяла, ярко освещенные откуда-то сбоку, три пустых койки – и на четвертой, закрытый ярким желтым одеялом до пояса, лежал Гогоберидзе. Он узнал меня сразу, но говорить почти не мог из-за головной боли.
– Как вы?
– Да так. – Серые глаза блестели по-прежнему живо. Прибавилось морщин.
– Поправляйтесь, выздоравливайте.
– Не знаю, не знаю.
Мы распрощались.
Вот и все, что я знаю о Гогоберидзе. Уже на Большой земле из писем я узнал, что Александр Гогоберидзе умер в Ягодном, так и не дождавшись реабилитации прижизненной.
Такова судьба Александра Гогоберидзе, погибшего только за то, что он был братом Левана Гогоберидзе. О Леване же – смотри воспоминания Микояна”.
Вот и ответ на вопрос, кого встретил в Ягодном Теймураз Ираклиевич Вашкелевич. Получается, это был старший брат Левана Гогоберидзе – Александр? Неясно, почему сестра не предполагала такого поворота. Но в одном из обращений она просит, чтобы спасли ее “единственного брата”. Значит Александр Гогоберидзе – не брат? Однако арестовать-то его вполне могли за предполагаемое родство.
А 5 марта 1954 года, ровно через год после смерти Сталина, в Норильсклаг отправляется запрос о показаниях Петросян (младшей сестры Камо). Та писала, что видела Левана Гогоберидзе в 1939 году во Владивостокской пересыльной тюрьме, в той самой, в которой за год до этого умер поэт Осип Мандельштам.
На допросе выясняется, что Петросян, 1899 г.р., ссыльно-поселенка, работает санитаркой при райбольнице в гор. Енисейске. Одинокая. Познакомилась с Леваном Гогоберидзе в 1921 году в Тбилиси и была с ним дружна с 1921-го по 1929 год; они с юности очень хорошо друг друга знали.
На допросе она сказала:
“Была арестована 20 сентября 1937 года и приговорена к десяти годам ИТЛ. А потом отправлена летом 1939 года по владивостокскую тюрьму, где находилась не более двух-трех дней. После чего вместе с другими заключенными была отправлена пароходом на Колыму. Когда находилась во Влад. тюрьме, то во время одной из прогулок во дворе пересыльной тюрьмы кто-то окликнул меня из-за забора, отделявшего мужскую зону от женской. Окликнул меня и назвал по имени: «Люся!» Подойдя вплотную к забору, сквозь щель я увидела Л. Д. Г. Я назвала его по имени, он отозвался. Вид у него был неважный, худой, бледный, однако настроение у него было бодрое, улыбаясь, он пытался шутить относительно моей внешности. На мой вопрос, как он себя чувствует, Леван Гогоберидзе по-грузински ответил «пока я еще жив». Переговоры наши были прерваны часовым с вышки”.
Ее спрашивают, не может ли она ошибаться?
“Нет, знала очень хорошо. Вместе со мной его видела осужденная Ринберг Зина, которая этапировалась вместе со мной, она знала Левона Гогоберидзе по Таганрогу <…> Больше мне ничего не известно”.
Итак, Люся Петросян, сестра знаменитого Камо, друга юности Сталина, была абсолютно уверена, что видела именно Левана Гогоберидзе, да и подруга Зинаида Ринберг была с ним знакома.
Запрос летит во Владивостокскую пересыльную тюрьму. Оттуда приходит следующий ответ.
11 мая 1954
Помощнику прокурора Смирнову
Проверкой установлено, что до 1940 года учет заключенных, этапируемых через Владивостокскую тюрьму, велся отдельно от общего учета в журналах, которые, по утверждению работников канцелярии тюрьмы, в 1941–1945 годах были уничтожены.
Никаких документов о тех, кто прошел через тюрьму – не осталось. Почему они были уничтожены, непонятно.
Но ведь надо что-то ответить начальству, и поэтому начальник начальника тюрьмы пишет еще одно разъяснение в Москву:
29 апреля 1954
Начальник тюрьмы майор Волков
Сообщаю, что ввиду отсутствия данных учета, установить, проходили ли через тюрьму Гогоберидзе Леван и Зинаида Ринберг, не удалось.
Что касается возможности установления связи и переговоров заключенных на прогулочных дворах в 1939 году, то следует отметить, что такая возможность была, так как прогулочные дворы были разделены заборами в одну доску и имелись в заборах щели, через которые заключенные могли наблюдать и переговариваться (мужчина и женщины). В 1952 году прогулочные дворы переделаны в две доски, и возможность для переговоров исключается.
Итак, дырки при новом начальнике забили, теперь все хорошо.
Тем временем Люся Петросян пишет письмо Анастасу Микояну о своем незаконном аресте. И прикладывает бумагу о Леване Гогоберидзе. Может быть, в этом и было дело? И она просто добивалась, чтобы ее заметили (ведь писала в анкете, что одинокая) и помогли с реабилитацией. Не надо забывать, что ее выслали в Енисейск на вечное поселение, как всех проходящих по повторным статьям – “повторников”. Но была еще ее подруга, которая, как писала и говорила на допросах Люся Петросян, могла подтвердить, что они вместе видели Левана Гогоберидзе во Владивостокской пересылке. Однако оказалось, что Зинаида Ринберг умерла в лагере в 1952 году.
Тем временем Люсю Петросян реабилитировали и выпустили на свободу. И, возможно, что расстрелянный Леван Гогоберидзе, сам того не желая, помог Люсе Петросян раньше вырваться на волю. Но, может быть, она все-таки видела его?
В одном из последних запросов, подшитых к делу от 24 июня 1954 года, Елена Гогоберидзе написала отчаянные строки:
Как и раньше, так и сейчас для меня остается непонятным, неужели так бесследно мог исчезнуть человек, что могучий государственный аппарат не может обнаружить его следов, даже если он не жив!
Конечно, государственный аппарат давно все обнаружил и все прекрасно знал об убитых и умерших в лагерях, но система, построенная на многолетней лжи, никак не хотела обнаруживать эту ложь.
В деле находилась еще копия записки, отправленной арестованным Леваном Гогоберидзе к жене Нине Варфоломеевне Гогоберидзе, которая и сама скоро будет арестована.
Я написал Серго <Орджоникидзе>, сдал, сегодня даю показания, но все это, родная, теперь только для архива, авось, когда наша Лана узнает правду обо мне. Все мои показания ничего не значат против показаний 5–7 подлецов. Еще и еще прошу, требую, будь мужественной и стойкой, не поддавайся черной травле всякой сволочи: помни, что у Ланы ты одна единственная. Целую мою Лану, нежно, нежно…
Дочке Лане тогда было шесть лет. Когда она вырастет – станет известным грузинским режиссером Ланой Гогоберидзе, автором десятка фильмов, один из которых, “Несколько интервью по личным вопросам” с Софико Чиаурели, был очень популярен в середине 1970-х годов. Сейчас, на 2019 год, – она жива, ей девяносто лет. Она живет в Тбилиси.
Повесть-сноска Сергей Ермолинский между Курцио Малапарте и Михаилом Булгаковым Документальная повесть
Иностранец в Москве
“Погожий весенний день 1929 года. У нашего дома остановился большой открытый «Фиат»: это мосье Пиччин заехал за нами. Выходим – Мака, я и Марика. В машине знакомимся с молодым красавцем в соломенном канотье (самый красивый из всех когда-либо виденных мной мужчин)”, – так писала Л. Е. Белозерская в своих мемуарах о появлении в их доме итальянского журналиста Малапарте, сыгравшего в истории, которая будет рассказана, решающую роль.
“…Курцио Малапарте (когда его спросили, почему он взял такой псевдоним, ответил: «Потому что фамилия Бонапарте была уже занята»[56]), человек неслыханно бурной биографии, сведения о которой можно почерпнуть во всех европейских справочниках, правда, с некоторыми расхождениями. В нашей печати тоже не раз упоминалась эта фамилия, вернее псевдоним. Настоящее имя его и фамилия Курт Зуккерт. Зеленым юношей в Первую мировую войну пошел он добровольцем на французский фронт. Был отравлен газами, впервые примененными тогда немцами. На его счету немало острых выступлений в прессе: «Живая Европа», «Ум Ленина», «Волга начинается в Европе», «Капут» и много, много других произведений, нашумевших за границей и ни разу на русский язык не переводившихся”[57].
Сергей Ермолинский. Фотография из следственного дела.
1940
В воспоминаниях Любови Евгеньевны Белозерской вместе с Макой (Михаилом Булгаковым) и Курцио Малапарте возникает некая девушка по имени Марика. В то время она проживала вместе с Булгаковыми в их квартире на Большой Пироговке. По всем воспоминаниям, она была очень красива и происходила из Тбилиси, полуармянка-полуфранцуженка; уже почти год пользовалась гостеприимством четы Булгаковых. Спала в столовой, на старинном диване-ладье, называемой “закорюкой”. Тогда ей было всего двадцать лет, в Москве ей удалось устроиться на работу на Кинофабрику, а потом, как она писала в автобиографии, в Госкино. Любовь Евгеньевна, человек очень компанейский, уговорила Марику остаться у них, пока у нее не наладится жизнь в Москве.
В небольшой квартире Булгаковых они жили весело и дружно: разыгрывали шарады и принимали гостей. Необычная красота Марики в свое время привлекала и Маяковского, он ухаживал за ней еще в Грузии, а потом и в Москве, но сердце ее склонилось к другому человеку. Судя по неоконченному роману Курцио Малапарте “Бал в Кремле”, в котором было много автобиографических подробностей, Марика весной 1929 года стала его помощницей-секретарем. В СССР он работал над книгой “Техника государственного переворота” и “Добряк Ленин”). “В основном я проводил дни в Институте Ленина, – вспоминал итальянский писатель, – который тогда еще не был открыт для посетителей: этой возможностью я был обязан Луначарскому. Моя юная секретарша Марика Ч. – грузинка из Тифлиса, которую порекомендовала мне мадам Каменева, сестра Троцкого и директор «Интуриста», облегчала и ускоряла мою работу. Она переводила неопубликованные труды и письма Ленина, официальные документы об Октябрьской революции, о роли Ленина и Троцкого в этих памятных событиях, помогала мне собрать драгоценный материал…”[58] Это то немногое, что мы знаем о встречах молодых людей, которые постепенно переросли в любовный роман.
Однако некоторые подробности романа Марики и Малапарте появились в книге “В России и в Китае”, когда в 1956 году, уже будучи знаменитым итальянским писателем, возвращаясь из Китая в Европу, он заехал в Россию. В главе “Марика как вчера” писатель рассказывал, как ходил по изменившемуся городу и вспоминал о частых встречах с Марикой на Новодевичьем кладбище в 1929 году, о прогулках через Лужники на Воробьевы горы.
“От трамвайной остановки к монастырю нужно было больше километра идти по грязной тропинке, поросшей кустами ежевики, за которыми виднелись зеленые пруды – спустя целую жизнь, – писал Малапарте. – …Милой Марике едва тогда было двадцать лет. …Мы садились на скамейку около могилы композитора Скрябина или на шершавый могильный камень Дениса Давыдова… Бывало, долгими часами мы молча сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на весеннее небо над Воробьевыми горами по ту сторону реки, смотрели, как оно медленно меняло цвет… Не знаю, любила ли меня Марика. Иногда мне казалось, что она все-таки хоть немного в меня влюбилась, притом как я сам был в нее влюблен…”[59] Удивительно, что все эти годы он помнил девушку и, оказавшись в России, поехал на Новодевичье кладбище, подспудно надеясь встретить ее там. Место для романтических прогулок возникает, конечно же, неслучайно. Квартира Булгакова на Пироговке, где обитала юная Марика, была совсем недалеко от Новодевичьего кладбища, там и встречались влюбленные. Наверное, Малапарте провожал ее до дома; они долго стояли у дверей или заходили вместе в квартиру Булгаковых.
Кто же такая была Марика Чимишкиан, Марика Ч.? В ее биографии очень много пробелов и умолчаний. Многие свидетельства ее жизнеописателей основаны на обрывочных воспоминаниях, которые записывали за ней булгаковеды в середине 1980-х годов. Единственные документы, написанные ее собственной рукой, – поздний рассказ о знакомстве в Тифлисе с Булгаковым и Белозерской и автобиография, составленная в мае 1953 года. Попробуем же шаг за шагом из фрагментов составить портрет Марики Чимишкиан (Чмшкян), полуармянки-полуфранцуженки из Тбилиси, которая сопровождала итальянского писателя в прогулках по Москве и стала главной героиней романа “Бал в Кремле”.
Курцио Малапарте.
1930-е
Итак, она родилась, как она сама пишет, “в гор. Тифлисе (теперь Тбилиси) в 1904 году 13 июня. Отец – по образованию юрист, работал при окружном суде в качестве присяжного поверенного. После 1917 года состоял членом коллегии защитников. Умер в 1927 году. Мать – домашняя хозяйка…”[60] Почему-то Марика Артемьевна никогда не упоминала, что происходит из известной актерской семьи. Ее родной дед был знаменитый в Тбилиси Чмшкян Геворг Арутюнович – актер и режиссер (1837–1916), а бабушка – Чмшкян Сатеник Ованесовна (1849–1906), известная в Грузии армянская актриса. Возможно, это и побудило юную Марику выбрать актерскую карьеру в кинематографе, но об этом позже. Это были бабушка и дедушка по линии отца-юриста.
О происхождении матери становится понятным из письма, которое в 1926 году пишет Марика своему дядюшке и одновременно крестному Федору Густавовичу Беренштаму в Ленинград. Это был очень известный художник, архитектор, а до революции – директор Библиотеки Императорской Академии художеств. Родился он в Тифлисе в семье потомственного почетного гражданина, пионера книготорговли на Кавказе Фридриха Августа (Густава Васильевича) Беренштама (1829–1884) и Каролины Анны (Каролины Ивановны) Беренштам, урожденной Монье. В 1881 году Ф. Г. Беренштам поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств Петербурга. Обучаясь в Петербурге, Федор Густавович не забывал Кавказ. В Тифлисских периодических изданиях (журналах “Гусли”, “Осколки”) печатались его рисунки, появлялись оригинально им оформленные коробки конфет и обложки книг. Изучал памятники старины (архитектура и миниатюры армянских рукописей). В 1918–1924 годах он был хранителем дворцов-музеев в Петергофе. В те годы ему удалось спасти и сохранить дворцы и павильоны; восстановить и пустить в ход фонтаны; зарегистрировать и описать редчайшие рукописи из собрания Марии Медичи. В 1924–1930 годах работал в отделе искусств Государственной публичной библиотеки.
В фондах Российской национальной библиотеки хранится фотография Ф. Г. Беренштама и, как сказано в описании к ней, его племянницы Марики Чимишкиан[61] – судя по всему, внучатой. Отсюда следует, что бабушкой Марики, скорее всего, была мать Федора Густавовича – Каролина Монье. Но о своем родстве с Беренштамом Марика тоже нигде не пишет и не рассказывает. Казалось бы, отчего? Дело в том, что хотя Федор Густавович и умер в 1937 году в своей постели, но упоминать о нем, видимо, все-таки было небезопасно. Старший сын и жена Ф. Г. Беренштама после революции эмигрировали в Париж, семья была разделена. Но до всех этих событий довольно далеко. И вот Марика пишет дядюшке в Ленинград.
22. vii.1926
Милый дядя Федя!
Ты не сердись, что я тебе так долго не отвечала, но я не хотела отвечать, пока не выяснила одну вещь. А дело вот в чем: я играю одну из главных ролей у режиссера Перестиани в картине “Как снималась картина”. Роль очень эффектная и хорошая. Сегодня или завтра подпишу контракт и буду штатной артисткой Госкинпрома. Теперь ты понимаешь, зачем я тебе не писала. Ты спрашивал, в каких картинах можно меня увидеть, так вот, пожалуйста: “Азербайджан и Ханума”, остальные не считаю, т. к. меня почти не видно и вряд ли ты меня найдешь. Но обе эти картины еще не идут; их выпустят только осенью. Из коммерческих расчетов невыгодно выпускать картины летом. Я только на днях видела себя на экране. Директор Госкинпрома был настолько любезен, что специально для меня и для мамы прокрутил картину. Маме очень понравилось, а я нашла несколько недостатков, но, в общем, могу не хвастаясь сказать, что выхожу на экране очень хорошо. У здешних режиссеров я сейчас нарасхват. Приглашали меня в Армению как премьершу, чуть ли не на шесть картин контракт, но я отказалась – все же предпочитаю пока оставаться здесь. Сулят мне большую будущность, но все-таки не очень-то верю, но, конечно, против ничего не имею. Дома все по-прежнему скверно (в отношении денег). Магазин уже 2 или 3 раза запечатывали из-за невзноса налогов. Боюсь, кабы в один прекрасный день не запечатали совсем. Bonne maman и мама очень нервничают; мама всё бегает по разным учреждениям и совсем извелась с этой беготней. Папа, как всегда, благополучно восседает. Последнее время он вдруг почему-то воспылал необыкновенной нежностью ко мне; не знаю, чем это объяснить. Сережа и Мада сейчас в Цхиетах. Благодарю тебя за Федюшкино письмо, приятно, что хоть когда-то он мне писал. Пока поцелуй его крепко за меня и поблагодари за письмо. На днях тебе напишу поподробней о моей роли. Целую тебя крепко крепко.
Марика”[62]Из этого письма следует несколько интересных фактов. Марика, которой к тому времени двадцать два года, уже много играет в кино, и ее охотно приглашают разные режиссеры. Однако нам удалось найти только “Хануму” 1926 года. В 1927 она снимется в фильме “Двуногие”, а в 1928 году выйдет фильм “Элисо” Н. М. Шенгелая с Кирой Андроникашвили в главной роли, будущей женой Пильняка, затем в 1932 году – “Событие в городе Сен-Луи”, в 1933-м – “Дитя солнца”.
Однако Марика никогда не будет указывать фильмографию, а в автобиографии напишет: “В сентябре 1928 года переехала в Москву, где по 1932 год снималась в Московских киностудиях по договорам”[63]. А несколько фильмов, снятых в Грузии, не будут упомянуты ни разу. При том что Марика явно была вполне успешной актрисой и до приезда в Москву, о чем говорится в письме. Тут возможны следующие предположения. Ее подруга Кира Андроникашвили (Пильняк) исчезнет вслед за мужем и проведет полтора десятка лет в лагере жен врагов народа (АЛЖИР), Сергей Третьяков, который писал сценарий известного фильма “Элисо”, будет расстрелян в 1937 году. Любое упоминание о прошлом было чрезвычайно опасно.
Но вернемся в 1926 год. “Дома все по-прежнему скверно (в отношении денег), – жалуется Марика дяде. – Магазин уже 2 или 3 раза запечатывали из-за невзноса налогов. Боюсь, кабы в один прекрасный день не запечатали совсем. Bonne maman и мама очень нервничают; мама всё бегает по разным учреждениям и совсем извелась с этой беготней”.
Здесь мы видим явные приметы окончания НЭПа; удушение частных лавочек, которые в 1920-е годы кормили семьи. В 1927 году умер ее отец. В том же году она встретилась с Булгаковым и его женой.
Вот как она об этом вспоминает: “В 1927 году, когда я жила в Тбилиси, меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. Познакомила нас Ольга Каземировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу (ныне г. Орджоникидзе). В течение приблизительно 10 дней мы встречались почти ежедневно. Я водила их по городу, показывала Тбилиси. Затем Булгаковы уехали, взяв с меня слово, что я буду писать, но переписка не налаживалась. Тогда Любовь Евгеньевна дала мне небольшое письменное поручение, которое я волей-неволей должна была выполнить – так завязалась переписка. В конце 1927 года я сообщила, что еду в Ленинград и на возвратном пути буду в Москве”[64]. Мы не знаем точно, были эти путешествия до или после смерти отца, но полагаем, что уже после.
В Ленинград Марика поехала к известному нам уже дядюшке Беренштаму, который проживал в просторной квартире на Мойке. Там же Марика вновь встретится с Булгаковым. “Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиных, с которыми мы бродили по неповторимо прекрасному городу. На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 1928 году окончательно переехала в Москву”[65].
Марика Чимишкиан и ее дядя Федор Беренштам.
1929
Марика, видимо, сознательно покинула Тбилиси. Семья была разорена, отец умер, она искала средства к существованию. А Михаил Афанасьевич, который в 1927 году наконец-то смог арендовать квартиру на Большой Пироговской улице, подписав договор с застройщиком Адольфом Франциевичем Стуем, смог предложить ей свой дом[66].
Найденная в фондах Российской национальной библиотеки фотография Марики и ее дядюшки (см. стр. 307) была сделана в Москве ровно в те летние месяцы 1929 года, когда она гуляла по Москве с увлеченным ею Курцио Малапарте. На ней – они с Федором Густавовичем Беренштамом. На обороте надпись: “Москва, 13 июня/31 мая 1929 г. (в день рождения Марики). В Любищинском саду «Под душистою веткой сирени». С одуванчиком в руке…Они сидели на скамье и дули…”
Той же весной 1929 года Михаил Булгаков и сам гулял с Курцио Малапарте по Москве, и говорили они – об Иисусе Христе. О чем еще было говорить писателю с загадочным иностранцем? Их диалог звучит в романе Малапарте “Бал в Кремле”:
“Как раз в эти дни в Театре Станиславского шла пьеса Булгакова «Дни Турбиных» по его знаменитому роману «Белая гвардия». Пискатор недавно поставил пьесу в Берлине, где она имела огромный успех. Действие последнего акта происходит в Киеве, в доме Турбиных: братья Турбины и их друзья, верные царю офицеры[67], в последний раз собираются вместе, прежде чем отправиться на смерть. В последней сцене, когда издалека доносится пение «Интернационала», которое становится всё громче и сильнее, как все громче и сильнее звучат шаги входящих в город большевиков, братья Турбины с друзьями запевают гимн российской империи «Боже, Царя храни!». Каждый вечер, когда на сцене братья Турбины с товарищами запевали «Боже, Царя храни!», зал вздрагивал, то здесь, то там в темном зале раздавались с трудом сдерживаемые рыдания. Когда занавес опускался и вспыхивал свет, заполнявшая партер пролетарская толпа резко оборачивалась взглянуть в глаза другим зрителям. У многих глаза были красными, у многих по лицу текли слезы. Из партера доносились громкие оскорбления и угрозы: «Ах, ты плачешь, да? Плачешь по своему царю? Ха! Ха! Ха!» – по театру пробегал злобный смех.
Михаил Булгаков и Сергей Ермолинский.
Январь 1940
– В котором из персонажей твоей пьесы спрятан Христос? – спрашивал я у Булгакова. – Кого из персонажей зовут Христом?
– В моей пьесе у Христа нет имени, – отвечал Булгаков дрожащим от страха голосом, – нынче в России Христос – никчемный персонаж. В России ни к чему быть христианами. Христос нам больше не нужен.
– Ты боишься назвать его имя, – говорил я, – ты боишься Христа”[68].
В неоконченном романе Малапарте все полуправда-полувымысел. Однако совпадения с последующими темами булгаковских романов не могут не поражать. При том что мы абсолютно уверены, что ни один, ни другой писатель текстов друг друга видеть не могли.
Напомним, что все эти встречи и разговоры происходили весной 1929 года, который был для Булгакова особенно драматичен. В январе была запрещена пьеса “Бег”, продолжались непрерывные нападки на него и на его пьесу “Дни Турбиных” оголтелых РАППовцев. Писатель составил целый альбом оскорбительных вырезок из газетных статей. И конечно же, Булгаков не мог не чувствовать беспокойства от того, что в их жизнь и их дом вошел загадочный итальянец. Неслучайно в первом варианте редакции рукописи[69] романа Булгакова (будущего “Мастера”) иронически и тревожно звучит тема подозрительного иностранца. “Все, что нашептал Иванушка, по сути было глупо. Никаким ГПУ здесь не пахло, и почему, спрашивается, поболтав со своим случайным собеседником на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно надо требовать у него документы”.
“Поболтав”, “ГПУ”, “со случайным собеседником”, “по поводу Христа” – слова в рукописи к роману стоят рядом, комически убеждая в том, что “случайные” разговоры с незнакомыми иностранцами вовсе не должны вызывать интерес ГПУ. Наверное, между собой Булгаков и Любовь Евгеньевна не раз обсуждали то, насколько далеко могут зайти отношения близкой им Марики и пылкого итальянца. Наверное, предполагали, что можно сделать…
У Любови Евгеньевны было множество разнообразных знакомых. Еще летом 1928 года во время путешествия на пароходе в Астрахань она познакомилась с двумя кинематографистами. Одного из них, как вспоминала сама, летом 1929 года (то есть когда роман Марики с Малапарте был в самом разгаре!) она пригласила в гости. Это был сценарист Сергей Ермолинский. Он стал часто приходить к ним домой и влюбился в Марику. Любовь Евгеньевна и Булгаков, по всей видимости, стали сватать девушку, надеясь ее спасти от Курцио Малапарте. “Он хороший парень, – убеждал ее Булгаков, как вспоминала сама Марика, – выходи за него”.
“Летом 1929 года он познакомился с нашей Марикой и влюбился в нее, – писала Белозерская о Ермолинском. – Как-то вечером он приехал за ней. Она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно”[70]. Все было решено очень быстро. Уже в октябре 1929 года Марика ушла из дома Булгакова. Ее провожали хозяева дома и домработница Маруся. И даже в скудных воспоминаниях о том скоропалительном браке есть проговорки… “Открыв чемодан, – вспоминала Марика, – я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. М. А. таинственно сказал: «Это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова». Поднялся смех и прекратились слезы…”[71].
“Прекратились слезы” – очень важное замечание. Слишком короткое время отделяло роман Марики с Малапарте от союза с пришлым сценаристом. Итак, мужем Марики стал Сергей Ермолинский. На нем и сойдется множество сюжетов и драм. Он – единственный среди героев нашей истории – окажется арестованным, выживет, напишет воспоминания, но до конца так и не узнает, в какой водоворот ему пришлось угодить.
К 1929 году Сергей Ермолинский был уже вполне успешным сценаристом. Закончил отделение востоковедения в Московском университете, страстно увлекался литературой и мечтал писать о Грибоедове. Но кино, которое было тогда на пике своей популярности, невероятно его увлекло. Он работал на нескольких картинах с молодым Юлием Райзманом; они подружились и много путешествовали.
В Москве Ермолинский жил на Остоженке у своего дядюшки, старого политкаторжанина Вениамина Ульянинского. О дядюшке существовал семейный анекдот. Когда Вениамин вернулся после революции из ссылки домой, его родной брат, известный библиограф и коллекционер Николай Ульянинский, сварливо повторял: “Эту-то революцию наш Венечка устроил!” (Потом несчастный библиограф, не выдержав всех ужасов советской жизни, покончил с собой.) На основании воспоминаний дядюшки Вени Сергей Александрович написал сценарий фильма “Каторга”, который тогда успешно шел в кинотеатрах. Жену Марику Ермолинский в дом дяди Вени привести не мог. Там было очень мало места. К тому времени он арендовал в Мансуровском переулке комнату в доме театрального художника, приятеля Булгакова Сергея Топленинова. Как предполагается, именно этот дом был описан писателем как жилище Мастера. Булгаков часто приходил сюда в гости, что было вполне удобно, если представить недолгую дорогу от Большой Пироговской по Пречистенке, а затем поворот в Мансуровский.
А где же был в этот момент Малапарте? Как он отнесся к потере Марики? Неизвестно. Считается, что к 1930 году его в Москве уже не было. Но все равно остается множество загадок. В книге “Бал в Кремле” Малапарте писал, что звал Марику с собой в Италию, ходил с ней вместе осматривать комнату покойного Маяковского сразу после его самоубийства. Но Маяковский скончался 14 апреля 1930 года. Марика к этому времени уже несколько месяцев замужем за Ермолинским. Если журналист все это сочинил, зачем так подробно рассказывал про их совместное посещение комнаты поэта? Наверняка он знал, что Маяковский был неравнодушен к девушке. Но Марика, много вспоминавшая впоследствии о Маяковском, никогда не упоминала имени Малапарте. Да и других итальянцев она не поминала.
А для Ермолинского роль, назначенная ему в истории с Малапарте и Марикой, по-видимому, была тайной. Наверное, Булгаков испытывал некоторую неловкость перед ним. Он-то прекрасно знал, как журналист-итальянец относился к их Марике и как та относилась к нему. Но как ни сложна была конфигурация отношений Ермолинского и Марики, Марики и Малапарте, Ермолинский обрел тогда, может быть, самое существенное в жизни – дружбу Булгакова.
До и после
Именно в это время в 1929 году, как говорилось выше, Булгакова накрыли тяжкие обстоятельства, смешавшие все фигуры на доске. В августе он писал брату в Париж: “Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух о том, что я обречен во всех смыслах”[72]. Писатель не выдерживает изоляции (он изгнан из театра, его не печатают и не ставят) и пишет письмо Сталину и правительству.
Про это трагическое письмо, как выясняется, Любови Евгеньевне почти ничего не было известно. В мемуарах она пишет следующее: “По Москве сейчас ходит якобы копия письма М. А. к правительству. Спешу оговориться, что это «эссе» на шести страницах не имеет ничего общего с подлинником. Я никак не могу сообразить, кому выгодно пустить в обращение этот «опус». Начать с того, что подлинное письмо, во-первых, было коротким. Во-вторых – за границу он не просился. В-третьих – в письме не было никаких выспренних выражений, никаких философских обобщений”[73].
Несмотря на трудности, преследовавшие мужа, Любовь Евгеньевна продолжала жить весело и на широкую ногу. Она училась на курсах вождения, мечтала о личном автомобиле, ходила на ипподром, делала ставки на бегах. В принципе, она особенно не меняла своих привычек. То, что Булгакова перестали печатать, ставить в театре, что его вещи клеймят в прессе, то, что он испытывает глубокий кризис, ее особенно не занимало. Эти темы не возникают в ее мемуарах. Теперь письмо Сталину широко известно, и, кроме того, мы знаем, что набирала на печатной машинке это письмо знакомая Белозерской Елена Сергеевна Шиловская, в которую Булгаков был уже серьезно влюблен. И в приемную его отвозила тоже она. Хотя можно представить, каково ей было печатать слова Булгакова о том, что он просит Советское правительство выпустить его с женой – то есть Белозерской – за границу.
Любовь Евгеньевна плохо представляла связь этого послания с последующим звонком Сталина. “Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок, – писала она в мемуарах. – Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М. А., а сама занялась домашними делами. М. А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники). На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел…» <…> Он предложил Булгакову: «Может быть, вы хотите уехать за границу?»”[74]
Ермолинский же в советском (!) издании своих “Записок о Михаиле Булгакове” комментировал это событие как одно из самых серьезных и поворотных в судьбе Булгакова:
“Почему последовал этот звонок? Может быть, ошеломила неподкупная прямота, с которой писатель писал о своем положении и вообще о положении литературы, стиснутой цензурой? Подкупило отсутствие всякого лицемерия и угодничества? Поразила неслыханная дерзость в высказывании своих взглядов? Автор был бесстрашно искренен. Такие люди не предают. Может быть, как раз это вызвало доверие?.. Спектакль «Дни Турбиных», безусловно, понравился. Сталин смотрел его пятнадцать раз (это зарегистрировано в журнальных записях театра). Почему – смотрел? Нравился уют турбинского дома? Вряд ли. Благородство героев? Возможно. Сталин прислушивался к тому, что говорилось на сцене, и, наверное, к тому, как реагировал зрительный зал. На сцене говорили о родине, об отечестве. Говорили о чести и долге офицера, принявшего воинскую присягу. Зритель не оставался равнодушным, хотя в ту пору эти понятия – «родина», «отечество», равно как и «офицер», «золотопогонник», – воспринимались враждебно, потому что были неотрывно связаны с именами Деникина, Колчака, Врангеля. Ну, конечно же, беспардонный автор заговорил об этом преждевременно. Он был бестактен, однако же… предвосхищал! Создавалась новая Россия, возникала держава, которую надо было сплотить единым чувством патриотизма. Вот и получилось, что к концу тридцатых годов слова «родина» и «отечество», а в войну не только «офицер», но и «генерал с лампасами» прочно вошли в нашу жизнь. Как знать, может быть, мелькнули у Сталина и эти мысли, когда он смотрел «Дни Турбиных»?
Разумеется, это только мои домыслы. Кроме того, кажется мне, не примешались ли тут некоторые совпавшие побочные мотивы? Ведь знаменитый звонок прозвучал 18 апреля, то есть через четыре дня после выстрела Маяковского. Случайна ли такая поспешность?
Каков по натуре Булгаков? Не способен ли он «удружить» еще одной литературной сенсацией – еще одним выстрелом?.. И это, разумеется, домыслы. Ничего из сказанного утверждать не могу. Но так или иначе, Сталин, играя с Булгаковым, как кошка с мышкой, вернул его к жизни. И померещилось писателю Булгакову, что он, писатель Булгаков, нужен и находится под особой защитой. Его поняли! Не отсюда ли возникла пресловутая легенда о Сталине – тайном покровителе Булгакова? Кое-кого она до сих пор устраивает, хотя уже всем известно, что каждую новую пьесу Булгакова ожидали – катастрофы, одна коварнее другой, и его по-прежнему не печатали. Но – померещилось, померещилось! Булгаков поверил! Оправдалось ли это?”[75]
Все, что тогда сформулировал Сергей Александрович в отношении Сталина и Булгакова, – трагедия обольщения писателя властью – потом разойдется по десяткам жизнеописаний писателя. Сергей Александрович знал и понимал всю ту драму изнутри и видел ее в полный рост.
Но в 1930-е годы Ермолинский – преуспевающий сценарист, далекий от подобных размышлений. Он неплохо чувствует себя внутри советской системы. Пишет вместе с Юрием Крымовым сценарий фильма “Танкер «Дербент»”, затем начинает работать с Шолоховым над экранизацией первой части “Поднятой целины”. Второй том “Целины” еще не написан. Надо сказать, что Шолохов во время их встреч в Вешенской очень привязался к молодому сценаристу. Они много и охотно выпивали. Это сыграет свою роль в освобождении Ермолинского. Шолохов напишет не одно письмо в ведомство Берии о невиновности сценариста.
В ноябре 1932 года Булгаков наконец воссоединился с Еленой Сергеевной. Их путь навстречу друг другу был очень долгим. Они расставались, давали друг другу слово никогда не видеться. Но любовь оказалась сильнее. У Булгакова произошло то, что случилось в это время не с ним одним. В 1929 году период депрессии, черных самоубийственных мыслей совпал с кризисом в стране, концом НЭПа, великим переломом. Именно тогда он и встретил женщину, которая показалась ему – спасением. И спустя два с лишним года она стала для него больше, чем женой и другом, редактором, литературным секретарем.
А Марика, веселая подруга Любови Евгеньевны, трудно сходилась с Еленой Сергеевной и так и не сошлась. В отличие от Ермолинского, с которым Елена Сергеевна была вначале холодна, но затем их связала близкая дружба до конца ее дней. И тут надо отметить, что Булгакова дала Ермолинскому для написания воспоминаний свои дневники, чтобы он мог все вспомнить и выстроить историю десятилетней дружбы с писателем. Зачем она это сделала? Да просто всё, что имел Ермолинский, – от писем до заметок и дневниковых записей – забрали при аресте в ноябре 1940 года.
Какими были отношения Ермолинского и Марики в те десятилетия?
Об этом почти ничего не известно. Правда, в архиве дядюшки Г. Ф. Беренштама обнаружилась стихотворная сатира, написанная 7 июня 1932 года неким Евтихием Болтуном, где в главной героине Лёле – недвусмысленно угадывается Марика Чамишкиан. События жизни и любовные похождения героини, которые там иронически упомянуты – известны. Однако там неожиданно возникает еще одно ее любовное увлечение – двоюродный брат Федор Федорович Беренштам.
ОГРОМНЫ ГОРЫ… (на мотив “Златые горы”)
Огромны горы на Кавказе, А Лёля крошкою была — Так на высокогорной базе Пичужка скромная жила. В Тифлисе ей не быть приметной Средь чернооких кинозвезд. Курьерский вдруг мечтой заветной Ее в Москву, как вихрь, увез. В Москве и Воробьевы горы Как Эльбрус кажутся для нас. На Лёлю битковые сборы, Она взлетает на Парнас. У ног ее Булгаков бесом Вертеться колкостями рад. Велик соблазн, он автор пьесы, Которую прославил МХАТ. А Солнце призрачной Италии… Великолепнейший почин. Вслед за Булгаковым… и далее Пойдет коротенький Пиччин. Но что Москва для сердца Лёли — Манит холодный Ленинград. Воспоминаниями болен Внезапных чувств немой парад. Среди художников, поэтов, Больших ли малых – все равно. Покой потерян в это лето, А сердце Феде отдано…[76]Под стихотворением – надпись карандашом: Феде. Судя по всему, это и есть Федор Федорович Беренштам.
И есть еще горестные слова дядюшки Ф. Г. Беренштама в адрес Марики в письме к другой племяннице, написанные уже в 1935 году.
Среди прочего “крепко целует и Ермолинских” и далее пишет: “…Когда я был в Москве, у меня не хватило мужества побывать у них, видеть ее не той, образ которой ношу в своем сердце. Будешь у нее, скажи, что Дядя Федя по-старому ее любит и целует ее ручки”.
Когда Булгаков тяжело заболел, то Марика, которая была еще и профессиональной медсестрой, пришла ухаживать за ним, а Ермолинский до самого 10 марта 1940 года тоже не покидал квартиру умирающего Булгакова. После его смерти встала проблема, что делать с неопубликованными текстами. Ермолинский, Елена Сергеевна и немногие оставшиеся друзья собирались и обсуждали невеселые перспективы публикаций Булгакова.
Но жизнь шла своим чередом, и летом Сергей Александрович поехал вместе с Евгением Габриловичем в Коктебель работать над сценарием фильма “Машенька”. К слову, Ермолинский никогда жену свою Марикой не называл, домашнее имя ее тоже было Машенька.
Напомним содержание этой не вполне обычной картины. Героиня фильма Машенька Степанова (В. Караваева), скромная телеграфистка из южного приморского городка, на время учебных тревог становится санитаркой. В зону предполагаемого “отравления” попадает таксист Алексей (М. Кузнецов), и, несмотря на все протесты, его укладывают на носилки звена сандружинниц во главе с Машенькой. Так происходит их знакомство. Она опаздывает на последний трамвай, который отвозит ее каждый день в загородное жилье, и Алексей предлагает ее подвезти. Пока они едут по ночной дороге и разговаривают, девушка проникается к нему симпатией. С этого вечера начинается ее тихая и до конца еще ей непонятная влюбленность в молодого человека. Ее чувство развивается постепенно. Когда Алексей заболевает и она ухаживает за ним в общежитии, оно перерастает уже в настоящую любовь. Но Машенька любит не передовика производства, как это часто бывало в советских фильмах, а простого парня, грубоватого и не очень тонкого. Он же не готов к любви этой необычной девушки, которую абсолютно искренне и неповторимо играла совсем еще юная актриса Валентина Караваева.
Прежние героини тридцатых годов по большей части были волевыми женщинами, совершающими подвиги под стать мужчинам. “Девушка с характером” с Валентиной Серовой, Любовь Орлова из “Светлого пути” и даже Лидия Смирнова в таком фильме, как “Моя любовь”, – были скорее историями побед и преодолений, но не в личной жизни, что более подошло бы женщинам-героиням, а в общественной или даже государственной. А здесь – в “Машеньке” – все было свежо и ново. Именно потому, что герои жили в мире не выдуманных, а подлинных конфликтов и драм. Алексей, которого любит Машенька, должен был еще дорасти до понимания, что за девушка оказалась рядом с ним. Его падение происходит на глазах зрителя, искренне сочувствующего Машеньке. И когда Алексей встретит ее уже время спустя на переднем крае финской войны, где она работает санитаркой, он кинется ее искать, поняв наконец, что потерял настоящую преданность и беззаветность. Но обнаружит уже изменившуюся Машеньку, ставшую взрослее и увереннее в себе. К счастью для него, она останется так же верна и преданна ему. Такого рода история появилась неслучайно. В конце 1930-х, в горькое и тяжелое время, среди общего напряжения в ожидании войны стала по-новому звучать тема любви как спасения, любви как надежды на избавление от морока и ужаса тех дней, месяцев и лет. И этот фильм, несмотря на его простоту, корнями уходил в традицию лучших сюжетов мирового искусства.
Для Ермолинского, как мы видим, тема любви и верности была очень важна и актуальна. Такая же сложная история связывала Евгения Габриловича с его женой Ниной Яковлевной, красивой, своенравной женщиной; их трудная жизнь была описана в книге “Четыре четверти”, по которой Илья Авербах впоследствии снимет фильм “Объяснение в любви”. Поэтому когда сценаристы стали работать над “Машенькой”, они, несомненно, вкладывали в сценарий собственные сокровенные представления о женской верности и преданности.
Осенью возобновились общие встречи и разговоры с Еленой Сергеевной по поводу булгаковского наследия. В те годы Любовь Евгеньевна часто заходила к Марике. Они жили недалеко друг от друга; от Пироговки до Мансуровского переулка рукой подать. Так и было до ареста в ноябре 1940 года С. А. Ермолинского. Заметим, что Любовь Евгеньевна нигде и никогда не вспомнит про этот арест, словно его никогда и не было. Будто бы жизнь Ермолинского и Марики лилась непрерывно до того момента, пока Сергей Александрович вероломно не ушел к другой в 1956 году. Так устроены мемуары, в которых умолчания, наветы и милые подробности часто перемешаны, создают выгодную для автора картину.
О страхе
Ермолинский один из первых напечатал свои воспоминания о Булгакове в журнале “Театр” (№ 9) в 1966 году (в сокращенной версии). Полный вариант “Записок о Михаиле Булгакове” был опубликован в сборнике 1981 года за несколько лет до смерти Ермолинского. Мемуары Сергея Александровича произвели на писательский, театральный и кинематографический мир огромное впечатление. И хотя в ближнем кругу Ермолинского рассказы о Булгакове слышали, многих поразило, что главной темой “Записок” стала – тема страха и его преодоления. Даже в книге, изрезанной цензурой, всем было понятно, о чем шла речь. Воспоминания начинались с описания лыжных прогулок, которые Булгаков и Ермолинский совершали вместе в начале 1930-х; в районе Остоженки они спускались к Москве-реке и шли к Воробьевым горам. Сергей Александрович был не очень умелым лыжником и, съезжая с горы, все время падал. И вот наконец у него получилось скатиться с огромной горы и удержаться на ногах.
“Это потому, что не боялся”, – сказал ему тогда Булгаков. Они часто говорили о трусости как самом стыдном, что окружает их. Заканчивались мемуары рассказом о смерти Булгакова, которой предшествовали очень мрачные обстоятельства с постановкой пьесы “Батум” к 60-летию Сталина, демонстративном отказе вождя от услуг драматурга, за которым почти сразу последовала его смертельная болезнь. Уход писателя оставил Ермолинского один на один с тем самым страхом, о котором столько думали и говорили, буквально растворенным в клеточках каждого дома, каждой квартиры, каждого человека. Все, кто читал эти мемуары, понимали, о чем хочет сказать Ермолинский. Понимали, что масштаб осмысления времени, который задавал Булгаков в своих книгах, размышлениях и разговорах, был не только не высказан, но и не понят до конца – даже спустя пятьдесят лет. И Сергей Александрович, несомненно, мучился тем, что прошла целая жизнь, а тема страха осталась для его поколения все такой же актуальной.
В скобках отметим, что для множества грядущих булгаковедов эта проблема вообще не будет ни важной, ни интересной. Исследователи хотели от Ермолинского и его мемуаров набора конкретных фактов; где, когда и во сколько он встречался с Булгаковым. О чем они говорили. В этом был определенный резон, потому что сведений о писателе было не так много. Но Ермолинский предупреждал, что писал именно записки, потому что более сложный биографический труд был для него невозможен еще и потому, что огромное количество материалов, на основании которых он хотел писать о своем друге, было уничтожено после его ареста. Однако понимая, что записки о Булгакове будут неполными без его собственной трагической истории, Сергей Александрович стал писать вторую часть мемуаров – об аресте, последовавшем через семь месяцев после смерти Булгакова. Об этом лишь раз в жизни он сумел рассказать своей второй жене – Татьяне Луговской. Про серию ночных допросов, когда следователь одним ударом выбил ему зубы, про то, как сутками держали в “стойке”, про попытку самоубийства при помощи осколка стекла.
Воспоминания Ермолинского “Тюрьма и ссылка” вышли только в конце 1980-х годов, уже после его смерти. В итоге у Сергея Александровича не оказалось ни особенной славы, ни больших денег, но за ним оставалось самое существенное – репутация порядочного человека.
Прошло совсем немного лет после его смерти – и появились мемуары второй жены Булгакова, Л. Е. Бе-лозерской, в которых Ермолинский описывался скользким, непорядочным человеком, чьи воспоминания являются сплошной выдумкой. Любовь Евгеньевна главным образом обвиняла Сергея Александровича в том, что он сделал несчастной свою первую жену Марику Чимишкиан, которая была вероломно оставлена им после двадцати семи лет совместной жизни. Потом уже появились свидетельства и самой Марики, записанные булгаковедами под чай и пироги у нее дома. Там говорилось, что Ермолинский старался через нее “втереться” в дом Булгакова. Она и только она была любимым другом Булгакова, его дорогим и “любимым Марроном”, о чем свидетельствует фотография, подаренная писателем юной красавице. Сам же Ермолинский, по словам Марики, никаких дарственных фотографий от Булгакова никогда не получал, а ту, что напечатал в своей книге, с надписью, украл у сына Е. С. Булгаковой – Сергея Шиловского – и представил как свою.
Но и этого было мало. Дальше на основании сказанного Любовью Евгеньевной стали писать, что Ермолинский в своих воспоминаниях все выдумал и сделал это специально, так как, скорее всего, был осведомителем. А почему бы и нет? Скорее всего, с него и списан в “Мастере и Маргарите” скользкий доносчик Алоизий Могарыч. Фамилия Ермолинский, как и у Алоизия, – польская, и жил Сергей Александрович в Мансуровском переулке в такой же пристройке, где и Мастер, а главное, до того как стать сценаристом, был журналистом, как и пресловутый Алоизий. Все сходится, – писали булгаковеды, увлекаясь все больше и больше. И так слово за словом, статья за статьей.
На глазах публики, которая знала Ермолинского и была по-настоящему изумлена, складывался воистину фантастический булгаковский сюжет, где всё переворачивалось с ног на голову. Удар наносился именно по репутации. И, как ни печально признавать, он достиг своей цели; с того времени многие читающие люди откликались на фамилию Сергея Александровича, презрительно морщась, памятуя, что она связана с каким-то скандалом.
В 2006 году я написала статью в журнале “Вопросы литературы” “Клевета как улика”, где разбирала и опровергала все эти наветы, но, как оказалось, это была слабая защита. Клевета удивительно стойко держится. Шли годы, но я и представить не могла, что всплывут новые, необычные факты из жизни булгаковского окружения. Оскорбления и наветы на Ермолинского в свете открывшихся обстоятельств приобретали совершенно другой смысл.
С недавних пор я стала понимать, что страшная чекистская система, созданная Сталиным, постоянно требовала новых жертв. Люди слабые и нечестные, которых утягивало в водоворот негласных допросов и тайных встреч с Лубянкой, чудом выжившие, то ли для того, чтобы отвести от себя подозрения, то ли еще по каким-то мотивам, пытались перенести внимание с себя на кого-нибудь другого. Система или же сам загнанный в тупик человек выбирал некую жертву, и это часто принималось обществом на веру. Уводило от подозрений. Здесь работал некий отлаженный механизм, и его следы я находила в, казалось бы, несхожих сюжетах.
Арест
Ермолинского арестовали 24 ноября 1940 года. В своих воспоминаниях он писал: “В начале октября 1940 года я стал замечать, что возле моего дома в Мансуровском переулке прохаживается парочка – чаще всего он и она. Иногда они заходили, словно прячась, и в наш дворик. Я решил, что идет слежка за каким-то домом по соседству”. Но следили почти открыто за ним.
Все произошло, как всегда, ночью. Ворвались, объявили, что арестован, перевернули библиотеку, бумаги. Увезли. На Лубянке после всех процедур его привели в кабинет. “В его режуще солнечном свете (я стоял против окон) передо мной возникли силуэты военных в энкаведистской форме, мне показалось, что их очень много, и все они почему-то, едва я вошел, стали громко кричать на меня. Они кричали негодующе, перебивая друг друга, словно нарочно создавая сутолоку из голосов, но из их крика я все же понял, что меня обвиняют в наглой пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного бело-эмигрантской сволочью так называемого писателя Михаила Булгакова, которого вовремя прибрала смерть. Как я ни был сбит с толку, но все же пытался объяснить, что ни я, ни Союз писателей не считаем Булгакова контрреволюционером и что, напротив, мне поручили привести в порядок его сочинения, имеется специальное постановление, и что я… Несвязные обрывки моих объяснений вызывали всеобщий хохот, меня тотчас прерывали и опять, словно состязаясь друг с другом, кричали, пока кто-то коротко не приказал: «Уведите его. Пусть подумает»”[77].
Итак, прозвучало имя Булгакова. Допросы, как было принято, начались спустя две недели. Там были вопросы и о подозрительном обучении Ермолинского на факультете восточных языков японскому языку, и о встречах с итальянцами. Складывалась убедительная картина того, что он мог быть шпионом и японской, и итальянской разведок. Но что-то не склеивалось. И тогда снова вернулись к Булгакову.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА[78]
обв. Ермолинского Сергея Александровича
от 3–14 декабря 1940 г
ВОПРОС: С писателем БУЛГАКОВЫМ вы знакомы?
ОТВЕТ: С писателем БУЛГАКОВЫМ до его смерти был хорошо знаком.
ВОПРОС: Произведение БУЛГАКОВА “Роковые яйца” вы читали?
ОТВЕТ: Произведение “Роковые яйца” БУЛГАКОВА я читал, когда оно было помещено в альманахе “Недра”.
ВОПРОС: Каково ваше мнение об этом произведении?
ОТВЕТ: Я считаю “Роковые яйца” наиболее реакционным произведением БУЛГАКОВА из всех, которые я читал.
ВОПРОС: В чем заключается реакционность произведения “Роковые яйца”?
ОТВЕТ: Основной идеей этого произведения является неверие в созидательные силы революции.
ВОПРОС: О своем мнении вы как писатель сообщали в соответствующие органы?
ОТВЕТ: О реакционном содержании произведения “Роковые яйца” никуда не сообщал потому, что произведение было опубликовано в печати.
ВОПРОС: С БУЛГАКОВЫМ вы говорили о контрреволюционном содержании этого произведения?
ОТВЕТ: “Роковые яйца” были опубликованы задолго до моего знакомства с БУЛГАКОВЫМ, поэтому разговоров по существу произведения не было, но я помню, что БУЛГАКОВ говорил мне о том, что “Роковые яйца” сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе, он стал рассматриваться как реакционный писатель.
ВОПРОС: Ваша дружба с контрреволюционным писателем БУЛГАКОВЫМ явление не случайное, а есть результат ваших антисоветских взглядов?
ОТВЕТ: Антисоветских взглядов у меня не было, а о своей дружбе с БУЛГАКОВЫМ, если нужно, могу рассказать. Причем ничего антисоветского в этой дружбе не было.
Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан: С. Ермолинский.Допросил: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Ермолинского Сергея Александровича
от 27 декабря 1940 г
Допрос начался в 11 часов.
Окончился в 0 час. 30 мин
ВОПРОС: 14 декабря 1940. Вы показали, что произведение БУЛГАКОВА “Роковые яйца” является контрреволюционным. Зачем же вы его у себя хранили?
ОТВЕТ: Альманах, в котором было напечатано реакционное произведение “Роковые яйца”, был подарен мне автором в числе других своих произведений. Ничего преступного в этом хранении я не видел.
ВОПРОС: Вы не только хранили его контрреволюционные произведения, но и разделяли его антисоветские взгляды. Следствие требует рассказать о вашей совместной антисоветской работе.
ОТВЕТ: Никакой антисоветской работы я не вел ни с кем, в том числе и с БУЛГАКОВЫМ. Реакционное произведение “Роковые яйца” хранил потому, что оно было подарено мне автором.
ВОПРОС: БУЛГАКОВ в своем автографе на контрреволюционном произведении “Роковые яйца” посвящал вас в свою “литературную неудачу”. Что это за неудача?
ОТВЕТ: БУЛГАКОВ в беседе со мной говорил, что произведение “Роковые яйца” сыграло отрицательную роль в его литературной судьбе потому, что критика квалифицировала его как реакционного писателя.
ВОПРОС: Как БУЛГАКОВ в беседе с вами расценивал свое произведение “Роковые яйца” и как он отнесся к критике?
ОТВЕТ: Разговор по этому поводу происходил давно, мне трудно восстановить в памяти формулировки БУЛГАКОВА. Примерно он называл это произведение сатирическим памфлетом на ряд недостатков советской действительности 1922–1923 годов.
ВОПРОС: Как вы расценивали высказывание БУЛГАКОВА?
ОТВЕТ: Я соглашался с тем, что произведение сатирическое, но говорил, что у критики есть все основания назвать это произведение реакционным.
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с БУЛГАКОВЫМ?
ОТВЕТ: В 1929 году меня с БУЛГАКОВЫМ познакомила его тогдашняя жена БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна.
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с БЕЛОЗЕРСКОЙ?
ОТВЕТ: С БЕЛОЗЕРСКОЙ Любовью Евгеньевной я познакомился на волжском пароходе примерно в 1929 году.
ВОПРОС: Каковы политические взгляды БЕЛОЗЕРСКОЙ?
ОТВЕТ: Ничего о политических взглядах БЕЛОЗЕРСКОЙ сказать не могу. Тем более за последнее время, так как я с ней совершенно не встречался.
ВОПРОС: Вследствие каких причин вы с ней не встречаетесь?
ОТВЕТ: Охлаждение наших взаимоотношений с БЕЛОЗЕРСКОЙ объясняется тем, что после ее развода с БУЛГАКОВЫМ я продолжал с ним и его женой встречаться и поддерживать дружеские взаимоотношения.
ВОПРОС: БЕЛОЗЕРСКАЯ была в эмиграции?
ОТВЕТ: БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна в эмиграции была.
ВОПРОС: Что вам известно о жизни БЕЛОЗЕРСКОЙ в эмиграции?
ОТВЕТ: Со слов БЕЛОЗЕРСКОЙ мне известно, что она выехала за границу в первые годы после революции вместе со своим тогдашним мужем литератором ВАСИЛЕВСКИМ. Подробности ее пребывания за границей мне неизвестны, так же, как неизвестны подробности ее возвращения в СССР.
ВОПРОС: Когда и с кем из иностранцев БЕЛОЗЕРСКАЯ была знакома?
ОТВЕТ: Мне известно о ее знакомстве с французом СТЕБЕРОМ. Годы ее знакомства не помню.
ВОПРОС: Вы были знакомы со СТЕБЕРОМ?
ОТВЕТ: Да, с французом СТЕБЕРОМ я был знаком.
ВОПРОС: Когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились со СТЕБЕРОМ?
ОТВЕТ: Год знакомства со СТЕБЕРОМ не помню. Познакомила меня с ним БЕЛОЗЕРСКАЯ на моей квартире по Мансуровскому переулку в доме № 9, кв. 1. Встреч у меня с ним после знакомства не было.
Допрос прерывается.
Протокол записан с моих слов верно и мной прочитан: С. Ермолинский.Допросил: Оперуполн. 5 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности: (подпись)[79].
На допросах возникнет имя Пиччини (Пиччин), представителя фирмы “Фиат”, близкого приятеля Курцио Малапарте.
“Марика познакомила нас еще с одной занятной парой, – писала Любовь Евгеньевна в своих мемуарах. – Он – Тонин Пиччин, итальянец, маленький, подвижный, черный, волосатый жук, вспыльчивый, всегда готовый рассердиться или рассмеяться. Она – русская, Татьяна Сергеевна, очень женственная, изящная женщина, влюбленная в своего мужа, всей душой привязанная к России. Представляю себе, как она тосковала, когда ей пришлось вместе с мужем уехать в Италию. Он был инженер, представитель фирмы «Фиат», а их всех «за ненадобностью» (?) выдворили из Союза. Если бы они оба были сейчас живы, они непременно вернулись бы в нашу страну теперь, когда «Фиат» снова стал в чести. М. А. написал им шутливые «домашние» стихи, которые я, конечно, не помню. Вспоминаю лишь строки, касающиеся Пиччина: «Я голову разбу, – кричит. И властно требует ключи», – ключи от машины, которую водила (и неплохо) Татьяна Сергеевна. Они бывали у нас, мы бывали у них. Часто кто-нибудь из них заезжал за нами на машине, чтобы покататься…”[80]
Заметим, однако, что имя самого Малапарте на допросах не прозвучит ни разу. Удивительнее всего, что ни Марику, к тому времени Марию Артемьевну Ермолинскую, ни Белозерскую на Лубянку не вызывали и официально про итальянцев не спрашивали. Хотя, может быть, нам просто не все известно. В истории с арестом Ермолинского всплывут и другие поразительные подробности, к которым я еще вернусь.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Ермолинского Сергея Александровича
от 21 января 1941 г
Начало допроса 11 час
Окончен допрос 15 час. 12 мин
ВОПРОС: Кто из общих знакомых у вас с ПИЧИНИ проживает сейчас в Москве?
ОТВЕТ: Общие знакомые в данное время в Москве проживают следующие: 1. БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна – быв. жена БУЛГАКОВА. 2. Мать жены ПИЧИНИ – ФЛЕЙШЕР Нина Яковлевна. 3. Сестра жены ПИЧИНИ – ФЛЕЙШЕР Мария Сергеевна, ранее работала в конторе ПИЧИНИ, сейчас не знаю где. 4. МЕНЧУКОВ – журналист, родственник Татьяны Сергеевны ПИЧИНИ, больше никого нет. В настоящее время с указанными лицами знакомства не поддерживаю.
ВОПРОС: БУЛГАКОВ и его жена Елена Сергеевна были знакомы с ПИЧИНИ?
ОТВЕТ: БУЛГАКОВ был знаком с ПИЧИНИ, а Елена Сергеевна не знаю, была ли знакома.
ВОПРОС: У вас были совместные встречи с ПИЧИНИ и с БУЛГАКОВЫМ?
ОТВЕТ: Да, была у меня на даче в Болшево.
ВОПРОС: В каком году?
ОТВЕТ: Год нашей совместной встречи не помню.
ВОПРОС: Каков характер встречи?
ОТВЕТ: Встреча у меня на даче представителя итальянской автомобильной фирмы “Фиат” ПИЧИНИ с писателем БУЛГАКОВЫМ и со мной делового характера не носила.
ВОПРОС: В каких же целях на даче иностранный подданный фашист ПИЧИНИ встречался с советским писателем БУЛГАКОВЫМ и вами?
ОТВЕТ: Никаких целей при встрече на даче не было.
ВОПРОС: Что же вас объединяло с фашистом ПИЧИНИ?
ОТВЕТ: Ничего не объединяло.
ВОПРОС: Однако вы с ним встречались в течение нескольких лет. Чем же это объяснить?
ОТВЕТ: Встречи с представителем итальянской автомобильной фирмы “Фиат” ПИЧИНИ происходили потому, что моя жена с детских лет подруга жены ПИЧИНИ, и резко порывать это знакомство я считал неудобным.
ВОПРОС: Вас с фашистом ПИЧИНИ объединяла совместная антисоветская работа. Следствие требует рассказать об этом.
ОТВЕТ: Никакой совместной антисоветской работы ни с ПИЧИНИ, ни с другими лицами я не вел.
Допрос прерывается.
Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан: С. Ермолинский.Допросил: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись)[81].
Постановление, в котором С. А. Ермолинский “изобличается в том, что является участником антисоветской группы”
На допросах настойчиво проводилась тема антисоветской деятельности Булгакова и необходимость создать видимость некой организации, которой руководил покойный писатель, где Ермолинский был одним из членов. “Подойди к столу и распишись, – говорил ему после избиений следователь в Лефортово. – Тебе предъявлено обвинение по статье 58-й. Прочти, прежде чем подписывать. Читать умеешь, интеллигент с высшим образованием. Видишь – пункт первый: измена родине и шпионаж. Далее – участие в контрреволюционном заговоре и антисоветская пропаганда”[82]. Он не подписывал. А после непрерывных избиений и пыток Ермолинский решил покончить с собой.
Описывал он это так: “Я уже улавливал малейшее шевеление за дверью. Глазок щелкнул, закрылся, я хорошо слышал, как от моей камеры удалялись шаги. В то же мгновение я полоснул осколком по вене на левой руке. Кровь брызнула. Но они бдительны, чертовски бдительны! Ворвались тотчас. В неясном сознании я видел, как вокруг меня суетятся люди, мелькнул человек в белом халате. Мне туго перевязали руку повыше локтя, йодом смазали рану и наложили бинт на порванное место. Нет, рана была неглубока. Я слышал, как они говорили: – В карцер бы его за это… – Нельзя, загнется… – Вам-то что, а мне отвечать?.. Впрочем, мне было все равно, о чем они говорили. Я тихо лежал. Койку в этот день оставили открытой”[83]. Он выжил.
Теперь они говорят, что снимают с него шпионаж, итальянцев, но все больше – о Булгакове:
“– Тебе, как лучшему другу, нужно толково, без длинных рассуждений и объективно изложить антисоветскую атмосферу в доме Булгакова, рассказать о сборищах, проходивших там. Можешь не называть имен, а вот высказывания его самого нас интересуют. – Он положил передо мной лист бумаги. – Или, может быть, тебе легче не писать, а отвечать на вопросы? Изволь, давай так, я согласен.
– Могу по-разному, но боюсь, что мои ответы вас не устроят, потому что в них не может быть ничего порочащего имя моего друга.
И вдруг все ясно стало в моей голове. Я понял, чего от меня добиваются. Все происходившее раньше было не более чем подготовка к этому. Теперь можно трезво разбираться в каждом его слове. И только бы не терять спокойствия”[84].
От него будут требовать, чтобы он подписал протокол с утверждением о том, что Булгаков был вдохновителем всех антисоветских сборищ. Ермолинский отказывался. Они смеялись ему в лицо и говорили, что грех не спихнуть все на покойника. “Но как объяснить этому человечку с кубиками, – вспоминал Ермолинский, – что очернить память друга для меня – подлейшее из предательств? Имеет ли он представление о том, что такое дружба? Здесь одно мерило – цепляние за жизнь. Даруют жизнь – радуйся и ползи!”[85]
Этот субтильный интеллигент, у которого то и дело отнимали очки, стоял насмерть. Тут надо остановиться и еще раз подчеркнуть, что ничего изобличающего Булгакова Ермолинский не подписал. То есть, если бы он когда-то писал доносы или был приставлен к писателю, зачем ему было упираться на следствии ценой постоянных мучений? Так что это ложь. Потому что для него честь и достоинство оставались важными и в тюрьме, и в камере, и перед лицом смерти. И тогда, отказываясь клеветать на мертвого Булгакова, он совершил свой главный, никому неведомый, абсолютно незаметный подвиг. Потому что, если бы его убили на допросе или расстреляли, никто бы никогда этого не узнал. И, конечно же, внутренний голос твердил ему, что он упирается напрасно, и в этом волчьем мире достоинство никому не нужно. Однако он стоял и выстоял. И вот чудо случилось, и дело Ермолинского рассыпалось. Иногда признание или непризнание вины в кабинете на Лубянке могло многое изменить в жизни и судьбе человека. И сейчас следствие застыло. А в июне 1941 года началась война.
В октябре его вместе с другими арестантами бросили в товарный вагон, поезд не раз бомбили, но он дошел до новой тюрьмы. На остановках вынимали трупы, давали селедку и ведро воды на всех. Потом Сергей Александрович узнал, что где-то рядом с ним в столыпинском промерзшем вагоне ехал такой же зэк, как и он, бывший академик Николай Иванович Вавилов. Он умер в Саратовской тюрьме и был похоронен на ее задворках. Когда Ермолинского привели в камеру, ему даже не сказали, в какой город его привезли. Это был Саратов.
“Парижанка”
Итак, Ермолинского снова вызывают к следователю уже в Саратове и дают в руки папку с его делом.
“Ознакомьтесь и распишитесь. Что же там оказалось, в этой папке? Ордер на арест, подписанный прокурором, рядом с его подписью закорючка Петра Андреевича Павленко. Затем бумажки-ходатайства голубоглазого о необходимости продления следствия с соответствующими положительными санкциями.
Этих бумажек накопилось много. И наконец, я прочитал довольно длинную «экспертизу» Всеволода Вишневского, в которой была охарактеризована моя деятельность, главным образом на кинофабрике Госкино («Мосфильме»), где я допускал на художественном совете антисоветские высказывания и препятствовал прохождению подлинно революционных произведений. В частности, он указывал на то, что именно по моему настоянию был отвергнут сценарий «Мы – русский народ». Написанное, заявлял я, еще не сценарий, а бесформенная патетика. Мое же творчество (это слово было взято в кавычки) представляет собой не более чем ловкое приспособленчество, скрывающее мое истинное лицо. Он приводил примеры, не припомню какие, из моих сценариев и моих выступлений. Многие строчки этой «экспертизы» были густо подчеркнуты красным и синим карандашами. Вслед за Вишневским неожиданно оказались показания Ильи Захаровича Трауберга, удивившие меня. Илью Трауберга, ленинградского кинорежиссера, вызвали в Москву и назначили начальником сценарного отдела нашей кинофабрики, там я с ним и познакомился. Он написал коротко, примерно так: «Знаю С. А. Ермолинского как высококвалифицированного сценариста, отличного работника и не сомневаюсь в его честности». Если припомнить те времена, то это был поступок на редкость благородный, причем поступок человека, никак не связанного со мной дружбой. Перевернув последнюю страничку «дела», я с некоторым недоумением посмотрел на следователя.
– На предыдущих допросах, – сказал я, – моим следователем неоднократно упоминались свидетельства целого ряда лиц. Приводились слова, якобы сказанные мною, в которых я издевался над выборами в Советы («какие выборы, если один кандидат, бери и механически опускай бюллетень»); что известны мои ехидные насмешки над некоторыми деятелями искусства и литературы, которые готовы распластаться, лишь бы по головке погладили, Сталинскую премию выдали; что я глумился над произволом цензуры, и т. д. и т. п. (Добавлю в скобках для читателей этих записок, что я мог высказывать подобные мысли и даже припомнить имена людей, которым или в присутствии которых высказывал их, но промолчу, потому что заодно с доносчиками легче легкого ошельмовать и безвинных людей. Закрываю скобки.)
В Саратове же я подчеркивал другое. На каком основании, говорил я, мой московский следователь утверждал, что на квартире Булгакова происходили антисоветские сборища и я участвовал в них? У него, у следователя, грозился он, имеются показания моих близких друзей и друзей Булгакова, подтверждающие это. Где они?
Новый, саратовский следователь нахмурился. Однако же он и тут ответил мне без обиняков:
– Допускаю, что следствие располагало и такими показаниями, но не все показания, хотя и учитываются, прилагаются к делу.
– Понимаю. «Тайные показания», – сказал я.
Он пропустил мимо ушей это мое замечание и сказал:
– А цензуры у нас нет. Это вы напрасно.
– Понимаю. А как насчет булгаковских сборищ?
– Это отпало, – чуть повысив голос, ответил он.
На этом разговор, скорее беседа, чем допрос, окончился”[86].
Итак, “тайные показания” в деле были. Но Ермолинскому их, конечно же, не показали. Я их тоже не видела, когда в 1990-е годы читала допросы в архиве ФСБ. Папка была очень тонкая, но по ее сторонам были конверты, тщательно заклеенные. Можно было читать только следственное дело, а доносы, спрятанные там, конечно же, нет.
И только в 2017 году году мне удалось получить в ГАРФе дело по реабилитации Сергея Ермолинского[87]. Было это непросто, но все-таки оно оказалось у меня в руках. Сначала мне показалось, что все документы мне более-менее знакомы. Был еще большой итоговый допрос прокурора Хорнашова от марта 1941 года. Видимо, утрясали это дело, стараясь свести все, что было. И вот на одной такой итоговой бумажке, приготовленной следователем к заседанию, на обратной стороне постановления я увидела выписанные, видимо, для быстроты ознакомления прокурора – те самые “тайные показания”, на основании которых был произведен арест Ермолинского.
Небольшой листок бумаги (см. фото). С одной его стороны напечатано:
ПОВЕСТКА
к заседанию особого совещания при народном комиссаре внутренних дел союза СССР
Фамилия докладчика – Образцов. № следственного дела – 2128. В другой графе. Установочные и характеризующие данные. Ермолинский Сергей Александрович, 1900 года рождения, уроженец гор. Вильно, русский, грн СССР, беспартийный, бывший член Союза сов. писателей, киносценарист. Арестован 24 ноября 1940 года и держится под стражей в Саратовской тюрьме НКВД. Обвиняется в том, что в период 1939–1940 годов в кругу своих знакомых вел антисоветские разговоры, в которых осуждал мероприятия партии и правительства. В области литературно-кинематографической деятельности с 1927 по 1940 год в ряде киносценариев – “Земля жаждет”, “Железная Бригада” и в других – неправильно отображал трудовую деятельность советского народа, а в киносценарии “Закон жизни” (соавтор) возводил клевету на жизнь советской молодежи, – т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 59, п. 10, ч. 1 УК РСФСР. Виновным себя не признал. Изобличается агентурными данными источников “Парижанка” и “Дипломат” и материалами экспертизы.
Фрагмент повестки из дела по реабилитации С. А. Ермолинского
На обратной же стороне этой повестки острым (см. фото ниже) простым карандашом отдельные тезисы доноса:
Изобличается.
I) Негласный допрос Парижанки.
1) Руков а/с кружком.
а) Выборы формальны.
б) Аресты разв. <нрзб> страны.
в) О законе труд. дисцип. действ. разрушительные.
г) Между коммун. и фашизмом разн. мало высокая симпатия к Гитлеру.
II) Изоб. Венкстерн[88] – 14.xi.1938. <нрзб> Осужден <нрзб> от 11.xi.1939 х 5 л. Изобличается как участ. а/с группы.
III) С 1931–36 поддерживал вместе с женой знакомство с предст. итальян. фирмы Фиат – Пиччини.
Оборот повестки из дела С. А. Ермолинского
Справа сверху:
3 г. высыл. из Москвы.
“Парижанка” (по агентурному имени понятно, что это женщина) хорошо знакома и с Ермолинским, и с его взглядами. Негласный допрос, вероятно, на конспиративной квартире. Таких квартир могло быть множество в Москве. Сюда приходили раз в месяц, раз в неделю. Там снимали показания с агентов люди в гражданской одежде, которые доброжелательно, убедительно, а главное, настойчиво объясняли, что никакого выхода нет и необходимо сообщать все, что известно. Кем же могла быть “Парижанка”? Другой, кроме Любови Евгеньевны Белозерской, “парижанки” в окружении Ермолинского просто не было. Конечно же, это предположение, потому что до сих пор документы доносов и имена показаний агентов нам не раскрыты. И вряд ли это скоро произойдет. Но возможно, что Любовь Евгеньевну и могли использовать как агента еще с тех самых пор, как она вернулась в Советскую Россию.
Белозерская происходила из дворянской семьи. В 1918 году она встретилась с известным журналистом, знакомым ей еще по Петербургу, Ильей Марковичем Василевским, писавшим под псевдонимом “Не-Буква”, и вышла за него замуж. Вместе с Василевским в феврале 1920 года из Одессы отбыла в Константинополь, в эмиграцию. Именно ее злоключения были описаны Булгаковым в пьесе “Бег”. В том же году они переехали с мужем во Францию: сначала в Марсель, а затем в Париж, где Василевский стал издавать собственную газету “Свободные мысли”, скоро прекратившую свое существование из-за отсутствия средств. Любовь Евгеньевна выступала в балетных труппах на подмостках парижских театров.
Ее рассказы о Париже помогли Булгакову в написании “Мольера” и сцен с Корзухиным из “Бега”. В мемуарах Любовь Евгеньевна вспоминала: “Сцена в Париже у Корзухина написана под влиянием моего рассказа о том, как я села играть в девятку с Владимиром Пименовичем [Крымовым] и его компанией (в первый раз в жизни!) и всех обыграла. Он не признавал женской прислуги. Дом обслуживал бывший военный – Клименко. В пьесе – лакей Антуан Грищенко”[89].
Зимой 1921–1922 годов Белозерская с мужем переехала в Берлин, где Василевский стал сотрудничать в “сменовеховской” просоветской газете “Накануне”, активно печатавшей тогда очерки и фельетоны Булгакова. Затем они вместе возвращаются в Советскую Россию, где Л. Е. Белозерская расстается с Василевским, несмотря на его противодействие, и в конце 1923 года оформляет с ним развод.
В начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией “Накануне” в честь писателя Алексея Николаевича Толстого, недавно вернувшегося из эмиграции, Белозерская познакомилась с Булгаковым. Эта встреча привела к тому, что Булгаков оставил свою первую жену, Татьяну Николаевну Лаппа (предварительно оформив с нею формальный развод), и в октябре 1924 года женился на Белозерской. Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1925 года.
Василевский был арестован 1 ноября 1937 года. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации. Его имя было включено в сталинский расстрельный список, датированный 10 июня 1938 года (№ 23 в списке из 152 человек под грифом “Москва-Центр”). Был расстрелян 14 июня 1938 года.
Как видим, у Л. Е. было слишком много крючков, за которые ее можно было зацепить: негласно допрашивать, снимать показания. Одного только возвращения из эмиграции хватило бы с избытком. Бывший муж будет арестован. Булгаков находится под постоянным надзором. Еще и друзья-иностранцы.
С 1932 года по 1940-й включительно среди их с Булгаковым друзей-пречистенцев, бывших сотрудников ГАХНа, шли постоянные аресты.
В книге М. Чудаковой “Жизнеописание Булгакова” приводится очень характерный рассказ О. С. Северцевой (племянницы арестованного А. Габричевского) о знаменитом Мике Морозове, шекспироведе, который был завербован именно из-за своего происхождения: “Но темные тени чем дальше, тем больше ложились на эту среду… С ним же разыгралась в одном из самых близких ему «пречистенских» – у Ляминых – домов «чудовищная», по определению рассказывавших нам о ней Н. А. Ушаковой и М. В. Вахтеревой, история. При всем собрании гостей он ударил по лицу Наталью Алексеевну Габричевскую (ту, про которую Б. И. Ярхо сложил двустишие: «Всех на свете женщин краше Габричевская Наташа…»). На него кинулись А. Г. Габричевский и H.H. Лямин, вытолкали из квартиры и спустили с лестницы. Больше в этих домах он уже не бывал. А много лет спустя, встретив Н. А. Габричевскую в Коктебеле, он спросил ее: «Неужели вы не поняли, зачем я это сделал?..» И пояснил, что ему было нужно именно, чтобы он публично был изгнан из милого дома. «А среди гостей, – добавил он еще одну (ужасавшую рассказчицу и до сего дня) подробность, – находился человек, который мог это происшествие, где нужно, подтвердить…» (выделено мой. – Н. Г.)”[90] Кто был тот человек, который должен был все подтвердить? Может быть, и Л. Е. Белозерская. А может быть, кто-то еще. Сколько таких людей было в том кругу, мы не знаем.
Мы уже писали, что отношение Любови Евгеньевны Белозерской к Ермолинскому было крайне негативное. И если в мемуарах она еще более-менее сохраняет приличия, то, рассказывая о нем кому бы то ни было, в выражениях она уже не стеснялась. Вот ее изложение истории их знакомства с Ермолинским некоему Л. Яковлеву, где она не называет имени, но все ясно и так. Яковлев записывает ее рассказ.
“В 1928 году в начале лета Белозерская едет в Вольск, чтобы разыскать могилы близких, погибших от голода в Поволжье. На этом же пароходе оказался кинорежиссер по фамилии, кажется, Вернер, в свите которого пребывал некий молодой человек, не избежавший действия ее чар. Она же, при всем безразличии к нему, по присущей ей доброте, привела его в дом и познакомила с Булгаковым. И стал он одним из тех, кто потом рушил этот дом, расширяя и углубляя поначалу незаметные трещины, проявлявшиеся под ударами жизни, становившейся час от часу труднее. Потом он ушел из ее дома вслед за Булгаковым, пытаясь выкорчевать из его памяти все хорошее, связанное с нею. После смерти и после воскресения Булгакова-писателя желание мстить Белозерской приобрело у этого бывшего молодого человека, если судить по его собственным словам, патологические очертания. Так, например, он, безо всякого стыда и не понимая кощунственности своих слов, сам признавался в своих воспоминаниях, что предлагал Е. С. Булгаковой убрать (?!) сделанное рукой писателя посвящение – «Любови Евгеньевне Булгаковой» – романа «Белая гвардия». На что Елена Сергеевна, памятуя, видимо, о том, что она сама появилась подле Булгакова отчасти из-за неразборчивости Белозерской в знакомствах, просила его оставить Белозерскую в покое, потому что «Люба – добрая женщина»! Тем не менее «Булгакова» (так в рукописном оригинале) была заменена на «Белозерскую»… И лишь в своих мемуарах, полностью опубликованных уже после смерти Е. С. Булгаковой, он попытался отыграться, не пожалев чернил ни для Л. Е. Белозерской, ни даже <…> для Е. С. Булгаковой. А Белозерская смеялась и, успокаивая возмущенных, в том числе и меня, говорила, что эти воспоминания вообще не так уж плохи, а она перед кем угодно и даже на очной ставке с их автором легко защитит себя одной фразой: «Он мстит мне за мою несговорчивость!» Пусть же звучит в ее защиту это чисто женское и потому, наверное, самое верное и милосердное объяснение причин столь давней вражды, ибо во многом эти воспоминания действительно интересны и ценны. О своей неудавшейся попытке соблазнить жену писателя этот булгаковский «друг» не вспоминает, очевидно, оставив признание в этом грехе для Страшного Суда…”[91]
Про то, что Ермолинский находился под чарами Любови Евгеньевны, ничего не известно. И Страшный суд оставим на совести рассказчика. Ермолинский в своих воспоминаниях прямо писал, что ему не нравилось в Любови Евгеньевне Белозерской. В шестидесятые годы шли разные разговоры про Елену Сергеевну Булгакову. Многое приходило из “лагеря” Белозерской. Он негодовал и хотел написать обо всем, потому что считал себя защитником Булгаковой. О том, как Елена Сергеевна сдерживала его, он написал откровенно сам:
“Свои черновые записки о Булгакове (в отрывках опубликованные в журнале «Театр» еще в 1966 году) я прежде всего прочитал Лене и сказал ей, что она для меня решающий цензор и может вычеркивать все, что покажется ей неверным, не дай бог, выдуманным или бестактным. Она попросила меня лишь об одном: как можно короче написать о Л. Е. Белозерской. Даже малейшее нелицеприятное суждение о ней с моей стороны непременно будет рассматриваться как подсказанное Леной. «Кроме того, – говорила Лена, – Люба все-таки добрая женщина и никогда не упрекнет тебя в неблагородстве только за то, что ты любил Мишу и стал моим, а не ее другом. И ведь она знает, как много ты пережил за эти годы. Разве этого недостаточно, чтобы понять, что твоя жизнь в Мансуровском кончилась? Все стало у тебя по-другому. Может быть, и ты сам стал немного другим. Нет-нет, я уверена, что она поняла, как, я думаю, поняла Марика, ведь она поняла?» Лена! Я помню твои слова и вычеркнул всё лишнее, написанное в запале, ибо не мог не защищать тебя, когда Миша ушел к тебе, перестал быть Макой и Масей-Колбасей, а про тебя говорили бог знает что. Ты многого не знала, но тебя, конечно, больно укололо, что большинство «пречистенцев» перестало бывать в твоем доме. До войны я продолжал встречаться с Любовью Евгеньевной (она часто заходила к нам, потому что дружила с Марикой, моей прежней женой), но холодок между нами все более чувствовался. Как видишь, я рассказал о ней очень сдержанно, стараясь не произнести ни одного неосторожного слова”[92].
Про посвящение. С. А. действительно был возмущен тем, что первая жена, Татьяна Лаппа, прошедшая с ним все испытания, оказалась в стороне, и написал об этом в своих Записках. Ермолинский пишет про Белозерскую: “И уж никак не участвовала в его скитаниях в годы Гражданской войны, была в эмиграции – в Константинополе, в Париже, в Берлине. Тем не менее, в журнальной публикации «Белая гвардия» посвящена ей! И когда этот роман переиздавали в однотомнике избранной прозы (Художественная литература, 1966), Лена, не колеблясь, сохранила посвящение. «Я оставляю его, потому что оно сделано рукой Миши», – говорила она, хотя прекрасно понимала, что роман написан о том времени, которое неразрывно связано с первой его женой, с Татьяной Николаевной Лаппа. Они разошлись после двенадцатилетней совместной жизни, и самое мучительное было то, что произошло это, когда все самое трудное, казалось, было уже позади, дела его пошли в гору. И если прорвалась кое-где ирония, то, считай, что это от дурной склонности моего ума; за внешним – подсматривать подкладку. Повинен в этом. Но теперь, когда тебя не стало, что-то окончательно надорвалось в моем отношении к ней”[93].
Отметим все-таки, что и сестра писателя Надежда Булгакова-Земская указывала в своем письме к Елене Сергеевне на эту же несправедливость Булгакова по отношению к первой жене.
05. iii.1956
Москва
Милая Люся[94]!
Я знаю, что ты теперь работаешь над подготовкой Мишиного архива для сдачи его в Пушкинский дом. В связи с этим я хочу написать тебе мое мнение о посвящениях на произведениях брата Миши. Я знаю, что были случаи, когда посвящения у него выпрашивали, что он был против посвящений и в последнее время собственноручно снимал все посвящения со своих произведений. Поэтому я думаю, что не надо оставлять посвящений ни на одном из его произведений. Особо следует сказать о посвящении на печатных экземплярах романа “Белая гвардия”. Там стоит: “Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской”. Когда я впервые прочитала это посвящение, оно было для меня совершенно неожиданным и даже больше того – вызвало тяжелое чувство недоумения и обиды. Михаил Афанасьевич писал “Белую гвардию” до своего знакомства с Любовью Евгеньевной. Я сама видела в 1924 году рукопись “Белой гвардии”, на которой стояло: “Посвящается Татьяне Николаевне Булгаковой”, т. е. первой жене брата Миши (Татьяне Николаевне Булгаковой, урожденной Лаппа, на которой он женился в 1913 году. – Н. Г.). И это было справедливо: она пережила с Мишей все трудные годы его скитаний после окончания университета, в 1916–1917 годах и в годы Гражданской войны, она была с ним в годы начала его литературной деятельности. Об этом есть свидетельства и в его письмах, и в рассказах начала 1920-х годов. Роман “Белая гвардия” создавался при ней. Поэтому снятие ее имени и посвящение романа “Белая гвардия” Любови Евгеньевне было для нас, сестер Михаила Афанасьевича, и неожиданным, и неоправданным. Это мое мнение разделяет и сестра Вера, которая тоже видела рукопись романа “Белая гвардия” с посвящением Татьяне Николаевне Булгаковой. Я прошу тебя не оставлять никаких посвящений ни на одном из произведений Михаила Афанасьевича, в том числе снять посвящение и с “Белой гвардии”. Да ты и сама знаешь, что Михаил Афанасьевич снимал все посвящения со своих произведений, говоря, что не нужно их. Написать тебе это письмо я считаю своим долгом, так как думаю, что моя просьба о снятии посвящений совпадает с волей брата Миши.
Твоя Надя[95]Ссылка. История в письмах
Но что стало с Марикой? Где она была? Что делала?
Конечно же, она смертельно боялась. Но ее имя тоже почти не звучит на допросах. То, что и она могла пройти через систему негласных допросов, несомненно. Ее связь с итальянцами была очень близкой (через подругу детства, которая была замужем за Пиччини). Не говоря о ее работе с Малапарте, напечатавшим свой скандальный труд (“Техника государственного переворота”) в Париже, а затем поссорившимся с Мусолини и угодившим в итальянскую тюрьму. Кто-то интересовался им? Или нет? Марика много знала о прекрасном итальянце. Но, может быть, о нем забыли? Про это нам пока ничего не известно.
Есть расплывчатые свидетельства загадочных рассказов Марики, приведенных в брошюре Н. Шапошниковой о том, что ее вызывали в НКВД, но она так сильно плакала, что они махнули рукой и ее отпустили. Второе свидетельство еще более необычное. Будто бы ей позвонил Берия (!) и спросил, так же она красива, как ее подруга Нато Вачнадзе? И она сразу же после этого разговора собралась и уехала в Тбилиси к родственникам. За этими рассказами лежит, по всей видимости, стремление что-то сказать и при этом не сказать главного.
Что до ее приятеля Пиччини, то, пока был в Москве, он переписывался с Малапарте (одно письмо сохранилось), и трудно представить, что наши органы не перлюстрировали переписку. Но опять же, все, что связано с Малапарте и его отношениями с Советской Россией, покрыто мраком неизвестности.
Тем временем Сергей Александрович встретил войну в Саратовской пересыльной тюрьме, откуда его тяжелобольным осенью 1942 года выбросили с “волчьим билетом” на улицу. Перед тем как отпустить, ему зачитали постановление ОСО (Особого совещания), согласно которому он подлежал высылке на три года. Тогда он даже не понимал, что его подвергли самому легкому наказанию. Не лагерь, а ссылка! Ермолинский писал, что думал, что просто оказался не нужен НКВД, но эта организация почти никогда не выпускала человека на свободу. Здесь все-таки, видимо, сработало то, что подследственный не подписал ни одной самообличающей бумажки. Признание – оставалось царицей доказательств, а подделывать подписи в таком невнятном деле, видимо, не стали. “В удостоверении, выданном мне вместо паспорта, было только сказано, что я, такой-то, «социально опасный», что подписью и печатью удостоверяется. – Получай дорожный паек, и чтобы в двадцать четыре часа тебя не было в Саратове, – сказал мне человек, объявивший мне приговор ОСО”[96].
Дальше он, больной, оказался на улице в незнакомом городе. Его, умирающего, выходила простая женщина, Прасковья Федоровна Новикова, потерявшая на войне и мужа и сына. После того как он встал на ноги, отправился к месту своей ссылки. Энкавэдэшник послал его на станцию Чиили, на которой поезд, шедший из Москвы в Ташкент, обычно останавливался на одну минуту. Оттуда он и отправил одно из первых писем Марике, на которое спустя время получил ответ.
30. xi.1942
Чиили
Ермолинский – Марике[97]
Машенька, очень трудно передать, с каким волнением я читал эти листочки, написанные твоей рукой. Твоей рукой! Твои листочки! Машенька моя, как страшно было думать, что я навсегда потерял тебя! И кажется невозможным счастье, что ты опять будешь со мной! Приехал я сюда совсем разбитый и больной, совсем без денег, с опухшими ногами – сама понимаешь, в каком же ином виде я мог еще быть? Сначала ночевал на вокзале, а потом люди, участливо ко мне отнесшиеся, помогли найти угол. Я заметно лучше себя чувствую и лучше выгляжу, ноги бодро держат меня и не пухнут, волосы отрастают, я уже не такой бритый каторжник. На днях получил очень дружескую телеграмму от Юли[98] – он в Алма-Ата, обещает всякое содействие в моих кинематографических делах.
Теперь самое важное. Машенька, солнышко мое, хочешь ли ты приехать ко мне? Чиили – милый городок с глиняными домами, с вербами и серебристыми тополями, кругом степь и степь, над степью – прекрасное небо. Машенька моя родная, я очень устал от своего одиночества, так хочется, чтобы близкий, любимый, родной человек был рядом. Ну да разве нужно об этом писать – ты понимаешь – иначе не могло бы и быть. Тяжелый позади путь.
Но Мария Артемьевна Ермолинская приезжать не торопилась. Она собиралась из Москвы ехать в Тбилиси, на свою родину, где устроилась на работу в местный госпиталь. Она считала, что и Ермолинский должен приехать к ней туда же. Однако она не понимала или не хотела понимать, что он находится в положении ссыльного, который ходит каждую неделю отмечаться в НКВД и не может изменить место своего проживания.
14. xii.1942
Чиили
Ермолинский – Марике
…В свой переезд в Тифлис я не очень-то верю, разве только если какой-нибудь Миша Чиаурели заинтересуется мною (я ему окажусь с руки как драматург!) – вот так вот, как заинтересовались мной ленинградцы и москвичи. Что же еще можно придумать? Свое квартирное положение в Чиили мне, кажется, удается улучшить (тьфу! тьфу! Пока не пишу подробностей). Из предыдущих писем ты должна уже иметь представление о моей здешней жизни. И – право – мои Чиили совсем-совсем не так плохи. Не забывает меня и Люся.
Из контекста писем понятно, что Марика уже в Тбилиси.
28. xii.1942
Чиили
Ермолинский – Марике
…Читал твои письма, и мне так захотелось очутиться в Тифлисе, что, кажется, сел бы и поехал тотчас же, не теряя ни одной минуты. И хотя свыкся я со своим одиночеством, невозможным представляется, что я могу быть “дома”, т. е. с тобой (дом – там, где ты), но я стараюсь совсем не думать об этом, не позволяю себе распускаться, и все равно так иной раз подопрет, таким иной раз “бедным стрелочником” себя почувствуешь, что мочи нет. Заключил из твоих писем, что в Тифлисе ты все же устроена (главное, дружишки есть), и мне страшно стало настаивать на твоем переезде в пустынные Чиили.
Ложусь рано, часов в 9–10. Иногда (к вечеру) захожу на вокзал, болтаюсь на станции, проходят поезда, у станции толкучка, бабы продают сушеную дыню, молоко. И кругом бесконечные просторы, огромное небо, начинают лаять собаки, наступает ночь, надо идти домой, перелезая через арыки. Часто получаю письма от Люси. Позавчера приехал из Ташкента в командировку один человечек (студент ташкентский) и привез мне посылку от Люси – бумаги (ура!), табаку, махорки (целый мешок!), спичек (5 коробок, ура!), немного чаю, кофе и даже конфет (которые я не ем, а 1 января разделю и подарю детям хозяйки, малыш Виктор никогда в жизни не ел конфет). Вообще, письма Люсины удивительно хорошие, каждый раз пишет она, что любит меня нежно, просит писать чаще и беспокоится обо мне. Наступает Новый год. Родная моя, хорошая, любимая, третий Новый год встречаю я без тебя, и грустно как!
Елена Сергеевна Булгакова в то время жила в эвакуации в Ташкенте во флигеле писательского дома (ул. Жуковского, 54), на балахане (верхней надстройке узбекского дома), с младшим сыном Сережей, а внизу в двух небольших комнатах под ними – Луговские: Владимир, поэт, его сестра Татьяна Александровна и очень недолго – их мать, вскоре умершая в ташкенской больнице.
В тот день, который Ермолинский описал в письме, Елена Сергеевна побежала к Татьяне Луговской. Татьяна Александровна потом описала свои первые, еще невстречи с будущим возлюбленным, которые незаметно приближали их друг к другу: “– Ты знаешь, Сережа нашелся, – сказала Елена Сергеевна. – Какой Сережа? – Ермолинский. Он в ссылке в Казахстане. Надо было бы посылочку ему сделать, а у меня ничего не осталось. Все проели”. Посылку они соорудили вместе.
“И вдруг – радость! – писал в воспоминаниях Ермолинский. – Посылочка от Лены из Ташкента! Мешочки, аккуратно сшитые «колбасками», в них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом…”[99]
Так Татьяна Александровна Луговская впервые узнала о существовании Сергея Александровича Ермолинского.
28. xii.1942
Чиили
[Продолжение письма]
…Очень меня порадовало, что Райзман, Крымовы и Шолохов оказались настоящими друзьями. Ты опять пишешь, чтобы я сообщил подробно, как обстоит дело. Я уже писал тебе, что кончилось оно ничем, а попал я сюда на основании коротенького постановления особого совещания от 26 сентября 1942 года. Отношение ко мне (особенно в последнее время) было хорошее, причина в постановлении была указана только одна – разговоры, кроме них больше ничего нет.
Время шло, но Марика не приезжала. Из подборки этих писем видно, как непросто складывались их отношения. Он – пораженный в правах, ссыльный, ожидающий не только писем, но и ее приезда. Она – ее писем у нас нет, но из контекста ясно, что у нее находились сотни причин, чтобы не приезжать.
“Вскоре после Лениной посылки я получил письмо от Марики. Она писала, чтобы я не беспокоился о ней: устроилась хорошо, работает, даже почувствовала, что нашла свое призвание. Немного трудно было тотчас после того, когда я исчез. Она рассчитывала на «Машеньку», потому что сценарий утвердили, наконец, во всех инстанциях, и мне причитались в окончательный расчет последние 25 %, но их ей не выдали. Эти деньги получил мой соавтор, которому пришлось одному, без меня, вносить все поправки. Кроме того, Марика писала, как много горечи пришлось ей испытать, когда она смотрела готовый фильм, а моей фамилии в титрах не было – только соавтора”[100].
26. i.1943
Чиили
Ермолинский – Марике
Недавно из Алма-Ата в Москву проезжал Юля, и я его видел. Очень изволновался, ожидая поезда. Ведь это был первый близкий человек, с которым я встретился после двух лет. Разговор получился бестолковый, как и полагается, и мы оба всплакнули. Встреча эта взбаламутила меня, на несколько дней выбила из колеи. Поезд ушел и как будто унес мою свободу! Международный вагон показался мне неправдоподобным напоминанием прежней жизни, а из двух-трех фраз я понял, что живут они там в Алма-Ата, пребывая в прежних интересах, хотя и жалуются на всевозможные неудобства и трудности жизни (Ах, боже мой, какие неудобства! Боже мой, какие трудности! Просто стыдно говорить!). Пусть мир разламывается, столько горя человеческого, что его перестают замечать, а в студии – прежняя мышиная возня, те же интересики, карьерочки тревожат сердца заслуженных лауреатов. Студия хлопочет, чтобы меня “перевели” в Алма-Ата, но я не знаю, хорошо ли это? По-прежнему часто пишет мне Люся. Недавно получил письмо от Вл. Серг. [Топленинова][101], он пишет мне, что в Мансуровском всё благополучно. Из его письма узнал о смерти Тяпочки. Я так и знал, что он не будет без меня жить. Филипп Филиппович [?] помер в тот день, когда умер Миша, а Тяпка безнадежно заболел тотчас же, когда я отправился на тот свет. Мое счастье всегда было неразрывно связано с животными и птицами.
Он подчеркивает почти в каждом письме, что Люся (Е. С.) помнит о нем. Что он от чужих людей узнает о судьбе их квартиры на Мансуровском, о судьбе своей таксы Тяпы.
12. ii.1943
Чиили
Чиили. Ермолинский – Марике
…Моя хорошая, моя родная, вот уже больше трех месяцев, как я здесь, в Чиилях, и, кажется, не осталось у меня веры, что когда-нибудь увижу тебя! Счастье это кажется невозможным, невообразимым – и тянется, тянется мое одиночество, ужасная пустыня вокруг меня, трудно даже себе представить!
Она не едет. Хотя он на свободе и они три года были в разлуке.
25. ii.1943
Чиили
Ермолинский – Марике
И, может быть, я тебе уже совсем не нужен, и ты не пишешь мне об этом пока, чтобы я окончательно не упал духом и не потерял остатки сил к жизни? Что делается в твоем сердце, моя Машенька, моя единственная, моя дорогая Машенька? Мысли всякие истерзали меня, и я должен покаяться в этом, прости меня.
Ему очень стыдно признаваться в своей слабости, в своем чувстве одиночества.
4. iii.1943
Чиили
Ермолинский – Марике
Машенька, моя родная! Очень загрустил, столько времени не получая от тебя писем. Не могу понять, что же это такое? Если бы не две телеграммы, которые добрались до меня в конце февраля, я бы совсем пал духом. И чорт знает что в голову лезло! Исправно пишет мне только Люся – от нее узнаю о каждом человеке, который хоть чем-либо может быть мне интересен. Недавно в Ташкент приезжала Магарилл (первая жена Г. М. Козинцева. – Н. Г.), расспрашивала Люсю обо мне и сообщила, что Пырьев (?!) вкупе с алма-атинскими режиссерами твердо решили “отхлопотать” меня. Не помню, писал ли я тебе, что в январе неожиданно получил я перевод на 500 руб. из Самарканда. Оказалось, что это послал мне Женя Шиловский! Сейчас я расплатился с этим долгом и узнал (от Люси), что Женя, существующий на весьма скромную зарплату, продал свою гимнастерку, чтобы выручить меня. Ну? Разве не трогательный факт. Нет, пожалуй, можно подождать и пока не вешаться на вербе.
В Алма-Ате и Ташкенте о нем постоянно говорят, придумывают способы, чтобы вытащить его в нормальную жизнь.
31. iii.1943
Чиили
Ермолинский – Марике
…Читала ли ты про премии? Женя Габр[илович] – в сиянии славы пересчитывает деньги. Очень противно. И я думаю, что разрешение на мой приезд получено в некоторой связи с этой премией. Юля не пишет ни слова. В общем, поездка моя в Алма-Ата – выплыла ко времени, и она может быть частично занимательна, даже если я поссорюсь. Жди вестей из Алма-Ата (надеюсь, что в конце концов уеду) и пиши чаще, а то очень бывает тяжко в моем одиночестве.
Получение Сталинской премии за “Машеньку” было и радостно, и унизительно. Имя Ермолинского было вычеркнуто из титров, там остались только Ю. Райзман как режиссер и Е. Габрилович как единственный сценарист. Негласный договор о том, что Габрилович должен был отдать половину причитающейся суммы Марике, не был исполнен. И оставил Ермолинского навечно врагом Габриловича. Хотя последнему искренне казалось, что он свои обязательства выполнил.
1. iv.1943
Чиили
Ермолинский – Марике
Дорогая Машенька, получил твою телеграмму по поводу моих грустных писем. И все-то я огорчаю тебя! Вот сейчас ты прочла про премии и, наверное, огорчилась за меня. Что поделаешь, такова уж смешная моя судьба. Но, честное слово, это пустяки, я еще десять таких “Машенек” сочиню, голова бы была цела, а главное – я все равно перехитрил всех! Я обзавелся не одной, а двумя Машеньками, и если одну можно было наполовину украсть у меня, то вторую – которая в Тбилиси – никто уж не отнимет, нет таких сил, такой лжи, подлости и коварства! Видишь – как! Пришло письмо от Кути (Люси), она пишет, что уверена, что студия и Райзман примут самые энергичные меры, чтобы вытянуть меня на поверхность. Это – по ее мнению – в связи с премией! Ерунда, я никому и ни во что не верю. Люди сейчас заботятся только о себе, каждый оказывает помощь другому лишь в расчете извлечь из него какую-либо пользу и норовит при этом дать меньше, чем получить…
“…Моего имени нельзя было упоминать, я понимаю: я был под следствием. Но как мог человек, считавший меня своим другом, воспользоваться моей бедой и присвоить себе труд полностью, даже при любых оговорках, ему не принадлежащий? Нет, хуже, гораздо хуже! Как мог человек, считавший себя другом, не подумать о жене друга? Испугался? Или попросту, закрыв глаза, заткнув уши, решил нажиться на такой беде, какая случилась со мной? И это в то время, когда уже почти все понимали, что такое эта беда!.. Я думал об этом действительно в потрясении. Добро бы случайный соавтор, случайная совместная работа… Как стыдно! Как страшно!.. У меня заболело сердце. Не было нитроглицерина. Я лежал плашмя”[102].
И вот он наконец выбирается в Алма-Ату к друзьям. Настроение его резко меняется.
28. iv.1943
Алма-Ата
Ермолинский – Марике
Машенька, солнышко мое любимое, ты знаешь из моих писем, что отправлялся я в Алма-Ата неуверенный и настороженный, а встретили меня здесь настолько хорошо, что я до сих пор очухаться не могу. Сразу же мощная компания лауреатов (тут все знакомые тебе фамилии во главе с Черкасовым) отправилась к Наркому, и мой вопрос решился в два дня. Я оставлен в Алма-Ата. Нет, право же, право, я не подозревал о таком отношении к себе со стороны кинематографистов – вдруг обнаружилось, что я любим ими, и кто только не кидался мне на шею, прямо-таки удивительно – даже мосфильмовские машинисточки и секретарши. Видишь, Машенька, значит, я не так уж дурен!
Живу я пока у Юли, вот уже десятый день – и окружен заботой самой нежной. В этой же квартире – Козинцевы. Кукла Магарилл вдруг оказалась душевнейшим человечком и волновалась, когда решался мой вопрос, будто я – родной человек. Ах, Машенька, как это все дорого! На днях я перееду в гостиницу (уезжает Шкловский, и вселюсь я). Пока это номер временный, т. о. придется еще похлопотать насчет комнаты, но мне очень помогают, и я надеюсь, что к твоему приезду все уладится. Во всяком случае, я твердо (в первый раз за все это время) послал тебе телеграмму – и написал “выезжай”, ибо в первый раз появилась у меня уверенность, что я прежний Сережа – и ты увидишь меня как прежде – хожу я по студии, и все вокруг меня – будто ничего не случилось, думаю о сценарчике, смотрю материал, кому-то помогаю и советую (сейчас, в частности, Пудовкину по “Русским людям”).
Алма-Ата
“Однако что за чудеса произошли со мной? – писал он в своих воспоминаниях. – Каким образом я мог очутиться в Алма-Ате в то время, когда пребывание не только в республиканской столице, но и в любом более-менее крупном городе категорически было запрещено ссыльным. …В первый же день приезда я узнал, что Николай Константинович Черкасов (кстати, лишь отдаленно меня знавший), известнейший артист, депутат Верховного Совета, подхватив Сергея Михайловича Эйзенштейна (для дополнительного престижа), отправился к наркому НКВД Казахстана и обратился с просьбой о скорейшем вызове меня из Чиилей. По его пламенным словам выходило, что Центральная объединенная студия, состоявшая из самых блистательных имен «Мосфильма» и «Ленфильма», буквально задыхается от нехватки опытных сценаристов, а я могу реально помочь в создании боевого военно-патриотического кинорепертуара, не говоря уже о том, что и сам Эйзенштейн постоянно нуждается в моих советах. Феноменально! Нарком обещал удовлетворить просьбу… Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, посматривая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не «социально опасный». Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно… Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?”[103]
Однако вскоре Ермолинский оказался в больнице. Он заболел брюшным тифом. Именно тогда Марика наконец приехала к нему. Сначала за ним ухаживали Софья Магарилл и Мария Смирнова[104].
“Жаркое алма-атинское лето 1944 года подходило к концу… В это время по «Дому Советов» прокатилась эпидемия брюшного тифа. Первым заболел звукооператор З. Залкинд. Он скончался в больнице (последней его работой был фильм Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину»). Вскоре в больницу отвезли и меня. Больница была переполнена. На полу, в коридорах валялись больные, и только Н. А. Ко-варский, не жалея голосовых связок, темпераментно, как это он умел, настоял, чтобы койку со мной втиснули в палату. В тифозном бреду ко мне вернулись вдруг мои Чарусы, странные сновидения, почему-то возникавшие в первые ночи моего пребывания в тюрьме. Теперь, как и тогда, они были до удивления далеки от действительности, ни от чего не отталкивались, существовали сами по себе, унося меня в идиллические просторы, и снова видел я реку, катер, праздничных гостей, призрачных, не имевших ни лиц, ни имен. Прорываясь в сознание, я узнавал Софочку Магарилл, приносившую мне протертую кашу, потом вместо нее – Машу Смирнову”[105].
Когда он начал возвращаться к жизни, то выяснилось, что Софья Магарилл, заразившись тифом, умерла.
Татьяна Луговская
Война шла к концу. Ермолинский провожал поезда; для него въезд в столицу был закрыт. Потом друзья с “Грузия-фильм” помогли ему перебраться под Тбилиси. Там они некоторое время прожили с Марикой, которая после войны ездила то в Москву, то в Тбилиси. Ермолинский тайно объявлялся в Москве, что было незаконно. Как-то он приехал, чтобы показать пьесу о Грибоедове, которую написал в ссылке. Тогда случилась его встреча с Татьяной Луговской. Ему тогда было сорок шесть лет, а ей – тридцать восемь. Оба они были несвободны.
Татьяна Луговская вспоминала, как они впервые увидели друг друга в доме ее подруги художницы Елены Фрадкиной, когда он, приехав из ссылки, читал свою пьесу о Грибоедове.
“Помните, как я пришла в 1947 году к Фрадкиной слушать «Грибоедова», – писала она в воспоминаниях, – и навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный, так мне показалось, белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были Вы. Фрадкина позвала еще каких-то режиссеров в надежде, что они возьмут Вашу пьесу. Вы читали, заметно волнуясь, из-за этого я слушала плохо: это мне мешало. Пьесу хвалили, но ставить ее никто не собирался. Вы содрали у меня с пальца бирюзовый перстенечек, сказали, что он принесет Вам счастье. Потом все ушли.
На улице я оказалась между Вами и Гушанским. Оба вы сильно качались. Когда у Никитских ворот я спросила, где Вы остановились, я получила ответ: Буду ночевать на бульваре. – Я этого не допущу, пойдемте ночевать ко мне. Пьяный Гушанский демонстративно качнулся, надвинул шапку на лоб и зашагал прочь, всем своим видом показывая всю недопустимость моего предложения. Среди ночи дама зовет ночевать первый раз увиденного человека.
Татьяна Луговская.
Конец 1940-х
Мы закачались в Староконюшенный переулок. Мои окна были освещены. К чести моего мужа, должна сказать, что он встретил нас радостно. «Сережа, откуда ты взялся?» (Действительно, откуда? Они знали друг друга с незапамятных времен.) Появилась припрятанная четвертинка, встреченная восторженно. Я легла спать в маленькой комнате. Они в большой коротали ночь. Я проснулась утром от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой: «Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она взяла меня в свой дом». Вот так состоялось наше знакомство”[106].
Ермолинский снова вернулся в Тбилиси, чтобы отбывать бессрочную ссылку. Он жил в небольшом доме творчества писателей Сагурамо. Шли бесконечные осенние дни одиночества и тоски, он должен был постоянно ходить отмечаться в НКВД, а ответ из Москвы о судьбе пьесы не приходил. И тогда он совсем отчаялся. Однажды он приготовил веревку и присмотрел крюк. Именно в этот момент раздался стук в ворота. Стук был столь настойчивым, что на него невозможно было не откликнуться. Он спустился. Почтальон передал ему письмо от Татьяны Луговской. Потом она признавалась, что никогда в жизни не писала мужчинам первая, но тут словно что-то подтолкнуло ее. Она писала, что все время думает о нем, просила его не отчаиваться, терпеть, надеялась на встречу. Так он остался жить.
“…Письмо Ваше так меня взволновало, – отвечал осчастливленный Ермолинский, – что я почувствовал нестерпимую потребность немедленно, тут же совершить какой-нибудь подвиг. Если бы я был летчик, то учинил бы в воздухе какое-нибудь такое-эдакое поразительное антраша. Если бы был воин, то, может быть, взял какую-нибудь совершенно неприступную крепость. Если бы был Пушкин, то разразился бы шедевром грусти и любви – таким, что через столетия прослезились бы от душевного умиления загадочные наши потомки. Но так как я ни то, ни другое и не третье, то мне ничего не остается, как только, предавшись очаровательным грезам, утешить себя мыслью, что мне отпущена Богом именно такая созерцательная жизнь – и больше ничего. Благословляю Вас, что Вы существуете на свете! И целую Вас почтительнейше за строчку – «мне скучно без Вас»”[107].
Пьесу наконец разрешили ставить в Театре имени К. С. Станиславского, Сергея Александровича вызвали в Москву. Репетиции шли одна за другой. И тогда же начался очень трудный и в то же время очень счастливый роман.
“…Сколько звонков по телефону в КГБ, вранья его сестре, отказов в прописке, прятанья его у меня от милиционеров, которые приходили к тетке выгонять его из Москвы, вздрагивания его руки, если мы встречали милиционера на улице, ночных вызовов в таинственный номер на Арбате к оперуполномоченному, подлостей бывших «друзей»”[108].
В 1948 году он приехал в Москву со своей женой Марикой Артемьевной и поселился с ней в доме у своей тетки в Арбатском переулке. У него не было прописки, его постоянно вызывали в милицию. И вот после 1953 года можно было уже вздохнуть.
Жизнь влюбленных проходила в каютах многочисленных пароходов. Только там они могли быть вместе. Один пароход, другой, третий. Река создавала ту неспешную, размеренную жизнь, в которой было место и для спокойного разговора, и для шуток.
В своих воспоминаниях он успел написать о том, как он видел итог своей жизни с первой женой: “Жизнь моя с Марикой, как выяснилось немного позже, разладилась. Но, избави бог, не надобно думать, что ее можно в чем-либо винить. Может быть, она мало любила меня или, может быть, любила, но не понимала, что возвращается к ней другой человек, совсем другой! Разве мы до этого плохо жили? Посчитать прошлое ошибкой? Нет, не нужно, неправда это, обидная для обоих. Но жизнь потребовала иных душевных усилий, и мы очутились уже на разных сторонах дороги. Впрочем, такое случается нередко, и для этого совсем не нужно быть в долгой разлуке. Часто люди живут вместе и продолжают жить, хотя живут уже отдельно друг от друга. Снаружи вроде бы ничего не произошло – счастливая, благополучная пара, – а, оказывается, никакой близости давно нет, и произошло это незаметно. Боясь признаться в случившемся даже самим себе, примазывают трещинку, а она все расширяется и расширяется… А если разлука долгая-предолгая, может быть, вечная, а если испытания переворотили душу человека – что тогда? Кого винить?.. Преклоняюсь перед вами, верные жены! Верю в твердокаменные сердца мужей. Но беда-то приходит все-таки изнутри? Не надо никого винить”[109].
В конце 1956 года Ермолинский ушел от Марики, а Татьяна Луговская покинула своего мужа. Ирония судьбы состояла в том, что итальянский писатель Курцио Малапарте именно в это время оказался в Москве, как уже говорилось выше, даже пошел на Новодевичье кладбище на место их свиданий, в странной надежде встретить свою красавицу.
История с фотографией
Именно с легкой руки обиженной Марии (Марики) Артемьевны Ермолинского будут обличать в том, что он будто бы “украл” фотографию Булгакова, подписанную сыну Елены Сергеевны Сереже. И выдал за фотографию, подаренную себе. Разговор произойдет, конечно же, после смерти и Ермолинского, и Елены Сергеевны, которые не могли ответить. Вот запись того разговора в середине 1980-х[110].
КУРУШИН: Мария Артемьевна, а вот фотография Михаила Афанасьевича. 1935 год. Дарственная надпись: “Сергею”. Вы знали о ней?
ЕРМОЛИНСКАЯ: Если бы у Сергея Ермолинского была бы эта фотография в доме, то ее, как “Роковые яйца”, и вообще все, что было связано с Булгаковым, взяли бы при аресте. Не взяли мне даренные фотографии. Все было бы забрано, когда его в ноябре 1940 года арестовывали. Обыск был с 12 ночи до 4 часов дня следующего. И потом еще второй раз они приезжали. Искали очень тщательно. Всякие листочки, всё, всё, всё, что у него было в письменном столе или на письменном столе, – всё было забрано. И все, даже какие-то фотографии, которые казались ни к чему. Всё было забрано. Их было трое. Один был ужасный: “Всё забрать”. Забрали даже журнал “Нива”, купленный в “Букинисте”, за 1913 год, и там была снята вся семья Николая, и Александра, и наследник, и дочери. Всё это забрали тоже. Я говорю: “Да это же куплено в букинистическом магазине, вот недавно”.
ШАПОШНИКОВА: Мария Артемьевна, вы вот говорили про фотографию. Значит, она не могла остаться у него на руках, так как была бы взята при аресте.
ЕРМОЛИНСКАЯ: Вот я и говорю русским языком.
ШАПОШНИКОВА: Кроме этого, вы сами никогда ее не видели?
ЕРМОЛИНСКАЯ: Никогда ее в жизни не видела. Обязательно я ее бы увидела. Даже если бы он мне не показал.
ШАПОШНИКОВА: И этого ведь не могло быть, если бы он в 1935 году подарил бы ее Сергею Александровичу.
ЕРМОЛИНСКАЯ: Я бы увидела ее, даже если бы он мне ее не показал, так как я протирала пыль на книгах и так далее, полки, шкаф, стол. Иногда он ругался: “Зачем ты убирала у меня на столе?” Я говорю, потому что там столько мусору, что невозможно смотреть. Нет, нет, никогда в жизни не видела.
КУРУШИН: А вот такую надпись он мог бы сделать: “Твой любящий искренно. Булгаков”?
ШАПОШНИКОВА: Ну в тридцать пятом году он называл разве Сергея Александровича на “ты”?
ЕРМОЛИНСКАЯ: В тридцать пятом нет. Позже гораздо, может быть, в конце жизни. И то я не помню, чтобы он его на “ты” называл.
КУРУШИН: А какие у них отношения были?
ЕРМОЛИНСКАЯ: Он, Сергей Александрович, ревновал меня к булгаковскому дому, что вот я интересуюсь булгаковскими делами. А его делами нет. А я говорю: “Потому что Булгаков всегда держит в курсе всех его дел”. Я была в курсе всех его дел. А ты вот – сценарий написал – мне читать не дал. Картину поставили – просмотр, ты меня не позвал. Ты меня позвал, только когда общественный уже просмотр был. Как же я могу интересоваться твоими делами. Я ничего не знаю о твоих делах. И он никогда не ходил и не бывал там. А потом, когда Михаил Афанасьевич разошелся с Любовь Евгеньевной и переехал на Фурманова (бывш. Нащокинский пер. – Н. Г.), вот из Фурманова он, Булгаков, стал к нам очень часто приходить. Он и до этого забегал. Но я бы не сказала, что Сергей Александрович очень радушно его встречал. А тут Михаил Афанасьевич, значит, придет, с лыжами, все: “Идем, значит, на лыжи”. А мне говорит: “А ты, пожалуйста, приготовь нам закуску и водочку”. Еще Дмитриев смеялся, что нам надо во дворе поставить водконапорную башню. Я помню, как-то несколько человек пришли, меня дома не было. И они сказали: “Не может быть, чтобы у нее где-то не была спрятана водка”. Обнаружили в платяном шкафу бутылку. Разлили, хватили, а там был бензин. А потом еще ругались: “Что ты подводишь. Вместо водки бензин прячешь”. В общем, вот такие вот дела. Нет, нет, это не могло быть – чтобы я фотографию не видела. А последнее, это вот они тут на лыжах ходили. Беседовать потом он приходил к нам.
Мы видим как интервьюеры ведут разговор на интересующую их тему. Они подводят Марику к нужному для них ответу. Она говорит, что никогда фотографию в доме не видела, а если она и была, то ее забрали при аресте. Запомним это признание.
Затем в изобличение Ермолинского включился фотограф Юрий Кривоносов. Всю жизнь он собирал фотографии Булгакова, и однажды, еще при жизни Ермолинского, его товарищ по работе в “Огоньке”, известный художник Борис Жутовский привел его к Сергею Александровичу посмотреть то ли его прозу, то ли сценарий. Они поговорили, но, как выяснилось, друг другу не понравились. Гость ушел обиженный на хозяина и затаил обиду. Вот так начинаются в жизни неприятности, об истоках которых мы даже не подозреваем.
Когда Жутовский оформлял книгу Ермолинского как художник в издательстве “Искусство” (это было в 1980 году), Кривоносов попросил у него переснять фотографию Булгакова с автографом Ермолинскому. Шли годы. Фотограф молчал. Умер Сергей Александрович, и, наконец, в журнале “Советское фото” № 4 за 1988 год в статье “Осторожно, история!” Кривоносов выдвинул “гипотезу” о подписи под фотографией М. А. Булгакова, подаренной Сергею Александровичу 29 октября 1935 года.
На фотографии было написано: “Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа. Твой любящий искренно. М. А. Булгаков”. Фотография многие годы простояла на полке над письменным столом Сергея Александровича, ее видели все приходящие в дом, и в частности Елена Сергеевна Булгакова, что немаловажно. В публикации утверждалось, что фотография будто бы была подарена вовсе не Ермолинскому, а Сергею Шиловскому – пасынку Булгакова, младшему сыну Елены Сергеевны. Получалось так, будто бы Сергей Александрович украл этот снимок с дарственной надписью и выдал за свой, демонстрируя его в своих изданиях.
Аргументы у Кривоносова были такие. В 1988 году Кривоносов разговаривал с вдовой друга Булгакова Николая Лямина – Н. А. Ушаковой. Она утверждала, что 29 октября 1935 года она вместе с мужем была у Булгакова. В разговоре с автором публикации она недоумевала, почему такой подарок – фотография с дарственной надписью – был сделан не старому другу – Лямину, а именно Ермолинскому. Ушакова ссылалась также на Марику Чимишкиан-Ермолинскую. Автор тогда же позвонил ей и выяснил, что Марика (которая в момент этого разговора была жива) ничего об этой фотографии не знала и никогда ее не видела. Эти свидетельства мы уже видели в ее разговоре с Курушиным и Шапошниковой. По ее сведениям – это прозвучало уже в пересказе Кривоносова – все вещи и бумаги С. А. были изъяты при его аресте в ноябре 1940 года: “…изъяли все бумаги, документы, письма, фотографии, принадлежавшие Ермолинскому, была составлена опись, под которой я расписалась – фотография с надписью там не значилась…”
Но все-таки Татьяна Луговская успела им ответить. В примечании ко второй книге Ермолинского, изданной уже после его смерти, “Тюрьма и ссылка”, она указала, что сохранились две фотографии Булгакова и еще несколько ценных документов:
“1. Письмо Льва Николаевича Толстого (ответ восьмилетнему Ермолинскому. Впоследствии оно было передано Музею Толстого на улице Кропоткина).
2. Письмо Булгакова (хранится в архиве С. А. Ермолинского).
3. Две фотографии Булгакова (1935 и 1937 гг.), обе с дарственными надписями Сергею Александровичу от Михаила Афанасьевича.
Эти бесценные вещи никогда не лежали вместе, тем более в книге. Значит, среди обыскивающих была доброжелательная рука, которая помогла сохранить эти бесконечно дорогие для Ермолинского реликвии”[111].
Вот так случайность или действительно что-то иное позволило сохранить эти бесценные вещи. На второй фотографии (сейчас она в Киеве в музее Булгакова) сохранилась следующая дарственная надпись: “Дорогому Сереже Ермолинскому – другу. М. Булгаков. 19.x.1937”.
Мария Артемьевна почему-то не знала о существовании и второй фотографии, которая была с дарственной надписью Булгакова. Она утверждала, что у них в доме не было подобных фотографий. То, что обращение к Ермолинскому “Дорогой Сережа” повторяется многократно, это видно по письмам и надписям на книгах, которые приводятся в книге С. Ермолинского “О времени, о Булгакове и о себе”.
Но есть подпись, которая все ставит на свои места, – она перекликается с той, которая была сделана в октябре 1935 года. На книге, арестованной НКВД, написано: “Дорогому другу – Сереже Ермолинскому. Сохрани обо мне память! Вот эти несчастные «Роковые яйца». Твой искренний М. Булгаков. Москва. 4.iv.1935 г.”.
Это 1935 год. Апрель. Булгаков обращается к нему на “ты”. “Дорогому другу”. Называет его так же, как и на фотографии, – Сережей.
Последние годы
Когда у Ермолинского и Татьяны Александровны появился свой дом, Елена Сергеевна приходила к ним в гости, писала им открытки и письма. “Ей было уже больше семидесяти лет, – вспоминал в книге Ермолинский, – но она была привлекательна, как всегда, как прежде, и, не преувеличивая, скажу, – молода! Когда жизнь ее сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурманова, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у Никитских ворот. Огромный портрет его (М. А. Булгакова. – Н. Г.) в овальной раме, сделанный по фотографии, лишь в общих чертах напоминал его образ, но этот образ оживал в ее рассказах. Она с живостью передавала его юмор, его интонации. Она оставалась все той же Леной, но она необыкновенно раскрылась. Его смерть была неподдельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовьей печалью, а именно горем. И оно было такой силой, что не придавило ее, а напротив – пробудило к жизни!” Книгу о М. А. Булгакове Ермолинский закончил словами, обращенными к Елене Сергеевне: “Я служил ей всем, чем мог. Мой неотягчающий долг”. Она умерла в 1970 году и была захоронена на Новодевичьем кладбище в одной могиле с Булгаковым.
Дом Сергея Александровича и Татьяны Александровны стал местом встречи для многих людей, принадлежавших к разным поколениям: историка Н. Эйдельмана, поэта В. Берестова, писателя В. Каверина, режиссера А. Эфроса, актера С. Юрского, литературоведа В. Лакшина, филолога А. Аникста, историка науки и писателя Д. Данина, театроведа Н. Крымовой, сценаристки Н. Рязанцевой, актрисы А. Демидовой, писательниц Л. Петрушевской и Н. Ильиной, режиссера А. Хржановского и многих других. “Тут все казались хорошими, – писала Наталья Крымова. – Потому что дом притягивал к себе хорошее, а плохое оставлял за дверьми. Каждый получал здесь свое. Собирались лица очень разные, но в доме они становились лучше, это точно”[112].
Сергей Александрович написал один и в соавторстве много известных сценариев: “Неповторимая весна”, “Друг мой, Колька”, “Неуловимые мстители” и другие. Более же всего он боялся не успеть написать полностью воспоминания о Булгакове, историю посмертной жизни булгаковских произведений. На окончание этой работы ему не хватило буквально двух лет, он умер в 1984 году, оборвав рукопись на полуслове… В день смерти Сергея Александровича 18 февраля Татьяна Александровна собирала друзей. Особенно она волновалась накануне десятой годовщины. Близкие тоже были напряжены – ведь она давно твердила, что отметит ее и сразу умрет.
“…Вот когда пришло время мне непрерывно думать о тебе, Ермолинский. Раньше я боялась, а теперь мне уже пора умирать”. Кажется, это был единственный случай, когда она обратилась к нему на “ты”. Друзья собрались, на этот раз не было роскошного стола, за которым все встречались из года в год. Гости сидели на кухне, а она уже без сознания лежала в своей комнате. На следующий день ее не стало. Все простились с ней. Незадолго до смерти она беспокоилась об одном – чтобы они обязательно встретились с Сергеем Александровичем там, на небесах… Когда-то она написала ему в Дом творчества, где он работал над очередным сценарием: “…Мне одиноко без Вас. Я очень Вас люблю. Вы моя единственная любовь в жизни. Это Вас обязывает, простите меня за это”[113].
Мог ли человек, которого на допросах неоднократно жестоко избивали, который не подписал ни одного показания, где “обличался” Булгаков, быть осведомителем или, как писали, ссылаясь на Любовь Евгеньевну Белозерскую, скользким и подлым человеком? Человек, который вел себя благородно и честно в тюрьме, когда этого никто не видел? А ведь его могли убить, он мог умереть от болезней, как часто бывало со многими арестантами. И как бы ни желали люди, сами совершившие в те темные годы страшные поступки, писавшие доносы под давлением или без него, перевести стрелки на невиновного, от любого человека остается память и образ.
От Ермолинского останется память как от человека достойного и порядочного. И я чувствовала свой долг в том, чтобы докопаться до истоков той горькой истории – призыв оттуда, который я не могла не исполнить.
Фильм “Закон жизни” в судьбе Сергея Ермолинского и писателя Александра Авдеенко
В истории ареста и следствия Ермолинского был еще один неожиданный поворот. В допросы вошло еще одно имя и из ряда вон выходящее событие, о котором бы хотелось рассказать подробнее. И снова подтвердить истину о том, что жизнь сочиняет истории интереснее любых сценариев.
Александр Авдеенко.
Конец 1930-х
В конце 1939 года молодые режиссеры А. Столпер и Б. Иванов попросили Ермолинского переработать сценарий писателя А. Авдеенко “Закон жизни”.
Александр Авдеенко в то был время знаменитым писателем-шахтером из Донбасса, “ударником, выдвинутым в литературу”. Вышедший из беспризорников, поработавший на строительстве Магнитки, Авдеенко был участником знаменитой поездки писателей на Беломорканал имени Сталина. Его роман “Я люблю” высоко оценил Максим Горький, который, впрочем, заставил маститых писателей доработать роман шахтера.
На Первом съезде писателей Авдеенко произнес речь, обращенную к Сталину, где были такие слова: “Я пишу книги. Я – писатель, я мечтаю создать незабываемое произведение – всё благодаря тебе, великий воспитатель Сталин… Когда моя любимая девушка родит мне ребенка, первое слово, которому я его научу, будет – Сталин”.
Мы не знаем, какое первое слово произнес сын писателя Авдеенко, но еще перед съездом с ним произошло незабываемое приключение на Беломорканале. После общей писательской поездки его вызвал к себе крупный энкаведешный чин и предложил поехать в форме чекиста еще раз на канал, чтобы собрать материал для будущего романа. Авдеенко согласился, но эксперимент кончился полным провалом; писатель-ударник стал слишком глубоко входить в судьбу заключенных, ему открылось много странного, и поэтому, после очередного острого разговора с лагерным начальством об арестованных, Авдеенко был изгнан с канала. Однако это не сказалось на его будущем; он продолжал писать романы и сочинять сценарии.
И вот бывший шахтер, а теперь известный писатель Александр Авдеенко в конце 1930-х годов создал для кино современную историю про партийного разложенца – секретаря комсомола Огнерубова. Его подлинное лицо раскрывалось в сцене комсомольской гулянки, когда Огнерубов пытался совратить главную героиню. Негодяю противостоял положительный Сергей Паромов, влюбленный в девушку, но коварному секретарю удавалось на время их разлучить.
Тема и пафос сценария были вполне объяснимы: в течение пяти лет до появления фильма арестовывались и судились за шпионаж, разврат и разложение крупные партийные и комсомольские работники. Даже несчастный доктор Левин, лечивший Горького, был обвинен не только в отравлении великого пролетарского писателя, но и в том, что укусил… за грудь медсестру. Все это не могло не найти хотя бы косвенного отражения в литературе и в кино. Но правдоподобно изобразить такой тип врага было не так-то просто. До поры до времени казалось, что Авдеенко это удалось.
Автор фильма вспоминал в своей автобиографической повести: “Написал киносценарий «Закон жизни». О современной молодежи, студентах медицинского института. О молодых чувствах, ревности, заблуждениях, счастливых обретениях. Не скрою: сценарий мне казался значительным по теме, остро-сюжетным, с убедительно выписанными характерами. «Мосфильм» одобрил его. Быстро нашлись и постановщики – молодые режиссеры Александр Столпер и Борис Иванов. Они приехали ко мне в Донбасс, жаждущие прорваться на большой экран, надеясь на мое содействие”[114].
Когда фильм “Закон жизни” был готов, Авдеенко, будучи спецкором газеты “Правда”, объезжал с войсками “освобожденные земли” Западной Белоруссии и Украины. Он даже не успел посмотреть, что за картина получилась у режиссеров. Готовый фильм перед выходом на экраны показали в ЦК ВЛКСМ. Комсомольские вожаки пришли в ужас: им не понравилось, как в “Законе жизни” выглядела комсомольская верхушка, и они потребовали изменений. Вот тут-то молодые режиссеры и бросились к маститому кинодраматургу – С. А. Ермолинскому. В сценарий были внесены поправки, и он был принят и утвержден А. Я. Вышинским, который в тот момент курировал вопросы культуры. Тогда фильм снова запустили в производство. То, что “Закон жизни” одобрил сам Вышинский, показывает, что никто в стране не мог точно предугадать зигзаги сталинской внутренней политики.
В августе 1940 года фильм вышел на экраны.
Афиша к фильму “Закон жизни”
“В это утро, 16 августа, – вспоминал Александр Авдеенко, – я направился по Крещатику к бульвару Шевченко. В глаза бросались огромные, в ярких красках, афиши, рекламирующие фильм «Закон жизни», который в этот день выходил на экраны Киева. Поперек Крещатика, на уровне третьих этажей, протянуты белые транспаранты, тоже рекламирующие фильм. Эта феерия, кажется, устроена специально для меня. Кинотеатры открываются с одиннадцати часов. Сейчас только восемь. Как долго ждать первого сеанса!
Вероятно, в Киеве никто так не хотел посмотреть этот фильм, как я. Дело в том, что я не успел посмотреть картину ни в законченном виде, ни в сыром. Правда, режиссеры Столпер и Иванов сообщили телеграммой, что все в порядке, фильм получил высокую оценку в Комитете по делам кинематографии и у заместителя председателя Совнаркома Вышинского. В «Известиях», «Кино» и других газетах появились статьи, положительно оценивающие фильм. И все-таки я с нетерпением ждал одиннадцати часов. Никто не может так определенно сказать, как автор, то или не то вышло, что задумано.
Перед отъездом в Киев я получил письмо из Москвы, от редактора и кинокритика Ильи Вайсфельда.
«Дорогой Саша.
…Задумал я написать Вам письмо еще до Вашего обращения к Полонскому, а написал – после. Теперь это – самое настоящее обращение сценарного отдела к писателю Авдеенко с предложением написать для Мосфильма сценарий, а не только мое личное послание Саше Авдеенко.
Прежде всего от души поздравляю Вас с “Законом жизни” – получилась настоящая, хорошая картина. Публика на нашей студии смотрит картину по 2–3 раза с захватывающим (действительно захватывающим) интересом. В мосфильмовской многотиражке дана полоса, посвященная картине. Картину ждет большой успех у зрителя, в этом сомневаться не приходится. В общем, несмотря на все трудности и даже компромиссы, “Закон” – все же большая творческая удача и Ваша, и режиссерская.
В связи с этим нам со Столпером пришла мысль: не написать ли сценарий второй серии “Закона” – герои “Закона” на месте своей новой работы. Это должна быть самостоятельная картина, имеющая свою тему независимо от первой серии, но продолжающая линию морально-этических, публицистически заостренных фильмов. Причем не хотелось бы, чтобы это был специфически медицинский фильм (по роду занятий героев). Пусть лучше Наташа и др. столкнутся на месте с новыми людьми – хорошими и не совсем хорошими, – но не только с медиками. Темой сценария, говоря общо, должно быть активное, творческое отношение к жизни, романтика будней.
Подумайте по поводу этих, пока еще бегло изложенных соображений и сообщите о своих темах и предложениях. Встретимся – и все уточним. Заверяю Вас, что Мосфильм и персонально Полонский хотят, чтобы Вы срочно писали для нас сценарий.
Крепко жму руку.
Ваш И. Вайсфельд»”Но к середине того августовского дня картина кардинально меняется. Авдеенко видит, как по всему городу снимают афиши, заклеивая их другими, а на тумбах появляется текст газеты “Правда” следующего содержания:
ФАЛЬШИВЫЙ ФИЛЬМ
(О кинокартине “Закон жизни” студии “Мосфильм”)
Недавно на экранах появилась новая кинокартина “Закон жизни”, выпущенная студией “Мосфильм”. Кинокартина с таким многообещающим названием поставлена по сценарию А. Авдеенко, режиссерами А. Столпер и Б. Ивановым.
Картину “Закон жизни” можно было бы счесть просто одной из плохих картин, выпущенных за последнее время, если бы не некоторые особенности этого фильма. <…> Если выражаться точно, фильм “Закон жизни” – клевета на нашу студенческую молодежь.
Клеветнический характер фильма особенно ярко проявляется в сценах вечеринки студентов-выпускников медицинского института. Авторы фильма изобразили вечер выпускников в институте, как пьяную оргию; студенты и студентки напиваются до галлюцинаций. Авторы фильма смакуют эти подробности, еще и еще раз в десятках кадров показывают сцены бесшабашного пьяного разгула. И по фильму ни администрация института, ни общественные организации, ни сами студенты, завтрашние врачи, не только не останавливают, не прекращают этого безобразия, но и сами принимают в нем активное участие. Где видели авторы подобные сцены? Где видели авторы, чтобы наша студенческая молодежь походила на изображенные ими подонки буржуазной морали?
Далее идет длинный пересказ фильма, где однообразно перечисляются все его лживые стороны. Заканчивалась статья так:
В конце концов, почему фильм называется “Закон жизни”? В чем состоит существо так называемого “закона жизни”? Как видно, содержание “закона жизни” сформулировано Огнерубовым: он имеет право беспорядочно любить, он имеет право менять девушек, он имеет право бросать их после того, как он использует их, так как “закон жизни” состоит в наслаждении, переходящем в распущенность. По сути дела, авторы фильма должны были закончить фильм торжеством “закона жизни”, торжеством философии Огнерубова. Но так как авторы фильма трусят перед нашим общественным мнением, то они отдали ему дань и кончили дело провалом Огнерубова и его “закона жизни”. В этом основа фальши фильма. <…> Это не закон жизни, а гнилая философия распущенности.
Текст статьи “Правды”, как выяснилось впоследствии, почти целиком был написан Сталиным, возмущенным этим фильмом до глубины души. Об этом Авдеенко потом шепнули в самой газете “Правда”, где он состоял спец. корреспондентом.
То, что произошло с незадачливым сценаристом, трудно описать словами, он действительно был “как громом поражен”. Жизнь, как он вспоминал, разорвалась надвое.
“Подписи под статьей не было, – писал Авдеенко. – Медленно, строку за строкой, читал статью, впитывал каплю за каплей яд. Вопиющая, бессовестная неправда! Все извращено, оклеветано. Я ненавижу Огнерубова, люблю Паромова. Это же ясно. Проповедую одну-единственную мораль – коммунистическую! Мне хотелось кричать, протестовать, жаловаться, доказывать правоту. Но я молча стоял перед газетой. Холодел, старел, терял силы.
Рядом кто-то изумленно воскликнул:
– Ну и ну! Выдали!”
Конечно же, насмерть перепуганный автор фильма едет в Москву. Тем более что его в тот же день вызвали телеграммой в ЦК партии. В Москве он сидел и ждал. Но ничего не происходило. Как вспоминал Авдеенко, в те дни пришло сообщение из Мексики об убийстве ледорубом Льва Троцкого. Возможно, положительный эффект этого события перебил раздражение Сталина от “порочного” фильма. Однако уже 9 сентября 1939 года Авдееенко вместе с двумя режиссерами был вызван на совещание в Кремль. В зале помимо партийных деятелей сидели А. Фадеев, Н. Асеев, В. Катаев, К. Тренев и некоторые другие писатели. Заседание вел товарищ Жданов.
Из стенограммы совещания в ЦК ВКП(б) “В связи с вопросом о фильме «Закон жизни» Авдеенко А. О.” 9 сентября 1940 года:
А. Столпер (режиссер)
…Мы прочитали сценарий Авдеенко и стоял вопрос о том, чтобы во что бы то ни стало над ним работать. Мы вместе с Авдеенко начали переделывать сценарий. Затем была вторая переделка в режиссерском стиле, сценарий резко перерабатывался. Это тянулось месяца два-три. Нам казалось, что мы исправили те ошибки, которые обнаружили, но мы их не исправили, а глотали, мы к ним принюхались…
В выступлении Сталина часто слово в слово повторялись пассажи из статьи в “Правде” – “Фальшивый фильм”. Но были и новые пассажи.
И. Сталин
…Я бы предпочел, чтобы нам давали врагов не как извергов, а как людей враждебных нашему обществу, но не лишенных некоторых человеческих черт. …Почему Бухарина не изобразить, каким бы он ни был чудовищем, а у него есть какие-то человеческие черты. Троцкий – враг, но он способный человек, бесспорно, – изобразить его как врага, имеющего отрицательные черты, но и имеющего хорошие качества, потому что они у него были, бесспорно…
…Человек самоуверенный, пишет законы жизни для людей – чуть ли не монопольное воспитание молодежи. Законы. Вот какая ошибка была с 1934 года. Если бы его не предупреждали, не поправляли – это было бы другое дело, но тут были предупреждения и со стороны ЦК, и рецензия в “Правде”, а он свое дело продолжает. Влезать в душу – не мое дело, но и наивным не хочу быть. Я думаю, что он человек вражеского охвостья <…> и он с врагами перекликается: живу среди дураков, все равно мои произведения пропустят, не заметят, деньги получу, а кому нужно, поймет, а дураки – чёрт с ними, пускай в дураках и остаются.
Хотя Авдеенко был ни жив, ни мертв, он вспоминал, что Сталин то входил, то выходил из-за колонны, попыхивая трубкой и перебивая докладчиков. Но главное, рабочему писателю показалось, что он видит совсем не того Сталина, которому клялся в любви и которого всегда себе представлял.
“Смотрю на Сталина и не верю, что это он. Очень непохож на себя. Куда подевалось доброе, обаятельное лицо, известное по кинокадрам, фотографиям, портретам, монументам, бюстам. Вместо любимого, величественного облика вождя вижу более чем обыкновенную желтовато-смуглую физиономию, густо изрытую оспой. И рост совсем не внушительный. Ниже среднего. Пожалуй, даже малый. Узкоплечий, узкогрудый человек. Сильно разреженные седеющие волосы будто натерты черным варом. На макушке идеально круглая лысина, словно тонзура ксендза. Левая рука неподвижна, полусогнута, не то повреждена, не то парализована. Только усы густые, рыжеватые, растрепанные, похожи на сталинские. Все остальное неуклюже сработано. Актер, загримированный под вождя. Актер, бездарно исполняющий роль великого Сталина. Актер, грубо утрирующий манеры Сталина…”
После того как закончилось заседание, авторы фильма сидели и ждали ареста. Все ушли из зала, но за ними никто не приходил. Тогда они на плохо слушающихся ногах дошли до выхода из Кремля. Вышли на улицу. Но и тут никого не оказалось. На улице, не имея сил больше идти, они упали на откос возле ворот Кремля и некоторое время лежали; их словно парализовало. А потом молча встали и разошлись в разные стороны.
…Писатель Авдеенко, ошельмованный, преданный самим Сталиным настоящей партийной анафеме, шел домой, ожидая, а может, уже мечтая об аресте. Жить было нестерпимо. Но энкавэдэшники за ним так и не пришли, правда, спустя несколько дней его выгнали из партии, из Союза писателей и выселили из квартиры.
Но прервем рассказ о главном герое этой драмы и вернемся к Ермолинскому.
В те дни он был Ялте, где дорабатывал с Евгением Габриловичем сценарий фильма “Машенька”. И писал своей жене Марике из Коктебеля:
Коктебель, 12 сентября 1940
Машенька, прости, что я не сразу пишу тебе, но все не могу собраться. Вот как проходит день: встаю часов в семь, до девяти сижу около моря, утра – тихие, солнечные, в девять завтракаю, потом садимся с Женей[115] за работу. Начинается коктебельский ветерок. Окна в моем “фонаре” настежь – как будто летим в море, которое синеет во всех окнах! Работаем без обеда. <…>
Женя живет в комнате Ильченко[116], а я в “фонаре”, который заботливо приготовлен для двоих – все тебя тут ждали, огорчались, расспрашивали про тебя. У Марии Степановны (Волошиной)[117] я бываю редко, мало времени. <…>
Народ живет разный. У нас тут – Всеволод Иванов со своим замком Тамарой[118] и детьми, Ляшко[119], собирающий камни и блуждающий по горам и пляжам с чемоданом в руках, Габричевский[120] в коктебельских коротких штанах и страдающий поносом, с ним его “новая”, а “бывшая”, т. е. Наташа[121], тоже здесь и тоже со своим “новым”, потом, как обычно, несколько нацменшинских литераторов – Бровко и Глебко[122], и один узбек, и один татарин. В Ленинградском доме – Зощенко, унылый ипохондрик, мрачно разгуливающий по аллеям, старый паяц Типот[123], группочка «младореформистов» в пижамах и с теннисными ракетами. Недавно уехала Златогорова, малокровная, безбровая, горбоносая красавица со своим мужем Меттером[124], неким ленинградским писателем, написавшим повесть о том, как он отбил свою Тату у Каплера[125]. Сегодня уезжает Василий Алексеевич Десницкий[126], профессор литературных наук, эдакий дядя Федя[127], только помоложе, великий собиратель фернампиксов (так называли красивые породистые камни. – Н. Г.), владеющий одной из лучших коллекций, каменный властелин. Ходил он в Козы и возвращался оттуда победителем. И бежал впереди него Ляшко, рыл, рыл, рыл, копал, искал – но напрасно. На тех же местах находил Десницкий прозрачные сердолики, розовые, нежные…
Застал здесь и Крымова[128], который пришел ко мне, едва я только расположился и приступил к бритью после дороги. Вместе с четой Крымова мы проводили симпатичного человечка – Виссариона Саянова[129].
Вот и все. Вот и моя коктебельская жизнь.
Сейчас получил телеграмму от Крымова и Файнциммера[130], в которой они сообщают мне, что “Танкер”[131] принят Комитетом! Ужасно интересуюсь подробностями.
Честно говоря, куча всяких беспокойств мучает меня: “Танкер”, затем – не влип ли я с “Законом жизни” (Подчеркнуто следователем красным карандашом. – Н. Г.), затем – что там с “Артамоновыми”[132]… Все это – кроме “Машеньки”… Неужели с «Танкером» все благополучно? Прямо не верится.
Маша, Маша, зачем нужно возвращаться в Москву! Здесь так хорошо: тихо, ветер, солнце, красиво очень, нет бесконечной, страшной, душной, московской суеты, дел московских, бессмысленной трепки нервов. <…>. В Москве можно только заболеть! Если бы ты знала, как я ненавижу город.
“Машенька” получается хорошо. Но вижу – сколько будет глупых разговоров. Лучше не думать. <…>
Крепко тебя целую, моя любименькая.
Твой Сережа.Привет Мансуровскому переулку.
Страница из письма С. А. Ермолинского к жене Марике. Слова “не влип ли я с «Законом жизни»” подчеркнуты рукой следователя
Из огромного количества писем С. А. Ермолинского (их было 450, среди них было очень много от известных людей, в т. ч. от М. А. Булгакова) осталось одно-единственное, приведенное выше, – остальные были уничтожены. Это письмо в 1990-е годы было передано из ФСБ родственникам вместе с копиями допросов. Напомним, что С. А. Ермолинский будет арестован 24 ноября 1940 года. Следователь тогда нашел упоминание о “Законе жизни” и подчеркнул его красным карандашом. “Не влип ли я с «Законом жизни»”, – пишет Ермолинский Марике. Слухи о событиях вокруг картины уже всем известны.
Почему-то иногда получается так, что событие, кажущееся в жизни малозначительным, вдруг начинает играть в судьбе чуть ли не решающую роль. История со сценарием “Закона жизни” была почти забыта С. Ермолинским. Тем временем изгнанный отовсюду Авдеенко уезжает с женой и сыном на Донбасс. Там он совершает самый разумный в те времена поступок – идет снова работать в шахту помощником машиниста врубовой машины. В этом было великое преимущество шахтера перед интеллигентом-очкариком.
А арестованнный Ермолинский будет через день давать показания именно о фильме “Закон жизни”. Протоколы допросов Ермолинского делятся по содержанию почти на две равные части: в одной говорится о переработке сценария “Закон жизни”, а в другой – о доме, связях и содержании творчества М. А. Булгакова. Можно сказать, что половина допросов была “киноведческой”, а другая половина – “литературоведческой”. “Совместить” две эти линии следователям так и не удалось.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
от 25 ноября 1940 г
Допрос начат в 1 ч. 50 м
Допрос окончен в 3 ч. 25 м
Ермолинский 1900 года рождения, урож. г. Вильно, беспартийный, кино-сценарист
ВОПРОС: Дайте оценку киносценарию “Закон жизни”, в переделке которого Вы принимали участие?
ОТВЕТ: Фильм “Закон жизни” неверно отражает жизнь нашей студенческой молодежи и является таким образом клеветническим изображением ее. Одним из важнейших пороков фильма является слабо развернутый образ положительного героя, в то время как образ врага, морально разлагающего молодежь, показан более развернуто и сыгран более убедительно.
ВОПРОС: Чем же объяснить, что Вы согласились апробировать явно антисоветский сценарий?
ОТВЕТ: С предложением ставить сценарий писателя АВДЕЕНКО ко мне обратились после того, как сценарий был утвержден, пущен в производство и ряд сцен заснят. На совещании в комитете, на котором были представители студии: ВАЙСФЕЛЬД Илья Вениаминович и ТРАУБЕРГ Илья Захарович, представители комитета Зельдович Григорий Борисович и режиссеров: СТОЛПЕРА Александра Борисовича и ИВАНОВА Бориса, Я дал отрицательную оценку сценарию, квалифицируя его пошлым, выше указанные лица меня убедили в том, что замысел АВДЕЕНКО интересен, но сценарий нуждается в поправках и просили меня помочь студии и режиссерам, так как работа начата и уже затрачены средства.
Считаю ошибкой со своей стороны, что поддался этим доводам и переоценил свои возможности, как теперь очевидно сценарий нуждался не в доработке, а в коренной переделке и коренном пересмотре замысла. То обстоятельство, что на мою работу дали десять дней для выполнения этой работы, свидетельствует только о переделке, а не о такой коренной переработке. Эту работу я проводил при участии режиссеров СТОЛПЕРА и ИВАНОВА. Нам казалось, что внесенные исправления сделали сценарий приемлемым и, к сожалению, руководство комитета нас не поправило и не указало на то, что основные пороки сценария АВДЕЕНКО не изжиты.
Взялся же я за эту работу из искреннего убеждения сделать сценарий АВДЕНКО приемлемым, а давая оценку сценарию АВДЕЕНКО как пошлый, я не уяснил себе в достаточной мере всю его политическую вредность.
ВОПРОС: Ваше согласие на производство антисоветского сценария есть результат ваших антисоветских убеждений. Следствие настаивает, чтобы Вы рассказали о своей антисоветской деятельности.
ОТВЕТ: Я никакой антисоветской деятельностью не занимался и поэтому мне рассказывать по этому поводу нечего. А свое участие в поправках сценария АВДЕЕНКО считаю большой ошибкой, но не антисоветским поступком.
Протокол записан с моих слов и мною прочитан.С. ЕрмолинскийДопросил: Оперуполномоченный 5 отд. 2 отдела ГУИБ мл. лейтенант госуд. безопасности (Гусев)
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвин. Ермолинского Сергея Александровича
от 24 и 25 декабря 1940 г
Допрос начат в 14 ч. 55 м
Допрос окончен в 15 ч. 55 м
ВОПРОС: Расскажите об антисоветском существе кинофильма “Закон жизни”?
ОТВЕТ: Политическая вредность фильма “Закон жизни” заключается в том, что взятая в фильме тема трактована ошибочно, а советская действительность изображена неверно.
Избрав своим материалом жизнь советского студенчества и выдвинув на первый план вопросы любви, фильм этот должен неизбежно говорить о моральном облике советского молодого человека. Борьба с ОГНЕРУБОВЫМ – проповедником половой распущенности и циничного наслаждения жизнью, должна была раскрыть морально содержание советского студенчества, органически не принимающего “теорейки” ОГНЕРУБОВА.
В самом деле советская молодежь, вышедшая из народа, здоровая, целеустремленная, не могла столь легко (как это сделано в фильме) соблазниться пышной фразеологией ОГНЕРУБОВА, поддаться его мнимому авторитету и попасть под его влияние.
Если бы ОГНЕРУБОВ действовал в среде буржуазного студенчества, его успех был бы объясним. В этой среде он нашел бы немало молодых людей, рано пресыщенных жизнью, развращенных праздностью и падких на различные “теорийки” огнерубовского толка, столкновения ОГНЕРУБОВА с советским студенчеством закономерно должно было вызвать активный протест со стороны самой молодежи. И силы, противостоящие ОГНЕРУБОВУ должны проявиться с неменьшей, а большей полнотой и яркостью, чем мнимые силы ОГНЕРУБОВА.
ОГНЕРУБОВ занял центральное место героя фильма, он был наделен поступками, он был активен, он полно и широко излагал свои взгляды – чуждые советской действительности.
Студенчество, противопоставленное ему, представляет собой инертную, безвольную массу, неспособную мыслить и неспособную действовать.
Такая среда не могла не нанести поражение ОГНЕРУБОВУ. ОГНЕРУБОВА разоблачил случай, раскрытие его связи с Ниной. И если бы ни этот случай, то неизвестно насколько далеко простерлось бы разлагающее влияние ОГНЕРУБОВА.
На примере семьи БАБАНОВЫХ видно, что ОГНЕРУБОВ легко и безнаказанно разрушил семью, породил в ней моральную травму, Нина покорно скрывала преступление ОГНЕРУБОВА по отношению к себе и к своему сыну, а вся семья жила с настроением какой-то угнетённой обреченности.
В результате такого соотношения сил в фильме и создалось неверное, фальшивое представление о советских людях.
К этому следует прибавить литературные особенности сценария АВДЕЕНКО. Тяготение к пошлым ситуациям, словесная безвкусица, ложная “многозначительность”.
Тут можно найти известную традицию, позволяющую сравнивать писания АВДЕЕНКО с такими произведениями, отвечающими на модные “половые проблемы”, какие появлялись в дореволюционные годы и имели успех у обывателя. Это: арцыбашевский “Санин”, романы Вербицкой, Линд и другие.
ВОПРОС: Следовательно сценарий является антисоветским?
ОТВЕТ: Сценарий “Закон жизни” назвать антисоветским я считаю неточным, а определяю его как политически вредный.
ВОПРОС: Сценарий “Закон жизни” политически вредный. Однако вы приложили свою руку к выпуску его на экран.
ОТВЕТ: В то время сценарий “Закон жизни” я квалифицировал как пошлый и плохой, но недооценивал его политической вредности. Это мне стало ясно значительно позже, когда фильм был готов.
ВОПРОС: В каких целях вы участвовали в переделке и редактировании пошлого сценария. Зная, что он пошлый.
ОТВЕТ: Недооценивая политической вредности этого сценарии и считая, что можно исправить его пошлость, я взялся за эту работу, так как искренне желал помочь съемочной группе, которая начала уже работу над постановкой.
ВОПРОС: После вашей переделки пошлость в сценарии “Закон жизни” осталась, что же вы делали?
ОТВЕТ: Мои переделки, как мне казалось, в ряде мест улучшили сценарий, а особенно в части расширения роли положительного героя ПАРОМОВА. К сожалению, в постановке не удалось из этого образа создать такой образ, который по своей яркости и силе мог бы противостоять образу ОГНЕРУБОВА.
ВОПРОС: Ведь не только в постановке, но и в вашем варианте образ ПАРОМОВА не создан противостоящим образу ОГНЕРУБОВА. Бросьте запираться, говорите истинную причину в создании антисовет. сценария.
ОТВЕТ: Я считаю, что в моем варианте попытки увеличить роль ПАРОМОВА намечена правильно, но недостаточно. Никаких других побуждений, кроме желания помочь съемочной группе я не имел и иметь не мог.
ВОПРОС: Вас побудили участвовать в переделке сценария. “Закон жизни” ваши антисоветские взгляды. Следствие настаивает, чтобы вы рассказали о своих истинных намерениях.
ОТВЕТ: У меня никаких антисоветских взглядов не было и нет. Участвуя в доработке сценария “Закон жизни”, я хотел помочь режиссерам, в которых творчески верил, которым в процессе съемочной работы встретились трудности.
ВОПРОС: Вы помогали явной антисоветский сюжет в фильме замаскировать в целях его выпуска на экраны.
ОТВЕТ: Нет. Таких задач у меня не было. Я пытался сценарий исправить.
ВОПРОС: Вы знаете, что ваши поправки не исправили антисоветский сюжет сценария?
ОТВЕТ: Нет, сдавая работу я полагал, что мне удалось сценарий улучшить.
ВОПРОС: Сценарий “Закон жизни” с АВДЕЕНКО вы обсуждали?
ОТВЕТ: Сценарий “Закон жизни” один раз я обсуждал с АВДЕЕНКО совместно с режиссерами СТОЛПЕРОМ Александром Борисовичем и Борисом ИВАНОВЫМ и редактором студии “Мосфильм” Ильей Вениаминовичем ВАЙСФЕЛЬДОМ. Совещание по сценарию “Закон жизни” состоялось на квартире у АВДЕЕНКО после того, как мои доработки были готовы. АВДЕЕНКО как автор окончательно редактировал этот сценарий. Больше обсуждений у меня с АВДЕЕНКО не было.
Допрос прерывается.
Допросил: Оперуполномоченный 5 отд. 2 отдела ГУИБ мл. лейтенант госуд. безопасности (Гусев)
Ермолинский однообразно и скучно отвечал на вопросы следователя о переработанных им в сценарии образах Огнерубова и Паромова. По его ответам видно, что он хорошо был знаком с текстом статьи из газеты “Правда”, поэтому следователь, сколько ни старается, никак не может повернуть допрос в свою сторону. Драматизм происходящего выдают два слова: “Допрос прерывается”. Разумеется, это были не спокойные, дружеские беседы; после нескольких таких допросов следователь-кинокритик лишил его почти всех зубов.
Идет подробный разбор сценария. Не более того.
Существует еще два таких же протокола допроса: от 21 января 1941 года и от 3 февраля 1941 года.
Приводить их полностью не имеет смысла, потому что они ровно о том же. Следователь требует от Ермолинского признаться в антисоветских поправках, а он повторяет одно и то же.
А вот из создателей фильма никто не пострадал и даже не был вызван на допрос. При этом никто из них даже не представлял, за что был арестован сценарист Ермолинский и какие вопросы задавали ему на допросах. И это неудивительно: откуда же они могли знать содержание его дела, если даже годы спустя Сергей Александрович не рассказывал об этом и самым близким товарищам-режиссерам.
Александр Авдеенко продолжал трудиться в шахте Донбасса. С началом войны в 1941 году он написал письмо Сталину, в котором просился добровольцем на фронт, писал, что хочет смыть свою вину кровью. Однако ответа не получил.
Как говорил его сын, Авдеенко, начав писать для фронтовых газет, безуспешно посылал очерки в “Красную звезду”, пока один из них – “Искупление кровью” (о бывшем офицере, совершившем в штрафбате подвиг) – редактор газеты Давид Ортенберг на свой страх и риск не послал с фельдсвязью Сталину. И ночью получил от него телефонный звонок: “Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину”. Его вернули в Союз писателей и в партию. Но вся последующая более-менее благополучная жизнь писателя была непрерывным внутренним диалогом со Сталиным.
Ермолинский же, как было написано выше, отбывал все эти годы ссылку в ожидании того, когда тиран наконец освободит всех из заточения.
Книги Натальи Громовой
Громова Н. А. Достоевский: Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М.: Аграф, 2000.
Луговская Т. А. Как знаю, как помню, как умею… / подгот. текста, предисл. и коммент. Н. А. Громовой. М.: Аграф, 2001.
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове, о себе… / подгот. текста, коммент. Н. А. Громовой. М.: Аграф, 2002.
Громова Н. А. Все в чужое глядят окно. М.: Совершенно секретно, 2002.
Громова Н. А. “Дальний Чистополь на Каме”. Писательская колония: Москва – Елабуга – Чистополь – Москва. М.; Елабуга: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005.
Громова Н. А. Хроника поэтического издательства “Узел”. 1925–1928. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005.
Громова Н. А. Узел. Поэты: дружбы и разрывы (Из истории литературного быта 20-х – 30-х годов). М.: Эллис Лак, 2006.
Громова Н. А. Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х – 30-х годов. 2-е изд., испр. и доп.: М.: АСТ: Corpus, 2016
Цветы и гончарня: Письма Марины Цветаевой к Наталье Гончаровой. 1928–1932; Цветаева М. Наталья Гончарова / предисл., подгот. писем и коммент. Н. А. Громовой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006.
Громова Н. А. Эвакуация идет… 1941–1944. писательская колония: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. М.: Совпадение, 2008.
Громова Н. А. Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е годы [Об А. К. Тарасенкове]. М.: Эллис Лак, 2009.
Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах; Дневники Ольги Бессарабовой (1915–1925) / подгот. текста, сост. Н. А. Громовой; вступ. ст. Н. А. Громовой; комм. Н. А. Громовой, Г. П. Мельник, В. И. Холкина. М.: Эллис Лак, 2010.
Странники войны: воспоминания детей писателей. 1941–1944 / автор-составитель Н. А. Громова. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2012.
Скатерть Лидии Либединской / автор-составитель Н. А. Громова. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2013.
Громова Н. А. Ключ. Последняя Москва. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2013. (Шорт-лист премии “Русский Букер”.)
Gromova N. Moscow in the 1930s. A Novel from the Archives. Glagjslav, 2015. (Перевод на английский язык книги “Ключ. Последняя Москва”.)
Малахиева-Мирович В. Г. Маятник жизни моей. Дневник русской женщины 1930–1954 / автор проекта Н. А. Громова; предисл., подгот. текста Н. А. Громовой. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.
Громова Н. А. Пилигрим. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016.
Громова Н. А. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.
Громова Н. А. Ноев ковчег писателей. М.: АСТ: Corpus, 2018.
Вахтина П. Л., Громова Н. А., Позднякова Т. С. Дело Бронникова. “О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов № 249-32”. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.
Малапарте К. Бал в Кремле: [незаконченный роман] / пер. с итал. А. Ямпольской; науч. ред. М. П. Одесского, вступ. ст. М. П. Одесского, Н. А. Громовой, С. Гардзонио; коммент. М. П. Одесского, Н. А. Громовой. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019
Примечания
1
Как указывают современники, статья Юрия Михайловича, с которой он приехал работать в редакцию, была о Карамзине. Но так как разговор все время возвращался к будущей статье Лотмана о Пушкине, оставляю все, как помню. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)2
Володин Александр Моисеевич (1919–2001) – драматург, сценарист, поэт; автор знаменитых пьес “Пять вечеров”, “Моя старшая сестра”, сценариев к фильмам “Звонят, откройте дверь” (1965), “Осенний марафон” (1979) и многих других, автор книги “Записки нетрезвого человека”.
(обратно)3
Ермолинский Сергей Александрович (1900–1984) – драматург, сценарист, автор мемуаров. По его сценариям были сняты фильмы “Дело Артамоновых” (1940), “Машенька” (1942), “Друг мой Колька” (1961), “Бей, барабан!” (1962), “Неуловимые мстители” (1966) и многие другие.
Ермолинский С. А. Записки о Михаиле Булгакове // Драматические сочинения. М.: Искусство, 1982.
(обратно)4
В книге Александра Нилина “Станция Переделкино: поверх заборов” (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015) я прочла об абсолютно фальстафовском конце Аникста. Аникст жил в Доме Творчества Переделкино, поднялся почитать в библиотеку газету, не дочитав, умер. В морг тело сразу же брать отказались. Стояла зима. Его, завернутого в простыню, положили между оконных рам в библиотеке.
(обратно)5
Повесть “Сергей Ермолинский между Курцио Малапарте и Михаилом Булгаковым” напечатана отдельной главой в этой книге.
(обратно)6
Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) – историк, писатель; автор книг о Пушкине, декабристах, Герцене.
(обратно)7
Вольпин Михаил Давыдович (1902–1988) – драматург, поэт, сценарист. Был арестован в 1933 году, приговорен к пяти годам лагерей. Отбывал их в Ухтинско-Печорском лагере. Освобожден в марте 1937 года. С конца 1930-х и начинается их творческий тандем с Н. Эрдманом.
(обратно)8
Ревич Александр Михайлович (1921–2012) – поэт, переводчик с французского, польского и других языков. Ему принадлежит полный перевод “Трагических поэм” Агриппы Д’Обинье, за который Ревич получил Государственную премию. Его стихи начали издаваться с 1970 года.
(обратно)9
Агранович Леонид Данилович (1915–2011) – актер, сценарист, драматург, режиссер, автор мемуаров. По его сценариям сняты фильмы “Человек родился” (1956), “Обвиняются в убийстве” (1969) и многие другие.
Громова Н. А. Все в чужое глядят окно. М.: Совершенно секретно, 2002.
(обратно)10
Либединская Лидия Борисовна (1921–2006) – писательница, автор мемуарной книги “Зеленая лампа”. Ее мать – Татьяна Толстая (Вечорка), поэт-футурист, автор воспоминаний о Хлебникове и других. Подробнее о ее жизни, семье и друзьях – в книге “Скатерть Лидии Либединской”.
(обратно)11
Скатерть Лидии Либединской / автор-составитель Н. А. Громова. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2013.
(обратно)12
Апт Соломон Константинович (1921–2010) – филолог, переводчик Эврипида, Эсхила, Аристофана, Г. Гессе, Ф. Кафки, М. Фриша, Т. Манна и многих других. Старикова Екатерина Васильевна (род. 1924) – литературовед.
(обратно)13
Белкина Мария Иосифовна (1912–2008) – журналист, писатель. Автор книги о Марине Цветаевой и ее семье “Скрещение судеб”. Подробно о своем знакомстве и работе с Белкиной я рассказала в книге “Ключ. Последняя Москва”. Ее мужем был Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909–1956), советский критик, коллекционер-библиограф поэзии ХХ века.
(обратно)14
Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976) – прозаик, сценарист; лауреат Сталинской премии.
(обратно)15
Рунин (Рубинштейн) Борис Михайлович (1912–1994) – критик, автор книги “Мое окружение. Записки случайно уцелевшего” (М.: Возвращение, 1995).
(обратно)16
Козинцева Валентина Георгиевна (1914–2010?) – актриса, жена режиссера Григория Михайловича Козинцева (1905–1973).
(обратно)17
Иоффе Н. А. Время назад: Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха. М., 1992. С. 112.
(обратно)18
Конечно, называя так эти письма, В. Г. отсылала меня к знаменитой книге Шкловского “Zoo, или Письма не о любви”, посвященной Эльзе Триоле.
(обратно)19
Дейч Евгения Кузьминична (1919–2014) – жена Александра Иосифовича Дейча (1893–1972), литературоведа, драматурга, переводчика-полиглота.
(обратно)20
Мужем Лидии Бать был Самуил Ефимович Мотолянский (1896–1970), инженер-градостроитель.
(обратно)21
Дейч А. И. Поэтический мир Генриха Гейне.
(обратно)22
“Сырами” и “сырихами” называли фанатичных поклонников артистов. Они получили такое прозвище, поскольку встречались у дореволюционного магазина Александра Чичкина “Сыр” на углу Тверской и Георгиевского переулка. Также известно деление “сырих” на “козловисток” и “лемешисток” – от поклонниц оперных певцов И. Козловского и С. Лемешева.
(обратно)23
Это, видимо, ошибка памяти Е. К. Дейч. По сведениям ахматоведа Полины Поберезкиной: “Дейч учился во 2-й гимназии (ныне бульв. Т. Шевченко, 18), Ахматова – в Фундуклеевской (ныне ул. Б. Хмельницкого, 6). Между этими зданиями – несколько кварталов. Общий двор был у 1-й гимназии (ныне бульв. Т. Шевченко, 14) и женской гимназии св. Ольги (ныне ул. Терещенковская, 2), к которым ни Дейч, ни Ахматова не имели отношения. И уж тем более Ахматова не знала киевский «ХЛАМ» 1919 года”.
(обратно)24
Хроника поэтического издательства “Узел”. 1925–1928. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005.
(обратно)25
Чуковская Елена Цезаревна (1931–2015) – химик, литературовед, публикатор дневников и писем своего деда К. И. Чуковского и матери Л. К. Чуковской. Постоянно оказывала помощь А. И. Солженицыну – с начала 1960-х годов и вплоть до его высылки из СССР.
(обратно)26
Коржавин Наум Моисеевич (1925–2018), поэт, автор мемуаров “В соблазнах кровавой эпохи”. В 1973 году эмигрировал в Америку.
Узел. Поэты: дружбы и разрывы (Из истории литературного быта 20-х – 30-х годов). М.: Эллис Лак, 2006.
(обратно)27
Лиходеева (Филатова) Надежда Андреевна (ум. 2001) – журналист, редактор. Жена Леонида Лиходеева (1921–1994), писателя, поэта, драматурга.
(обратно)28
Большая благодарность Анне Козновой за расшифровку разговора.
(обратно)29
Лавут Павел Ильич (1898–1979) – известный эстрадный концертмейстер, организатор турне В. Маяковского.
(обратно)30
“Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов. / И сразу лицо скупее менял, мрачнее, чем смерть на свадьбе: «Пишут… из деревни… сожгли… у меня… библиотеку в усадьбе». Уставился Блок…” – О. И. цитирует фрагмент из поэмы Маяковского “Хорошо”, где Маяковский встречается в ночь революции с А. Блоком.
(обратно)31
Впервые эта записка была опубликована Ольгой Кучкиной в статье о Пастернаке и Ивинской в “Комсомольской правде” (19 августа 1999).
(обратно)32
Дорлиак Нина Львовна (1908–1998) – оперная певица, жена Святослава Рихтера.
(обратно)33
По всей видимости, это легенда.
(обратно)34
Либединский Александр Юрьевич (1948–1990) – математик; сын Ю. Н. и Л. Б. Либединских, муж Натальи Дмитриевны Журавлевой.
(обратно)35
В 1953 году под Ростовом Дмитрий Журавлев попал в тяжелейшую автокатастрофу, после которой ему, к счастью, удалось восстановиться.
(обратно)36
Подробно о жизни Добровского дома рассказано в моей книге “Ключ. Последняя Москва”.
(обратно)37
Цит. по: Романов Б. Странник, или Жизнь Даниила Андреева. М., 2011. С. 121.
(обратно)38
Вогау И. В. Мир тесен для тех, кто помнит // Даниил Андреев. Т. 3., кн. 2. Письма. Стихотворения. Воспоминания. М., 1997. С. 377.
(обратно)39
ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1. Ед. хр. 17057.
(обратно)40
Коваленский А. Краткая автобиография. Машинопись с автографом. 24 апреля 1947. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 2818. (Сообщено Е. Штейнером.)
(обратно)41
Романов Б. Вестник, или Жизнь Даниила Андреева. С. 506.
(обратно)42
Мечёвская община названа по имени о. Алексия Мечёва, который в начале ХХ века был настоятелем храма св. Николая в Кленниках. Ныне о. Алексий причислен к лику святых. После смерти отца Алексия в 1923 году его подвижничество и опеку над членами общины принял его сын о. Сергий Мечёв, впоследствии арестованный. Многие члены общины были высланы и потом лишены права жительства в крупных городах, и скрывались от властей, искали возможность заработка или устремились за своими репрессированными близкими – оказались рассеяны по всей стране.
(обратно)43
Для публикации в книге фамилия изменена.
(обратно)44
Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Из неопубликованной рукописи Е. Жданко.
(обратно)45
ГАРФ. Ф. 539. Оп. 5. Ед. хр. 7056.
(обратно)46
Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 г. в документах. Дневники Ольги Бессарабовой. М.: Эллис Лак, 2010. С. 402.
(обратно)47
Цит. по: Книга детства. Дневники Ариадны Эфрон 1919–1921 / сост., подгот. текста, введение и примеч. Е. Б. Коркиной. М.: Русский путь, 2013. С. 235. Из комментария Е. Б. Коркиной: “Речь идет о стихотворениях «Дорожкою простонародною…» (1919), «Цыганская свадьба» («Из под копыт…», 1917), «Ex-ci-devant» («Хоть сто мозолей…», 1920), «Кровных коней запрягайте в дровни!..», 1918), «Большевик» («От Ильменя – до вод Каспийских…», 1921), «Есть в стане моем – офицерская прямость…» (1920). Строки приводятся Алей не совсем точно”.
(обратно)48
ГАРФ. Ф. 539. Оп. 5. Ед. хр. 7056.
(обратно)49
Эфрон А. История жизни, история души. В 3 т. Т. 3. Воспоминания. Проза. Стихи. Устные рассказы. Переводы. М., 2008. С. 169–170.
(обратно)50
Чудинова К. П. Памяти невернувшихся товарищей // …Иметь силу помнить: Рассказы тех, кто прошел ад репрессий / сост. Л. М. Гурвич. М.: Московский рабочий, 1991. С. 5–40. (Цит. по: -center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=7817.)
(обратно)51
ГАРФ. Ф. 539. Оп. 5. Ед. хр. 7056.
(обратно)52
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 83. Л. 70.
(обратно)53
ГАРФ. Ф. 81313. Оп. 2. Ед. хр. 3304. Далее все документы в этой главе цитируются по этому делу.
(обратно)54
Орфография источника сохранена.
(обратно)55
Показания Л. Петросян в разных документах расходятся; здесь она говорит о 1942 годе, а затем будет писать уже о встрече во Владивостокской тюрьме в 1939 году.
(обратно)56
Фамилия Бонапарте буквально переводится с итальянского языка “хорошая судьба”, а Малапарте – “плохая судьба”.
(обратно)57
Белозерская Л. Е. О, мёд воспоминаний. М.: Художественная литература, 1990. С. 156.
(обратно)58
Цит. по: Малапарте К. Бал в Кремле / пер. с итал. А. Ямпольской. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.
(обратно)59
Цит. по: Шапошникова Н. Булгаков и пречистенцы // Архитектура и строительство. 1989. № 4. С. 34.
(обратно)60
РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.
(обратно)61
ГПБ. Рукописный отдел. Ф. 1464. Ф. Г. Беренштама. Ед. хр. 161. Беренштам Федор Густавович, Ермолинская <Чимишкиан> Марика, его племянница. Фотопортрет. Москва. На обороте атрибутивная надпись [Ф. Г. Беренштама].
(обратно)62
Цит. по: -online.ru/tribune/894.html?fromProfile=198519. К сожалению, письмо опубликовано на сайте без ссылок.
(обратно)63
РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.
(обратно)64
Ермолинская М. Дружба, проверенная временем: Воспоминания о М. А. Булгакове. Рукопись. <1960?> // РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.
(обратно)65
Там же.
(обратно)66
Рассказ Н. Шапошниковой о том, что Марика с момента приезда в Ленинград имела продолжительный роман с Булгаковым, кажется нам по меньшей мере странным. Принять приглашение Белозерской, находясь с Булгаковым в близких отношениях, потом выйти замуж за Ермолинского и продолжать отношения на фоне его трудной истории соединения с Е. С. Шиловской – все это представляется даже не преувеличением, а сочинением. Эта версия изложена в брошюре Шапошниковой Н. В. “Михаил Булгаков, выдуманный Курцио Малапарте” (М., 2018).
(обратно)67
Открытием этой темы явилась уникальная работа Татьяны Рогозовской. После “Бала в Кремле” (Булгаков и Малапарте) // Работа и служба: Сборник памяти Рашита Янгирова / сост. Я. Левченко. СПб.: Свое издательство, 2011. С. 284–302.
(обратно)68
Малапарте К. Бал в Кремле. М., 2019.
(обратно)69
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Полное собрание черновиков романа. Основной текст: в 2 т. / сост., текстол. подгот., авт. предисл., коммент. Е. Ю. Колышевой. М.: Пашков дом, 2014. Т. 1. С. 78.
(обратно)70
Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мёд воспоминаний. С. 157.
(обратно)71
Курушин А. Марика Артемьевна Ермолинская-Чемишкиан. Цит по: . (В публикации именно такое написание фамилии Марики.)
(обратно)72
Булгаков М. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. Мастер и Маргарита; Письма. М., 1990. С. 433.
(обратно)73
Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мёд воспоминаний. С. 163.
(обратно)74
Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мёд воспоминаний. С. 164.
(обратно)75
Ермолинский С. А. Записки о Михаиле Булгакове // О времени, о Булгакове и о себе / сост., предисл., комм. Н. Громовой. М., 2002. С. 99–100.
(обратно)76
Выражаю большую благодарность Е. Ю. Колышевой за предоставленный текст стихотворения и расшифровку приведенных далее писем Ермолинского – Марике.
(обратно)77
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 211.
(обратно)78
Здесь и далее сохраняются особенности орфографии и грамматики официальных документов, в т. ч. протоколов допроса.
(обратно)79
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 364–367.
(обратно)80
Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мёд воспоминаний. С. 155.
(обратно)81
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 368–369.
(обратно)82
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. М., 1990. С. 230.
(обратно)83
Там же. С. 245.
(обратно)84
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. М., 1990. С. 251.
(обратно)85
Там же. С. 253.
(обратно)86
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 269.
(обратно)87
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 10070.
(обратно)88
Венкстерн Владимир Алексеевич (1884–1949) – юрист; брат Н. А. Венкстерн, драматурга, писательницы, близкой приятельницы М. А. Булгакова. Венкстерн был арестован 5 октября 1938 г. На суде он отказался от своих показаний на С. А. Ермолинского. Осужден на 5 лет. Вернулся из заключения в 1943 г., но в Москве он жить не мог и в 1945 г. поселился в Иванове, куда переселилась (не по своей воле) его старшая дочь Лидия Владимировна Венкстерн со своей семьей. По сообщению его внучки Н. Е. Брауде, его здоровье было подорвано в лагере. Он умер от инфаркта весной 1949 г., похоронен в Иванове.
(обратно)89
Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мёд воспоминаний. С. 176.
(обратно)90
Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 425.
(обратно)91
Яковлев Л. Слово о Белозерской-Булгаковой. Цит. по: / belozerskaya_yakovlev.htm.
(обратно)92
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 178–179.
(обратно)93
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 178–179.
(обратно)94
Е. С. Булгаковой.
(обратно)95
РГБ. Ф. 562. К. 35. Ед. хр. 4. Земская Надежда Афанасьевна. Письма к Булгаковой Елене Сергеевне. 1956–1968.
(обратно)96
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 276.
(обратно)97
Все письма С. А. Ермолинского Марике в главе «Ссылка. История в письмах» цит. по: РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 54. (Письма подготовлены Е. Ю. Колышевой.)
(обратно)98
Имеется в виду Юлий Яковлевич Райзман (1903–1994) – режиссер, с которым до войны С. А. Ермолинский сделал большую часть своих картин.
(обратно)99
Луговская Т. А. Как знаю, как помню, как умею / сост., коммент., предисл. Н. Громовой. М., 2001. С. 306–307.
(обратно)100
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 297.
(обратно)101
У братьев Топлениновых – Владимира Сергеевича и Сергея Сергевича – Ермолинский снимал в квартиру Мансуровском переулке, д. 9. Считается, что именно здесь был подвальчик Мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
(обратно)102
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 298.
(обратно)103
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 317.
(обратно)104
Смирнова Мария Николаевна (1905–1993) – кинодраматург.
(обратно)105
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 335–336.
(обратно)106
Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 306–307.
(обратно)107
Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 313.
(обратно)108
Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 314.
(обратно)109
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 296–297.
(обратно)110
Курушин А. Марика Артемьевна Ермолинская-Чемишкиан. Цит. по: .
(обратно)111
Ермолинский С. А. О времени, о Булгакове и о себе. С. 439–440.
(обратно)112
Крымова Н. А. Об авторе этой книги // Ермолинский С. А. Из записок разных лет. Михаил Булгаков. Николай Заболоцкий. М.: Искусство, 1990. С. 14.
(обратно)113
Луговская Т. Как помню, как знаю, как умею. С. 238.
(обратно)114
Здесь и далее воспоминания А. Авдеенко “Наказание без преступления” цит. по: -bez-prestupleniya-read-461961-80.html.
(обратно)115
Имеется в виду кинодраматург Евгений Иосифович Габрилович (1899–1993).
(обратно)116
Скорее всего, речь идет об актере Ильиченко Данииле Ивановиче (1895–1977).
(обратно)117
Мария Степановна Волошина – вдова поэта Максимилиана Александровича Волошина.
(обратно)118
За́мок Тамары – так Ермолинский шутливо называл супругу писателя Вс. Вяч. Иванова Тамару Владимировну (урожденная Каширина, 1900–1995).
(обратно)119
Ляшко Николай Николаевич (настоящая фамилия Лященко; 1884–1953) – советский прозаик.
(обратно)120
Габричевский Александр Георгиевич (1891–1968) – литературовед, искусствовед, переводчик.
(обратно)121
Речь идет о Наталье Северцевой, до этого жене Габричевского, а на этот момент – жене художника Р. Барто, хотя вскоре они снова сошлись с Габричевским.
(обратно)122
Имеются в виду: Бровка Петр Устинович (1905–1980) – белорусский писатель, поэт и переводчик, драматург, публицист; Глебка Петр Федорович (1905–1969) – белорусский поэт, драматург, переводчик.
(обратно)123
Типот Виктор Яковлевич (1893–1960) – драматург, эстрадный режиссер.
(обратно)124
Меттер Израиль Моисеевич (1909–1996) – писатель. Его вторая жена – Таисия Златогорова (Татьяна Семеновна Гольдберг, 1912–1950) – сценаристка, врач, впоследствии жена сценариста А. Я. Каплера.
(обратно)125
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979) – драматург.
(обратно)126
Десницкий Василий Алексеевич (1878–1958) – литературовед.
(обратно)127
Имеется в виду дядя Марики Чимишкиан-Ермолинской – Беренштам Федор Густавович.
(обратно)128
Крымов Юрий Соломонович (1908–1941) – писатель, автор романа “Танкер «Дербент»”, по мотивам которого С. А. Ермолинский написал сценарий к одноименному фильму.
(обратно)129
Саянов Виссарион Михайлович (1903–1959) – поэт, прозаик.
(обратно)130
Файнциммер Александр Михайлович (1906–1982) – кинорежиссер, постановщик фильма “Танкер «Дербент»”.
(обратно)131
Фильм “Танкер «Дербент»” вышел на экраны 9 июня 1941 года.
(обратно)132
Фильм “Дело Артамоновых” (реж. Г. Л. Рошаль, сцен. С. А. Ермолинский) вышел на экраны 8 октября 1941 года.
(обратно)







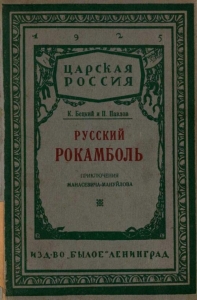
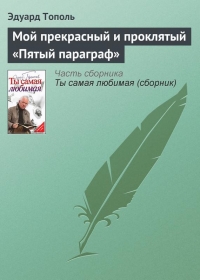
Комментарии к книге «Именной указатель», Наталья Александровна Громова
Всего 0 комментариев