Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. Л.: Искусство, 1971. 190 с. («Жизнь в искусстве»).
Введение 5 Читать
Рождение актрисы 8 Читать
В Александринском театре 37 Читать
Гастроли 71 Читать
Драматический театр, дирекция В. Ф. Комиссаржевской 91 Читать
Театр на Офицерской. Последние годы 131 Читать
{5} Введение
Чту в ней рыдало? Чту боролось?
Чего она ждала от нас?.. —
спрашивал современников и самого себя Александр Блок во вдохновенном стихотворении «На смерть Комиссаржевской», размышляя о судьбе замечательной актрисы, о ее роли и месте в русском театральном искусстве, в русской общественной жизни. Главная тема художнической биографии Комиссаржевской — борьба за духовную свободу человека — всегда была и будет одной из основных тем в искусстве. Поэтому ее творчество так волновало современную ей русскую интеллигенцию, став своеобразным знамением времени. Недаром стали крылатыми строки Блока, посвященные Комиссаржевской: «Развернутое ветром знамя, обетованная весна»…
Творчество актрисы нельзя назвать белым пятном в географии искусства. Но тема эта никогда не будет исчерпана и закрыта, так как Комиссаржевская — вечно живое явление в истории русской культуры.
Первая книга об актрисе вышла в конце XIX века. С тех пор критики, историки театра, мемуаристы обращаются к имени Комиссаржевской, связывая ее творчество с современной им художественной практикой. Уже прижизненные биографические очерки и статьи о творчестве актрисы отличаются стремлением их авторов найти обобщенный смысл ее игры, понять нравственный характер основных ролей. В конце XIX – начале XX века имя Комиссаржевской как синоним передового искусства фигурирует в публицистических статьях и обзорных работах по театру. Социальная определенность таланта Комиссаржевской порождает острую борьбу вокруг истолкования ее творчества.
В книге И. И. Забрежнева «Комиссаржевская. Впечатления» (СПб., 1898) и в критическом этюде Ю. Д. Беляева «Наши артистки. {6} Вып. 1. В. Ф. Комиссаржевская» (СПб., 1899) главной особенностью актрисы считается ее умение сообщить роли черты своей личности. Комиссаржевскую признают самой интересной и популярной актрисой петербургской сцены. Ее сравнивают с Чеховым. Роль Нины Заречной была исполнена актрисой в согласии с авторским замыслом и в той особой манере игры, которая соответствовала новому этапу развития сценического реализма. «Если нам суждено сделать шаг вперед на пути прогресса, она первая отметит этот шаг в целом ряде глубоко прочувствованных образов», — заканчивает свою книгу Ю. Д. Беляев.
В 1911 году вышли две книги, посвященные памяти актрисы[1]. В сборнике «Алконост» Комиссаржевская предстает как актриса, искавшая «вечного» в искусстве, особенно дорожившая символикой и мистикой. Сборник под редакцией Е. П. Карпова лишен творческих обобщений и передает лишь непосредственные впечатления от ее игры.
Советское театроведение позволило по-новому увидеть творчество актрисы. Первые послереволюционные работы[2] открывают в творческих идеях Комиссаржевской те черты, которые ведут в будущее. «Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской» (М., 1931), подготовленный к 20‑летию со дня ее смерти, содержит обстоятельную оценку творчества актрисы. Авторы статей прослеживают связь актрисы с революционным движением времени, с передовыми художественными тенденциями. В этом отношении особенную ценность представляют статьи А. В. Луначарского и А. М. Коллонтай.
В 1939 году выходит капитальная монография Д. Л. Тальникова «Комиссаржевская», в которой автор на конкретном историческом фоне воссоздает облик Комиссаржевской — человека и художника. Большой фактический материал помогает Тальникову подробно реконструировать важнейшие сценические создания актрисы, такие, как Лариса, Нина Заречная, Нора. Эта первая крупная работа о Комиссаржевской подытоживает опыт предшествующей литературы и дает хронологически стройный очерк жизни и деятельности актрисы. Но общие недостатки театроведческой науки 1930‑х годов сказываются как в неточном определении сущности конфликтов актрисы с господствующими направлениями {7} в современном ей театре, так и в упрощенной оценке деятельности В. Э. Мейерхольда.
В монографии П. А. Маркова «В. Ф. Комиссаржевская» (М., 1950) подчеркивается бескомпромиссность характера героинь актрисы, их страстная защита добра и справедливости.
Наряду с исследователями к Комиссаржевской обращаются многие мемуаристы. Ценный систематизированный материал содержит книга воспоминаний писательницы А. Я. Бруштейн («Страницы прошлого». М., 1956). Здесь прослежена эволюция лучших образов, созданных актрисой, точно воспроизведена ее художническая манера.
Литература о Комиссаржевской 1940 – 1950‑х годов акцентирует прогрессивные стороны творчества актрисы. Авторы статей, монографий, воспоминаний обоснованно полемизируют с мистическими трактовками «Алконоста», оспаривают узкоэстетические критерии дореволюционной критики. Но попутно обнаруживает себя и определенная крайность: искания Комиссаржевской освобождаются от внутренней сложности, упрощаются их противоречия.
К столетию со дня рождения Комиссаржевской, в 1964 году, появляется ряд новых книг и статей. Монография В. Носовой «Комиссаржевская», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» (М., 1964), не осмысляет критически опыт прежних работ. Автор придерживается устаревших оценок и характеристик. Ввести в научный обиход новые материалы — такова цель двух сборников о Комиссаржевской[3]. Здесь главное внимание сосредоточено на публикации воспоминаний, новых документов, писем.
Предлагаемая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что «рыдало» и «боролось» в ее мятущейся душе и почему в наши дни не угасает интерес к личности великой актрисы.
{8} Рождение актрисы
1
По-моему, если возможно найти более или менее нравственного удовлетворения, то его должны находить люди, отрешившиеся насколько возможно от личной жизни для чего-нибудь более высокого…[4]
Вера Федоровна Комиссаржевская родилась 27 октября 1864 года в Петербурге. Ее мать, дочь командира Преображенского полка, тайно обвенчалась с певцом Ф. П. Комиссаржевским. Событие это стало предметом пересудов всего Петербурга. Вот что писал актер Александринского театра Ф. А. Бурдин А. Н. Островскому: «Другая свадьба интересная была Комиссаржевского, который женился на дочери генерала Шульгина, похитил ее из дому, обвенчался в Царском Селе, в тот же вечер пел “Марту”, невеста его возвратилась домой, была с отцом в театре, никто ничего не знал, а на другой день она уехала к мужу и оставила отцу письмо. Отец бросился туда, сюда, но брак был оглашен, дочь совершеннолетняя, все было сделано законным порядком, были свидетели, оставалось одно — помириться, и отец простил и помирился». Дерзкий поступок молодости оказался высшей точкой в жизни М. Н. Комиссаржевской. Она выросла в убеждении, что удел женщины лишь муж и дети. А когда семья распалась, Мария Николаевна оказалась сломленной. Ее мучила неустроенная, как ей представлялось, жизнь дочерей.
На фотографии 1870‑х годов молодая невысокая женщина стоит у письменного стола. Глаза опущены, чуть заметная, неуверенная улыбка. Вся она мягка, покорна и кажется, несмотря на сходство, гораздо слабее и беззащитнее сидящей рядом старшей дочери — В. Ф. Комиссаржевской. Угловатая девочка-подросток теребит край раскрытой книги. В девочке чувствуется напряжение незаурядных сил. Со временем совершенно исчезнут материнские черты, зато обнаружатся пристальные печальные глаза отца и его вопросительно взметнувшиеся брови. Родство это глубокое, {9} внутреннее: то же открытое сердце, тот же мятеж в душе, постоянные срывы и падения на пути к истине. Творческая жизнь отца была гордостью и радостью дочери.
Комиссаржевская любила отца за вечную молодость, преданность искусству, за ненависть к сытым и благополучным, за горькие и неизбежные ошибки сердца. Она не расставалась с его портретом. Горделиво приподнятая голова и длинные волнистые волосы передавали романтический облик молодого человека времен Герцена и Огарева.
Окончив Петербургский университет, титулярный советник Федор Петрович Комиссаржевский (1838 – 1905) мечтает стать певцом и для этого едет в Италию. Борьба итальянского народа за независимость временно приостанавливает планы Комиссаржевского: он вступает в ряды гарибальдийцев. Противник всяческих компромиссов, он видел в восстании естественную реакцию на преступление против человечности. Себя он считал одним «из призванных способствовать постепенному осушению болота». Эту идею он осуществил в актерской деятельности. Для творчества Комиссаржевского характерна связь с демократической культурой 1860 – 1870‑х годов.
Старшая дочь, символически названная Верой, была любима отцом и близкими. Ее первые годы прошли безмятежно. Веселая, участливая, но своенравная, она разрушала педагогические планы воспитателей, не желая подчиняться и укрощать себя. Впоследствии самой тяжелой для нее будет атмосфера казенного порядка, сухой официальности. Гувернантки и воспитатели приходили в отчаяние от непоседливости и беспорядочности этого характера. Среди ночи, почувствовав голод, она вскакивала и начинала искать еду. Свои учебные тетради исписывала со всех сторон, не соблюдая порядка и последовательности. Отец по-своему способствовал развитию ее импульсивности, когда, соскучившись, забирал дочь из пансиона. По его воле и в связи с частыми переездами Комиссаржевская переменила несколько гимназий, так и не получив систематического образования в детстве. Но в стихийном начале характера была своя правда. Не это ли качество разовьет впоследствии критический взгляд на общественную систему жизни? Так начался рост характера, достойного большого таланта. К благоприятнейшим обстоятельствам судьбы следует отнести влияние отца и его окружения.
Пореформенные события в жизни страны выявили новые возможности искусства, резко изменили его эстетические нормы. Общая тенденция русской культуры сказалась в расширении {10} сфер ее общественного воздействия, в ее растущем демократизме. Новый герой пришел в литературу, живопись, музыку. Он заставлял думать и тревожиться о себе. В любом жанре искусства основным становится требование «той правды, которая всякий день совершается тихо и незримо в ста разных местах и близко и далеко от нас»[5]. В музыке эти новые тенденции наиболее полно переданы композиторами «Могучей кучки». Мусоргский, которого можно назвать знаменосцем нового направления, и Даргомыжский — духовный учитель этой группы — вот композиторы, в чьих операх выступал Ф. П. Комиссаржевский. «Он охотно пел русских композиторов, — писал Ц. А. Кюи, — он считал почетной обязанностью русского певца служить русскому искусству, он был великолепен в “Борисе Годунове”, в “Русалке” и особенно в “Каменном госте”. Память о нем всегда будет дорога в истории развития русской оперы». Комиссаржевский много выступал и в западном репертуаре. За двадцать лет сценической деятельности он стал популярнейшим лирическим тенором.
М. П. Мусоргский, известные артисты Ф. И. Стравинский, М. И. Сариотти, К. Т. Серебряков, И. Ф. Горбунов, главный режиссер Мариинского театра Г. П. Кондратьев — постоянные гости в доме Комиссаржевских. Кабинет отца превращается в репетиционный зал. Дети — свидетели зарождения искусства. Первая реакция на эти серьезные жизненные впечатления — создание своего театра. Они охотно и весело участвуют в домашнем, спектакле, их любимое занятие теперь — игра в театр. А Вера сочиняет, режиссирует, играет и даже поет. Но мысль о сцене как о жизненном призвании пока не стала для нее обязательной. Во всяком случае, она охотно выполняет требование отца не петь при гостях. Он опасался, как бы сцена не поманила ее легким успехом, эффектной и внешней красотой театральности. Главным в жизни актера он считал осознание общественного смысла своей деятельности и повседневный напряженный труд. Призвание пришло к Комиссаржевской после того, как сформировалась ее личность. «В актрисы ее посвятило личное страдание», — писал впоследствии один из ее биографов[6].
Безмятежность детских лет скоро была нарушена. Отец ушел из дому. Комиссаржевская металась между отцом и матерью. Но жизнь рядом с мачехой оказалась невыносимой. Она вернулась в осиротевший дом.
{11} Ранение было глубоким. Детское горе незабываемо. Память о нем стала частью ее характера.
Будущее светской барышни разумелось само собой — поклонники, женихи, замужество. Комиссаржевская оставалась холодна к своим успехам. Но первое же сильное чувство сделало ее женой графа В. Л. Муравьева, художника-любителя. Способность Комиссаржевской к самоотдаче впервые заявила о себе в любви. Чувство было беспредельным, щедрым, слепым. Брак длился всего два года (1883 – 1885). Муж оказался пьяницей и подлецом. Скандалы, угрозы, вымогательство, измена — таков был резкий спад отношений. Когда произошел разрыв, Комиссаржевская пыталась отравиться, затем перенесла тяжелый психический недуг и медленное, ненужное, как ей казалось, возвращение к жизни.
Прошли восемь глухих лет безнадежности, отчаяния, томительного ничегонеделания. И каждый последующий год с болезнями и нуждой был похож на предыдущий. Ее письма той поры — это крик о страдании: «У меня сделалось то же, что было в Липецке, но только хуже, потому что поражены были не ноги, а голова, у меня были [такие] невыносимые припадки головной боли (в одном месте темени), что я ничего не помнила, что делала и говорила; целую неделю не знала, что такое сон, и как ночь, так галлюцинации мучили меня до рассвета […] Как это все мне надоело. Вы не можете себе представить, а в особенности оттого, что я вижу, как все измучились за эти три недели, мама и сестра похудели страшно, а за последнюю я так боюсь. И думаешь, думаешь, и неотвязный, мучительный вопрос, зачем, к чему все это, куда ведет, и вот ответ есть, и выход так прост, и ясен, и страшен…»[7]
Но оружие не сложено. Ей невыносимо считать себя ничем, испытывать жалость окружающих. Выход пока не найден, но она знает, что он есть. В том же году, немного раньше она пишет: «… насколько было бы лучше, если бы было больше женщин сильных духом и телом, но как этого достичь, вот в чем вопрос. Как в этой мерзкой, отвратительной безотрадной жизни, печной таких неразрешимых противоречий, как не упасть в борьбе, выпадающей на долю каждого мыслящего и чувствующего человека?»[8]
{12} Кто знает, какое будущее ждало ее, останься она графиней Муравьевой, окажись счастлива в замужестве? Да и может ли талантливый человек быть счастлив бытом своим, пусть устроенным и благополучным? Раньше или позже выход таланта к общественной деятельности неизбежен. Проводником Комиссаржевской стало собственное страдание. Оно открыло ей глаза на неисчислимые беды вокруг, приобщило к важнейшим вопросам эпохи. Выбраться из тупика личных невзгод можно, лишь обратившись к жизни более широкой.
1880‑е годы — время реакции в России. Но это не исключает внутренней консолидации прогрессивных сил. Меняются этические и эстетические нормы. Пожалуй, никогда с такой необходимостью не вставала потребность действенной мысли в искусстве. В. М. Гаршин, Г. И. Успенский, В. Г. Короленко выносят на общественный суд темы, которые дают пищу этой мысли. Их творения суровы и аскетичны. С журналистской быстротой выпускает Успенский свои очерки, не заботясь о том, чтобы «убрать леса». А. П. Чехов пишет драму о «негерое» Иванове, принимая на себя град упреков либеральной критики в измене прогрессу. Он первый в искусстве говорит о смене эстетического идеала, рожденного народническим движением. Правильный и положительный по внешним приметам поведения Львов исторически безнадежен. За смутными и вызывающими поступками Иванова — отказ прикрываться фальшивыми теперь словами прошлого. Отсутствие «общей идеи» стало определяющей чертой эпохи. Жизнь большинства из нас — это «скучная история», — заявил Чехов. Писатель не ограничивался констатацией факта. «Цель моя, — писал Чехов в 1889 году, — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас».
Незнание положительного идеала, способность к подвигу и невозможность его свершить составляли трагедию другого писателя тех лет — В. М. Гаршина. Социальное зло для него непреодолимо, и потому внимание писателя сосредоточено на тех, кто не может мириться с существующим порядком вещей. Охота сумасшедшего за красным цветком и мужество нежной Attalea princeps бессмысленны. Гаршин дорожит самой попыткой борьбы.
{13} Не случайно современники будут сравнивать Гаршина и Комиссаржевскую. Общей для обоих художников была причина появления их в искусстве. «Для Гаршина и его поколения вся психология “проклятых вопросов” сводилась к вопросу о правде или неправде в конечной области людских отношений», — писал В. Г. Короленко. Страдания, выпавшие на долю Гаршина и Комиссаржевской, сделали их чуткими к болям и бедам окружающего мира. Факты своей личной биографии они обратили на пользу обществу. В рассказе «Припадок», посвященном покончившему с собой Гаршину, Чехов писал: «Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза…» В чеховских словах — источник таланта Комиссаржевской.
Гаршин так объяснил свой приход в литературу: «Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего “я”, все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире…» Через несколько лет Комиссаржевская, подводя итог прожитым годам, скажет: «По-моему, если возможно найти более или менее нравственного удовлетворения, то его должны находить люди, отрешившиеся насколько возможно от личной жизни для чего-нибудь более высокого, несомненно им очень нелегко, на их долю выпадает масса страданий, но они наверное не упадут от первого толчка судьбы, на которые она так щедра, не опустят руки, встряхнутся и идут опять вперед, готовые на все ради далеко-далеко светящегося огонька, пусть они одни видят этот огонек, пусть они не дойдут до него, но он им светит, дает силу, веру, с которыми они сделают, один больше, другой меньше, но сделают хотя что-нибудь».
Печальные гаршинские интонации здесь крепнут. Будущая актриса мыслит и чувствует в унисон с современной литературой: светящийся вдали огонь — один из высоких эмоциональных образов эпохи. Чеховский Астров говорит Соне: «Знаете, когда {14} идешь темною ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу…» И более десяти лет спустя Короленко напишет на эту тему рассказ «Огоньки».
Та напряженная внутренняя работа, которая выявляла связи Комиссаржевской с современностью, была во многом интуитивна. Будущая актриса остается пока пассивным, хотя и не равнодушным наблюдателем. И вот разные случайности, сами по себе лишенные вещего смысла, постепенно обнаруживают цель ее привязанностей. В биографии другого человека эти случайности остались бы проходным эпизодом. Комиссаржевская находит в них приметы своей будущей судьбы.
В 1887 году, лечась на водах в Липецке, она знакомится с Сергеем Ильичом Зилоти, образованным морским офицером, поклонником театра и музыки. На правах жениха (брак этот не состоялся) он привозит Комиссаржевскую в свое родовое имение Знаменка Тамбовской губернии. Дом полон молодежи: две красавицы сестры и четыре брата. Один из них — Александр Ильич Зилоти — впоследствии знаменитый пианист и музыкальный деятель. В этом доме Комиссаржевская нашла то семейное тепло, которое потеряла с уходом отца. Привязчивая к людям и благодарная за внимание, она стала своей в Знаменке, бывая там ежегодно, а то и по нескольку раз в год. Младшая из сестер — Мария Ильинична Зилоти, тогда только что окончившая гимназию, подружилась с ней. С приездом Комиссаржевской в доме оживали шутки и смех. Она умела быть заразительно веселой. А по вечерам под грустные переборы гитары они пели модные тогда цыганские песни. «Цыганобесие» — так называли это увлечение светской молодежи. Хоры любителей цыганского пения успешно состязались с настоящими цыганами. Одним из таких хоров руководил С. И. Зилоти. Зимой, служа в Петербурге, он навещал сестер Комиссаржевских, Ольгу Федоровну и Веру Федоровну, приглашал их на литературно-художественные вечера в Морском собрании флотского экипажа. Сюда съезжалось избранное общество Петербурга. Сестры Комиссаржевские стали «цыганскими примадоннами».
Там состоялось первое сценическое выступление Комиссаржевской в роли Зины Васильчиковой в одноактной комедии П. П. Гнедича «Горящие письма». Успех обрадовал ее, но этого было мало для того, чтобы стать профессиональной актрисой. Тогда мать, беспокоясь за ее судьбу, идет к известному актеру Александринского театра В. Н. Давыдову с просьбой давать {15} уроки драматического искусства ее дочери. Комиссаржевская посетила несколько его занятий. Но встреча эта не стала для нее школой. Давыдов не увидел в угловатой, малопредставительной ученице тех задатков, которые соответствовали бы требованиям Александринской сцены с ее колоритным, но традиционным реализмом.
Тем временем в Москве зарождались основы того искусства, которое станет новым этапом в развитии театра. В 1888 году по инициативе Ф. П. Комиссаржевского, А. Ф. Федотова, Ф. Л. Соллогуба и К. С. Станиславского возникло Общество искусства и литературы. Вначале оно ставило перед собой скромную задачу: основать оперно-драматическую школу для взрослых. Занятия в оперном классе вел Ф. П. Комиссаржевский. Его ученик, впоследствии оперный актер и режиссер, В. П. Шкафер вспоминал: «Он умел в свои занятия вносить огромный интерес не только к предмету специального вокального искусства, а трогал попутно вопросы, соприкасающиеся с жизнью искусства и театра в его широком общественном значении». Шкафер рассказывал о школе: «В программу нашего художественного развития входило непременное посещение спектаклей московского Малого театра […] Ф. П. Комиссаржевский расспрашивал о спектакле и просил всегда рассказывать подробно, кто и как играл […] Наш художественный горизонт становился богаче, шире, мы получали возможность ко многому относиться сознательно, критически воспитывая свой художественный вкус».
Осенью 1890 года к Ф. П. Комиссаржевскому приехали дочери — Вера и Ольга. Они помогали отцу (который к тому времени расстался со своей второй женой) по хозяйству и посещали оперный класс училища. «Очень скоро они с нами — учениками сдружились и своим почти что постоянным присутствием в школе вносили уют и ту атмосферу высокой интеллигентности, которая невольно нас приучала к хорошему поведению, аккуратности, приличию, словом, дисциплинировала […] В их лице училище приобретало очаровательных художниц, так деликатно влиявших на наши умы и сердца», — писал Шкафер.
Все остающееся от учебы время Комиссаржевская отдает театру. Э. Дузе, А. Мазини, М. Н. Ермолова производят на нее огромное впечатление. В страстной заинтересованности искусством чувствуется будущая актриса. Комиссаржевский мечтал об оперной карьере для своей старшей дочери. «У Веры Федоровны — вспоминает Шкафер, — был небольшой голос меццо-сопрано теплого тембра. Пение ее трогало до слез умением {16} хорошо фразировать, четко говорить слова, какими-то особенностями тембровых голосовых вибраций, доходящих до вашего сердца […] Звук этот был одухотворенным и таил в своем существе огромное эмоциональное начало; он был живым, трепещущим, волнующим и тревожившим ваше чувство»[9].
Комиссаржевская исполняла партии доны Анны («Каменный гость» А. С. Даргомыжского), няни («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Зибеля («Фауст» Ш. Гуно). Последние две роли были включены в репертуар гастрольной поездки Ф. П. Комиссаржевского с учениками летом 1891 года. Но оперной актрисой Комиссаржевская не стала. Зато выступления в драматических спектаклях Общества раскрыли ее настоящие способности и понимание требований Станиславского, начинающего тогда актера и режиссера.
«Дело актера — воспитывать публику, — записывает Станиславский в 1889 году, — и хоть я не считаю себя достаточно сильным для этого, но все-таки не хочу подделываться под их вкус и буду разрабатывать в себе тонкую игру, основанную на мимике, паузах и отсутствии мнимых театральных жестов […] Иначе играть не стоит». С этих позиций Станиславский 13 марта 1889 года осуществляет свою первую постановку — комедию «Горящие письма». «Мы внесли новую, невиданную на русских сценах манеру игры […], — писал Станиславский, приводя отзывы зрителей о спектакле. — Интеллигентная, тонкая публика почувствовала ее и бесновалась от восторга, рутинеры протестовали…» Комиссаржевская, введенная в спектакль 13 декабря 1890 года, была достойной партнершей Станиславского и выполняла его режиссерские задания. Он хотел видеть у актеров простоту и естественность. «Во время считки я просил не стесняться паузами, только бы они были прочувствованы; просил также говорить своим, отнюдь не форсированным голосом и избегать жестов. Места я указал очень жизненные», — записывал Станиславский в дневнике. Выступление «новоиспеченной любительницы» молодой режиссер нашел весьма успешным. 8 ноября 1890 года она сыграла роль Любской в водевиле А. Н. Плещеева «За хитрость — хитрость».
8 февраля 1891 года Общество искусства и литературы выпустило свой программный спектакль — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. «Всех одинаково поразило “художественное {17} чудо”, явленное нашими любителями, и на всех комедия произвела глубокое, сильное впечатление», — писал критик[10]. Показательна была даже административная сторона дела: фанатическая любовь к театру выражалась в атмосфере строжайшей дисциплины. Творческие устремления режиссера были направлены на поиски искренности и правды, на борьбу с ложью вообще и театральной в частности.
В этом спектакле Комиссаржевская под псевдонимом Комина выступила в роли Бетси. Она органично вошла в цельный художественный ансамбль. Быт людей дворянского круга ей знаком по общению с семейством Зилоти, а острокомедийные краски пьесы оказались близки ее манере шутить и пародировать. В. В. Лужский, актер Общества искусства и литературы, а впоследствии Московского Художественного театра, вспоминал: «Такой барышней бывшего дворянского круга, а именно круга семей Толстых, Давыдовых, Лопатиных — туляков и орловцев — семей, приблизившихся к разночинству, к влиянию профессорских и докторских кружков, с налетом цыганщины, начинающегося декадентства, такой Бетси, как В. Ф. Комиссаржевская, не было ни на одной из сцен… Ее задор, молодое любительство, шик во вскиде лорнета к глазам и, вместе с тем, характерная тупость глаз от сознания своего превосходства при лорнировании трех мужиков с фразами: “Вы не охотники? Тут к Вово должны были прийти охотники” — несомненно удовлетворили бы все сложные требования Немировича-Данченко и Станиславского, даже после выработанной ими художественной актерской линии».
Однако стесненные материальные дела Общества привели к сокращению его деятельности. Был закрыт оперный класс, и Ф. П. Комиссаржевский покинул училище. Сценическое образование Комиссаржевской закончилось. Так оборвалась ее первая встреча с будущим создателем Московского Художественного театра. Впоследствии актриса и театр попытаются объединить свои силы. Но каждый из них пойдет своим путем. У каждого своя судьба. Сезон в Обществе искусства и литературы открыл Комиссаржевской новые и большие возможности такого театра, которому стоило отдать жизнь.
Вероятно, Комиссаржевская любое дело могла бы превратить в подвиг. Но странно представить ее не актрисой. Невозможно. Сцена казалась единственной точкой приложения сил. Теперь, {18} когда решение созрело, необходим был внешний толчок, который превратил бы мечту в действительность. Прошли два года робких, неуверенных надежд. Комиссаржевская всегда была невысокого мнения о своих способностях и всегда отличалась удивительным неумением устраивать свои дела. Но помог случай.
На спектаклях Общества игру Комиссаржевской заметил И. П. Киселевский, известный драматический актер, друг ее отца. Молодой Станиславский, по собственному признанию, подражал Киселевскому и очень дорожил его мнением. Летом 1893 года, выступая в подмосковном местечке Кусково, Киселевский для участия в двух спектаклях «Денежные тузы» М. Балуцкого пригласил Комиссаржевскую. Он играл роль Бородавкина. Она исполнила в первом спектакле Соню, во втором — Раю. Молодую актрису заметили и пресса, и антрепренеры. О ней писали: «Г‑жа Комина-Комиссаржевская очень живо сыграла роль Раисы. Г‑жа Комиссаржевская показала уже себя с самой выгодной стороны на сцене Общества искусства и литературы и без сомнения сделается заметной артисткой»[11].
Там же, в летнем Кусковском театре, когда Комиссаржевская разгримировывалась, к ней обратился антрепренер и переводчик Ф. А. Куманин с предложением устроить контракт. «Напрасно побеспокоитесь, — вмешался Киселевский, — потому что ее контракт уже у меня в кармане; она приглашена в Новочеркасск Синельниковым». Острая радость охватила Комиссаржевскую. «У меня как камень с души свалился», — писала она матери.
Два с половиной месяца, проведенные в деревне Буславля Тверской губернии у брата матери Н. Н. Шульгина, были полны тревог за предстоящий сезон и материальных хлопот. Пришлось дать в Вышнем Волочке концерт, на сборы с которого и был куплен билет в вагон третьего класса до Новочеркасска.
2
И вот я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему.
За плечами Комиссаржевской осталось двадцать девять не очень легко и не очень радостно прожитых лет. Ближайшее будущее сулило «роли вторых ingйnue и водевильные с пением». {19} Опека Киселевского была не совсем бескорыстной. Он помогал Комиссаржевской до тех пор, пока их интересы не разошлись, так как он и Синельников знали, что она заменит временно ушедшую актрису того же амплуа — А. Н. Медведеву, сестру Синельникова. Биограф актрисы Н. В. Туркин вспоминал: «Он (Киселевский. — Ю. Р.) хотел, чтобы она осуществляла его идеалы, а он лелеял мечту — воскресить старинный водевиль с пением. Он признавал В. Ф. очень способною, но самые способности ее в его представлении были весьма скромными». Так же полагал и Синельников, говоря: «Она рождена для комедии. У нее в лице есть природная комическая складка». Миниатюрность и подвижность Комиссаржевской готовили ей роли подростков и хрупких барышень.
Сезон в театре открылся 12 сентября 1893 года. Предполагаемое выступление Комиссаржевской в водевиле «Волшебный вальс» А. М. Шмитгофа не состоялось из-за ее болезни. Но начинающая актриса уже соединила себя с жизнью театра: с первого дня его работы она стала ежедневно записывать все идущие спектакли, отмечая юбилеи и бенефисы товарищей по труппе. В Ленинградском театральном музее хранится тетрадь Комиссаржевской с ролями провинциального периода. «Первый выход» — стоит в скобках против спектакля «Честь» Г. Зудермана, состоявшегося 19 сентября 1893 года.
Начались трудовые будни маленькой провинциальной актрисы, у которой не было ни опыта, ни апломба, ни права выбора. За пять месяцев она сыграла в пятидесяти восьми новых пьесах. Шестьдесят ролей в сезоне. Каждые два‑три дня — премьера, часто в течение одного вечера — два спектакля. Днем репетиции, а по ночам — зубрежка ролей. «Даже самую пустую роль в пустом водевиле артистка всегда знает наизусть», — пишут о ней. Как часто она бывала неудачно одета, дурно причесана. Сколько умения требовала сцена: смеяться, плакать, падать в обморок, найти занятие скованным рукам. Всему надо было учиться. Иногда не выдерживали нервы. Спасали талант, воля и сознание обретенного дела. Это стоило многих жертв. «Я там играла в пустячных пьесках, но эти выступления так помогли и так помогают мне теперь. Я набиралась там опыта и старалась преодолеть трудности, которые я испытывала в разучивании ролей, где надо разнообразить характер, тон», — так говорила потом Комиссаржевская.
Исполненные ею роли интересны лишь отношением к ним актрисы. Один за другим мелькают незатейливые, пошленькие {20} водевили: «Если женщина решила, так поставит на своем» И. М. Булацеля, «Вам такие сцены незнакомы?» Н. А. Дрейфуса, «Тайны будуара хорошенькой женщины» П. А. Соколова-Жамсона, «Под душистою веткой сирени» В. Корнелиевой, «Школьная пара» Е. М. Бабецкого, «Бурное утро» М. В. Шиловской и др. Сюжеты большинства пьес сводились к мелким любовным интригам, сватовству, неуклюжим объяснениям подростков. В комедии «Семейные тайны» Баяра и Вандеyбурха Комиссаржевская сыграла парижского мальчишку Жозефа. В этом сезоне ей пришлось выступить дважды в одном водевиле, который шел под разными названиями и в разных переделках, но всегда как премьера. Это «Слава богу — стол накрыт» Кариона Бодрого и «Упрямство и настойчивость» в переделке Г. А. Стойковича. Смысл обеих пьес заключался в том, что шесть персонажей заставляли друг друга повторять фразу: «Слава богу — стол накрыт».
Редкая рецензия пропускает ее имя. Эпитеты «очень бойко», «мило», «приятно», «недурно» — перерастают в целые фразы, абзацы, а затем и статьи, посвященные Комиссаржевской. Через три месяца после дебюта авторитет ее бесспорен. Рецензент вместе со зрителями любуется «в высшей степени прекрасною, как всегда, игрою г‑жи Комиссаржевской в роли Марии Сергеевны»[12]. Речь идет о старом водевиле П. А. Каратыгина «Запутанное дело, или С больной головы на здоровую». Секрет успеха актрисы — в умении найти новое в одинаковых ролях и ситуациях, в понимании партнера и хорошей эмоциональной отзывчивости. Н. Н. Синельников, часто выступавший с ней в водевилях, вспоминал: «Комиссаржевская и я сыграли много таких пьес, где выводились пятнадцатилетние герои. Ухищрение разнообразить, их иссякало. На первой репетиции одной из подобных новинок я увидел в руках Веры Федоровны мяч. “Это зачем?” — спрашиваю я. “А, может быть, пригодится в какой-нибудь мизансцене”. Меня осеняет мысль: “А что если мы этим мячом воспользуемся во время объяснения в любви? Попробуем!” Кое‑что соображаю, прошу машиниста поставить “деланное” дерево, влезаю на него. Вера Федоровна на земле. Каждую фразу с начала робкого ребяческого объяснения я сопровождаю бросанием мяча в руки партнерши… Отвечая нашему настроению, летает мяч. При последних словах сцены я хочу спрыгнуть, повисаю на ветке, Вера Федоровна {21} направляет мяч в мой лоб, и этим эффектом, а в спектакле и громом аплодисментов заканчивается сцена».
Первый сезон — это не только техническая тренировка. Комиссаржевская поздно начала и торопится определить характер своего таланта. В списке прочитанных ею тогда пьес: «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Таланты и поклонники», «Светит, да не греет», «Ромео и Джульетта», «Звезда Севильи», «Дон Карлос», «Гамлет», «Месяц в деревне», «Гедда Габлер».
Пресса отмечает удачно сыгранные драматические роли Полины («Осколки минувшего» И. Н. Ге) и Ольги Акулиной («Идеалисты» Н. С. Дронина). Последняя из этих ролей высоко оценивается рецензентами. Н. Туркин сравнивает Комиссаржевскую с лучшими актерами труппы, считает, что она заслужила право на своеобразие трактовки, пишет об аплодисментах, венчающих каждую сцену с ее участием, и делает пророческий вывод: «Это должен быть бесспорно выдающийся талант. Как знать, быть может, недалеко время, когда новочеркасский театр будет гордиться тем, что его сцена первая приютила чудный цветок театрального мира».
Вступление в свою тему намечается в ролях Верочки («Волшебный вальс» А. М. Шмитгофа), Зои («Расплата» Е. П. Гославского), Любы («Сорванец» В. А. Крылова), Шурочки («Летняя картинка» Т. Л. Щепкиной-Куперник), Лизы («В осадном положении» В. А. Крылова).
В водевиле «Волшебный вальс» племянница старого органиста Боля любит бедного композитора Вересова, который пишет по заказу оперетту. Это вызывает гнев старика. Но по ходу действия обнаруживается, что Боль в юности был автором оперетты «Волшебный вальс». Открытие примиряет всех. Верочке — Комиссаржевской была отведена пассивная роль человека, ожидающего лучшей участи. Юмор, пение — первые средства сценической выразительности, которыми овладела актриса. В роли Любы («Сорванец»), озорной и своенравной девицы, Комиссаржевская отказывалась от черт вульгарности, мальчишества, которыми щедро пользовались другие актрисы, сообщала характеру женственность. А причуды и капризы Любы объясняла желанием отстоять независимость. Из смеха и грусти, из кокетливого лукавства и неожиданных откровений рождался ясный и солнечный характер Шурочки («Летняя картинка»). Это были первые попытки перевести на сценический язык жизнь души.
{22} Кто из начинающих актрис не сталкивался с десятками удивительно похожих одна на другую ролей инженю? Длинная вереница молоденьких наивных девушек смотрела на Комиссаржевскую совершенно одинаковыми глазами, в которых светились непременные живость и симпатичность, потом эти резвушки одинаково бойко хохотали, делали почтительный книксен и стремительно разбегались по паркам своих старинных усадеб. Как многократно повторенные двойники, они способны были вызвать растерянность у актрисы. В такой роли не спрячешься за грим, за характерность, не отвлечешь внимание зрителей модным туалетом. Но Комиссаржевская и не искала ложных путей. Ее мало беспокоило сходство этих героинь. Более того, она усугубляла его тем, что в каждой роли настойчиво повторяла какую-то свою мысль. Словно говорила, что у них у всех общие с ней судьба, тревоги, жажда радостей. Она не унижала их тупостью, охотно развивала черты активности, поощряла желания души и сердца. В формировании добрых начал видела актриса смысл существования подобных героинь. Это давало ролям перспективу и право на жизнь.
Комиссаржевская сообщала каждому образу черты своего характера. Эту особенность замечает критик местной газеты: «Личность артистки дает всегда окраску исполняемой роли. Это несомненно недостаток; но у г‑жи Комиссаржевской это скорее достоинство… В ее игре отражаются характерные черты ее изящной и чуткой натуры, ее тонкого и наблюдательного ума»[13].
Комиссаржевская вскоре стала равноправной актрисой в новочеркасской труппе, одном из лучших театральных коллективов провинциальной России. В 1891 году Н. Н. Синельников основал товарищество на паях. К приходу Комиссаржевской театр гордился присутствием в своей труппе вдохновенного Н. П. Рощина-Инсарова, представительной grande dame С. П. Волгиной, первой инженю Т. Ф. Синельниковой, комика В. О. Степанова. В 1893 году в Новочеркасск из московского театра Корша перешли И. П. Киселевский, А. М. Шмитгоф и Е. Г. Медведева. Большим успехом пользовался Синельников, выступая как актер и режиссер.
Ободренные собственным успехом, чувствуя материальную независимость от антрепренера, актеры старались следовать девизу, {23} начертанному на занавесе сцены: «Я сделал все, что мог; могущие сделать больше, пусть сделают». Но вкусы казачьей столицы нередко разрушали творческие планы труппы. Маленькая постоянная аудитория требовала частой смены репертуара. Спектакли были для нее продолжением увеселений городского сада, где помещалось здание театра.
Иногда театр осуществлял свои художественные намерения. Событием сезона 1893/94 года стали спектакли «Горе от ума» и «Плоды просвещения». Первый оказался удачным, благодаря исполнителям ролей Чацкого, Скалозуба, Лизы. Известный провинциальной и столичной России Киселевский — Скалозуб играл абсолютно уверенного в себе, торжествующе глупого человека. Современники отмечают едкую иронию Рощина-Инсарова — Чацкого. Он был «некрасивый, с глухим голосом, но обаятельный и элегантный, необыкновенно умный и злой, полный сарказма и горечи»[14]. Для Комиссаржевской роль Лизы стала серьезным испытанием. Актриса обошла опасность представить Лизу субреткой, поняв социальную особенность такого типа русской служанки, которая выросла вместе с барышней и потому свободна в обращении с господами. Раскрытие национальных черт и умная находчивость Лизы стали основным в исполнении Комиссаржевской.
«Плоды просвещения» — этапный спектакль для режиссера Синельникова и для театра. Социальная мысль Толстого была передана в остросатирических образах. Режиссер увидел замысел спектакля в конфликтном противопоставлении жизни гостиной и жизни кухни. Модный, наглый Вово — Синельников судорожно прожигает жизнь. Чопорны и величаво неприступны Звездинцева — Волгина, Звездннцев — Киселевский. Надменен, под стать хозяевам лакей Григорий — Рощин-Инсаров. Так же сатирически обрисовала Комиссаржевская знакомую ей роль Бетси. В «Плодах просвещения» она выступила 10 февраля 1894 года. 15 февраля состоялся ее бенефис («В осадном положении» В. А. Крылова). 22 февраля бенефисом Волгиной театр закрыл сезон. Ожидаемого предложения работать в Новочеркасском товариществе на будущий год Комиссаржевская не получила. Причиной была не только вернувшаяся в труппу Медведева, роли которой Комиссаржевская играла. Совокупность многих частных обстоятельств сделала ее дальнейшее пребывание здесь невозможным.
{24} В начале сезона она сблизилась с веселой компанией А. М. Шмитгофа, Н. П. Рощина-Инсарова, В. А. Казанского. Отношения с Рощиным-Инсаровым вскоре вызвали у нее большое душевное напряжение и серьезные раздумья. Общение с Комиссаржевской всегда было ответственным экзаменом для человека. Она умела щедро и счастливо жить для другого, но требовала от человека честности и цельности. Рощин-Инсаров не выдержал этого испытания. С глубоким огорчением писала она о причинах разрыва: «Я до боли ищу всегда, везде, во всем прекрасного, начиная, конечно, с души человеческой, и, найдя это прекрасное, увидя эту искру, я готова не только простить все остальное, но себя, всю себя готова отдать без размышлений, чтобы раздуть эту искру в пламя; но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключающее всякую возможность присутствия этой искры… Это пошлость. И вот она-то и засела в Вас, заела Вас, пустила глубокие, непоколебимые корни».
Частное письмо содержало нравственную программу актрисы. Расхождение с Рощиным-Инсаровым было принципиальным. С другими актерами отношения тоже разладились. Она осталась в одиночестве. Возможно, охлаждению труппы способствовали те похвалы в прессе, которые расточала Комиссаржевской местная критика, сравнивая ее с первыми актерами театра и даже предпочитая им. Киселевский, вначале опекавший Комиссаржевскую, увидев, что она не собирается оставаться водевильной актрисой, потерял интерес к ее судьбе. Показателен был первый бенефис, доставивший Комиссаржевской, несмотря на восторги публики, много огорчений. Актеры, не зная ролей, выстроились вдоль рампы у суфлерской будки. В письме к Туркину 17 мая 1894 года она сообщала: «Что боязнь мнения Синельникова и Ко руководила мною при выборе пьесы на бенефис — Вы не правы. Лишь неуверенность в себе: это раз, а два — они бы при исполнении пьесы мне сделали что-нибудь хуже того, что было сделано, а в хорошей вещи это имеет большое значение».
И вместе с тем вряд ли уместны споры о том, по достоинству ли оценил Синельников начинающую актрису. Их отношения были подчинены контракту, в котором определялся жанр Комиссаржевской. Поощряя ее инициативу, дар творческой импровизации, он не увидел в создательнице комических образов актрису трагических потрясений. Сезон работы не вызвал у них взаимной творческой увлеченности.
{25} Покинув Новочеркасск, Комиссаржевская едет на гастроли по приглашению Тифлисского артистического общества и выступает в комедиях «Денежные тузы», «Сорванец», «Летняя картинка» и др. Самый строгий судья ее таланта Ф. П. Комиссаржевский, живший в Тифлисе, заявил, что его дочь «верна тем принципам искусства, которым он сам служил всю свою жизнь».
Какой счастливый и легкий путь мог быть у этого дарования! В общем итоге она знает только успех, в крайнем случае, легко извиняемую обстоятельствами, временную не то чтобы неудачу, а просто недостаточную удачу. Как-то особенно легко ее имя связывается с именем знаменитого отца. Как-то само собой разумеется, что ее ждет большое будущее. Все трудности и трагические ситуации она искала и находила сама. Ей в высшей степени было свойственно то чувство пути, которое Блок считал признаком таланта. Естественно быть неудовлетворенной, когда дела идут из рук вон плохо, когда не разрешаются даже самые близкие задачи. Но сознание невыполненного долга, когда находишься на гребне успеха, когда единогласно и бесспорно признается, что ты на своем месте сделал все, что мог, — это признак большого пути и великого таланта. С завидной решимостью отказывается она от достигнутого. Ни лавры успеха, ни впору пришедшиеся комические рольки не приносят удовлетворения.
«Вы говорите: “Не увлекайтесь славой артистки”. Господи, да чем тут увлекаться, что она дает? Вот смотрите, я имела большой беспрерывный успех, да, это приятно, но дальше, дальше? Поймите, я никогда не бываю довольна собой, никогда», — пишет она Туркину осенью 1894 года.
Но самое главное найдено. «Да, “мир широк и театр в нем не все…” Слишком долгое время была я во мраке, который душил, давил меня, слишком долго бросалась я всюду, ища забвения и не находила его, так как его можно найти лишь в том, что будет хоть немного говорить душе. И вот я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему», — этими словами заканчивает Комиссаржевская свой первый сезон. Все, чем полна была жизнь до сих пор, обретало смысл. Сомнения возникали, не заслоняя собой цели. Талант рождался в борьбе с обстоятельствами и с самим собой.
{26} 3
Искусству… я принадлежу безвозвратно, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому не изменю никогда ни ради кого и ни ради чего — разве сама в себе получу полное разочарование.
Заработав немного денег тифлисскими гастролями, Комиссаржевская отправилась в Москву на поиски ангажемента. Крайне неуверенная в своих силах, она не хотела идти в агентство и лишь с отчаянием смотрела на то, как заполнялись все интересующие ее труппы, как уходили университетские города. Неожиданно она получила приглашение от коллеги по прошедшему сезону В. А. Казанского, который летом собирался выступать в пригородах Петербурга и звал туда Комиссаржевскую. Она согласилась, опасаясь томительного безделья.
Антрепризу в Озерках и Ораниенбауме летом 1894 года держала молодая актриса-любительница П. А. Струйская. Сезон был удачным, благодаря выступлениям знаменитостей — И. П. Киселевского, А. Я. Глама-Мещерской, Я. С. Тинского. Комиссаржевскую привлек серьезный драматический репертуар. На одном из представлений Общества искусства и литературы, где актриса играла комические роли, ее видел В. В. Стасов, который заметил: «В ней так и брызжет талант… Но это не то, что ей надо. У этой маленькой худенькой актрисы я вижу в глазах выражение великой печали. И эта чуть заметная складка у рта… Драма — вот ее призвание».
Так думала и сама Комиссаржевская. Летом 1894 года, менее чем за три месяца, она сыграла четырнадцать новых драматических ролей. Среди них — Лелия («Любовь и предрассудок» Мельвиля), Валентина Петровна («Степной богатырь» И. А. Салова), Изгоева («В родственных объятиях» В. С. Лихачева), Клерхен («Гибель Содома» Г. Зудермана), царица Анна («Василиса Мелентьева» А. Н. Островского и С. А. Гедеонова), Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера).
Драматические образы Комиссаржевской идут вразрез с традиционным исполнением. Ей не следует браться за эти роли — так считают многие критики. Она не дает привычного внешнего проявления драматизма. Именно поэтому что-то в ее игре волнует, берет за душу. «Успех я имела, — писала актриса, — насколько его можно иметь у петербургской публики, которая, {27} сидя в театре, просыпается только тогда, когда актеры ведут такие сцены, где надо вопить не своим голосом или кататься по полу в конвульсиях».
17 августа 1894 года состоялся прощальный бенефис Комиссаржевской, она сыграла роль Лены в пьесе Э. Вильденбруха «Жаворонок». Плохая погода, всегда отрицательно влиявшая на сборы в летних театрах, на этот раз не помешала торжеству, которое укрепило за Комиссаржевской репутацию искренней, эмоциональной актрисы. Ее выступления — художественное событие в театральной жизни столицы. «Особенно выдвинулась (и вообще была героиней всего летнего сезона) молодая даровитая артистка г‑жа Комиссаржевская — дочь нашего знаменитого тенора, бывшего когда-то украшением нашей оперной сцены. Обладая прекрасною сценическою наружностью, красивым голосом и страстным, сильным темпераментом, г‑жа Комиссаржевская обладает несомненно всеми данными, чтобы сделаться замечательною драматическою актрисой», — писал рецензент журнала «Артист».
Об ее успехе много говорили в театральных кругах. На спектакль «Коварство и любовь» явились В. А. Крылов и Ф. А. Федоров-Юрковский из Александринского театра. Затем последовало высшее официальное признание ее таланта — приглашение на императорскую сцену. Однако молодая актриса предпочла этому заманчивому, но опасному пока будущему предложение виленского антрепренера К. Н. Незлобина.
Виленский театр отличался от Новочеркасского так же, как сам город с культурными традициями и учреждениями был не похож на казачью столицу. В число зрителей входили не только обыватели и местная знать, а большая группа местной интеллигенции. Среди виленцев, впервые увидевших Комиссаржевскую, были В. И. Качалов, И. Н. Певцов, А. Я. Бруштейн. Незлобии, находясь в более выгодном положении, чем Синельников, имел возможность критического и сознательного отбора пьес. В начале сезона 1894/95 года он чередовал драму с опереткой, но через два месяца отказался от развлекательного жанра и твердо стал ориентироваться на драму. Пресса приветствовала интерес виленцев к театральному искусству, поддерживая интеллигентного антрепренера.
Комиссаржевская чувствует себя здесь актрисой, имеющей право выбора. Незлобии, ценя в ней человека одаренного и преданного делу, охотно предоставляет ей драматические роли. Проясняются черты ее индивидуального художественного облика. {28} Оба виленских сезона отмечены сознательностью творчества Комиссаржевской.
Первым обратившим внимание зрителей выступлением стала роль гимназистки Оли Бабиковой в одноактной пьесе В. И. Немировича-Данченко «Елка». Как вспоминает А. Я. Бруштейн, выступление это было тем примечательней, что оно резко контрастировало со смыслом пьесы, поставленной для съезда публики. В маленькую роль актрисе удалось внести трагические нотки.
Гимназистка Оля Бабикова живет в семье, которую покинул отец. Поводов для радости и ребячества у нее немного. У Оли — Комиссаржевской не детски медленные движения, задумчивые паузы. Она разговаривает с отцом без вздохов и слез, держится ровно; лицо с виду спокойное, совсем детское. Отвернувшись от него, она упорно смотрит на портрет второй жены отца.
Актриса передает сложные чувства девочки: любовь к отцу, сострадание к матери, удивление от того, что красивая, добрая женщина стала причиной несчастья семьи. Этого ни понять, ни разрешить для себя Оля не может. Актриса в течение десяти минут держала публику в состоянии самого глубокого напряжения, перенося ее в свой особый мир. Горе девочки стало горем зрителей. Они «страдали ее страданиями, обливались ее слезами».
Роль придала драматически напряженное звучание работам Комиссаржевской этого периода. По словам критики, успех «достигается г‑жой Комиссаржевской без всяких воплей, без всяких стенаний, даже без той “слезы”, на которую так щедры наши любящие действовать на нервы зрителей артистки»[15]. Драматизм ее индивидуален. Он чуждается бурных внешних проявлений. Живет глубоко, насыщенность его воспринимается как неразразившаяся гроза.
Поначалу выступление в спектакле «Блуждающие огни» Л. Н. Антропова (в Озерках и в Вильно) не убедило критиков. Они признавали успех актрисы в первом акте, в «дни беззаботной юности героини». Но показ драматических положений они не считали «достаточно рельефным». Еще петербургские газеты, превознося Комиссаржевскую, полагали, что она не овладела необходимыми приемами драматического исполнения: «В ней по ее молодости не выработались еще искусственные приемы для “приподнятой” сильной драматической игры, у актрисы нет еще надлежащих физических данных, чтобы сообщить изображаемому ею {29} характеру рельефную страстность, колоритный темперамент, резко выделить сильные переходы в игре»[16].
Со временем актриса ничего не изменила в роли, не выработала «искусственных приемов для “приподнятой”… игры», но тон критики изменился. Комиссаржевская, вопреки установившемуся мнению о внешней сценичности образа, заставляет рецензентов писать: «В этой роли не в пример другим в пьесе, нет эффектных мест. В лице Елены изображается обыкновенная “проза жизни”, преданная жена и любящая мать, вся ушедшая в заботы о семье… Но сколько художественности, сколько жизненной правды успела внести г‑жа Комиссаржевская в эту простую жизненную прозу. Ее устами говорила сама жизнь»[17].
Пьеса рассказывала о двух сестрах, вдове и почти девочке, влюбленных в молодого человека Холмина, чем-то похожего на чеховского Иванова. Он колеблется в выборе, наконец женится на младшей. Это никому не приносит счастья. Страдают все трое. Холмин стреляется с бокалом в руке на вечере у старшей сестры, теперь актрисы. Обе женщины без чувств у его ног. Его последнее движение — к жене.
Смысл роли актриса видела в увлечении Елены мечтателем-либералом Холминым и в глубоком сострадании к его несостоявшейся жизни. Приход в виленский театр П. В. Самойлова, сыгравшего Холмина, помог ей увидеть общественный характер переживаний героя. Благодаря Комиссаржевской и Самойлову пьеса вызвала у зрителей тревожное ощущение современной трагедии. Актриса считала роль своей принципиальной удачей. Приглашала на спектакль друзей.
Ломкой установившихся театральных традиций отмечено исполнение ролей Клары («Горнозаводчик» Ж. Онэ) и Жильберты («Фру‑фру» А. Мельяка и Л. Галеви). Оба спектакля идут в качестве бенефисных. В этих ролях Комиссаржевская развивает свою основную тему. Актрису привлекает общность женских судеб во всем мире. В патентованных мелодрамах она видит жизненное содержание. Раскрываемый ею драматизм подлинен. «Г‑жа Комиссаржевская лучше всего доказала, что полное художественное воплощение типа может быть достигнуто и без бурных, чисто стихийных порывов, без драматических воплей, без стонов и рыданий. В роли Клары, где так легко впасть в мелодраматизм, {30} г‑жа Комиссаржевская собственною игрою сумела даже опростить тип, данный автором, и этим опрощением она достигла высшего реализма и правды», — писала местная газета.
Клара — аристократка-бесприданница. Основная коллизия драмы — столкновение фамильной гордости героини и необходимости совершить мезальянс с горнозаводчиком. Внимание актрисы обращено на другое — действительным источником драматизма явилось загубленное чувство Клары. Легкомыслие и самовлюбленность Жильберты становятся для Комиссаржевской приметами жизнелюбивого характера. У актрисы удивительная способность понимать и оправдывать своих героинь. Она умела угадать самые глубокие причины их гибели.
«В роли Фру‑фру, — писал “Виленский вестник”, — где содержание интриги бледно и ничтожно и где есть одна только роль, любимая артистками, комментируемая ими на разные лады, г‑жа Комиссаржевская также осталась верною себе, верною взглядам на задачи сцены и артистки, верною своему природному таланту, верною, главным образом, тому идеалу, что сцена — жизнь, и на сцене прежде всего должна быть естественность и художественная правда».
Страсти воскрешенных ею героинь переведены на язык повседневной жизни, которая не допускает театральных поз, до конца выговоренных страданий. Эта достоверность созданных характеров делает их знакомыми и близкими. «Ничего бьющего на эффекты», «ни одного заученного жеста, ни одной подготовленной нотки», — так говорят о работе актрисы и невольно оказываются во власти того, что происходит на сцене.
Комиссаржевская умеет остаться простой и естественной даже в ситуациях навязчивых и нежизненных. Она с успехом играла мелодраматическую роль Марии («Материнское благословение» Н. А. Некрасова). Наполняла искренним страданием роль Гульельмины («За монастырской стеной» Л. Камолетти), когда в сцене пострижения, отрекшаяся от суеты мирской, она вдруг слышит голос Доната и, забывая все, кидается навстречу любимому человеку. «Цыганка Занда» Гангофера и М. Вросинера была одной из самых репертуарных пьес конца прошлого века. Страсти кипели и выплескивались в виде убийств, самоубийств, «потрясающих» монологов. Пиа (роль Комиссаржевской) — невеста мятежного героя. В самые «роковые» моменты актриса умела дать естественный выход ее страданиям: «В минуту сильного горя, вместо искажения лица и рыданий, она закрывает лицо руками и тихо начинает всхлипывать».
{31} Н. Л. Тираспольская, игравшая на виленской сцене одновременно с Комиссаржевской, вспоминала о репетиции мелодрамы «Две сиротки»: «Комиссаржевская играла слепую Луизу, а я ее сестру Генриетту… Слепая, в тщетных поисках ключа, ползает, ощупывая пол, и натыкается на труп сестры. Дойдя до этого места, Вера Федоровна вдруг начинает хохотать. Режиссер сердится: он не в состоянии понять, как может исполнительница смеяться в такой остро напряженный момент… Наконец Комиссаржевская успокаивается и беспомощно разводит руками: “Ну, не могу… не могу играть мелодраму”». Слишком далека была мелодрама от жизни.
Но жизненная достоверность — лишь необходимая основа ее искусства. Память сердца и культура эмоциональных ощущений становятся главным материалом ее творчества. «Я так много переживаю, — пишет она о своем отношении к роли. — Только теперь я понимаю, что это такое… Я все еще дрожу как осиновый лист, и сама разом вся бледнею, так что мама слышала, как в публике говорили: “Как это она делает, что разом бледнеет?” Я ничего не делаю».
Рядом с Комиссаржевской многое в театре казалось обветшалым, рутинный. А. В. Анчаров-Эльстон, актер инфантильной красоты и эффектных приемов игры, был ее постоянным партнером. Этот кумир чувствительных виленцев не мог быть осужден прессой впрямую, поэтому критик с некоторой неловкостью писал: «Г. Анчаров-Эльстон (Ионель) в общем играл хорошо, изредка впадал в слишком мелодраматический тон. Особенно был заметен контраст в диалогах с г‑жою Комиссаржевской (Пиа), говорившею в отличие от своего партнера спокойным, жизненным языком»[18].
Консерватизм старого театра меньше давал себя знать в комедии. Здесь у Комиссаржевской были талантливые партнеры: Е. А. Алексеева, М. К. Стрельский, Д. Я. Грузинский. Актриса училась, совершенствовала свой опыт. В комедии она нашла себе роль, ставшую главным творческим итогом виленских сезонов.
В январе 1895 года журнал «Артист» опубликовал новую комедию популярного немецкого драматурга Г. Зудермана «Бой бабочек», и театры разных городов, один за другим, выпустили в том же месяце премьеры. Пьеса сценична, немного смешна, немного поучительна и трогательна. Зудерман реалистичен, его {32} образы не одноцветны. Конечно, его правда не была широкой и ютилась в рамках дозволенного. Актриса же легко перешагивала их, и потому зудермановские роли у нее обретали новую жизнь.
Девочка Рози наивна и искренна. Необходимость зарабатывать (она художница, рисует бабочек на веерах) не сделала ее взрослой. Рози по-детски мечтает, оставшись одна и усевшись на спинку стула. Она доверительно наклоняется в сторону зрительного зала и сообщает, что когда вырастет, непременно влюбится во всех мужчин на белом свете. «Или, — тут ей в голову приходит неожиданная мысль, она выпрямляется, озаренная ею, — в одного, единственного, это еще лучше». «А потом умру», — печально склонив голову набок, заканчивает Рози свой монолог. И тут же она готова задохнуться от счастья, когда подумает, что станет большой. Но как ей хочется быть умной-умной! Сколько заманчивых надежд связывает она с этим. Рози вся — в легкой смене настроений.
Накапливая исподволь бытовые элементы, артистка убеждала всех в повседневности происходящего, а потом неожиданно обнаруживала трагизм этой повседневности. Первые удары жизни застают девочку врасплох, она останавливается, словно в столбняке, руки беспомощно опущены, глаза полны ужаса, непонимания. Потом, замирая от страха, она начинает робко жаловаться на то, как сильно бьется и болит сердце. В этом трогательном, искреннем порыве — протест нравственной чистоты против цинизма и пошлости.
Девочка Рози не в состоянии уничтожить бедность, ложь, сделать людей счастливыми. Но в ней привлекает сознательное нежелание усваивать опыт той жизни, которая ей кажется некрасивой. Героини Комиссаржевской не станут искать иных путей, кроме пути сердца и совести, хотя на этой дороге их ждут борьба, разочарование, утраты. Это неминуемо… «Было ясно, что как бы маленькая, пестрая бабочка Рози ни хохотала, полуопьянев от сладкого вина, жизнь за углом подстерегает ее со своим капканом», — писал о спектакле Луначарский.
Старшая сестра Рози Эльза, рассчитывая на выгодный брак, прощается с прежним возлюбленным. Рози должна присутствовать при свидании, чтобы придать ему вполне невинный характер. Ее потихоньку спаивают, но она догадывается, что здесь предают человека, которого она втайне боготворит. И судорожное веселье в сцене опьянения, когда она, развалясь на стуле, теребя локоны, кокетничает с другом сестры, и вернувшаяся к ней депрессия — все сливается в один стремительный полет, вперед, в огонь жизни. Приходя в себя после тяжелого забытья, Рози затравленно оглядывается. {33} Бант в растрепанных волосах, делающий ее похожей: на бабочку, кажется нелепым издевательством над горем девочки. У нее лицо взрослого, потрясенного бедой человека.
Комиссаржевская намеренно подчеркивала слабость, угнетенность Рози, акцентировала внимание зрителя на ее страданиях. Актрису будут упрекать за излишний драматизм, за отсутствие «хорошего смеха умиления», потому что она видела больше драматурга, умела определить самую далекую перспективу роли. Судьба юности, которой чужд обывательский расчет, поистине драматична.
Все силы души и таланта актрисы направлены на то, чтобы заронить тревогу в душу зрителя, не оставить его успокоенным и довольным. Так раскрывалась человечность ее искусства.
Для любого актера выступление в классических ролях — дело профессиональной чести и предмет затаенного желания. Мечтала о них и Комиссаржевская. И не только мечтала. Незлобии шел ей навстречу, одновременно удовлетворяя и собственное актерское самолюбие. (Несмотря на антигероическую внешность, этот толстяк с сонливым выражением лица играл Уриеля Акосту, Паратова, мечтал о Гамлете.) Классический репертуар Комиссаржевской в Вильне был достаточно широк.
Ее Софья («Горе от ума»), полная гневного возмущения Чацким, была по духу родной дочерью Фамусова. Н. Л. Тираспольская вспоминает, что Комиссаржевская считала Софью по-прежнему влюбленной в Чацкого, но не способной прощать нанесенные обиды. «Вера Федоровна так вела решающие сцены с Молчалиным и Чацким, что невольно рождалась мысль: а не является ли источником мнимой любви к покорному Молчалину и недоброжелательства к Чацкому все то же семейное самодурство и стремление Фамусовых к безграничному властвованию?»
«Правда — хорошо, а счастье лучше», «Бедность не порок», «Дикарка», «Таланты и поклонники», «Бесприданница» — вводят ее в театр Островского. Тогда же выявляется сложное отношение актрисы к этому драматургу. Не считая его современным, она холодно воспринимала пьесы раннего периода, снизила образ Негиной, ни разу (ни в 1895, ни в 1904 годах) не показав ее героиней. Зато «Дикарка» и «Бесприданница», впервые сыгранные в Вильне, стали ролями ее репертуара. Правда, вначале удачи исполнения имели внешний характер, и лишь впоследствии, когда актриса постигла общественный смысл образов, они стали ее высшим художественным достижением. Пока ее привлекала эмоциональная сторона характеров. Близок был к Комиссаржевской в этом {34} репертуаре П. В. Самойлов, игравший Платона Зыбкина, Мелузова. Его глаза были полны неизменной душевной тревоги. Он, как и Комиссаржевская, обращался к сердцу публики, ища сочувствия и отклика. Несомненна общая душевная природа этих талантов, но с годами родство перешло в знакомство, а потом и в отчуждение. Самойлов не знал страстных поисков идеала, без которых не было Комиссаржевской. Он нещадно эксплуатировал свою легко возбудимую психику, пытаясь в неврастении найти необходимые сильные ощущения. Комиссаржевская с годами научилась в совершенстве владеть нервами. Она не могла принять истерию на сцене, считая непременным долгом художника разумность и осознанность стремлений.
Если не раскрытое пока будущее «Бесприданницы» и «Дикарки» смутно угадывалось, то никаких надежд не вызывало выступление любимой актрисы в героических ролях классического репертуара. Ее сердечность, страстность, глубокое уныние казались сделанными не из того материала, какого требовали роли Луизы («Коварство и любовь»), Юдифи («Уриель Акоста»). Несмотря на доброжелательную оценку прессы, Комиссаржевскую в этих ролях вскоре заменили. Она не соответствовала привычным представлениям. И в этом несоответствии — признак глубочайшей современности актрисы, для которой жизненность была важнее театральности.
Вина заключена не в самих пьесах, а в сложившейся традиции их исполнения. К концу 1880‑х – началу 1890‑х годов многие деятели искусства сходятся в мнении, что репертуар классических и романтических трагедий не созвучен эпохе и выглядит «пустой, внешней, декоративной забавой»[19]. Из‑за этого репертуара театр «ушел в условную картинность и мелодраматическую красочность», актерское исполнение не развивалось дальше «условного благородства Гюго»[20]. Историк Малого театра Н. Г. Зограф считает, что «с тем большей остротой обнаруживались отмечаемые и ранее отрицательные стороны актерского метода, связанного с этой драматургией». Эстетика, утверждаемая Малым театром и Ермоловой, с потрясениями и проповедью, слившимися в органическом единстве, чужда Комиссаржевской, которая стала зеркалом мучительных противоречий современности. В ее неровной эмоциональной игре, лишенной привычной гармонии, в ее неожиданных порывах, {35} сменяющихся полным упадком сил, утрачивались красота и смысл цельных классических образов. Страдания героинь Ермоловой имели очищающий характер, были величественны. Комиссаржевская говорила о нелепости, бессмысленности той боли, какая выпала на долю ее героинь. В этой игре не было утешения. Она оставляла зрителя смятенным, подавленным. Романтический репертуар, неразрывно связанный с традиционным исполнением, выявляет несостоятельность прежнего метода и полную непричастность Комиссаржевской к нему. Играть по-старому не может, воплотить по-новому эти роли не умеет.
Комиссаржевская в Вильне еще не та, чье имя станет гордостью театра. Ее представление об искусстве выражено в общих формулах преданности ему. Она мало задумывается о его развитии, противоречиях. Мышление не углубленное, сконцентрировано в основном на себе: есть успех или нет и есть ли удовлетворенность от этого. И так от бенефиса к бенефису. «Наиболее интересным из всего, что мне предлагают, мне представляется суворинский театр», «не желать поступить на императорскую сцену было бы дико», — пишет она в 1895 году. Это мысли обыкновенной актрисы, для которой несомненен авторитет любого столичного театра. В ее настроениях часто сквозит удовольствие от успехов: «Во всех пьесах, представляющих интерес, я занята», «Мой бенефис прошел блистательно», «Я страшно счастлива». В будущем, когда Комиссаржевская станет великой актрисой, узнает большие победы, она ни разу не повторит слов «я счастлива». Что-то большее, чем собственное счастье, станет смыслом: ее жизни. Нужно было до конца отдаться стихии театра, открыть мир общественных страстей, чтобы выработать самостоятельную точку зрения на себя и на искусство.
Но в минуты критические она неизменно оказывалась бойцом стойким и последовательным. «Получила я от публики серебряный лавровый венок с надписью “Таланту от ее поклонников”», — сообщает Комиссаржевская в одном из писем. Ассоциация эта возникла у публики не случайно. Не раз, играя Негину, актриса задумывалась о себе. Быт был тяжелым. «При всем умении жить экономно, на 130 р., занимая два амплуа, троим (мать и сестра Ольга) прожить нельзя, невозможно. Надо мною нависла пудовая гиря и исчезает только в те минуты, пока я играю: даже когда роль изучаешь, нельзя от нее отвязаться, потому что слышишь в соседней комнате: “Прачка пришла” или “У нас сахар кончился”, а денег на все это нет и где их взять, не знаешь», — пишет Комиссаржевская своему новочеркасскому знакомому.
{36} Серьезные драматические роли требовали не только дорогих туалетов, а ясной головы, душевной сосредоточенности. Но и в эти трудные дни она, не задумываясь, отказывается стать женой С. С. Татищева, бывшего дипломата, историка, переводчика. Он любил искусство, ценил в ней актрису, помог поступить на Александринскую сцену. Великатов предложил Негиной содержание, Татищев — Комиссаржевской руку и сердце. Ради любви к театру Негина идет на компромисс. Ни в театре, ни в жизни Комиссаржевская не знает компромиссов: «Искусству… я принадлежу безвозвратно, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому не изменю никогда ни ради кого и ни ради чего — разве сама в себе получу полное разочарование». Этим словам, написанным в 1895 году, она осталась верна. Сделка с совестью казалась ей преступлением против дела. Негина так и не стала ее героиней.
Не случайно Комиссаржевская участвует в благотворительных вечерах и концертах. Она всегда органично воспринимает себя частичкой общества, сострадает его бедам, ищет путей к спасению от них.
Жизнь города Вильно внешне текла ровно и спокойно. Событием становилось появление водопровода, новые тротуары, постройка здания театра. Но жизнь человеческая находилась в страшной дисгармонии даже с этими робкими приметами прогресса. Опасливо запирали ставни своих домов осторожные мещане. Беспокойно оглядываясь, пробирался по вечерним улицам поздний прохожий. Отдел происшествий в местной газете занимал несколько столбцов и был переполнен заметками о пьянстве, диких безобразиях мещан, купцов, мастеровых. Тяжелый быт, отсутствие духовного начала в жизни. «Какая скудная жизнь, — пишет О. Мандельштам о Вильне конца прошлого столетия, — какие бедные письма, какие не смешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагерротипную карточку дяди Миши… Он не просто сошел с ума, а “сгорел”, так гласил язык поколенья»[21]. Чтобы не быть причастным к этой постылой жизни, надо было либо оставить ее, либо уметь протестовать.
{37} В Александринском театре
1
Быть чайкой мне радость.
Кончался последний сезон в Вильне. Комиссаржевская учила роли, играла, выходила на вызовы с глазами, полными счастливых слез; кланялась, благодарила, прощалась. Тем временем из Вильны в Петербург и обратно летели срочные телеграммы и письма. Несколько раз в промежутки между спектаклями Комиссаржевская выезжала в столицу. Она хлопотала с помощью С. С. Татищева о поступлении на Александринскую сцену. Талант рос, искал новые возможности, нуждался в большой аудитории. Но сколько препятствий стояло на пути! Препятствий досадных, мелочных. Неприятно было выступать просительницей. Хотелось сохранить достоинство уже известной актрисы, поэтому обидной казалась форма дебюта, когда она, подобно ученице, должна была держать экзамен. А выбор роли для дебюта? Татищев предлагал выступить в одной из пьес В. А. Крылова, управляющего труппой Александринского театра. Но ей не хотелось заискивать. Перебирая в памяти игранное, Комиссаржевская остановилась на роли Рози. И здесь предстояли трудности. Кто из актеров согласится разучивать роль в незнакомой пьесе на один вечер? Даже бывший ее учитель В. Н. Давыдов отказался от роли старика Винкельмана, ссылаясь на невысокие художественные достоинства пьесы.
В феврале 1896 года Комиссаржевская с матерью и сестрой Ольгой переехала в Петербург. Когда-то родной город казался чужим и официальным по сравнению с домашней, обжитой Вильной. Со страхом в сердце, с дурными предчувствиями переступила Комиссаржевская порог россиевского здания. 4 апреля 1896 года она сыграла роль Рози в спектакле «Бой бабочек» Г. Зудермана. «Дебют прошел блистательно», — писала актриса своей знакомой. Были шумные овации, многочисленные вызовы, корзины с {38} цветами и обширная пресса, в оценке своей, правда, далеко не единодушная.
Критики менее проницательные легко и охотно хвалили новое дарование, поздравляли Александринский театр с приобретением. В этом дебюте они видели рядовую удачу, без которой почти не проходило сезона в Петербурге. Комиссаржевской даже прочили победу над М. А. Потоцкой, три года назад пришедшей в театр на амплуа инженю и молодых героинь.
Критики более проницательные почувствовали, что эти актрисы не могут заменить одна другую, угадали иную творческую природу вновь пришедшей. Угадали, но не приветствовали ее. А. Р. Кугель задал вопрос: «Кто был бы лучшею Рози, она (Комиссаржевская. — Ю. Р.) или г‑жа Потоцкая, которую нельзя считать ни слишком опытной и ни чрезмерно тонкой актрисой?» И, не задумываясь, ответил: Потоцкая.
Для того чтобы не только понять, но и принять Комиссаржевскую, нужна была чеховская жажда перемен в русском театре. Кугель — сторонник старой школы театрального искусства, отсюда его настороженность к новому, отсюда — неприятие в будущем Московского Художественного театра. Комиссаржевская раздражала сознательным нежеланием повторять достижения прошлого. Куда понятней была художественная логика Потоцкой, освященная традициями знаменитого театра. Не случайно три года назад, обратив внимание на Потоцкую, Чехов тревожился о ее будущем: «В режиме нашей Александринской сцены есть что-то разрушительное для молодости, красоты и таланта, и мы всегда боимся за начинающих». Потоцкая скоро стала заурядной актрисой. Она способна была добросовестно повторить знакомое и оказывалась несостоятельной в новых ролях, провалив Нору, поставленную в ее бенефис.
Газета «Новое время» разделяла позицию Кугеля, считая, что Комиссаржевская хорошая, опытная актриса, с отчетливой дикцией, с приятным тембром голоса, с привычкой к простоте и естественности, но явно предпочитала ей примадонну суворинского театра М. П. Домашеву. Не было у Комиссаржевской премьерного блеска, задорной обольстительности. Зато было что-то пугающе новое, тревожное, взывающее к совести и сердцу. Словно актриса сама считала себя ответственной за происходящее и всех привлекала к ответу.
Итак, критики более проницательные, увидя новый талант, не встали на его сторону так же сознательно, как сама Комиссаржевская не могла принять их сторону и следовать за Потоцкой и {39} Домашевой. Она была далека от них и не стремилась сократить это расстояние. Со временем оно только увеличивалось.
Сохранилась фотография группы актеров-александринцев у здания Красносельского театра. В центре уютно сидят В. В. Стрельская и К. А. Варламов. Привычно-скучающе заняли свои места Н. С. Васильева, Н. Ф. Сазонов, Р. Б. Аполлонский. Свободно, с ироничным выражением лица стоит М. Г. Савина. И рядом со всеми, но далекая от них, настороженная, неспокойная Комиссаржевская. Руки нервно переплетены, глаза устремлены на что-то одной ей видимое. Не своя. Так чужой и вошла она в жизнь Александринской труппы.
Театр работал как хорошо налаженная машина. Любое нарушение правил грозило аварией, а потому немедленно устранялось. На страже порядка стояла цензура, пресса, администрация. Присяжная публика свято хранила традиции, дорожа зрелищем, которое не беспокоило и мирило с жизнью.
Для Комиссаржевской этот театр был чужд и странен. Приживется ли здесь тайная смута ее чувств? Как соединить холодноватый, спокойный свет его искусства с неровным пламенем, то разгорающимся, то гаснущим? Как приучить зрителя к тому, что реакция актера не обязательно должна быть прямой и непосредственной? Кто знает, сколько времени понадобилось бы для выяснения этих вопросов, если бы не благосклонная случайность.
Новый главный режиссер театра Е. П. Карпов пришел на казенную сцену одновременно с Комиссаржевской. Творческое знакомство актрисы с режиссером произошло на спектаклях «Бесприданница» и «Чайка».
17 сентября, суеверно приурочив важный для нее спектакль ко дню своих именин, Комиссаржевская выступила в роли Ларисы, а ровно через месяц, 17 октября, произнесла знаменитое: «Я — чайка… Нет, не то… я актриса», соединив навсегда свое имя с образом Нины Заречной.
«Бесприданница» и «Чайка» — точки соприкосновения двух великих драматургов, двух эпох. Легко прослеживается сюжетное сходство этих пьес: одна героиня живет на берегу озера, другая — на берегу Волги, обе ассоциируются с вольной птицей (Лариса — по-гречески чайка, а у Островского, как известно, имена «говорящие»), обеих жизнь ломает жестоко, беспощадно. Но родство пьес глубже. Творческий принцип Островского, испытывая ряд перемен, предвосхищает драматургию Чехова.
В «Бесприданнице» нет резкого разграничения на пороки и добродетели. Только сила жизненных условий превращает {40} действующих лиц в палачей Ларисы. Лариса — обыкновенная. Ни таланта, ни тяги к героическому поступку у нее нет. Мечты ее будничны и просты. В них — естественное право молодой женщины жить в согласии с чувством. Это право попрано матерью, сбывающей ее с рук, женихом, который лишь тешит свое самолюбие, циником Паратовым и прочими, кто в орлянку ее разыгрывает.
… На сцену выходит красивая женщина с тихими движениями и грустными глазами. Скорбно приподнятые брови (таков был грим всех четырех актов) передают глубокую, устойчивую печаль. Неосуществимы самые близкие, самые доступные радости. Она молит Карандышева уехать в деревню — и в ответ на его отказ покорно опускает голову. Подчеркнуто беспомощны слабые движения рук, утомленные взоры. Ни цыганских, ни бунтарских черт в ней нет. Пожалуй, она выглядит интеллигентней, чем у автора. Неприметно и очень обыденно Лариса приняла полную меру женского и человеческого унижения. И тогда раздался отчаянный крик ее о пощаде. Он прозвучал в романсе, который для актрисы не был вставным номером. Пение утверждало самостоятельный взгляд на роль, служило характеристикой творческих возможностей Комиссаржевской.
В «Бесприданнице» актриса видела не бытовую драму, не сентиментальную мелодраму и не классическую трагедию. Это была лирическая исповедь. Подлинный жанр актрисы угадывался где-то за пределами текста. Драматическая ситуация, реплики, монологи были лишь вступлением в главную тему. В какую? Определить ее в точных словесных выражениях ни сама актриса, ни современники не умели. Поражала самое уязвимое место души, возрождала давно утраченные и почти позабытые за невостребованием чувства. Онемевшие от долгой спячки эти чувства-мысли медленно оживали. «Он говорил мне, будь ты моею», — строго выводил низкий женский голос, и сердце разбуженного зрителя рвалось на части от сострадания, от причастности к неутолимому горю. Происходило самое великое — каждый чувствовал себя немного поэтом, немного художником, способным «страданье облегчить единою слезой». Появлялись те сверхобычные, сверхразумные силы, на которые в быту и повседневности никто не рассчитывал, покорно мирясь с усыханием души и совести. «И буду жить я, страстью сгорая». Какое дело непосильное избрала себе эта необычная актриса! Каждому хотела внушить, что и он художник. С каждым хотела делить ответственность и радость своего призвания. «Но не любил он, нет, не любил он», — приговор безутешен, трагичен, как трагичен и безутешен конец драмы.
{41} … Лариса останавливалась, пораженная немыслимой бедой. Руки поддерживали запрокинутую голову. Мучительная гримаса искажала ее лицо. Словно надломившись от бремени, застывала она в напряженной позе. Судорожно искала выхода любого, разом. Умирая, благодарила своего убийцу. И романс не допет, и жизнь не начиналась, а конец наступил.
Художник находит силы там, где обычный человек видит исчерпанность жизни. Для лирического художника ощущение кризиса, трагизма — необходимая основа творчества. Здесь он уместен, ибо создает те духовные ценности, которые спасают гибнущих. И Лариса Комиссаржевской спасала, так как в ней видели женщину, «мятущуюся по правде жизни».
Нельзя сказать, что Комиссаржевская пренебрегла сценическими традициями образа Ларисы — их, по существу, не было. Первое исполнение Г. Н. Федотовой (1878) было мелодраматичным. Лариса Савиной, сыгранная в том же году, недолго жила на сцене. «Трагедия бесприданницы — жертвы бессердечного чистогана оказалась в конце семидесятых годов одинаково вытесненной из репертуара обеих актрис (Савиной и Федотовой. — Ю. Р.) занимательным рассказом о Майорше — жертве своего собственного необузданного нрава и темперамента. В этом было некое знамение времени», — так объясняет неудачу первых исполнительниц Ларисы исследователь творчества Савиной И. И. Шнейдерман[22]. Не удержалась эта героиня и в репертуаре Ермоловой, несмотря на восторженные отзывы современников. Ермолова видела в роли своеобразное развитие характера Катерины — «луча света в темном царстве».
Комиссаржевская показала духовную трагедию современной интеллигентной женщины. Значительность ее реакции на происходящее, казалось, превышала меру свершившихся несправедливостей. Повышенная температура чувств и крайняя степень их выражения переводили героиню Островского в более высокий романтический план. Этот стихийный романтизм не фиксировался зрителем как устойчивый стиль исполнения. Он возникал неожиданно, придавая бытовой достоверности игры обобщающий символический смысл. Комиссаржевская положила начало сценической традиции образа Ларисы. Почти все последующие исполнительницы искали повторения этого рисунка ею найденных деталей, неизменно исполняя романс Гуэрчиэлли «Он говорил мне», введенный {42} Комиссаржевской вместо предложенного А. Н. Островским «Не искушай».
8 октября 1896 года, за девять дней до премьеры, актеры Александринского театра впервые услышали текст «Чайки». Распределение ролей было осложнено тем, что Савина, которую Чехов хотел видеть в роли Нины, отказалась от участия в спектакле. И только 12 октября газеты сообщили о приходе на третью репетицию Комиссаржевской. Ей передали роль Нины Заречной.
Первая постановка чеховской «Чайки» вошла в историю театра скандальным провалом, нелепицей всего вокруг нее происшедшего. История эта стала предметом многих, не всегда согласных между собою толкований, которые оправдывали то автора, то публику и театр. Но самые разные мнения сходились в том, что скандал был и что пьеса необычна и талантлива.
Для Чехова «Чайка» была первой в ряду собственно чеховских драм, явившись программным произведением. Все, что думалось о человеке, о литературе, о театре — здесь вылилось и выразилось.
Монолог Треплева о современном театре и его пьеса — вот где основы авторского отношения к искусству. К чему же идет Чехов, отказываясь от «маленькой, удобопонятной, полезной морали»? К прозрению главной трагедии современности. Ведь образ мировой души, роль которой играет Нина Заречная, заключает мысль о том, что душа оставила человека, о бездуховности общества. Вот отчего: «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно». Душа эта, будучи отторгнутой от своих владельцев, одинока и несчастна. Ее упорная и жестокая борьба с дьяволом, отцом вечной материи, то есть символом материальности существования, неравна. И лишь через длинный ряд тысячелетий «материя и дух сольются в гармонии прекрасной». А до тех пор: «Мой голос… никто не слышит»[23].
Действующие лица «Чайки» — это те, кого покинула душа. Для иных это крайне удобно. Неведение о своей потере дает им возможность преуспевать и благоденствовать. Залогом тому — отсутствие столь мучительного и тревожного органа как душа. Аркадина испытывает иллюзии счастья, любуется всяким своим движением, потому что ее духовный потенциал равен нулю.
Среди героев драмы преобладают те, которые подозревают о своей утрате. И маются этим, и томятся, и страдают. Они пытаются сыскать близкие и доступные причины своей ущербности. {43} Сорин жалуется на свою внешность, на скучно прожитую жизнь, на болезнь. Дорн жестоко парирует эти жалобы и бывает вроде бы прав в каждом своем ответе. Но сам-то он говорит: «Я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту». Маша ищет объяснения своему недугу в несчастной любви. И Маша, и Дорн, и Сорин тщатся заполнить пустоту великой утраты.
Бездуховность, омертвелость бытия — тема многих рассказов Чехова. В «Чайке» появились герои, которые почувствовали не только болезнь, но и поняли ее причину. Это Треплев и Нина Заречная. Чехов одарил Треплева своими мыслями: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах». Пьеса Треплева это мечта о совершенном гармоничном человеке, об обретенной духовности. Идеал этот, как всякий идеал, недосягаем. Сознание его недостижимости трагично. Вот отчего Треплев сам уходит из жизни. Ему наследует Нина Заречная, потому что она поняла, в чем ее крест и в чем ее вера. Проблемы «Чайки» так высоки и отвлеченны, сама мысль об утрате и недоступности человеческого идеала так мало поддается материализации в ее сценическом выражении, так редко находит себе союзников, что неуспех пьесы был предрешен тогда, когда возникла мысль о ней.
Актеры Александринского театра, услышавшие впервые «Чайку», о ее высоком значении не догадывались. Даже А. С. Суворин и И. Н. Потапенко, безоговорочно принявшие пьесу, прошли мимо ее внутреннего смысла. Режиссер Е. П. Карпов совсем не понял драму, заботясь лишь о том, чтобы в недельный срок были и роли выучены, и мизансцены не перепутаны. Но неверно было бы усмотреть в этом нарушение привычных норм Александринского театра. Так было заведено: и немногочисленные репетиции, и суфлер, и поспешный выбор актера. Более того, распределение ролей говорило об уважении к автору и об искреннем стремлении театра отличиться на премьере: Сорин — В. Н. Давыдов, Дорн — М. И. Писарев, Тригорин — Н. Ф. Сазонов, Аркадина — А. М. Дюжикова, Треплев — Р. Б. Аполлонский, Маша — М. М. Читау, Шамраев — К. А. Варламов. За дело взялись лучшие силы театра. На репетициях привычно бормотали по тетрадкам роли. Снисходили к неопытности автора. Не отваживались выразить свое мнение о пьесе, но втайне рассчитывали на собственное актерское {44} везенье. Не знали, сколько подвоху таится в этой колдовской «Чайке», как разоблачит и обезоружит их она.
Что же происходило 17 октября 1896 года в Александринском театре? Все неприятности, связанные с тем, что пьеса шла в бенефис комической актрисы Е. И. Левкеевой, — досадная случайность. Это идет мимо «Чайки», никак ее не характеризуя.
Актеры и режиссер оказались в положении соратников Чехова, не будучи таковыми на самом деле. Вот почему при назревающем скандале они как бы самоустранились из спектакля, формально проговорив свои роли. Привычка к «удобопонятной морали» стала существом их работы. Они могли быть лучше или хуже, но в пределах этой привычки. Каждый из них ориентировался именно на эту «удобопонятную мораль». Ее же извлекали из Шекспира, Островского, игнорируя идеи вечные и отвлеченные. Вернее, не слыша их, не подозревая об их существовании.
Неуспех «Чайки» предопределен, неизбежен. Если бы ее поняли актеры и приветствовали зрители с критикой — это означало бы такой накал духовности, который сделал бы тревоги писателя напрасными.
Комиссаржевская не понимала исторического значения происходящего. Слишком погружена была она в роль, слишком потрясена реакцией зрителей, но и она почувствовала в пьесе что-то, кроме элегических ноток и пассивной тоски. Ей ли, актрисе, чье искусство выросло на почве личной эмоциональной биографии, не знать силы и значения таланта? Тема таланта стала главной с первого появления Нины — Комиссаржевской, когда хорошенькая белокурая девушка с волнением выбегала на сцену: «Я не опоздала?» Влюбленный Треплев, интересное общество — все имело значение лишь потому, что становилось свидетелем ее дебюта.
Судьба Нины — женщины, человека, художника — трагична. Комиссаржевская передавала неизбежность и закономерность этого трагизма. Актриса и ее героиня, чьи биографии пугающе совпадали, поднимались со дна отчаяния по шатким ступенькам славы. Что ждало их впереди? Когда много теряешь — меньше страшишься и спокойнее веришь. Несчастная, одинокая Нина твердо произносит: «Когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Комиссаржевской казалось, что эти слова принадлежат ей.
После репетиций Чехов писал: «Комиссаржевская играет изумительно», впоследствии вспоминал: «Никто так верно, так правдиво, {45} так глубоко не понимал меня, как Вера Федоровна… Чудесная актриса».
Но автор нашел, что монолог первого действия надо читать проще, ибо Нина не актриса, а деревенская барышня. Комиссаржевская, сознательно пренебрегая бытовой деталью, оказалась единственным и верным союзником Чехова. Ни до, ни после не было актрисы, которая бы словно специально родилась для этой роли и роль для которой стала бы высшим смыслом ее деятельности. У Чехова и Комиссаржевской были едины внутренние законы творчества: пока знаешь, что не дойти до мечты, а ей не сбыться, — ты художник. Она боялась всякого свершения, приближения к цели. Достигая ее, впадала в панику и тут же разрушала такой ценой созданное. И вновь — в неизвестное. И жить не могла без дальней неосуществимой перспективы. И Нину сыграла не только потому, что судьбы совпадали, а потому, что поняла знаменитый монолог первого акта. С памятью об этом монологе она вступала в каждую новую роль. Казалось, она так и не сняла этих странных белых одежд, не изменила возвышенно-тревожного выражения глаз. Она не вышла из роли единой мировой души, покинувшей людей, томящейся по ним, верящей в счастливое соединение.
Потрясенная провалом актриса и смертельно раненный писатель были бойцами жестокого сражения, в котором нельзя победить и можно лишь героически жертвовать.
2
Сострадание непременно двигает вперед, потому что оно должно быть прозорливо.
Кугель упрекал актрису в пристрастии к «немецким наивностям в коротких платьях». Действительно, следом за Рози идет Клерхен («Гибель Содома» Г. Зудермана), а потом Анхен («Юность» М. Гальбе). Но меньше всего актрису увлекала национальная характеристика ролей. И если говорить о пристрастии, то оно выразилось в глубоком интересе и симпатии к юности. Актриса отстаивает право молодых на чистоту, наивность, доверчивость. Клерхен так же, как и Рози, знает нужду и духовное сиротство. Но это иной характер. У нее нет радостного оживления Рози, она двигается медленно, неслышно, останавливается потупясь, {46} смотрит с тихой застенчивостью, неловко отдергивает руку, когда с ней хотят поздороваться. Ее преобладающее настроение — гармония затаенной грусти. В центре душевного мира — сводный брат, художник Вилли, баловень судьбы и женщин. Случайно заглядевшись на выросшую сестренку, он начинает ухаживать за ней. С недоумением поворачивает Клерхен — Комиссаржевская к нему голову и смотрит неверящими, широко открытыми глазами. Пауза, застенчивая улыбка недоверия. И решительный жест: Клерхен высоко поднимает руку, показывая, какой Вилли большой, а затем низко нагибается, отмеривает крохотное расстояние от пола: «А я — вот». Трагедия в несовместимости этой нежнейшей лирики с действительностью. Беда сторожит за углом. Клерхен в страхе отступает, с печальной покорностью ждет несчастья как чего-то неизбежного.
Ту же мысль с характерной для нее настойчивостью повторила актриса в роли Анхен. Она тоже сирота, но нрав у нее веселый. В легкой накидке с кокетливым шарфиком входит Анхен с улицы, внося безмятежную ясность летнего утра. Весь ее быт — в мелких хозяйственных заботах, они привычны и не мешают ей оставаться радостной. Характерные жесты Анхен — заботливо-предупреждающий наклон корпуса, утвердительный кивок головы, постоянно занятые делом руки. И снова беда в образе несчастной любви. Любовь или тоска о ней были главным и почти единственным содержанием жизни женщины. Тропинка эта была узкой и коварной. Она не обещала хорошего конца. В жизни следовало искать другую, более надежную дорогу. Где пролегал этот путь — актриса не знала, но искала его мучительно и напряженно. Пока для нее оставалась несомненной гибельность того способа существования, который был уготован ее героиням.
Тема пьесы М. Гальбе — дурная наследственность. Анхен — незаконнорожденная, значит, по автору, она наследует неблаговидное поведение матери. Этим он объясняет трагический роман Анхен и ее гибель от руки умалишенного брата. Но актриса оставляла эту тему в стороне. Ей нужно было показать, что жизнь, полная радости, очарования, любви к людям, оборвана, растоптана. Контраст между первым и последним действиями раскрывал смысл образа. Страсть опалила, сделала неузнаваемыми мягкие, полудетские черты. Лицо заострилось. Глаза потухли. В непривычной для нее праздной позе сидела она на стуле. Совсем недавно такие быстрые и ловкие, руки ее то судорожно хватались за голову, то безжизненно опускались. Став на колени, она невидящими глазами и всем своим искаженным, постаревшим лицом {47} молила о прощении. Застыв в безутешной немоте, она ужасалась нахлынувшим мучительным воспоминаниям.
Не желая видеть настойчиво проводимую актрисой тему, Кугель писал: «Драматическая часть ее роли была проникнута слишком большой сознательностью для такой неопытной зеленой юности». Замеченное критиком несоответствие справедливо. Несправедлив упрек, ибо он пренебрегает главной темой актрисы. Излишек драматизма нужен Комиссаржевской для того, чтобы оторваться от сентиментальных пустот этой драматургии. И для того, чтобы рассказать о главном — о страдании, мириться с которым безнравственно. Глубокое сочувствие вызывала она в зрительном зале.
Александринский театр относился к новой актрисе лояльно, но отчужденно. Привычное добротное искусство не вмещало отчаяние, мольбу и страсть Комиссаржевской, не могло примириться с подобным диссонансом. Сколько милых невинностей переиграла на своем веку Савина! И была обаятельна, сценична, строго следовала правде характера, логике его развития. Но Савина не очень доверяла чистоте и наивности своих героинь, давая почувствовать трезвое и расчетливое будущее этих особ. Она лишала их ореола страдания, раскрывая правду жизни в ее уродливой сущности. Комиссаржевская, видя в них многократное повторение собственной судьбы, сострадала им с нетеатральной силой. Роли становились значительны и достойны трагедии.
Тему спасения гибнущей молодости, борьбы за ее право на счастье и честность актриса продолжала в роли Наташи Бобровой («Волшебная сказка» И. Н. Потапенко). Пьесу предполагали поставить осенью 1897 года в бенефис В. В. Стрельской, но тяжелая многомесячная болезнь Комиссаржевской отодвинула спектакль на год. Премьера состоялась 26 октября 1898 года. А последний раз роль сыграна весной 1909 года. И редки были гастроли без нее. Трудно объяснить такую привязанность достоинствами пьесы. Актрису ждала нелегкая борьба с драматургом. Она освободила роль от мелодраматизма, отказалась от модной нервозности, сыграла театрально эффектные сцены в правдивой тональности.
Наташа вчера окончила институт, откуда мир ей казался «волшебной сказкой», и пришла в свой дом, полный нужды и ежедневных забот о куске хлеба. Спектакль превращался в рассказ о разрыве мечты и действительности, о горьком опыте познания жизни. Напуганная и оскорбленная бедностью, Наташа беспомощно молчит. Случайно встретив блестящего графа, брата своей {48} институтской подруги, она уходит с ним из дома, не задумываясь. Дом графа, изысканный и роскошный, кажется «волшебной сказкой». Наивное заблуждение Наташи так велико, что она не раздражает зрителя ни уходом к сомнительному счастью, ни резко высказанным презрением к труду. Она вызывает глубокую тревогу за себя. Мир уютных каминов и оранжерей оказался обманом. Актриса ведет Наташу через позор, унижение и горе. И снова высшей эмоциональной точкой роли становился романс. Текст и ситуация пьесы не могли передать того смысла, который заключался в некрасовских строках «Душно без счастья и воли». Слово и жест были бессильны. Лишь пение выражало трагическую сущность образа.
С особенным личным пристрастием относится Комиссаржевская к теме страдания, которая была в традициях русского искусства. Застыла нищая деревня, зябко кутался в дырявую шинель отупевший чиновник; молча терпела женщина, всегда поруганная, обиженная; «слеза дитяти» способна была привести к умопомешательству.
«Ах, это отечество! По-настоящему-то ведь это нестерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека — вот какое значение имеет это слово!»[24] Тема эта, полная муки, часто подавляла художника, приводила его в отчаяние, но обойти ее было невозможно. Она стала важнейшим стимулом искусства.
Комиссаржевская следует этой традиции. Недаром современники чувствовали ее духовное родство с Гаршиным. Сама прошедшая через многие духовные и физические муки, постоянно тревожимая чувством невыполненного долга, она не избегала показа страданий. Актриса настойчиво повторяет эту тему, доводит ее до уровня высокой трагедии. Она объясняет цель своей деятельности: «Ведь сострадание делает прозорливым, оно всегда вперед глядит, а так как оно в душе живет, то, значит, душе двигаться помогает». Поддаваясь стихийным впечатлениям ума и сердца, актриса верна своей теме. Она беспокоится о том, что из-за частых заболеваний у нее появится «ноющая нота», «бессильная зажечь публику».
О Комиссаржевской в роли Наташи писали: «Она в небольшом монологе, долженствующем изобразить протест… дает такую нарастающую гамму страдания, в котором звучит судорожное искание {49} правды»[25]. Страшная жизнь открывалась ее героиням. Согласовать это открытие с прежними мечтами и надеждами они не умели. Они оставались беззащитными и потому часто разбивались. Счастливыми они не бывали. Комиссаржевская призывала на помощь зрителей, выступая против страдания, против самой действительности.
Но не всякая роль поддавалась творческому переосмыслению. Вот список пьес, в которых сжимался ее талант, слабел голос, в отчаянье опускались руки: «Семья», «Радости жизни» В. А. Крылова, «Друзья» Дж. Роветта, «Борцы» М. И. Чайковского, «Девятый вал» С. И. Смирновой-Сазоновой. Образы инфантильных, капризных девиц выглядели грубыми манекенами и ни с какой стороны не походили на живых людей.
Женщины с определившейся судьбой, занятые устройством своих личных, сегодняшних дел, тоже не дарили актрисе творческих минут. Там, где не оказывалось юности, которая нуждалась в защите, игра Комиссаржевской теряла внутренний свет. Она не могла увлечь зрителя мелкими, замкнутыми в себе переживаниями Нины Поветовой («Две судьбы» И. В. Шпажинского), эффектными выходками умной красавицы Натальи Кирилловны Муравлевой («Закат» А. И. Сумбатова). Савина нашла бы здесь материал для критического осмысления — Комиссаржевской приходилась невыгодная роль спасительницы благоденствующих.
Так прошли первые три сезона, из которых второй выпал ввиду болезни Комиссаржевской. За это время она нашла ту «высшую точку зрения», которая помогла ей открыть свои роли и выявила нежеланные. Она пыталась отстаивать право выбора репертуара, но дирекция с подобными заявлениями мало считалась. Ее освободили от участия в водевиле «Гувернантка» Н. И. Тимковского и в исторической драме Д. В. Аверкиева «Наталья Борисовна Шереметева», хотя заставили играть роль Аглаи в примитивной инсценировке романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
Теперь критики говорят о ней: «Роль сыграна Комиссаржевской в своем стиле», признавая неповторимость ее художественного облика. В 1898 – 1899 годах выходят первые монографии, посвященные Комиссаржевской. Ее творческий опыт (пять лет работы) давал уже основания для выводов. Разговор о ней был для любого автора своеобразной исповедью: ее искусство становилось поводом для раздумий о современности. И вместе с тем {50} оно вводило в особый, задушевный мир, словно творила она для каждого в отдельности. «В. Ф. Комиссаржевская. Мои впечатления» — назвал свою книгу И. И. Забрежнев. Автор поражался простоте игры, способности создать настроение, которое рождало чувства национальные и современные. Он писал, что Комиссаржевская отказалась от места премьерши и «являет нам всегда человека, а не актрису».
В книге Ю. Д. Беляева дан психологический анализ облика Комиссаржевской. Вспоминая слова писателя П. Д. Боборыкина, Беляев назвал ее «актрисой из жизни». Разгадка ее успеха и влияния крылась в том, что в каждой роли жила, страдала и боролась сама Комиссаржевская. Она доверительно делилась с каждым тревогой и болью современности. Без этой основы любая роль нежеланна и неудачна. Актриса бросала вызов театральной рутине, отказавшись от многих сценических приемов, пренебрегая бутафорией, гримом, предпочитая им «свободу лицевых мускулов». Книга заканчивалась словами: «Госпожа Комиссаржевская слишком современная артистка для того, чтобы могла развиваться самостоятельно, не заботясь о своих современниках… Она знаменует собой особое движение в искусстве… Если нам суждено сделать шаг вперед на пути прогресса, она первая отметит этот шаг в целом ряде глубоко прочувствованных образов»[26].
Свой первый бенефис на Александринской сцене Комиссаржевская получила в конце третьего сезона — 18 февраля 1899 года. Хотелось выступить в роли, которая явилась бы идейным и художественным итогом лет, начатых «Чайкой». Комиссаржевская надеялась на Чехова и спрашивала его совета, что ставить. Но, связанный с Московским Художественным театром, с его монопольными требованиями, Чехов не был волен распоряжаться своими пьесами. Тем более, что его отношения с Александринским театром после скандального провала были натянутыми. От Чехова она ничего не получила. При всей тяге к современности, ни одного из новых драматургов она не смогла выбрать поверенным своих сокровенных дум. Опять перебрала все старое, поколебалась, посоветовалась с Карповым и решила ставить «Дикарку».
Роль Вари была хорошо знакома и актрисе, игравшей ее в Вильне, и публике Александринского театра, которая видела в ней Савину. Комиссаржевскую не пугало сравнение, хотя она не отличалась самоуверенностью. В «Дикарке» она продолжала свои лирические {51} раздумья о юности. Образы ее девочек обладали запасом незаурядных духовных сил.
… Варя стремительно вылетала на сцену. Задыхаясь от жары, снимала с себя платок. Торжество здоровой молодости заполняло ее всю, заставляло часто и безгранично смеяться, ребячливо себя вести. Что-то напоминало в ней деревенскую девчонку: она теребила кончики головного платка, взглядывала исподлобья, подбоченившись, или сидела серьезная, положив ногу на ногу, обхватив колени руками. Независимость, своеволие — в каждом жесте, в каждом поступке. Даже костюм Вари — свободный расшитый балахон выводил ее из круга светских барышень. В таком виде она хорошо сочеталась с деревней, природой. И чувства ее были просты и естественны. Кокетничала ли она с Ашметьевым, отказывала ли Вертинскому, рассуждала ли о Малькове — за всем этим стояли поиски и ожидание любви. Впоследствии, играя эту роль на гастролях и в своем театре, актриса усиливала элемент поэтичности, светлой весенней радости.
С. И. Смирнова-Сазонова, драматург и беллетрист, записала в дневнике: «Первый бенефис Комиссаржевской. Почти 25 лет я вижу Александринскую сцену, такого приема я еще не видела, не по шумности своей, а по единодушию… Публика пришла не для пьесы, а для вызовов, специально для того, чтобы выразить свои восторги… Подарки ее засыпали… Но подарки и Некрасовой подносят, не в этом сила, а в той власти таланта над толпой, когда и старый и малый — все одинаково безумствуют… Даже у нее дома на лестнице ждала молодежь. Студенты говорили ей речи».
Отзывы о спектакле были полемичны. Кугель, считая Савину неповторимой дикаркой, увидел в Комиссаржевской «больную грацию Сандрильоны, которую долго заставляли ходить в затрапезном платье». А. С. Суворин писал, что определенный этап в истории этой роли, когда все исполнительницы подчинялись савинскому решению, кончился. Комиссаржевская подвела черту и подошла к новому толкованию.
Отделив роль от чисто жанровой, бытовой характеристики, она повысила степень духовности своей героини, и это создало приподнятый тон исполнения. Подтекст роли был явно мажорным. Как в доброй сказке, актриса смеялась, радовалась, надеялась. Смирнова-Сазонова сравнивала Варю с Наташей Ростовой, считая, что в ней «тот же избыток молодых сил, та же жажда любви, все равно к кому, только любить до упоения».
Роль была новой не только в сравнении с савинским образом, но и по отношению к предыдущим работам Комиссаржевской. {52} Спасая своих героинь, защищая их от духовного рабства, актриса выражала свой протест пассивно, не имея возможности для иных чувств. В своем сострадании она была прозорлива, но беспомощна. «Дикарка» приоткрыла путь к активным началам ее таланта.
3
Значение наше гораздо меньшее, чем мы сами думаем, и гораздо более важное, чем думают другие.
Комиссаржевская — из тех художников, чья личная жизнь тесно связана с творчеством. Ко всем близким ей людям: к отцу, к подруге — М. И. Зилоти, к друзьям она относилась страстно-заинтересованно, интимно-коротко, с колоссальной тратой душевных сил. Любые глубокие отношения по расходу мыслей и чувств имели романический характер. То же можно сказать и про ее отношение к театру. Этому страстному роману была отдана и подчинена вся жизнь. Короткие минуты радости обрывались длительными годами поисков. И тяжкое сомнение — достойна ли «великого, святого». И неспособность уйти, передохнуть, изменить. И чем дальше, тем мучительнее. Вот для этого «великого», «перед которым пресмыкаясь — возвышаешься», необходим был непрекращающийся расход душевной энергии. Тут принцип один: чем больше отдаешь — тем больше имеешь. Вот первопричина и побудительная сила ее романов. Они ей необходимы затем, чтобы не угасла память об этой высшей степени человеческих отношений. Совершенное владение языком страсти открывало простор чувствам на сцене. Это источник и школа эмоций. Здесь воспитывалась их культура.
Евтихий Павлович Карпов, истинно любя театр, был известен как режиссер и драматург. Его отношение к искусству не имело основой корыстолюбие или эгоизм. Прошлое политического ссыльного придавало ему значительность пострадавшего за свои убеждения. Испокон веку в России подобное прошлое было лучшей характеристикой.
В Александринский театр на должность главного режиссера Карпова зачислили, как говорилось выше, одновременно с Комиссаржевской. В первом же сезоне оба проявили интерес к постановкам «Бесприданницы» и «Чайки». Но единодушие было внешним. Карпов боготворил Островского — Комиссаржевская подвергла {53} образ Ларисы переосмыслению. Той же видимостью единства отмечено их отношение к «Чайке». Карпов не понял пьесу. Комиссаржевская оказалась единственной, кто верно передал Чехова.
Союз Карпова с Комиссаржевской имел в своей основе не согласие, а борьбу различно мыслящих. Но актрисе нужен был союзник для открытия и постижения истины Александринского театра. После господства управляющего труппой В. А. Крылова, который заполнил императорскую сцену пьесами удобными и понятными, принципы Карпова выглядели серьезными. Он мечтал возродить драматургию Островского, поднять режиссерскую культуру театра.
Какой банальностью может показаться роман актрисы с главным режиссером! Какой пошлый и в глазах многих верный ход для выбора ролей и карьеры! Однако их отношения не подчиняются закономерностям привычного стереотипа. Он предлагал ей ведущие роли — она не брала их. Он со своим трезвым зрением оказывался слеп и недальновиден. Она, находясь в сфере фантазий, неясных чувств и сомнений, умела быть прозорливой и точной. Только ничтожные анонимки пытались объяснить успех актрисы покровительством режиссера. Ни серьезным врагам, ни истинным друзьям это в голову не приходило.
Несовместимость творческих интересов Карпова и Комиссаржевской проявлялась в спорах об искусстве. «Не будьте очень реалистом» — и позднее: «Вы уже сделались символистом немножко», — писала она, сопротивляясь его натурализму, который свидетельствовал не столько о художественной позиции Карпова, сколько о творческой примитивности драматурга и режиссера. Поэтому заботы Комиссаржевской о смене его взглядов сводились к пробуждению в нем истинного художника. Она советует ему больше думать и заниматься: «Милый, не сердитесь, что это говорю, ведь не для себя же этого хочу. Ведь в Вашем деле режиссера Вы не меньше, чем актер должны прогрессировать или совсем сойдете на рутинерство, а я чувствую, чувствую всей душой — как мало Вы этим проникнуты». Она удивляется его способности быть грубоватым и нетонким, его пренебрежению к духовной жизни. Она еще не понимает, что в этом — его сущность.
Позиция Карпова помогла ей выявить свои взгляды на искусство. «Помните каждую минуту, что пока не наполнится, не проникнется общей любовью человечество, все наши личные стремления, горячая воля, желание объять истину останутся бесплодны. Еще не один — века пройдут, и будут бесплодно решать, {54} что такое искусство, а более зрячие все более и более будут убеждаться, что… “обряд идет, но где-то дух животворящий притаился”. Будем же живыми камешками того щебня, который невидимая рука ссыпает в одно место для фундамента той башни, на которой зажжется свет яркий, такой яркий, что ничто уж не будет в силах его погасить. Наука, искусство, все слабое и все сильное соединится в одном стремлении и легко подымет страдающих, затравленных и обратит их к свету. Значение наше гораздо меньшее, чем мы сами думаем, и гораздо более важное, чем думают другие. Это так ясно для меня, что легко, казалось бы, делать свое дело при таком убеждении, но… вечное, все убивающее но», — пишет она Карпову.
Сила искусства в этом «но», которое не позволяет останавливаться. Это «но» всегда жило в Комиссаржевской, делая ее художником, неповторимой. Это «но» казалось Карпову причудой и помехой в работе. Само собой разумеется, что значение искусства высоко. Так к чему же сомнения? Он не мучился болезнями века, заменив народнические идеалы успокоительной теорией «малых дел». Свое «малое дело» — работу в театре он исполнял добросовестно, находя в этом полное удовлетворение. Он не мог противиться таланту Комиссаржевской, но хотел согласовать его с прямолинейностью своих взглядов, с омертвелостью нравственных и эстетических идеалов. В любом споре теоретически он легко одерживал верх, благодаря логике, внешним приметам демократизма, убеждению в своей правоте. Спорящие не были равноценны: один оказался ремесленником, другой — творцом.
Оба сходились на том, что прелестные немочки сужают диапазон ее творчества. Далее Карпов с Комиссаржевской решительно расходились. Он мыслил категориями привычными, устоявшимися. Раз перед ним актриса, способная занять первое место в театре, — значит ей следует играть Островского. Именно Островского, поскольку (и тут еще одна «несомненная» истина) только русский драматург может быть по-настоящему полезен в России. Карпов упрекал Комиссаржевскую за отказ от роли Марьи Андреевны («Бедная невеста» А. Н. Островского), считая, что актриса «стремилась изображать типы, исковерканные нарочными эффектами». Она отвечала: «Вы, безусловно, правы, говоря, что мне надо играть роли русских девушек, безусловно, правы, говоря о душевной красоте Марьи Андреевны… Но вы считаете, что, играя только такие роли и больше никакие, значит исполнить свое назначение на сцене, а я этого не считаю. Жизнь идет своим чередом, и душа русской женщины нашего времени сложнее и {55} интереснее по той работе, которая в ней идет. Душа эта в основе своей может не отойти от пушкинской Татьяны, но жизнь затянула эту основу паутиной, и если талантливый драматург при помощи такого же артиста расскажет о борьбе такой души, покажет и эту паутину, и свет, что проходит через нее, — это будет близко, понятно, нужно для души современного зрителя, это будет стихийно, а стихийными чувствами должен владеть артист и должен ими жечь сердца людей».
Позитивные убеждения Комиссаржевской не отличались определенностью карповских взглядов. Она, наверное зная то, от чего хотела уйти, не видела ясно берега, к которому следовало бы пристать. С удивительным бесстрашием сжигая корабли, отправлялась она на поиски неизвестного. Да и можно ли в творчестве открывать известное? Рационализму Карпова она противопоставляет художническую интуицию и верит в силу поэзии: «Она не спасет нас от ошибок, в которые неминуемо впадаешь в борьбе с жизнью и с собой, но она всегда раздует в пламя искру, дарованную нам богом, а пламя это очищает душу и убережет ее от омута». Смысл собственного назначения в искусстве Комиссаржевская ассоциирует с библейским образом птицы Гамаюн, предсказательницы будущего. Это имя она ставит под некоторыми письмами Карпову, поддаваясь настроению времени. Потребность разгадать будущее, соединиться с ним волнует любого художника. Тревожное пророчество стало уделом многих ее современников. Художник В. М. Васнецов пишет картину «Гамаюн» (1899). Критик В. В. Стасов дает о ней отзыв: «Между созданиями фантастическими волшебная вещая птица “Гамаюн” сильно поражает и увлекает фантазию вдаль». А. Блок открывает символический смысл картины.
ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ
(Картина В. Васнецова)
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных…
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар…
Злодеев силу, гибель правых…
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся кровью.
{56} Все это сродни творческой системе Комиссаржевской и непривычно чуждо Карпову. Чем больше она задавалась общими вопросами — тем дальше уходила от него. Он оставался недвижим, далеко, на том берегу. Оказалось, что и силу-то она обретала в сопротивлении ему. Отношения настолько прояснились, что не осталось места для чувств тайных и страстных: «И вот случилось то, что к лучшему, исчезло неуловимое и осталось ясное и определенное, остались “актриса” и “режиссер”», — так заключает свой роман Комиссаржевская[27]. Она сохранит веру в работоспособность и деловые качества Карпова, не раз обратится к его поддержке. Через несколько лет пригласит его в свой театр. Он откажется. Она не будет настаивать. Они станут добрыми знакомыми, которые не нуждаются друг в друге.
4
Но надо решить, действительно ли мы камни, а не песок, на котором ни одно здание не держится.
В январе 1899 года Комиссаржевская писала Чехову: «Я играю без конца, играю вещи, очень мало говорящие уму и почти ничего душе, — последняя сжимается, сохнет, и если и был там какой-нибудь родничок, то он скоро иссякнет». Актриса чувствовала, что исчерпала себя, выжала все, что могла, из ролей наивных инженю и в этой области способна была только на повторения. Премьеры начала сезона 1899/1900 года («Галеотто» Х. Эчегарайя, «Забава» А. Шницлера, «Холостяк» И. С. Тургенева) обнаруживают ее усталость. Ее упрекают в отсутствии нравственной силы. «Эта милая артистка […] играет теперь все, решительно все роли, поэтому игра ее значительно как-то побледнела», — писал Ю. Беляев о роли Маши в «Холостяке».
Комиссаржевская первой почувствовала пустоту под ногами, первой забила тревогу. Ей кажется, что настоящим экзаменом для таланта должна стать классика. «Я войду в классический репертуар, и если эта попытка не увенчается успехом, Вы даже не представляете, что со мной будет, и я больше чем боюсь, что это будет так», — писала Комиссаржевская в 1900 году. Фраза оказалась пророческой. Попытка не увенчалась успехом. И в этом {57} была своя закономерность. Имя Комиссаржевской плохо сопрягалось с представлением о традиционной театральной героине. Актриса в любой роли стремилась перешагнуть рампу и подойти ближе к зрителям. Трагический пафос ушедших веков, тяжкий груз испытанных временем приемов были далеки от нее.
8 февраля 1900 года Комиссаржевская сыграла Дездемону в бенефис М. В. Дальского, а через несколько дней выступила в повторном спектакле с участием знаменитого итальянского трагика Т. Сальвини. Дальский ей был близок тем, что не принимал догм искусства Александринского театра. Правда, протест Дальского нередко выражался в форме откровенного презрения не только к общественным нравам, но и к своим обязанностям. Поэтому Комиссаржевская была согласна с его увольнением из театра летом 1900 года. Но Дальский как художник останется глубоко интересен ей, и осенью 1902 года она будет гастролировать с ним, пригласит на роль Гвидо в «Монне Ванне». По воспоминаниям Н. А. Попова, в своем театре «ей все хотелось играть с Дальским, она говорила, что никогда не встречала такого актера, как Дальский, что внутренний пафос, который в нем горел, давал и ей зарядку»[28].
«Модернизированный Отелло» — так говорили о попытке Дальского по-новому осмыслить классический образ. Комиссаржевская тоже искала в Дездемоне черты современности. Слишком сегодняшней печалью были полны ее глаза, резким диссонансом к величавому течению трагедии звучал неровный голос, чужим выглядел тяжелый костюм Дездемоны. Несмотря на похвальный тон рецензий, актриса поняла, что образ был далек и от Шекспира, и от современности. Ничего не изменилось в ее игре и на спектакле с участием Сальвини. Все отступило на задний план, оставив сценическое пространство великолепному гастролеру. Видевшие спектакль замечали, что все внимание приковывал Отелло, за остальных действующих лиц слова с успехом мог выговаривать автомат. В памяти Комиссаржевской остались слова великого трагика: «Она не чувствует трагедии».
Тему веры пыталась найти актриса в роли Офелии. Ее стремление вступило в явное противоречие с замыслом спектакля. Бенефициант Аполлонский играл Гамлета расслабленным физически и нравственно, полным безразличия ко всему окружающему. Не свет борьбы и надежды заполнял сцену, а угасающее мерцание обреченности. Приподнятый тон Комиссаржевской, подчеркнутая {58} значительность каждой фразы были чужды общему настроению спектакля. Публика недоумевала. Только сцена сумасшествия была признана удачной. Там протест казался уместным: сумасшедшая имела на него право.
Две неудачи в шекспировском репертуаре заставили актрису отказаться от давно лелеемой мечты сыграть Джульетту. С большим внутренним несогласием выступила она в роли Марьи Андреевны («Бедная невеста» А. Н. Островского, 1900), понимая, как далека эта героиня от сегодняшних тревог. Роль была сыграна с полной отдачей сил, с обмороком за кулисами. Искренним был тон, настоящей — трата нервов. Но безнадежно устаревшим выглядел ее обычный «пассивный драматизм, покоряющий артистке чувствительные сердца». Горько было ей, ищущей новое, опускаться на низшую ступень, повторять азы. Горько было читать те строки, где ее хвалили за ласковость, теплоту, покорность.
Не удалась и роль Снегурочки в одноименной пьесе Островского (1900). «Откуда у Снегурочки такие сильные, звенящие отчаянием ноты, какие дает г‑жа Комиссаржевская с первого же действия? Кто-то сказал, что артистка изображала скорее Маргариту из “Фауста”, чем Снегурочку… Тут надо побольше пассивности, нерешительных движений, ребяческого лепета», — удивлялся Ю. Беляев, не узнавая привычной Комиссаржевской. Но попытка внести в роль новые настроения, которые овладели актрисой, противоречили и пьесе, и спектаклю с обветшалыми, рваными декорациями, безобразными костюмами.
Мысль о постановке весенней сказки Островского возникла одновременно в нескольких театрах. Московский Художественный и филиал Малого долго и тщательно готовили эти спектакли. Между Станиславским и Ленским, режиссерами московских постановок, шло своеобразное творческое соревнование. Но спектакли не имели успеха. Пьеса выглядела наивной, старомодной. «Очевидно, при “современной смуте”, на развалинах строя всей нашей жизни — мало призыва к одной лишь красоте», — писал Мейерхольд Чехову в связи с постановкой МХТ. Несоответствие Комиссаржевской веселому строю спектакля повторяло мысль Мейерхольда. Стремление дать что-нибудь большое не встречало поддержки в театре и по-прежнему оставалось мечтой. Желанные роли: Ганнеле (одноименная пьеса Г. Гауптмана) и Жанна д’Арк («Дочь народа» Н. П. Анненковой-Бернар — пьеса была посвящена Комиссаржевской) оказались неосуществленными. Она играла все старое, пугаясь насилию, которое приходилось делать над собой. Пыталась найти материал у популярных современных {59} драматургов, обсуждала черновые варианты пьес. Боборыкин писал по поводу ее замечаний: «Прилагаю измененный конец “В ответе”… Думаю, что так получится та заключительная нота, какой Вы желали»[29]. Но пусто и ничтожно было там, где появлялась Вава («В ответе» П. Д. Боборыкина), Валерия («Лишенный прав» И. Н. Потапенко), Дашенька («Мишура» А. А. Потехина). Актриса повторялась, эксплуатируя благодарные сценические данные. Ее выступления часто превращались в концертные музыкальные номера — для этого были поставлены отрывки из пьес Островского: «Воевода», «Грех да беда на кого не живет» и комедия З. Ю. Яковлевой «Прибой». Почти все новые роли приходились на бенефисы ее товарищей по театру и являлись исполнением долга, не удовлетворяя творческую потребность. Для того чтобы произвести переворот, нужно было осмысление задач и целей своей работы.
В Новочеркасске и Вильно она нестерпимо страдала из-за отсутствия подходящих туалетов. Теперь предметом глубоких личных переживаний становятся вопросы философские, эстетические, социальные. Весной 1898 года она возвращалась к жизни после тяжелого, длительного заболевания. По-новому смотрела на привычное. Поражала актрису «та ясность непреклонная, с какой сознаешь, что все идет шиворот-навыворот, и не видишь этому конца, и еще ужаснее наше умение примириться с самым непримиримым».
Письма 1898 – 1902 годов полны этими тревожными вопросами. Актриса искала «общую идею», которую Чехов назвал «богом живого человека». Не решив для себя этих вопросов, она не могла двинуться вперед в искусстве.
Перед Комиссаржевской был «мир с его законами, которые люди для собственного удобства называют божескими», мир, полный глубокой несправедливости, вопиющих несовершенств. Актриса-правдоискательница, она всякий раз наталкивалась на отсутствие правды-счастья, пытаясь найти тот нравственный закон, во имя которого и с позиций которого стоило бы вести борьбу. Путь к истине она искала в доступных и близких ей областях.
Обширен круг интересов Комиссаржевской, круг ее чтения. Здесь Пушкин, Байрон, Шелли, Гейне, Герцен, Тургенев, Достоевский, Тютчев. Ей чуждо неличное восприятие искусства. Чем сильнее она потрясена, тем больше рождается мыслей и сомнений. {60} Спектакли мамонтовской Частной оперы (петербургские гастроли в феврале 1898 г.) поражают ее проникновением в национальный характер, свободолюбием. Она пишет об опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко»: «… Давно уж я так не наслаждалась. Может быть и даже наверное есть вещи, более великие по таланту и по красоте, в смысле музыкального произведения, но тут, понимаете, все, что есть в русской душе широкого, могучего и в то же время слабого, жестокого и мягкого, глубокого и нежного. А главное, свободу, жажду свободы, простора, которая всякие путы в конце концов разорвет».
Месяцем ранее ту же оперу слушал в Москве В. В. Стасов. Потрясенный музыкой, шаляпинским исполнением партии Варяжского гостя, он написал свою знаменитую статью «Радость безмерная». Сердце Комиссаржевской бьется в унисон с сердцами современников. Она повторяет их вопросы, вместе с ними ищет ответа. Следит за новинками литературы. Ей близко и понятно обличение К. М. Станюковичем в романе «Жрецы» (1897) праздной интеллигенции, благополучных мужей науки. И, наверное, не случайно в одном из писем она говорит: «Пугают малейшие точки соприкосновения с жизнью и ее “жрецами”».
Потребность ответить своим искусством на коренные жизненные вопросы привела актрису к современной философии. Стихийное, но сильно развитое идеалистическое восприятие жизни сделало ее поклонницей популярных в то время Ф. Ницше и Дж. Рескина. Влияние Ницше на русскую литературу и искусство конца XIX – начала XX века несомненно. Отбрасывая реакционную мысль философа об отрицании равенства людей, некоторые деятели русской культуры трактовали ницшеанского «сверхчеловека» как идею вечного стремления вперед, дух восстания против господствующей морали.
В 1899 году в Петербурге вышел перевод книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Свой труд переводчик С. П. Нани посвятила Комиссаржевской[30]. Из чувства благодарности актриса просит Чехова написать рецензию на книгу. И получает отказ. Она не поняла, как нелепа ее просьба к Чехову, которому был чужд Ницше. Комиссаржевская обладала способностью выдумывать людей и требовать, чтобы они не переходили границ созданного ею образа. Не потому ли наступило в конце концов отчуждение между ней и Чеховым?
{61} В письмах она цитирует и пересказывает книги Ницше «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла». Она включает его мысли в строй своих фантазий, широко используя образную систему философа. Поэтическая сторона трудов Ницше вызывает в ее сознании широкие творческие ассоциации.
Собственное ли разумение или влияние трезвого реализма, которым пронизана русская культура, заставили Комиссаржевскую критически отнестись к идейной стороне учения Ницше. Она спорила с философом, играя в пьесах драматургов, испытавших его воздействие: «Сделав его философию символом веры — никогда не пойдешь вперед».
Одна из примет, по которым можно опознать подлинного художника, — быть всегда самим собой, сохранить себя в жизненной суете. Это отличительная примета облика Комиссаржевской. Широк круг знакомых актрисы в среде художественной интеллигенции. Творчески необходима потребность общаться с ними. И поразительна ее способность быть одинокой. Проходил четвертый, а за ним пятый сезоны работы в Александринском театре. Внешне Комиссаржевская не чуждалась своих коллег, участвовала во многих бенефисах, благотворительных вечерах. Но творческие стремления актрисы ни в ком не встречали ответа. Она не чувствовала признания своих открытий, поэтому настаивала на одиночестве, которое казалось ей реальной крепостью в борьбе и поисках. В одиночестве хотела она уберечься от опасного спокойствия, бессильного соглашательства с признанными законами жизни и искусства. Ей близки рассуждения Ницше об одиноком. Если не распылять свои силы, а сосредоточить их на главном, то в нужную минуту сохраненная энергия даст поразительный результат. Силы духовные материализуются реальным поступком. И все, что болело, тщетно искало выхода, надеялось, отчаивалось, станет Светом. «Мой удел — светом быть» — повторяет Комиссаржевская слова Ницше. Такова была ее миссия в искусстве. Но Ницше заставлял только в себе искать силу и надежду. Она оказалась в замкнутом кругу, по которому вращались мессианство, жертвенность, сострадательная любовь. Близость ее настроений и психологических открытий к Ницше не сулила плодотворных перспектив.
Труды английского эстетика Джона Рескина были тоже идеалистичны, но имели своей целью принести конкретную пользу простым людям. «Мне нет дела до того, интересуют ли вас мои сочинения или нет. Вся суть в том, принесли ли они вам пользу», — заявлял Рескин. Он выступал с критикой уродливых сторон {62} капиталистического мира, пытался создать общество будущего на основе равноправного физического труда, требовал от искусства утилитарности, ограничивая его роль кругом моральных проблем. Вслед за ним Комиссаржевская приходила к выводу, что служить надо тем, кто имеет «веские основания не слушать речей о заслугах Микеланджело, так как им холодно и голодно». И феминизм актрисы находил поддержку у Рескина, который писал: «Мало сказать о женщине, что она не разрушает своим прикосновением, она должна оживлять».
Книги Рескина становятся настольными для Комиссаржевской; ее подкупает максимализм его требований, чистота побуждений, непременное желание претворить мечты в действительность. «Вся жизненность искусства зависит от его истинности или от его полезности… В основании искусства лежит стремление придать чистоту нашей стране и красоту нашему народу», — эти слова Рескина совпадают с мыслями и настроениями актрисы. «Лучшие произведения искусства созданы людьми хорошими», — выписывает она изречение любимого философа, считая, что нравственный облик художника, его душевная чистота — важное условие творчества.
Философия Рескина была близка толстовству и повторяла многие его противоречия: критика существующего строя, тема нравственного усовершенствования, проповедь любви к ближнему сочетались с антиисторическим взглядом на развитие общества. Комиссаржевская дорожила в ней призывом к борьбе с несовершенством жизни.
Она пыталась приблизиться к тому великому и непонятному, имя которому — народ. С настроением, далеким от пустой благотворительности, говорила она о бедности, о «нужде вопиющей». Летом 1901 года она стала свидетельницей страшного пожара в деревне: «Если бы вы знали, что за ужас здесь пожар! — писала она Ходотову. — Ветер ужасный: сгорело 55 дворов. Накануне свезли хлеб на гумна — и гумна сгорели. Все, для чего они жили, работали весь год — все сгорело в 10 минут, и они все без дома, без платья, без зерна остались. Нельзя рассказать, что это такое. Все мечется, стон, рыданья, плач детей, а иные прямо тупо смотрят, как скирды эти пылают, как костры… Поймите — скирды, чем они должны были питаться весь год; зерно, чтобы добыть которое — столько труда ушло… Голод вообще здесь ожидается страшный, потому что очень, очень плохой урожай».
В 1897 году в Петербурге было создано «Общество попечения о молодых девицах». Оно ставило своей задачей воспитывать {63} работниц в угодном правительству духе. Деятельность общества сводилась к организации воскресных школ. Но часто прогрессивно настроенные учителя развивали в ученицах интерес к социальным вопросам. Тогда школы становились ступенью на пути к революционной деятельности. Старая большевичка А. И. Круглова вспоминает, как вместе с их учительницей Л. Ф. Грамматчиковой, иногда читавшей на эстраде запрещенные произведения, на занятия приходила В. Ф. Комиссаржевская. Она не просто наблюдала, а помогала им[31].
4 марта 1901 года в Петербурге у Казанского собора состоялся разгон студенческой демонстрации. Прогрессивная общественность выступает с протестом. Комиссаржевская, находясь в отъезде, искренне тревожится, торопится в Петербург. В первый же день приезда, 18 марта 1901 года, она смотрит пьесу Ибсена «Доктор Штокман» в постановке Московского Художественного театра, гастролировавшего в Петербурге. Этот спектакль стал, по выражению Станиславского, началом общественно-политической линии в театре. Он перекликался с настроениями петербургского студенчества. Для Комиссаржевской, помимо всего, пьеса эта принадлежала драматургу, который был ей необходим для естественного развития таланта.
Совершенно новый мир открылся актрисе императорских театров. Мир, который в ней нуждался и для пользы которого только и имело смысл жить. Нельзя было мириться с тем, что унижало человека, лишало его прав и радостей. Комиссаржевская, отстаивая активное начало своей натуры, писала: «Эта вечная борьба, как бы ни казалась она Вам мелка и недостойна даже названия борьбы, — в действительности серьезна и спасает Вас от […] нравственной спячки или, вернее, примирения с существующим порядком вещей».
5
… Лучшее, что могла творить поэзия моей души, она творила для Вас.
В начале 1900‑х годов актриса внутренне готовилась к переменам. Прощалась со старыми ролями и мыслями, изживала прежнюю манеру исполнения. Отношения с Карповым теряли {64} былую эмоциональную остроту. Она пыталась перевести их совместные интересы целиком в сферу творческую. Но цели их в искусстве были несовместимы. Она считала, что в ее жизни наступил момент, когда надо «потянуться, встать и выбить дно».
Весной 1900 года группа актеров Александринского театра по старой традиции отправилась на гастроли в южнорусские города. Ведущими актерами были К. А. Варламов, Комиссаржевская и Н. Н. Ходотов — Кока Ходотов, как называли его друзья. Два года служил он в театре, а успел стать всеобщим любимцем. Он мягок, добр, а главное — искренен. Это легко искупает самодовольство и некоторую заносчивость молодого преуспевающего таланта. Душевная свежесть спасает его от пошлости. Даже богемная жизнь, которой он предан с не меньшей страстью, чем актерству, щадит его. Не было у него критического отношения к среде, но что-то приподнимало его над обыденностью.
Комиссаржевская удивилась и обрадовалась, встретив актера, с которым было легко играть. Не приходилось делать купюр в ролях. Душевная пластичность Ходотова, готовность к постижению психологических сложностей, сценическое мышление располагали к творчеству. Они выступали вместе в пьесах: «Бесприданница», «Бой бабочек», «Борцы», «Волшебная сказка», «Забава», «Накипь».
Ходотов легко подчинился ее духовному авторитету. Он ощущал пропасть между собой и известной актрисой. Но когда эта маленькая, немолодая женщина бывала близка и понятна на сцене, где она делала его равным себе, когда в конце спектакля глаза ее переполнялись благодарностью к нему, тогда… О, тогда ему хотелось лететь, бежать, забыть все, служить ей. «Погиб я, мальчишечка», — подрагивала в его руках гитара; банальные слова казались откровением. И хотелось не то радоваться чему-то, не то плакать до слез, как в детстве. Он превратился в робкого, послушного ученика. Она легко взяла на себя роль учителя, горы, к которой идет и не может приблизиться Магомет. Но какой же он Магомет? Так — Магометик. А еще он Азра, потому что он из тех, кто полюбив — умирает. Она — Свет, то близкий, то далекий, но всегда ему видимый, как звезды ночью, которыми они любуются вместе.
Эти обращения друг к другу не просто милые любезности, а отсвет той духовной жизни, которой насыщены их отношения. Здесь — совместно прочитанные Ницше, Рескин, сыгранные роли, спетые друг другу романсы. Эта романтическая символика отвечала их союзу и новым интонациям искусства Комиссаржевской. {65} Напряженная и хаотичная жизнь ее души, которую она сама называла бредом и который так смущал Карпова, находит в Ходотове благодарнейшего «сопереживателя». Конечно, он не всегда понимал ее требования, часто попадал впросак, делал ужасные промахи. Но он был послушным, податливым учеником.
Все логические доводы о том, почему они сблизились, составляют лишь малую часть истины. Причиной было затопившее обоих чувство, далекое от пустой возвышенности. Оба жили, любили, дышали для искусства. Страстность восприятия жизни, нестерпимая тоска разлуки — все было подчинено главному. Она не ограничивается деловыми замечаниями по ходу роли. Зовет его «дальше и выше», «достать до неба», мечтает найти «высшую точку зрения». В этих отношениях проявился творческий созидательный характер Комиссаржевской. Ей было пусто, когда она не строила, не боролась, не спасала.
Мягкость и доброта Ходотова так часто оборачивались безволием. Глаза разбегались. Стоило ли отказываться от радостей богемы, от болтовни за кулисами, от шумных поездок в «Стрельну»? С трудно сдерживаемым пафосом воительницы обрушивалась она на несовершенства Ходотова. Здесь она встретилась с самым страшным врагом: с суетой жизни, оборачивающейся гибелью надежд и таланта. Она учит Ходотова «бороться с дьяволятами», воспитывать волю, жаждать духовных горизонтов, внимать всем замечаниям, не бояться одиночества. «Будьте сколько можно меньше за кулисами. Вы еще не научились залезать в скорлупу, сидя с ними, и приходите от них с “налетом” — он все-таки свою долю сора оставляет в душе».
Комиссаржевская в этом союзе ополчилась на все то, что мешало духовной жизни. Тут и унылый репертуар, и слишком привыкшие к рутине актеры, и невозможность сказать свое слово. Как ей хотелось иметь в этом чужом мире своего человека. Ровню себе она мечтала воспитать в Ходотове. Требуя от него постоянного восхождения на «горные вершины духа», она терпеливо разглаживала, устраняла его ревность, зависть, горячку нетерпения, искушения славы и шума. Его позиция была проще, наивней. Он любил, благоговел, искренне желал идти «дальше и выше». Но действовал неумолимый закон, по которому всякий человек — то, что он есть. Развивать и воспитывать можно лишь заложенное в нем. Переменить, переделать человека нельзя, не сломав его, не совершив над ним преступления. Постоянная необходимость ходить на цыпочках, ощущение собственной недостойности создавали ему крайне неустойчивое положение. Малейшее {66} недоразумение выводило его из равновесия. Наступил болезненный, тяжелый разрыв. Случайные обстоятельства лишь ускорили и завершили то, что было неминуемо. Трагизм этих отношений в их искренности, подлинности и вместе с тем в невозможности их продолжать. Если для Комиссаржевской это был самый «большой роман», то для Ходотова самое значительное событие в его биографии, на всей его жизни сказались это влияние и невозможность воспринять его до конца.
Открывшийся ему мир духовных страстей был и богатством и бременем. Эти понятные, но чужие страсти не вошли в его плоть и кровь, не могли реализоваться в его сценической жизни. Они оказались той нагрузкой, которой следовало дать исход. Еще в 1898 году он начал писать драму из актерской жизни, героями которой были В. Н. Давыдов (ему и посвящена пьеса) и сокурсники Ходотова по Театральному училищу. Пьеса, обладающая всеми недостатками шаблонного литературного опыта, осталась в рукописи и не могла послужить рекомендацией для дальнейших попыток в этом роде. Неизвестно, чем бы заполнил свою тягу к сочинительству Ходотов, если бы не встреча с Комиссаржевской. Если бы не открывшееся ему богатство чувств и настроений. Если бы не оставшееся в его руках документальное тому свидетельство — около 400 писем актрисы. Содержание писем определило темы и идеи его драм. Оттуда заимствованы целые монологи. Но странное дело: вырванные из контекста, фразы либо кажутся чужеродными, либо теряют свое высокое значение. Вот где можно было понять, как различны были уровни духовной жизни этих людей. То, что для Комиссаржевской представлялось неразрешимым и трагическим, — в пьесах Ходотова находило благополучный бытовой выход. Наивно ищет он немедленные и прямые ответы на мучившие ее вопросы.
Две пьесы («На перепутье» и «Госпожа Пошлость») были опубликованы и поставлены при жизни актрисы. Герои пьесы «На перепутье» Нивина и Рудницкий повторяют многие слова и поступки Комиссаржевской и Ходотова. Герои ищут себя — таков пафос драмы. Они себя находят — таков ее благополучный исход. Как хотелось бы Ходотову, чтобы сбылось невозможное, и он в самом деле дорос бы «до неба». То, что для Комиссаржевской было идеалом недостижимым, переданным в красивой метафоре, у Ходотова непременно реализовывалось. И как всякая реализованная метафора разрушает художественную ткань, так и здесь иносказательный и трагический смысл духовного борения актрисы убивался языком бытового благополучия. Не объемля {67} всей сложности душевной жизни Комиссаржевской, он дробит образ, и из него получается множество удобопонятных героинь.
В пьесе «Госпожа Пошлость» сорокалетняя издательница Зимина говорит только строчками писем Комиссаржевской. У нее роман с начинающим молодым писателем Владимиром Добрыновым. Сцены ревности и уязвленное самолюбие Владимира, ее отчаяние от его срывов — все это куски реальных воспоминаний. К творческой фантазии драматурга следует отнести лишь смерть героини от всех огорчений и клятву молодого писателя посвятить ей свой труд. Так умиротворяется Ходотовым безысходность жизненных коллизий. Здесь и кроется причина расхождений Ходотова и Комиссаржевской.
Обоюдная искренность страданий была для одного — новым жертвенным подвигом и залогом дальнейшего движения, а для другого сладостным воспоминанием, которое он мог лишь бесконечно повторять и незаметно для себя снижать.
«Когда у меня нет мучений — я страшно несчастна», — писала Комиссаржевская. Без предельного напряжения духовной жизни не было этой актрисы. Любой поступок Комиссаржевской, имевший нравственное и художественное значение, был всегда внутренне неразрешим. У нее не было полного согласия ни с одним из театров, ни с кем из близких. Она выпадала из любой ситуации. У нее не было согласия с собой.
Одному из современников она сообщала, что ощущает в себе присутствие двух особ. Резко отличаясь друг от друга по характеру и мировосприятию, они живут, попеременно вытесняя друг друга. Этот постоянный внутренний конфликт и попытка победить в себе свою противоположность составляли основу и причину ее роста. Результатом этой борьбы с собой, с тем, что готовила весьма благосклонная к ее дарованиям жизнь, явился серьезный сдвиг в творчестве. Мольба о пощаде сменилась требованием ее. Актриса уходила из круга безысходных страданий. На смену искусству тревоги явились поиски активного, сознательного протеста. Позиция эта не была умозрительной, она родилась в результате настойчивого обращения актрисы к самой действительности. «Вокруг нас кипит жизнь, — писала она Ходотову в мае 1901 года, — люди реагируют на явления ее всякий по-своему, и чем с больших сторон услышит актер о взглядах на то, что ему кажется иным, а не другим, тем лучше для него. Его дело разобраться в том, что ему годится, что нет, но чужая психология помогает часто, освещает часто свою, открывая новые горизонты, и надо уметь их жаждать».
{68} В 1899 году Комиссаржевская приняла участие в гетевском вечере, где играла Маргариту в сцене сумасшествия. В феврале 1902 года «Фауст» был поставлен на Александринской сцене с Комиссаржевской в той же роли.
Газеты оба раза шумно возвестили об удаче актрисы. П. Д. Боборыкин, присутствовавший на гетевском вечере, прислал ей восторженное письмо. Тема активного протеста Комиссаржевской вызвала взрыв удивления: «Где же скрывалась до сих пор такая огромная сила таланта, страсти, правдивости, глубины и вдумчивости?»[32] Кугель точно отметил характер происшедших перемен, сказав, что актриса передала активный драматизм.
Внешне Комиссаржевская была близка к оперной Маргарите. Из музыкального образа Гуно актриса взяла лиризм, который отвечал ее «нервному впечатлительному дарованию» (Ю. Беляев). В начале спектакля ее Маргарита по тихим и безмятежным интонациям была похожа на многие игранные ранее роли в пьесах Зудермана, Гальбе. Но Клерхен и Анхен гибли с той же безропотностью, с какой появлялись впервые. Маргарита у Комиссаржевской оставалась привычной лишь до последнего акта. Здесь талант актрисы обретал новую силу. Она отказывалась от западающих нот и угнетенного настроения как высшего выражения трагедии.
Ее Маргарита, несмотря на традиционный костюм — рубище, перехваченное веревкой, цепи и распущенные по-оперному волосы, — не была смиренна в своем сумасшествии. Она медленно подымалась с пола темницы, бессмысленно глядя перед собой. Но, словно раненная мыслью об убийстве дочери, вскакивала и в ужасе пятилась назад. Бессилие героини больше не казалось актрисе трогательным. Меньше всего она жалела свою героиню, давая волю чувствам гнева и протеста. Она не опускала привычно глаза, не было знакомого слабого жеста руки, которым она пыталась отвести от себя невзгоды. Глаза были широко открыты, жесты свободны и энергичны. Бунт Маргариты безумен, но актриса искала сильные трагические краски, когда, вставая под звон цепей, она восклицала: «Свободна я, свободна я!» Руки напряженно тянулись вверх, она стремилась прочь из темницы.
Комиссаржевская вовлекала зрителей в пучину страстей, потрясала агонией человеческой души.
{69} Новые черты творческого облика актрисы по-настоящему раскрылись в роли Сони («Дядя Ваня» А. П. Чехова), сыгранной во время летних гастролей актеров Александринского театра в 1900 году. Комиссаржевская умела по-чеховски чувствовать поэзию неумирающих надежд. Чехов в 1899 году писал Карпову: «Мне бы хотелось, чтобы Соню взяла В. Ф. Комиссаржевская». Актриса шла навстречу желаниям драматурга. В его творчестве она находила материал для веры и борьбы. Несмотря на печальный тон роли, чувствовалось конечное торжество правды и добра. Даже те, кто был не согласен с решением образа, отмечали бунтарский характер Сони: «Ее возглас “Надо быть милосердным” дышал протестом».
30 января 1901 года в свой второй и последний бенефис на Александринской сцене Комиссаржевская сыграла роль Марикки в пьесе «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. «Я буду играть непонятное, чуждое, одинокое существо», — говорила Комиссаржевская в беседе с П. П. Гнедичем, сменившим в 1900 году Е. П. Карпова на посту главного режиссера театра.
В образе Марикки она увидела социальную обреченность и безысходность. Жизнь в одиночку, борьба без союзников, неразделенность позиций были характерны для прогрессивной художественной интеллигенции на переломе двух веков. Время разобщало людей, отсутствие объединяющей идеи рассредотачивало их силы. Каждый шел своим путем, тщетно протягивая руку в поисках союзников. Но тысячи путей разбегались в разные стороны, и кто знал, какой из них был верен. Трагедия одиночества стала для Комиссаржевской содержанием образа Марикки. Для Ходотова их отношения стали поводом к прямому и неуклюжему цитированию в его драмах — у Комиссаржевской роман вызвал новые темы в творчестве.
Марикка — сирота, бедная приживалка в доме пастора. Из глубины сцены прямо на зрителя движется легкая точеная фигурка. На ней глухое темное платье, черный фартук, простая прическа, дешевые серьги. В руках поднос. Глаза опущены. Губы плотно сжаты. В ней нет и следа беззаботности многих прежних героинь. Марикка живет с ясным сознанием своих бед. Мать ее — бродяга, воровка. Марикка прислоняется к стене, прямая, суровая, рука нервно теребит край передника, во взгляде — тревога и опасение. Душа ее крепко заперта. Но какая беззащитность и мука рвутся навстречу матери — чужому и страшному человеку. Во время свидания острая жалость пронзает ее сердце — она сжимает грудь рукой, пытаясь утишить эту боль. Лихорадочно срывает с себя фартук и отдает его просящей матери.
{70} Точно и верно найденные детали придают каждому жесту символический характер. Актриса воспроизводит правду душевной жизни без натуралистических подробностей. Она достигает того, что Немирович-Данченко называл художественным, поэтическим обобщением. Силой своего искусства она сообщала заурядной пьесе глубокий жизненный смысл. Как чеховская Соня заполняла свой быт прекрасной мечтой, как три сестры тосковали о Москве, так жаждала Марикка счастья. Эта жажда, подобно тоске чеховских героинь, перерастала в суд над обществом.
У Марикки — жених, скучный и неприметный в своей положительности. А любит она Георга, нареченного Труды, хозяйской дочери. Любовь эта давняя, взаимная. Брак для Георга — путь к карьере. Короткому счастью Марикки светили огни Ивановой ночи. Запрокинув голову, вытянув вперед сжатые руки, судорожными шагами шла она к Георгу. «Она отдавалась, словно суд совершала — над чем-то старым, отжившим, над старой моралью, старым догматом, старой женской долей. Ее слова любви были горьки, ее вздохи доносились сквозь стиснутые зубы», — писал А. Р. Кугель.
Пьеса хранит следы влияния Ницше. Отчаянный шаг Марикки можно истолковать как поступок человека, не считающегося с нормами жизни. Но Комиссаржевская достаточно критически относилась к этому философу, чтобы следовать за ним. Она спорила с Ницше.
На следующий день после бенефиса критик писал: «Как чествовали вчера госпожу Комиссаржевскую, так чествуют только воина-героя, любимого писателя, уважаемого профессора, заслуженного общественного деятеля»[33]. Успех актерский соединился с общественным. Интонации отчаяния переросли в мужественный протест. Роль Марикки открыла иные возможности таланта. Роль стала началом нового восхождения актрисы, которое не могло быть совершено в стенах императорского театра.
Доигрывая сезон 1901/02 года, гастролируя постом в провинции и летом в Москве, Комиссаржевская переполнена мыслями и заботами о будущем. Уход из Александринского театра стал делом решенным. Ее смотрит восхищенный Станиславский. Ермолова, взволнованно повторяя: «Ну, разве можно так играть?» — приносит за кулисы цветы. Минуя все сомнения, Комиссаржевская в апреле 1902 года говорит: «Я стою на пороге великих событий души моей…»
{71} Гастроли
2
Как ужасно, что святое, великое, что я хочу, жажду сделать, надо покупать такой ценой, кровью духа.
Последний раз как актриса Александринского театра Комиссаржевская выступила с гастролями труппы в Москве. Ее ждали там с нетерпением и предубежденным любопытством, думая увидеть «большое петербургское заблуждение, балованное дитя плохого петербургского вкуса и местного патриотизма». Она сыграла тринадцать спектаклей, которые полно представили ее пестрый репертуар на императорской сцене. Были здесь и пустячки вроде «Горящих писем», «Волшебного вальса», «Друга». Были и коронные роли в спектаклях «Бесприданница», «Бой бабочек», «Волшебная сказка», «Дикарка», «Огни Ивановой ночи». Москва знакомилась с талантом Комиссаржевской. Актриса дарила москвичам радость открытия. «Талант ее живой, страстный […] заслуживал иного, более серьезного, более вдумчивого к себе отношения […], — писал Н. О. Ракшанин. — Стоило появиться г‑же Комиссаржевской, и я был необыкновенно приятно разочарован. Прежде всего меня поразил ее голос: чарующий, сильный, звучный и здоровый, он шел вразрез с навеянным мне со стороны представлением об этой артистке, благодаря чему я ожидал услышать надтреснутые звуки надтреснутой нервной системы. И чем дальше я следил за умной игрой этой умной актрисы, чем дальше развертывался передо мной зрело продуманный план ее исполнения, тем несправедливее и грубее мне казалось установившееся о характере ее таланта мнение… В роли, лживой по существу (Наташа в “Волшебной сказке”. — Ю. Р.), она сумела найти, создать и выдвинуть на первый план черты глубокой жизненной правды безо всякого насилия над нервами и чувствительностью зрителя».
Впервые увидевшие Комиссаржевскую поражены драматизмом исполнения ролей, которые имели скорее комедийный оттенок. {72} Критика разных направлений сходится на том, что драматизм составляет существо ее таланта, хотя многие находили его излишним, контрастирующим с литературной основой. И, вопреки недоумению этих рецензентов, каждый новый спектакль превращался в триумф актрисы. «В. Ф. Комиссаржевская обладает счастливым свойством не только восхищать, но и облагораживать своею игрой, затрагивая в зрителе лучшие струны души», — писал С. В. Яблоновский (Потресов).
Впервые после выступления Комиссаржевской в спектаклях Общества искусства и литературы (1890 – 1891 годы) ее смотрит Станиславский. «Сейчас я был на спектакле Комиссаржевской и пришел в телячий восторг. Это русская Режан по женственности и изяществу», — пишет он 4 июня 1902 года М. П. Лилиной. Французскую актрису Режан хорошо знали в Москве и Петербурге по гастролям. Поэт М. Волошин писал, что «она первая дала французскому театру не героиню, а женщину целиком, настоящую, нервную, изменчивую парижанку». Станиславский ощутил, что актрис роднит чувство женственности, развитие большой темы на незначительных мелочах быта. Режиссер одобрил намерение Комиссаржевской войти в труппу. МХТ. Ему первому она сообщает об уходе с казенной сцены. Но письмо невольно выдает отсутствие определенного решения у нее самой. Обычно цельная и последовательная в своих поступках, она с внутренней неуверенностью пишет о желании прийти в МХТ, выдвигает условия явно не творческого характера: «Не откажите в моей просьбе ответить мне прямо на следующие вопросы: 1) Если бы я пошла к Вам, могу ли я рассчитывать сыграть не менее пяти интересных ролей в сезон. 2) Решено ли у Вас окончательно играть в пост в Петербурге […]. Меньше десяти тысяч я согласиться не могу. Буду в Вашем распоряжении с сентября до страстной недели».
В этих расчетах и условиях трудно узнать Комиссаржевскую. Она сомневалась и потому, загородившись материальными вопросами, отдавала себя на волю случая.
Станиславский был неприятно удивлен требованиями, которых Художественному театру не ставил ни один актер. Вместо прямого ответа он сообщал, что раньше конца августа общее собрание МХТ рассмотреть это заявление не сможет. Отказалась сама Комиссаржевская. Через девять месяцев, в апреле 1903 года, она повторит отказ, получив письмо от В. И. Немировича-Данченко. «Одно из моих очень давних мечтаний, — писал он, — Ваше присутствие в труппе Художественного театра… Вот во мне и трепещет беспрерывная мысль: не может быть, чтобы Вы и Художественный {73} театр не нашли таких общих точек, из которых можно было бы удвоить художественную энергию театра, истинную производительность искусства и Ваш личный вклад в него».
Дело было не только в том, что она боялась принести в жертву «часть привилегий» гастролерского положения. Вряд ли она сомневалась в творческой атмосфере театра. Но актриса видела в МХТ временное пристанище. В первом письме она вела речь лишь об одном сезоне. Во втором писала: «Вас вряд ли устроит (что мне, между прочим, говорил и Константин Сергеевич), если я пойду к Вам без уверенности, что иду навсегда».
Заветная мечта создать собственный театр не совместима с постоянной работой в МХТ. Организовать театр — это не только обеспечить его материальную сторону, но и создать вокруг дела идейную атмосферу будущего коллектива и вербовать союзников. И она не стала актрисой Художественного театра.
Тем не менее, помня об этой возможности, трудно было вернуться к переговорам с антрепренерами С. Ф. Сабуровым и А. Н. Кручининым. Из суеверия, из-за боязни преждевременно скомпрометировать свою мечту, она избегает разговоров о будущем театре, уклончиво отвечая на вопросы репортеров. Но в глубине души живет только эта мысль, только она ею движет, только она и заставляет заключить кабальный договор на весь сезон. Комиссаржевская будет играть с 15 сентября 1902 года до 15 мая 1903 года с тремя недельными перерывами в декабре, марте и апреле. Занятая в каждом спектакле, она лишается свободных вечеров. Антрепренеры строили эти гастроли на нещадной эксплуатации популярной актрисы, окружив ее невозможной труппой «числом поболее, ценою подешевле». И поэтому — провал почти каждой пьесы. Лишь чудом прорывается она в некоторых (преимущественно старых) ролях к успеху. События этого года, кажется, сговорились против нее.
В августе 1902 года Комиссаржевская, как обычно, гостит у отца в Италии, в начале сентября возвращается в Петербург. Встреча с отцом делала ее всегда бодрой и крепкой, несмотря на огорчавшую обоих разлуку. Совсем иное возвращение на этот раз. С дороги она пишет Ходотову: «Вагон-купе — столик — окно… Холодно, холодно, холодно. Страшно, страшно, страшно. Пусто, пусто, пусто»[34]. И многое — за этим парафразом монолога Нины Заречной. Александринский театр возобновлял «Чайку». В прошлом сезоне она репетировала роль с Ходотовым. А теперь она {74} за бортом. Прибьется ли к берегу? Когда? Сколько надежд сама отняла у себя. Жертвовать она умела и делала это с какой-то истовостью. Но вдруг упала духом, словно почувствовала, что впереди одни лишения.
Даже спектакли — нетленная радость и смысл жизни — становятся мукой. «Все как на подбор недалеки и неразвиты духовно так, что совсем не хочется ничего показывать — все равно не поймут», — пишет она о труппе, сокращая роли, вымарывая многое. Она понимает, как серьезно это испытание для творчества. И победы пустые, и триумфы ненужные.
«Я не думала, что это так ужасно тяжело… — исповедуется она М. И. Зилоти. — Господи, по силам ли я взяла на себя задачу… Какая-то будто железная рука сдавила жизнь души, и она даже не пробует бороться. Я заставляю себя думать, что это те муки, в которых душа должна закалить веру в себя и в будущее, но сейчас так трудно, так невыносимо хочется лечь на землю и чувствовать, что уходишь в нее… Как ужасно, что святое, великое, что я хочу, жажду сделать, надо покупать такой ценой, кровью духа».
Она чувствует опасную близость того состояния, когда все становится безразлично, и человек делается пуст и нищ. Оборвался роман с Ходотовым. Она не верит, ужасается, смиряется, цепенеет от беспомощности. Она длит горечь расставания, посылая одно за другим «прощальные» письма: «… Все муки, все радости, все слезы и улыбки любовь оторвала от себя, чтобы вложить в Вашу душу, и теперь шлет последнее, что у нее осталось, воспоминания и стон: где же, где мой Азра».
Внешне, для посторонних, она сохраняет отличную форму, ведет обширную переписку с драматургами, режиссерами, критиками. Ей надо высоко держать свое знамя, чтобы не оттолкнуть тех, кто придет в ее лагерь. Она ищет друзей-союзников. «Вы мне нужны как художник, администратор, как друг мой и дела. Мы сделаем дело, верьте мне», — это не просьба, а почти приказ Карпову. Она возлагает серьезные надежды на молодого режиссера Василеостровского театра, в прошлом связанного с К. С. Станиславским, Н. А. Попова: «Мне сейчас надо от Вас только одно — чтобы Вы верили в мое будущее, как я сейчас верю». Известный критик Н. Е. Эфрос становится советчиком и помощником в организации театра. Своими руками закладывает она фундамент желанного здания.
В творчестве она пытается найти выход своей «тоске несусветной». Спокойное бытописательство никогда не было целью ее искусства. Сейчас особенно казались необходимы взлет, приподнятость. {75} Поиски Комиссаржевской героического и романтического лежали на пути тех перемен, которые переживал русский реализм конца XIX – начала XX века. Россия была накануне революции. Жизнь существующая исчерпала себя. Приближалась «здоровая, сильная буря». «Для того, чтобы выразить это предчувствие, понадобились новые слова и новые пути. Реализм перестраивался, сбрасывал с себя старую оболочку и вырабатывал новую форму», — пишет Г. А. Бялый. Чехов довел старый реализм до такой ступени, когда «нереальность всего строя жизненных отношений стала как бы арифметически доказанной при помощи узаконенного автором “Дамы с собачкой” молекулярного анализа всех простейших жизненных случаев, когда настало поэтому время перехода от реализма критического к реализму героическому»[35]. Восстановление героизма в «его законных правах» входит в эстетическую программу Короленко. Писатель отказывается от прямолинейного принципа «верности действительности» или «беспощадной правды». В символических обобщениях ищет он красоту будущего. 1890‑е годы — время прихода в литературу Горького с его призывом к борьбе и подвигам. Романтическое бунтарство стало темой его произведений. Он считал это не только отличительной особенностью своего таланта, но и характерным признаком новых веяний в искусстве.
В этих переменах органически нуждается талант Комиссаржевской. Она живет не в полную меру своих возможностей: «Есть в таланте г‑жи Комиссаржевской что-то правдивое, могучее, всегда себе верное, подобное свету солнца», — так думают об актрисе современники[36]. «Особенности ее дарования требуют возбуждающего, яркого». Горящие «звезды синих глаз», пластичная окрыленность движений, вещий «вешний голос»[37]. «Комиссаржевская была внутренне музыкальна. Она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханием словесного строя; ее игра была на три четверти словесной», — так слышал и воспринимал ее поэт О. Мандельштам.
Во время гастролей 1902 – 1903 годов актриса вынуждена была сохранить большую часть старого репертуара, обновив его пятью премьерами. Но в старом она ищет новое, требуемое временем звучание. Романтические интонации слышатся в ролях Наташи {76} («Волшебная сказка» И. Н. Потапенко) и Марикки («Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана). В первой пьесе она, пренебрегая деталями быта, концентрирует внимание на сценах сильного подъема чувств. В образе Марикки актриса создает особую «прозрачность душевного настроения». «В ее глубоких синих глазах, в нервной дрожи проникновенного голоса, в томных или порывистых движениях гибкой фигуры медленно, минута за минутой, разгорался огонь Ивановой ночи, как медленно и жарко разгорается костер из зеленых веток», — романтический тон рецензии был рожден новым открытием роли[38]. Отсюда естествен путь к теме бунта. Она ищет образы радости, чистоты сердечной, счастья, которые кажутся пришельцами из новой, завтрашней жизни. Ищет, но не всегда может и умеет найти. Старые пьесы «Вечная любовь». «Пережитое», «Гибель Содома», «Забава» непригодны для открытий.
То усилие (может быть, насилие?), к которому Комиссаржевская прибегала, отдав талант во власть антрепренеров, согнуло ее. «Я не верю ни во что сейчас — ни в будущее, ни в себя. Я говорю это без отчаяния: во мне все сжато железной рукой», — такая депрессия мешала намерениям таланта. Нервозность часто подменяла собой одухотворенность, и вместо цельного впечатления у зрителей оставалась память о «вспышках». Новые роли, близкие к желанной теме, тоже не становятся победами актрисы.
Новинкой гастрольного сезона была пьеса Зудермана «Родина». Премьера состоялась в любимом актрисой городе Харькове 23 сентября 1902 года. Магда в юности оставила свой дом и город — обитель мещанства. Она вступила в неравный бой с жизнью и вышла победительницей. Большая, всемирно известная актриса возвращалась на родину. «Сначала я смущалась выступать в роли, где почему-то требуют от героини величественной внешности, но я смотрю на эту роль как на олицетворение протеста души против узкой морали, и она меня волнует глубоко… Я чувствую Магду», — так говорила о роли Комиссаржевская. Отстаивая социальный и нравственный характер протеста Магды, актриса почти отказалась от богемных черт. Она не хотела, чтобы бунт Магды вышел таким же мещанским и вздорным, какими были взгляды ее семьи, ее «родины». Комиссаржевской дорога сердечная чистота героини, способность не только чувствовать, но и думать. Ее мало задевает упрек Кугеля в том, что она лишила {77} Магду черт взбалмошности, надменности, изломанности. Критик требовал верности драматургу. Актриса присягала лишь своей идее.
Финская трагическая актриса Ида Аалберг (гастролировала с этой ролью в Петербурге в 1905 г.) передавала в Магде «ее горький жизненный опыт, гнет испытанных разочарований». Комиссаржевская хотела через прошедшие разочарования подняться к радости победы.
Романтического взлета искала Комиссаржевская в пьесах польского драматурга С. Пшибышевского, поставив 17 сентября 1902 года «Золотое руно». Золотое руно — символ счастья, которого герои добиваются ценой преступления. Но возмездие преследует их. «Существует таинственная внутренняя нравственность в каждом поступке. Что дурно, то всегда мстит за себя. Колесо судьбы давит людей», — говорит герой пьесы. Ирена (единственная женская роль в пьесе — ее играла Комиссаржевская), расставшись с любимым человеком, выходит замуж за другого. Она несчастна, ибо предала любовь, а долг привязывает ее к ревнивому мужу. Герои — условные люди, обитающие в условном месте. Мечты героев лишены конкретности. Ирена жаждет «солнца, света, музыки, танцев». Может быть, именно этот мотив предполагала развить Комиссаржевская. Но ей нечем было заполнить отвлеченную символику пьесы. Скованность души — плохая творческая основа. Конечно, у актрисы были «моменты», «задушевная грусть», «серебряный голос», «тяжесть невыносимой печали». Но этого ли добивалась Комиссаржевская?
Одной из программных должна была стать роль Монны Ванны в одноименной пьесе М. Метерлинка (премьера — 6 января 1903 г. в Москве). Режиссер спектакля — Н. А. Попов (он же ставил «Родину» и «Золотое руно»). Комиссаржевская рассчитывает на романтический характер его дарования. Роль Гвидо была поручена М. В. Дальскому. Осенью 1902 года Комиссаржевская и Дальский гастролируют в Одессе. Тогда-то она решила попытаться осуществить свои начинания в дуэте с хорошим актером-романтиком. В течение месяца работали над новым спектаклем. Но Комиссаржевская и Дальский, гастролируя в разных городах, готовили роли поодиночке. Режиссер Попов придумывал мизансцены, подыскивал декорации и костюмы, находясь в Петербурге.
Монна Ванна совершала необычный, но полный гражданского мужества поступок. По требованию врага она приходила ночью обнаженная в его палатку, спасая этим осажденный родной город. Актриса мечтала о воплощении героической темы. «При первом {78} же появлении на сцену Монны Ванны зритель сразу почувствовал, что при всей мягкости, при всей нежной женственности ее натуры, она вся полна непреклонной решимости совершить подвиг», — справедливо отметил критик[39]. Но попытка создать героический характер снова не удалась. Критики толковали о красивой сказке, обыкновенной инженю, о «стилизованной женщине самых последних дней». Очевидно было одно: талант Комиссаржевской не соединился с героизмом трагедии.
Романтические образы актрисы не соединились с насущными заботами дня. Ее жизненный пафос был чужд всякой отвлеченности и требовал конкретных сегодняшних стимулов. Современники точно объясняли индивидуальность Комиссаржевской: «Совпадение роли и действительности, живого существа и “актрисы”, так поразительно в Комиссаржевской и так исключительно для нее […] К Комиссаржевской существовал всеобщий интерес как к “человеку”, так как все чувствовали, что в ней… “актриса” и “человек” слиты в одно. И не “человек” служит “актрисе”, а “актриса” служит “человеку”»[40]. В «Монне Ванне», «Золотом руно», «Родине» этого совпадения не произошло.
Гуманизм прошлого века в преддверии революции 1905 – 1907 годов требовал обновления. «Мещане», «На дне», «Доктор Штокман», поставленные Художественным театром, положили конец подштопыванию и переделке на современный лад устаревших пьес. Комиссаржевской предстояло сделать собственное художественное открытие нового века.
Мне надо подняться очень высоко теперь, чтобы найти себя, так высоко, как, может быть, никогда еще я не поднималась.
Поиски романтического актриса продолжает в концертном репертуаре. Дирижер А. И. Зилоти включил в программу концертов Симфонического собрания на сезон 1902/03 года исполнение поэмы Байрона «Манфред» с музыкой Р. Шумана. На роли {79} духа, феи Альп, Немезиды и Астарты была приглашена Комиссаржевская, партия духа была певческой. Манфреда читал Ф. И. Шаляпин. Концерты состоялись 14 и 15 декабря 1902 года в Москве в зале Благородного собрания, и Комиссаржевская с панической тревогой будет ждать этого выступления, чувствуя, как важен для нее успех. Она восхищается поэмой: «Не знаю, есть ли что-нибудь на свете выше этого — гению Байрона некуда уж было идти потом». Актриса сочувствует наивысшему напряжению байроновских противоречий, понимая, что Манфред в любую переломную эпоху будет принадлежать новому времени.
Для Комиссаржевской и Шаляпина современность поэмы выразилась в гордом и великом бунте Манфреда, в его трагическом отчаянии. Партия духа у актрисы вышла земной, по мнению критиков: «В ней слишком много чувства и нет бесстрастности». Подобный же упрек получил и Шаляпин за Манфреда, который не выглядел сверхчеловеком. Горький восхитился чтением Шаляпина. Оба актера очеловечивали красоту и мощь байроновских героев. «Лучше всего у г‑жи Комиссаржевской выходит Астарта. Ее восклицание “Манфред” — полно слезами. Оно производит потрясающее впечатление. И когда потом кларнеты повторяют этот удаляющийся, затихающий где-то в бесконечности звук исчезнувшего видения — вам еще слышится голос Комиссаржевской, в котором хлынуло такое море слез»[41].
«Слишком много чувства», — в этом вся Комиссаржевская. Ее повышенная эмоциональность часто оказывалась сильнее и значительнее драматических образов. «Поменьше чувства, и жизнь твоя утратит ненужный трагизм», — советовал ей отец. То, что в быту представлялось излишней нагрузкой, в искусстве становилось средством передачи неразрешимых противоречий. Она всегда испытывала ощущение, что не досказала самого важного, что вот‑вот откроется возможность излить все свое глубокое и горестное знание жизни. Не этот ли напор чувств был секретом ее силы, ее влияния?
Неизрасходованную в спектаклях энергию она переносит на концертную эстраду. Наиболее интенсивная концертная деятельность актрисы приходится именно на эти два года между Александринской сценой и началом своего дела.
1 ноября 1903 года, гастролируя в Петербурге, она опять выступила в концерте А. И. Зилоти. На этот раз с мелодекламацией {80} трех стихотворений в прозе И. С. Тургенева на музыку А. С. Аренского. Композитор посвятил ее Комиссаржевской. Благодаря за посвящение, она особой симпатией отмечает «Нимфы».
«Как хороши, как свежи были розы…» — читала Комиссаржевская ранее. Ушла молодость, терзая душу нежнейшими воспоминаниями. «Меркнет и гаснет» старость. Грусть уходящая и не рождающая нового дня не была творческой необходимостью Комиссаржевской. Недосягаемое «лазурное царство» осталось во власти призрачного сна. Это всего лишь намять о радости, так и не сбывшейся. «Нимфы» волновали глубоко близостью неосуществленной мечты. Образная система этого стихотворения энергична и переведена в план реальности. Пейзаж в «Нимфах» напоминает любимую актрисой природу Северного Кавказа: лесистые горы и южное солнце. Среди ликования природы возрожденные богини не кажутся мифом. Они преждевременно разбужены и потому исчезают, унося радость, полноту жизни, оставляя тоску по себе. «Но как мне было жаль исчезнувших богинь!» — через двадцать пять лет после написания строки эти полны для Комиссаржевской близкого и дорогого ей смысла.
Темы, которые могли бы дать полет ее чувству, Комиссаржевская ищет у авторов с романтическим настроением. В феврале 1904 года, в дни начавшейся русско-японской войны, на гастролях в Москве она собирается читать отрывок из рассказа В. Г. Короленко «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» и содержащуюся в нем притчу. Смысл рассказа перекликался с трагическими событиями войны. Ангел неведения, посланный богом на землю, вернулся окровавленным и получил от бога имя — Великая скорбь. Притча кончается обращением Ангела к богу: «Теперь, господи, отпусти меня опять на землю… Я снесу священную кровь праведника детям его и детям убийц… И пусть, когда они вырастут, ясность заменится в их глазах скорбью познания… И тогда первые будут готовы встать на защиту слабых, по обычаю своего рода, и будут исполнять завещание отцов до тех пор, пока дети гонителей поймут всю скорбь, истекающую из завещания насильников».
Художественные намерения актрисы проявились в интересе к одной так и не воплощенной роли. Еще на Александринской сцене она загорелась надеждой сыграть роль Жанны д’Арк в посвященной ей пьесе «Дочь народа» Н. П. Анненковой-Бернар. Этот замысел на несколько лет захватил ее. Актриса пренебрегала риторичностью пьесы, допуская, что она даже может быть и «слабей во сто раз, чем она есть», оперной статичностью народных {81} сцен, тем, что Жанна представлена не в поступках и действии, а в сценах мистических вещаний, галлюцинаций. Впрочем, как раз последнее и пришлось актрисе особенно по душе. Когда человек не видит реальных сил, готовящих будущее, он начинает верить в чудо. Таким чудом, полным высоких гражданских настроений, и была для Комиссаржевской Орлеанская дева. «Это настоящая, какой она была, — пишет актриса о Жанне, — и поэтому это тоже может представить интерес и именно теперь в наше время, если личность окружена мистицизмом, благодаря чуду, которым она совершила свой подвиг». Она надеется, что тема подвига вернет ей «веру в себя», откроет дорогу к романтическому. «Она будет пробным камнем для меня, — таково заключение актрисы. — Если я не могу быть творцом в этой вещи, значит, я не художник…»
Актриса давно чувствовала необходимость поднять героическое знамя дня и таким образом наследовать традиции высокого трагического репертуара. Без выхода в эту сферу собственная деятельность казалась малозначительной. Но она возложила слишком много надежд на вещь, не выдерживающую такой нагрузки.
В 1902 году «Дочь народа», которую предлагала Комиссаржевская, не появилась на сцене Александринского театра. П. П. Гнедич удивился выбору пьесы и предложил шиллеровскую Иоанну. Комиссаржевская отказалась. Этот конфликт, по мнению Теляковского, послужил одной из причин ее ухода с императорской сцены. Через два года, когда будет возможность поставить пьесу в своем театре, она откажется от нее сама, объясняя решение отсутствием материальных средств. Но подобными мотивами в делах творческих Комиссаржевская никогда не руководствовалась.
В отношении актрисы к роли сказалась ее эволюция, становление художественной личности. «Она была какой-то Жанной д’Арк», — писали о Комиссаржевской, признавая ее право на героический образ. Ее сравнивали с величайшей трагической актрисой: «После голоса Ермоловой — тот уж трагической силы! — нет инструмента лучше для изображения человеческих страданий»[42]. Но оттого-то роль Жанны и не состоялась, что Комиссаржевская пыталась впрямую продолжить традиции Ермоловой. Неизвестно отношение Ермоловой к драме Анненковой-Бернар, зато известна ее восторженная оценка книги Марка Твена {82} «Личные воспоминания о Жанне д’Арк Сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря». А пьеса целиком вышла из этой повести. Но когда Ермолова рекомендовала своему другу Л. В. Средину прочитать книгу Марка Твена, она советовала ему забыть о Чехове, чувствуя, что это миры несовместимых симпатий. Вероятно, Комиссаржевской для создания роли Жанны тоже пришлось бы забыть Чехова, если бы для нее это было возможно.
Противоречие художественных систем обеих актрис несомненно. «Я считаю себя… — писала Ермолова в 1893 году, — актрисой классического репертуара. Там я чувствую себя свободно, там все мои симпатии и любимые роли». Ермолова была выразительницей революционных настроений 1870 – 1880‑х годов. Была и осталась. Пересмотр этих идей казался ей святотатством. В современности она не видела достойных преемников прошлого. Письма Ермоловой отразили устойчивость ее взглядов и неизбежный конфликт с новыми запросами жизни. Даже то, что родилось одновременно с ее лучшими ролями, но предвосхитило свое время, вызывало ее неприятие. У М. П. Мусоргского она видела «отсутствие таланта», а про «Бориса Годунова» писала: «По-моему, это падение, если в музыке слышны проселочные дороги и топот лошадей». В опере Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» она видела лишь холодные идеи. «Мне ненавистно это новое направление, это изображение беспросветного мрака и ужаса жизни. Этой голой правды, одной страшной правды, одним словом, этот “ибсенизм”». Чехов, Ибсен, Гауптман, Метерлинк для нее «синоним болезни, мрака, пессимизма».
С. Н. Дурылин, исследователь творчества Ермоловой, справедливо считает, что это связано с самим существом ее художественного гения, «с одинаковой силой утверждавшего и героическую волю… и романтическую мечту… “Орлеанская дева” объединяет эту волю и мечту в освободительном действии героя». Впоследствии время откроет Ермоловой красоту и человечность нового направления, и она сыграет фру Альвинг в «Привидениях» Ибсена. Но это будет перелом в ее творчестве. Средин, бывший другом Чехова и Ермоловой, считал, «что классические испанские драмы… исказили вкус Марии Николаевны, отвратив ее от искусства повседневности».
А всякий отрыв от повседневности обрекал искусство Комиссаржевской на бездеятельность. Она знала и чувствовала, как никто, современных женщин, ходящих с ней по одним улицам, носящих те же платья. Ни отвлеченность, ни история, ни классика не были сродни ее таланту. И все-таки Комиссаржевская {83} была наследницей Ермоловой по той высшей степени трагичности, с которой она относилась к каждой серьезной роли. И сама Ермолова чувствовала это, предлагая Комиссаржевской выступать в ролях ее или близкого ей репертуара: «Отчего не играете Маргариту Готье? Еще Вам надо играть Адриенну Лекуврер и “Сверчка”… В “Сверчке” вы можете чудес наделать».
До трагических высот ермоловского искусства Комиссаржевская поднялась в иных ролях. Мейерхольд с чувством досады говорил о желании видеть в Комиссаржевской Жанну д’Арк, считая, что прелесть ее «была как раз в том, что она играла героинь, совершенно не будучи героиней». Эта особенность актрисы быть «негероической героиней» дала основание О. Мандельштаму сказать: «У Комиссаржевской были все данные большой трагической актрисы, но в зародыше». Мейерхольд развил эту мысль: «У нее было богатство красок. Она была в высшем смысле музыкальна, то есть не только сама хорошо пела, но и роли строила музыкально. У нее был дар естественной координации телесного аппарата: на понижениях тона никли руки — вообще говоря редкое свойство. Ее техника как актрисы была не ремесленной, а индивидуальной, и поэтому казалось, что у нее и нет никакой техники […] Не знаю, почему я, говоря о Комиссаржевской, вспомнил вдруг Гаршина. Должно быть не случайно». Как и Гаршин, она несла «музыку своего времени», передавала его важнейшие трагические коллизии. «Она обладала огромной артистической жизнерадостностью, — вспоминал Мейерхольд, — но в то время это никому не было нужно». Нужное она нашла и сделала символом времени в ролях Нины, Ларисы, Норы. Приход к ибсеновской героине был творческим итогом ее самостоятельных двухлетних гастролей. Нора стала Жанной д’Арк актрисы.
Продолжались утомительные гастроли. Театры, в которых она играла, «берутся с бою» (ее выражение), билеты — нарасхват. А. Н. Кручинин объявлял по прибытии на новое место: «Город наш!» Каждая роль Комиссаржевской, словно подвиг самосожжения. «Будто она делила свою душу на части и бросала их на съедение жадной и ненасытной толпе», — писал потрясенный ее игрой рецензент[43]. С той же исступленной самоотдачей принимала ее публика. Частые истерики у зрителей на спектаклях говорили о необычном накале чувств. Вместо рецензий в газетах появлялись стихи, полные возвышенной символики. Актриса будила мир благородных, мужественных настроений. «Мы не {84} бедные», — радостно соглашались зрители с Комиссаржевской. Адрес к ней, полный благодарности, интимной ласки, подписывают свыше пятисот человек. Публика видела в ее уходе с императорской сцены, в ее спектаклях общественный подвиг и была счастлива присоединиться к нему. Жить по-прежнему казалось немыслимым. Улицы выглядели грязнее, дома — темнее и ниже, существование без правды — невыносимее.
Вот что писал О. Мандельштам о поведении зрителей в то время: «Доходило до ярости, до исступленья. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург».
Это «предысторическое беспокойство» Комиссаржевская вызывала из глухих и темных недр провинциальной жизни. Актриса чувствовала новую публику, в ее реакции угадывая приметы новых дней.
Маршрут гастролей был знаком по прежним поездкам. Начав 15 сентября 1902 года в Харькове, она посещает Полтаву, Екатеринослав, крымские города, Николаев, Одессу, Кишинев; делает перерыв, выступает в Петербурге, Москве и едет на Кавказ — в Баку и Тифлис. После Новочеркасска, Ростова, Воронежа она по Волге отправляется в Саратов, Симбирск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, где 15 мая 1903 года заканчивает труднейший путь. Около 2000 рублей за спектакль собрала она в Одессе, вместо обычных для нее ранее 500 – 700 рублей. В целом же за все гастроли выходило на круг более 1000 рублей. В мае Комиссаржевская располагала суммой в 20 000 рублей. А начинать дело можно было, имея не менее 50 000. Поэтому и не устраивался театр с будущей осени. Еще в январе 1903 года она уговаривала Карпова, обнадеживала Попова, искала администратора. А в феврале была вынуждена признать, что театр ей в этом году не открыть. И сразу сказалась усталость.
3
Боюсь потерять свой талант.
Разочарованных женщин с безнадежной судьбой выводит Комиссаржевская на сцену. Цель актрисы — по-прежнему борьба с несчастьями общества. Силой искусства она хотела изгнать беду из жизни. Но это никому не удавалось. На поверхность подымалась {85} тема ужасной, испепеляющей любви. Мотивы социальные заслонялись роковыми, мистическими и потому приобретавшими особенно угнетающий характер. Обреченной становилась всякая надежда. Нет, Комиссаржевская не собиралась воспевать отчаяние — не было сил подняться над ним. Отсюда — безнадежность, утрата цели, усугубленность страдания.
В феврале и марте 1903 года она сыграла новые роли — Вари («Вопрос» А. С. Суворина) и Анны Демуриной («Цена жизни» В. И. Немировича-Данченко). Варя — жертва несчастной любви. Демурина — жертва пустой и постылой жизни. Вместо надежды и веры эти героини могли вызвать лишь жалость и сострадание. В эти роли актриса вкладывает столько «неподдельного отчаяния, что в театре витает ужас»[44]. Резко меняется характер сравнений и система привычных образов, которой награждали Комиссаржевскую критики. Об исполнении Анны Демуриной писали: «Словно струна нежная и мелодическая зазвучала со сцены и, не находя себе вокруг сочувственного отклика, звучала все тоскливей и тоскливей, пока не зазвенела порывом безумного отчаяния, надрывом всех сил души»[45].
Новый сезон 1903/04 года она начинает в Петербурге гастрольными спектаклями в театре Литературно-художественного общества. Затем, отказавшись от всякой антрепризы, выступает в разных городах с местными труппами. Летом 1903 года, играя в Кисловодске, где она почти ежегодно лечилась, и отдыхая в Италии у отца, Комиссаржевская ищет пьесы для будущего сезона. Сознательно или нет, но выбранные ею роли продолжают тему, начатую в «Вопросе» и «Цене жизни».
В сентябре — ноябре 1903 года она показала Петербургу три новых спектакля: «Сказку» А. Шницлера, «Вчера» В. О. Трахтенберга, «Искупление» И. Н. Потапенко. Драмы претендовали на постановку серьезных вопросов современности. Но были вполне скомпрометированы либо бесталанностью автора, либо неспособностью подняться выше увиденного факта. Наименее интересной была пьеса Трахтенберга. Драматург считал, что «человек рождается с задатками гадины» и живет «тяжелым вчера», а «светлое завтра» надо выстрадать. Классная дама Елена Хроменко (роль Комиссаржевской) говорила много справедливых слов о борьбе с безнравственным обществом, страдала, но оставалась бездейственной и нежизненной. Актриса предчувствовала неудачу {86} роли. Летом 1903 года она писала Карпову: «По-моему, мне не надо играть “Вчера”. Как пьеса она ничего из себя в сущности не представляет интересного, действительна как роль […]. Для меня при данных условиях мало представляет интереса играть в пьесе роль не активную». Выступление в этой роли было компромиссом: «Я непременно хотела найти что-нибудь русское». Пьеса, пройдя в Петербурге семь раз, во время дальнейших гастролей этого сезона была показана актрисой всего дважды.
Драма «Искупление» по характеру и концентрации эмоций близка Комиссаржевской. Потапенковская героиня Марьяна стремится искупить фамильную вину семьи Сандаловых. Марьяна «не только любит, но и желает пострадать… Она ищет подвижничества»[46]. Близкую ей тему подвига актриса разрабатывала на патологическом материале. Марьяна любит профессора Валежникова, который убивает свою жену, давно чужую и ставшую для него наказанием. Марьяна берет грех на себя, хотя убитая приходится ей сестрой.
Потапенко шел за Горьким и Найденовым, показывая распад современной семьи, но ограничился клиническим случаем. Спектакль превратился в настоящее испытание для нервов зрителя. Комиссаржевская была, несомненно, равноправным соавтором драматурга. Память о личной трагедии, перенесенной в юности, никогда не оставляла ее. Всякое напоминание о прошлом словно бы возрождало его. И если отсутствовал выход в большую тему, все силы актрисы уходили на изображение страдания. Наплыв эмоций уничтожал драгоценное чувство самоконтроля. Глаза ее переполнялись страхом, голос и руки не слушались. Словно исчезали возродившие ее восемнадцать лет, и она, как тогда, почти безумная прощалась с жизнью. Она не любила этой власти прошлого над собой. Поддавалась ей неожиданно, страшась своей беспомощности. «Г‑жа Комиссаржевская, не щадя себя, обнажала свои нервы и терзала публику, но — для меня лично, по крайней мере, смотреть, как талантливая артистка губит свое здоровье, тратит силы и дарование, чтобы помочь г. Потапенко пощекотать нервы зрителей, — зрелище далеко не из приятных», — писал один из рецензентов[47].
Пьеса вошла в гастрольный репертуар 1903/04 года, была сыграна, в отличие от «Вчера», восемнадцать раз, но впоследствии тоже никогда не повторялась.
{87} О гастролях в театре своего хозяина критик суворинской газеты «Новое время» Ю. Д. Беляев должен был писать одобрительно. Прежние симпатии к таланту актрисы обязывали. Но роль у него не вызывала широких обобщений. Он ограничился передачей ряда удачных мест. А те выводы, к которым приходили иные критики, не могли радовать актрису. Она возвращалась к давно изжитой теме безысходных страданий. Это был тот шаг назад, который приходится делать художнику, чтобы остановиться в раздумье, проверяя современность прежних находок.
Тот же «страдательный» характер имела роль Фанни Терен в пьесе А. Шницлера «Сказка». В данном случае автобиографичны были не только эмоции, но и жизненные ситуации. Внешняя характеристика, которую предпослал своей героине автор, поражает совпадением с типичными приметами облика Комиссаржевской: «Фанни Терен — актриса среднего роста; стройная гибкая фигура, большие темные глаза. Ее движения полны природной грации, сквозь которую мелькает не то растерянность, не то незаконченность». В пьесе развивалась тема женщины с «прошлым». Это «прошлое», поэтично названное сказкой, делало Фанни в обществе отверженной. Как ни либерален писатель Теодор Деннери, любящий Фанни, но и он во власти цепких предрассудков. Когда нежная, страстная Фанни Терен, стоя перед ним на коленях, протягивала руки и молила исступленно, — он оставался недвижен, глядя в невидимую точку добра и совести.
Любовь и прежде не спасала ее героинь. Теперь ее «люблю» звучало как «умираю», — заметил Беляев. Разлад с действительностью превращался для Комиссаржевской в разлад с собственными мечтами и надеждами. Актрисе начала изменять ее жизнерадостность. Фанни, вопреки пьесе, с первого же момента казалась желчной и неудовлетворенной. «Ее радость не светла […] В ее восторге больше боли, чем страсти […] Несмотря на то, что улыбается Фанни, — зритель ждет и предчувствует драму», — писал П. М. Ярцев. Финал пьесы, когда Фанни становится актрисой и произносит под занавес: «Я нашла свою дорогу», не был органическим завершением сюжета. Сам драматург не нашел связи между драмой Фанни и ее счастливым исходом.
Успех роли был вызван близостью судеб актрисы и героини. Прерывающийся голос, «ширящийся взгляд больших мученических глаз», и вся она, «трепещущая тоской безысходной, наполняющая ужасом сердца», была для зрителей дорогим человеком. Для многих она появилась в Петербурге впервые после двухлетнего отсутствия (за это время она лишь в декабре 1902 года играла {88} в Панаевском театре Магду). Самый факт ее первого выступления — огромное событие. Беляев находит его более значительным, чем спектакль: «В зале погасли огни и говор притих… Плюшевый занавес оранжевого цвета, снизу освещенный рампой, дрогнул и надулся, словно от охватившего его волнения. Открылась сцена. Вышла высокая актриса, и за ней кто-то еще в красной кофточке, кто-то знакомый и желанный… По крайней мере, на минуту усомнившись, она ли это, театр встретил вошедшую ревом. Потом, когда овации стихли, раздался знакомый голос и оборвался от волнения… — Конечно… А то как же… — Я не встречал актрисы с большей способностью, чем у г‑жи Комиссаржевской, с первых же слов роли, одним голосом завладеть вниманием всего зала».
Любопытна была реакция публики, которая словно не хотела замечать растерянности актрисы, ее «мрачного настроения». Для зрителей Комиссаржевская была выше своих временных неудач. «Она вошла в самую душу публики, последняя оставила театр взволнованной и растроганной. Было впечатление сильное, неотвязчивое, впечатление самостоятельной игры, самостоятельного таланта, отдельное от пьесы, от автора, от роли», — так подытожил свои впечатления Беляев.
Комиссаржевской готовы были аплодировать за то, что она — это она. «Ведь мои спектакли в Петербурге, — тревожилась актриса, — это такое страшно важное для меня событие, в смысле будущего и близкого, и далекого, если они будут неудачны, это будет так ужасно, как ничто еще не было до сих пор». Гастроли имели успех у зрителя. Этот успех сослужил добрую службу, вернув актрисе веру в себя.
И самое главное, решился «вопрос жизни», с будущего сезона она открывала в Петербурге театр. Вечером после спектаклей и днем между репетициями она устраивает десятки важнейших дел. Администраторы, пайщики, режиссеры, художники, актеры — всех надо найти, привлечь. Она понимает, что устойчивость художественного облика театра будет всецело в руках труппы, режиссеров. Она создает театр не как антураж для себя, а как творческое дело: свою энергию, свои художественные задачи она хочет перевести в жизнь и деятельность всего коллектива. Пожалуй, для достижения этой цели нужно больше свободного времени, больше единомышленников. В списке предполагаемых режиссеров сменяют одного за другим люди самых противоположных взглядов: Е. П. Карпов, К. Н. Незлобии, А. А. Санин и даже В. Э. Мейерхольд. Возникший в октябре 1903 года план театра, {89} пайщиками которого должны были стать Комиссаржевская, ее брат и Незлобии, рухнул. Окончательно дело решилось в январе. Не сразу ли зародились и неудачи, помешавшие впоследствии развиться ее театру? Но пока об этом не думалось.
Дважды, в январе и декабре 1903 года, приезжала она со спектаклями в Баку. Город остался ей памятен не одними гастролями. Там она познакомилась с революционером Л. Б. Красиным. Он добывал средства для партии и переправлял нелегальную литературу из-за границы. Деятельность Красина обеспечивала в течение нескольких лет работу бакинской подпольной типографии, печатавшей «Искру». «Наибольшие трудности, — писал впоследствии Красин, — представляло из себя финансирование этого все разраставшегося предприятия… Довольно много денег собиралось также всякого рода предприятиями вплоть до спектаклей, вечеров и концертов. Наша кавказская техническая организация довольно успешно использовала приезды на Кавказ В. Ф. Комиссаржевской, дававшей часть сборов на нужды партии». Актриса охотно шла навстречу просьбам Красина, устраивая благотворительные спектакли, концерты. В последующие годы к ней часто являлись посыльные от Красина. Г. М. Кржижановский писал: «Вспоминаю себя в качестве истца по записочке “Никитича” (партийная кличка Красина. — Ю. Р.) у знаменитой артистки того времени Комиссаржевской. Она только что закончила свой триумф на киевской сцене, — вся лестница вестибюля ее гостиницы заставлена цветами. В приемной целая свора “почитателей таланта”, терпеливо ожидающая аудиенции. Неладно чувствую себя в своем потертом облачении в этой фешенебельной толпе. К тому же ведь предстоит на первое знакомство нечто вроде “ограбления”… Передаю лакею мнемоническую записку, и — о чудо! — немедленный прием с приказом никого больше не принимать за нездоровьем великой артистки… А передо мной не артистка, а женщина-товарищ с прекрасными глазами на усталом, болезненном лице… И мы целый час беседуем с ней о наших делах, а больше всего о “Никитиче”, внушающем ей искреннее восхищение. Денежный вопрос является таким естественным выводом из ее договора с “Никитичем”, что вся неловкость положения сразу куда-то улетучивается».
Связь с Красиным Комиссаржевская поддерживала до конца жизни. Сохранилась ее записная книжка за 1908 год, где имеется берлинский адрес Красина на немецком языке для писем и телеграмм. Актриса понимала, что это не обычная благотворительная деятельность. Вот как рассказывала она Горькому о знакомстве {90} с Красиным: «Моя первая встреча с ним была в Баку. Он пришел просить, чтобы я устроила спектакль в пользу чего-то или кого-то. Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, веселый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязен в этом отношении. Но и развязен как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нем нет, громких слов не говорит, но заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности. Никак не могла подумать, что это революционер, но совершенно ясно почувствовала, что пришел большой человек, большой и по-новому новый».
Общественные взгляды актрисы определялись под влиянием тех, кто делал будущую революцию. В заботах о театре она ни на минуту не прекращала поисков его идейного и художественного облика.
В феврале 1904 года поело московских гастролей она едет в провинцию с труппой, которая является прообразом ее будущего театра. С ней гастролируют А. И. Каширин, А. П. Петровский, К. В. Бравич, Н. А. Попов, М. А. Ведринская. Из двух новых ролей — Ирена («Снег» Пшибышевского) и Нора («Кукольный дом» Г. Ибсена) последняя становится событием творческой биографии актрисы. Наконец-то страдание получало выход в поступке, полном утверждающего смысла. С Норой Комиссаржевская имела право на свой театр.
Варшава, Харьков, Киев, Одесса… Каждому городу она показывает эту новую роль, словно советуясь и утверждаясь в найденном. Никогда гастроли не проходили так стремительно. Казалось, время ускорило свой бег. И она торопила его, чтобы скорее наступило желанное 15 сентября 1904 года — день открытия ее театра.
{91} Драматический театр, дирекция В. Ф. Комиссаржевской
1
Я знаю, знаю больше, чем кто-либо, что творчество требует полной свободы…
Займет ли какое-нибудь место театр, а если займет, то какое?
Созерцательная позиция противопоказана характеру Комиссаржевской. Тем и тягостен был Александринский театр, что давал возможность лишь пассивно наблюдать нарастающую общественную борьбу. Изнурительные гастроли, где все зависело от ее личной инициативы, приближали к желанному действенному состоянию. Но творческие результаты в силу многих причин оставляли желать лучшего. То была суета с материальными заботами, не достойная даже названия борьбы. Душу иссушали хлопоты далеко не творческого порядка. Надежды и планы возникали лишь затем, чтобы рухнуть. Появилось мрачное настроение, невозможной казалась надежда.
И вот ценою колоссальных усилий, творческих лишений, (утешала мысль, что только свой театр даст настоящее искусство) она добилась желанной цели. С открытием собственного театра она вступила на путь настоящей борьбы. Комиссаржевская создавала театр не для пущей славы (большей, казалось, и желать невозможно). Но слишком часто за прошедшие годы ей случалось вступать в компромиссы. То официальный режим императорской сцены или, того хуже, — посредственная антреприза да скучные провинциальные труппы. И следовало мириться со многим ради главного — возможности творить. Как художник, она не могла не понимать всей пагубности компромиссов. Свой театр мог устранить самую почву для сделок с совестью. Коллективное усилие должно было приблизить ее к тому искусству, о котором мечталось.
Нечего и говорить о том, что театр Комиссаржевской не мог стать собранием случайных актеров с кассовым репертуаром. Когда был решен вопрос материальный и шесть пайщиков (В. Ф. Комиссаржевская, К. В. Бравич, М. С. Завойко, Ф. Ф. Комиссаржевский, {92} Н. А. Попов, Н. Д. Красов) внесли необходимую сумму — около 70 тысяч рублей, встал вопрос о художественных задачах нового дела.
Комиссаржевская хотела найти пьесы, где протест звучал бы впрямую. Не робкое касание этой темы, а разговор в полный голос, силой которого была бы идейная и художественная убедительность. Вместе с театром надо было преодолеть темы отчаяния, безысходности, усилить протестантский, как говорили современники, смысл страданий; утвердить революционное содержание современной жизни, поднять философские вопросы современности. В сфере этих высоких идей нельзя было забыть о человеке, о его победах и потерях. Актриса надеялась идейно и эстетически обновить лирическую тему. Найти ей место в новой жизни. Таким представлялся Комиссаржевской репертуар театра. Столь же принципиально следовало произвести отбор труппы.
Практически же громада замыслов Комиссаржевской воплотилась в формы уже известные, повторив то, что было открыто Московским Художественным театром. Создание нового сценического коллектива в XX веке требовало прежде всего режиссера-новатора, которого у Комиссаржевской не было. Приглашенные в драматический театр режиссеры Н. А. Попов, И. А. Тихомиров, А. П. Петровский, Н. Н. Арбатов принадлежали по настроению к художественникам. На деле это означало их творческую ограниченность и способность следовать пусть лучшим, но чужим образцам.
Революция, произведенная Художественным театром, доказала эстетическую несостоятельность старого сценического искусства. Однако прямые подражания не могли быть плодотворны. Не случайно замыслы Станиславского о создании филиалов МХТ в провинции не осуществились. Такой путь образования театров был бы административной мерой искусства. Но характерно, что лучшие новые театры того времени поначалу шли след в след за Станиславским.
Товарищество Новой Драмы, основанное Мейерхольдом, в первом сезоне 1902/03 года целиком повторило принципы МХТ. Исторически этот путь подражания был неизбежен, ибо слишком велик был авторитет художественников. Но через год, поняв неплодотворность повторения, Мейерхольд займется поисками новой театральной эстетики. Комиссаржевской понадобилось два года, чтобы понять, что нельзя считать творческим принципом повторение задач своего старшего московского собрата. Пока актриса надеялась и верила.
{93} Она отказалась назвать театр своим именем. Сознательно поставила первым спектаклем «Уриеля Акосту», в котором не была занята. Хотела общаться со зрителем через труд всего коллектива. Мечтала, чтобы каждая постановка — с нею ли, без нее ли — была равносильна успеху ее имени, но значительнее по масштабам, совершеннее по результатам.
С 1902 года Комиссаржевская поддерживает дружеские и творческие отношения с режиссером Н. А. Поповым, вышедшим из Общества искусства и литературы и сохранившим связь со Станиславским. Попов был предан искусству художественников и пропагандировал его. Молодость и неопытность режиссера не пугали Комиссаржевскую, скорее радовали, так как служили залогом неприятия старых дурных традиций. В числе режиссеров своего театра ей хотелось видеть художественников в прошлом: А. А. Санина и В. Э. Мейерхольда, с которыми не удалось договориться. Мейерхольд писал Чехову 8 мая 1904 года: «Звала меня к себе Комиссаржевская, испугал Петербург. Кроме того, она собиралась взвалить на меня только режиссерский труд. Как ни интересен труд режиссера, актерская работа куда интереснее». Знаменательная встреча была отложена на будущее.
Комиссаржевская, кроме Попова, остановилась на режиссерах И. А. Тихомирове и А. П. Петровском. Первый был учеником В. И. Немировича-Данченко, артистом и режиссером МХТ с 1898 по 1904 год. По инициативе Горького в 1903 году был приглашен в театр Народного дома в Нижнем Новгороде. Цензурные запреты прекратили жизнь театра на первом году его существования. Тихомирову поручена была в театре Комиссаржевской постановка горьковской пьесы, «которую тот ему сам отдал», — как сообщала в одном из писем актриса.
А. П. Петровский перешел из театра Ф. А. Корша, где он не хотел делить свою режиссерскую славу с Н. Н. Синельниковым. Он порадовал Комиссаржевскую еще в феврале 1904 года постановкой «Кукольного дома» с ее участием. На гастролях в Баку она познакомилась с местным антрепренером Н. Д. Красовым. Этот культурный и образованный человек занял в труппе место актера, администратора и пайщика. К. В. Бравич, давний друг Комиссаржевской еще с памятного Озерковского сезона, оставил театр Литературно-художественного общества для нового, неизвестного пока дела, внеся в него как пайщик все свои сбережения. Он был по-настоящему верен и Комиссаржевской, и театру, в котором стал одной из интереснейших фигур. В дирекцию {94} драматического театра первого сезона 1904/05 года вошли Комиссаржевская, Попов, Тихомиров, Красов и Бравич.
Россия была накануне революции. Потоком революционных настроений была захвачена Комиссаржевская. Театр представлялся ей полным сил и возможностей для того, чтобы слиться с духом современности.
Тема подвига и революционного бунта принадлежала в русской литературе Горькому. Он прояснил туманную историческую перспективу, которой жили герои Чехова, вооружил их оптимизмом и сознанием цели борьбы.
Горький был встречен читательской массой как художник, выразивший новые и важнейшие настроения времени. За Горьким чувствовали правду.
Для Комиссаржевской в 1900‑е годы писатель стал таким же идеальным выразителем самого главного в жизни, каким был Чехов в предыдущее десятилетие. В Горьком увидела она конкретное воплощение происходящих перемен. Он помог ей определить свои позиции, дал ее таланту направление. Горький стал близок Комиссаржевской своим пристальным вниманием к жизни интеллигенции, с которой актриса была связана кровно, крепко, навсегда. Страдала ее недугами, жила ее победами. Она откладывает в сторону книги Ницше и Рескина — книги не поспевают за жизнью. События действительности становятся наиболее коротким путем к истине. Герои пьес Горького помогают ей познать эти события и рассказать о них.
В начале 1900‑х годов Горький задумал цикл драм об Интеллигенции, о расколе и борьбе в ее рядах. «Куча людей без идеалов, и вдруг! — среди них один — с идеалом! Злоба, треск, вой, грохот», — писал он о замысле К. П. Пятницкому. В 1904 году появилась первая пьеса цикла — «Дачники». Временное расхождение драматурга с Художественным театром дало возможность поставить пьесу Драматическому театру, о котором Горький писал: «Театр Комиссаржевской — дело новое, солидное и, кажется, будет хорошо поставлено».
10 ноября 1904 года состоялась премьера. Горький телеграфировал Е. П. Пешковой: «“Дачники” прошли хорошим скандалом».
Многим вспомнилась первая постановка «Чайки» в Александринском театре. В 1896 году публика, рецензенты возмутились якобы нелепицей пьесы, а на самом деле выступили против Чехова, в котором верно почуяли врага благополучной жизни. В 1904 году скандал разразился после 3‑го акта. «Благовоспитанную публику» взорвала сцена объяснения в любви между {95} сорокалетней Марьей Львовной и молодым Власом. Ханжеское возмущение было лишь поводом, чтобы выразить истинную вражду к писателю-демократу, как поводом явилась восемь лет назад попытка обвинить Чехова в декадентстве и глумлении над современностью. Но прошедшие годы сделали эти эпизоды истории русского театра не похожими друг на друга. Чехов вынужден был бежать из театра, из Петербурга, он отрекался от попыток стать драматургом, понимая свое одиночество и бессилие. Одинокой оказалась непонятая Чайка — Комиссаржевская.
Не то было с Горьким, который вышел навстречу скандалу. Он стоял на сцене, скрестив на груди руки, взглядом усмиряя бунтующие ряды. Среди врагов — Мережковский, Философов, Дягилев. «Первый спектакль — лучший день моей жизни… Никогда я не испытывал и вряд ли испытаю когда-нибудь в такой мере и с такой глубиной свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы пред “публикой”, готовый на все безумия — если б только кто-нибудь шикнул мне. Поняли — и не шикнули. Только одни аплодисменты и уходящий из зала — “Мир искусства”… Публика орала неистовыми голосами… “Товарищ”, “Спасибо”, “Ура! Долой мещанство”», — писал Горький после спектакля Пешковой.
Провал «Чайки» может считаться победой автора лишь в историческом плане. Скандал на «Дачниках» не стал провалом, а, превратившись в бой, привел спектакль к подлинной победе Горького и Драматического театра Комиссаржевской. В числе самых значительных перемен, происшедших в обществе и поднятых спектаклем, была эволюция русской интеллигенции. Предреволюционные события помогали увидеть в народе главную движущую силу истории. Судьба интеллигенции зависела от народной. Эти вопросы стали темой горьковской пьесы. Спектакль выявил друзей и врагов театра, определил позиции прессы.
Критик Э. А. Старк писал: «В среду 10 ноября в театре Комиссаржевской совершилось редкое событие: во-первых, была поставлена пьеса Максима Горького “Дачники”, во-вторых, публика получила от писателя пощечину и очень этим обиделась. Нужды нет, что… эта пощечина так вот и просилась на размалеванную физиономию публики: последняя все-таки очень обиделась… и попыталась в бессильной своей злобе плюнуть в лицо писателю… Новое произведение Горького потому вызвало такой раскол во мнениях, что все, высказываемое в нем, очень уж метко попадает прямо в цель».
{96} Вместе со Старком критики А. А. Измайлов и М. П. Миклашевский приветствовали спектакль. С недовольной гримасой писал о «Дачниках» Ю. Д. Беляев. Он даже потерял интерес к одной из любимейших актрис — Комиссаржевской, считая, что она лишь пользуется «своими обычными приемами». Беляев не принял участия в развернувшейся борьбе. Он остался верен страдающей Ларисе, безответной Клерхен, может быть, психопатической Марьяне. Но с тех пор, как соединились имена Комиссаржевской и Горького, он мог лишь признавать нервную силу актрисы и оставаться глубоко безразличным к ее идейной борьбе. Этой Комиссаржевской он не принял и тем самым дал характеристику новому направлению ее таланта. Лагерь ее друзей становится уже, зато определенней.
Отзывы А. Р. Кугеля отличались внешним дружелюбием. Но критик пренебрег откровенной публицистичностью Варвары — Комиссаржевской, обратив внимание на «тоскующую душу», на «чарующую вибрацию нежного голоса».
На самом деле образ Варвары ценен своим позитивным смыслом, прямой передачей идей автора. Критик М. П. Миклашевский считал одной из лучших сцену между Варварой (Комиссаржевская) и Рюминым (Унгерн): «Прекрасная антитеза этих двух типов, жалкое бессилие этого человека с издерганной душой, угнетаемой всю жизнь страхом жизни, и прекрасная прямота чувства, которой полна Варя — это полюсы. Полюсы — их фигуры, их движения, интонации… Он робко, слабодушно, коснеющим языком объясняется ей в любви, а она стоит перед ним прямая как струна и с жестокой благородной прямотою отвергает его».
Актриса получила в роли настоящий материал для протеста. «Варвару Комиссаржевская играла совершенно изумительно, — вспоминала М. Ф. Андреева. — Монолог, в котором она обвиняет людей в том, что они засоряют землю, в том, что они, как дачники, — приедут, испортят все и уедут, ничего не оставив, кроме грязи, кроме бумаги, кроме мусора всякого, — она говорила горячо, с огромным подъемом. Весь театр был потрясен».
Спектакль «Дачники» был примечателен режиссерской работой Тихомирова и сплоченностью ансамбля. Эта шестая премьера Драматического театра сразу определила позицию молодой труппы. Именно «Дачники» сделали тему бунта и протеста темой всего театра, а не только Комиссаржевской. Бравич в роли Басова, Холмская — Марья Львовна, Блюменталь-Тамарин — Влас поддерживали основную идею пьесы, создавая спектакль подлинного {97} ансамбля. Сама Комиссаржевская, по воспоминаниям брата, роль Варвары не любила, но понимала ценность пьесы для жизни театра. Когда 18 января 1905 года «Дачники» были запрещены, Комиссаржевская предъявила иск градоначальнику Вендорфу о взыскании с него более тысячи рублей вечернего сбора и к и. о. градоначальника Фришу — восьми тысяч за представления горьковской пьесы, намечавшиеся до конца сезона. 17 декабря 1905 года правительствующий сенат рассмотрел депо, в иске Комиссаржевской отказал и «возложил на нее судебные и за ведение дела издержки». Актриса добилась возобновления спектакля в новом сезоне.
12 октября 1905 года, когда по всей стране широко развернулось стачечное движение, превратившееся во всероссийскую забастовку, театр показал новый горьковский спектакль «Дети солнца». Пьесу написал драматург, объявленный государственным преступником и находившийся в Петропавловской крепости в январе 1905 года. Это были первые революционные дни, первые жертвы, первые репрессии. В пьесе продолжали жить недавние кровавые события. Отношение к восставшему народу стало единственным мерилом ценности каждого и всей интеллигенции. Всякий, кто говорил о пьесе, вольно или невольно определял свою позицию в революции. Горький был верно понят и друзьями и врагами.
Мнение цензора было категоричным: «У меня не возникает никаких сомнений в совершенной недопустимости на сцене рассматриваемого произведения, ввиду его крайней тенденциозности, могущей вызвать при исполнении пьесы нежелательные последствия». С огромными трудностями 17 сентября 1905 года было получено разрешение. Через десять дней пьесу читали на труппе. Прошло одиннадцать репетиций, на четвертой присутствовал Горький. Весь театр ушел в работу над «Детьми солнца». Актеры уставали от напряженных, длительных, часто ночных репетиций; спектакли шли вяло.
В это время частные театры в Петербурге прекратили спектакли, выражая свою солидарность с революционными событиями. В Драматическом театре с 15 по 20 октября 1905 года представления были отменены. Труппа собиралась, обсуждая происходящее. Актерская забастовка становилась главной темой таких собраний. 20 октября в помещении Панаевского театра состоялся митинг сценических деятелей, где обсуждался царский манифест и роль театрального мира в освободительном движении. Были затронуты вопросы свободы слова и борьбы с цензурой. Выступила {98} и Комиссаржевская. Говорила горячо, но, спускаясь с эстрады, вывихнула ногу и долго не могла ходить. Из‑за этого спектакль «Дети солнца» шел с измененными мизансценами, при которых актриса могла совершать минимум движений. «Не везет мне в политике», — грустно шутила она.
Премьера «Детей солнца» была ответом театра на революционные события. Театр прочитал пьесу как трагический рассказ о современности. Бравича, игравшего роль ученого-химика Протасова, сравнивали с доктором Штокманом — Станиславским. «Самое яркое место пьесы — гимн Протасова знанию, прекрасный по выполнению и прекрасно произнесенный Бравичем, вызвал шумные аплодисменты во время действия», — писал А. А. Измайлов[48]. Театр показал высоту помыслов Протасова и их несоответствие жизни.
Эта же тема легла в основу создания Комиссаржевской образа Лизы. Тихо и незаметно появляется Лиза впервые где-то в глубине сцены. Глаза опущены, голова склонена набок. Пугающе неожиданно возникает она в комнате во время разговора Вагина с женой Протасова Еленой, заставляя их смутиться. Каждое ее появление словно укор тем, у кого совесть нечиста. В этом лагере у нее один союзник — брат. Когда Протасов читает монолог о «детях солнца», Лиза — Комиссаржевская сидит в напряженной угловатой позе, вбирая в себя каждое слово. В нервном порыве, вскакивая, она говорит: «Павел, это хорошо! Дети солнца. Ведь и я?.. Ведь и я?.. Скорей, Павел, да? И я тоже?» Но чувство вины перед страдающим народом, ощущение своей ненужности лишает образ Лизы гармонии. Тревога усугубляется неожиданно пришедшей любовью, в которую она не хочет верить. Нарушен болезненный покой Лизы. Она мечется по сцене, не находя себе пристанища. Испуганно забившись в угол, смотрит на Егора, замахнувшегося поленом на жену. В истерике падает на руки брата. Вся дрожа от недобрых предчувствий, бежит, удерживаемая Еленой, ищет любимого человека: «Где он?» Властно останавливает сестру Чепурного: «Где он?» Нет его. Ушел совсем. Умер. Умер потому, что она, Лиза, его оттолкнула. Кроткая, нежная, ненавидящая насилие Лиза сама стала убийцей. Трагические плоды бессмысленной жизни. Таков приговор, произносимый Горьким и театром той интеллигенции, которая сторонилась народа и его революции.
{99} Испуганные бунтом, смятенные и жалкие, толпятся «дети солнца» у крыльца незащищенного дома, — а навстречу им идет Лиза в белом свободном платье, с распущенной косой. В этой фигуре с безумно остановившимися глазами, от которых нельзя уйти без ответа, проклятье тем, кто спрятался в башню из слоновой кости, кто изменил народу. «Комиссаржевская вложила в роль Лизы все свои нервы, всю вибрирующую гамму своего задушевного голоса, всю скорбь и неудовлетворенность жизнью, столь подходящие и близкие ее дарованию», — писал Н. П. Ашешов[49].
Настроения героини и актрисы родственны. Об этом пишет Ю. Юзовский: «Если, помня тревогу и глубокое чувство неблагополучия, которые Лиза направляет против наивно или самодовольно беспечных Протасовых и Вагиных, задаться вопросом, чье искусство в самой действительности выражало в то время подобное общественное настроение, то следует в первую очередь назвать имена Блока и Комиссаржевской. Все свидетельства современников о Комиссаржевской, как о выразительнице настроений времени, как о голосе потревоженной совести, подтверждают историческую актуальность ее появления и ее успеха, объясняемого не столько масштабом, сколько особенностью ее дарования. Блок охарактеризовал Комиссаржевскую, можно сказать, автобиографически: “Вдохновение тревожное, чье мрачное пламя сжигает художника наших дней”».
Среди остальных исполнителей в горьковском ключе играли свои роли И. М. Уралов — Чепурной, О. А. Голубева — Елена, З. В. Холмская — Меланья. Режиссером спектакля был Н. Н. Арбатов. Сохранившаяся монтировка спектакля говорит о натуралистичности его метода. Им учтена каждая деталь оформления, ее деловое и цветовое соответствие окружающей обстановке. В этих креслах, чехлах, графинах, люстрах, ларях, садовых скамейках просто старых и старых, сломанных, «ибо подопрели ножки», режиссер стремился найти образ спектакля.
Злую шутку сыграла с Арбатовым иллюзия простоты и доступности искусства МХТ. Он не работал в этом театре, но был связан с ним. Присутствовал на многих репетициях, когда Станиславский раскрывал механизм творчества актера и режиссера. Казалось, что добросовестное усвоение этих уроков сделает человека не только профессионалом, но и творцом. Как всякий эпигон, {100} Арбатов довел искусство художественников до степени его отрицания. За формулой натуралистического спектакля он терял его духовный смысл.
Прогрессивное современное направление театр поддерживал, обращаясь к драматургам, которые ориентировались на Горького. В 1900 году такая группа писателей сплотилась вокруг издательства «Знание», основанного М. Горьким и К. П. Пятницким. Обширная литература, посвященная этим писателям, не склонна переоценивать их роль в истории искусства. Слишком явно шли они за своими учителями Чеховым и Горьким. И сравнение было всегда не в их пользу. Знаньевцы составляли то, что называют школой. Они повторяли, осмысливали на свой лад великих драматургов.
С Чеховым и Горьким знаньевцев объединяла и близость эстетических позиций, и демократическая ориентация творчества. Пьесы С. А. Найденова, Е. Н. Чирикова, С. С. Юшкевича поднимали больные и тревожные вопросы дня. Горький дорожил работой знаньевцев, считая их своими подопечными. Пьесу Юшкевича «Голод» он рекомендовал театру Комиссаржевской.
В первый сезон Драматическим театром были поставлены три пьесы Найденова и по одной пьесе Чирикова и Косоротова. В следующем сезоне пьесы Чирикова («Мужики») и Юшкевича («Голод») были запрещены цензурой. Пыталась Комиссаржевская привлечь к театру В. В. Вересаева и А. И. Куприна. Для знаньевской драматургии характерна констатация верно наблюденных фактов. И если театру удавалось подняться на этом материале до протеста или передать уничижительную иронию — его ждала победа.
В пьесе С. А. Найденова «Богатый человек» (премьера 18 сентября 1904 г.) дана социальная характеристика денег, которые приносят несчастье и бедным, и богатым. Трагедия богатого человека Купоросова (своеобразный предшественник горьковского Булычова) говорила о том, что современная личность несет в себе приметы будущих перемен. Режиссер А. П. Петровский задал исполнителям медленный, «тягучий» тон, продолжительные паузы. Он злоупотребил «сверчками», то есть пытался придать пьесе не свойственное ей интимное настроение. Актеры, вынужденные искать характерность на этом безликом фоне, шаржировали, держались неестественно. Тема, таившаяся в пьесе и поманившая театр, не ожила в спектакле.
Вторая найденовская драма «Авдотьина жизнь» претендовала на протест против существующих жизненных норм. Опыт «Дачников» {101} придал работе театра большую целенаправленность. Но тот же опыт повышал требовательность зрителей и критики. Потому оценка «Авдотьиной жизни» была противоречива: «Пьеса далеко не всем понравилась; по окончании даже слышались легкие протесты со стороны молодежи. Последнее объясняется не столько действительными недостатками пьесы, сколько тем, что она является большим диссонансом в современном общественном настроении. Это безнадежно пессимистическая картина провинциальной обывательской жизни, единственный выход из которой для лучших — пуля револьвера. Остальным суждено погибнуть в беспросветном мраке и болотной гнили»[50]. Сюжет и настроение пьесы не знали выхода из действительности. У купеческой дочери и жены чиновника Авдотьи нет ни горя, ни радости. Сытые патриархальные родители, недалекий муж, вонючий ров против окон дома, безнадежно влюбленная старая дева, доморощенный философ Картинкин, кончающий с собой, — застылость этой жизни внушает ужас. Авдотья убегает из дома. Но беспредметный бунт ее недолог.
Многие узнавали в Авдотье себя, в этом бесследно прошедшем порыве видели свои погребенные надежды. Режиссер А. П. Петровский находился во власти угнетающей атмосферы пьесы. Относительной удачей спектакля была работа Комиссаржевской. Ее Авдотья вынуждена в соответствии с замыслом автора вести мещанский образ жизни, быть вздорной, немного вульгарной. В финале, смирившись с тем, от чего бежала, она отправлялась с веником в баню. Актриса не могла переделать роль. Она лишь сдвинула акценты. «У нее удачнее всего моменты наибольшего душевного напряжения И резкого протеста», — отмечал критик. Актриса настаивала на протесте, словно не желая помнить его безрезультатность. Самойлов — Павел Герасимов, который приносил Авдотье книги и помог ей бежать, давал тип подпольщика, революционера. С брезгливостью отметил такую трактовку Беляев, увидев в этом «модное увлечение блузниками» и дешевое благородство. Хула Беляева стоила иной похвалы. Критик верно понял желание театра отразить большую тему. Но материал пьесы разрушал эти планы.
Одноактный драматический этюд Найденова «№ 13» говорил о бездне отчаяния. Героиня его, Екатерина Ивановна, — голодная, холодная, жалкая. Она мечтает о тепле человеческого жилья и куске хлеба. Память о достоинстве заставляет женщину скрывать {102} нищенство. Екатерина Ивановна пытается придать своему неожиданному визиту к почти незнакомому человеку бухгалтеру Федорову светский характер. Ей это плохо удается. И хозяин тринадцатого номера выгоняет ее. Он тоже одинок и несчастен. Но у каждого свой предел отчаяния, свое, не доступное другому горе. Разделить его никто не хочет и не может. Принятая во второй раз более благосклонно, Екатерина Ивановна уходит сама, в ночь и холод, поняв, что избавиться от одиночества невозможно.
Роль Екатерины Ивановны играла Комиссаржевская. Актрисе было тесно в рамках унылой пьесы. Ситуация ясна с первых слов, социальные характеристики — прямолинейны. Однообразие использованных драматургом красок (в основном серой и черной) превращало драму в одноцветное пятно. Чтобы найти хоть какую-нибудь «характерность», Комиссаржевская решила изменить в этой роли свою внешность. Раньше она к этому почти не прибегала. За счет обуви она увеличила рост, надела парик, гример сделал ей нос. В показе человеческих страданий актриса была достаточно искушена. Нервозность П. В. Самойлова, игравшего бухгалтера, усиливала общее трагическое впечатление от пьесы.
Немалую роль в частичном успехе этого и подобных ему спектаклей сыграло особое настроение публики. Наэлектризованная предреволюционными событиями, она искала того, что помогало разобраться в происходящем. Свое удивительное чувство современности Комиссаржевская передавала всему театру и этим шла навстречу зрителю. Она была нужна ему. Даже Ф. Ф. Комиссаржевский, не склонный преувеличивать демократический характер театра, писал: «Все воспринималось публикой на повышенной температуре впечатлительности».
Внимательный к перемене общественных настроений, П. Д. Боборыкин говорил в одном из интервью: «Современная публика какая-то странная, мятущаяся. Трудно определить ее вкусы. Часто нельзя объяснить, почему та или иная пьеса имеет успех. Это в значительной степени увеличивает шатание театра, который вынужден следовать за требованиями зрителя, отчасти потворствовать им». Станиславский отмечал повышенную восприимчивость публики, когда в конце 1903 года писал Чехову: «Только в нынешнем году публика Вас раскусила. Никогда не слушали так Ваши пьесы, как в этом году. Гробовая тишина. Ни одного кашля, несмотря на ужасную погоду». Роль театра в предреволюционные годы чрезвычайно возросла. Там должны были {103} учить жить и действовать. К сожалению, немногие пьесы отвечали этой потребности.
Большую прессу имел спектакль «Весенний поток» А. И. Косоротова (премьера — 27 декабря 1904 г.). Очевидно, современники почувствовали за банальной формулой сюжета настоящее обновление, весенний поток. Критики говорили о спектакле и пьесе вскользь. Самой существенной оказалась реакция публики. «Мукам не будет конца — вот она, настоящая правда жизни… Против этой правды теперь все чаще и чаще обнажается меч, дух протеста растет с каждым днем… Не протестует только тот, кому нечего сказать, у кого мозги заплыли жиром», — писал Э. А. Старк.
… Отдельный кабинет в ресторане большого города. Сергей Хмарин (его играл К. В. Бравич), добряк и кутила, человек, кому жизнь подарила много, отняв цель, приходит сюда с незнакомой девушкой. Нет, Наташа не уличная. Полунищая трудовая жизнь лишает всякой надежды на общество, замужество, материнство. И вот рискованный шаг, отчаянная просьба к незнакомому человеку дать ей хоть крохи того, что составляет настоящую полноту жизни. Сергей поселяет ее на даче брата, дети которого Володя и Варя — ровесники Наташи. Далее сюжет заполняется темами свободной любви, нигилизма молодых, жертвенности Сергея. Узнав о романе Наташи и Володи, он стреляется, оставив ей и племяннице Варе свое наследство. Всеобщую ненависть вызывает скупость родителей Володи и Вари, косность их взглядов. Один из героев пьесы говорит отцу семейства, от которого ушли дети: «Тюремщик! У тебя сбежало пять арестантов. Не лови, не поймаешь».
Мало задумываясь над тем, как незначителен объект негодования автора, зрители получали от пьесы удовлетворение. Несколько лет назад пьеса прошла бы незамеченной. Теперь смутные тревоги автора и удачно сыгранные роли обеспечили ей успех. Это было время, когда митинг казался важнее высокого искусства.
Такой же успех публицистического характера имела одноактная пьеса И. Л. Щеглова «Красный цветок», переделанная из одноименного рассказа В. М. Гаршина. Романтический стиль режиссера Н. А. Попова и аффектированная манера П. В. Самойлова — Незнакомца, который вел свою роль с «большим огнем и с большой силой», импонировали зрителям. Они восторженно приветствовали слова о том времени, когда «воцарится свобода и настанет настоящая, прочная весна».
Монолог Незнакомца читал А. Я. Таиров, поступая в театр {104} Комиссаржевской. Он вспоминал: «Постом этого года (1906 г. — Ю. Р.) в Киев на гастроли приехала В. Ф. Комиссаржевская. Я очень любил Комиссаржевскую со всей горячностью и пылом студента и начинающего актера и, встретившись с ней, сказал ей о своем горячем желании работать возле нее. Никогда не забуду волнения, с которым я входил к ней в номер гостиницы “Континенталь” для дебюта. Я читал Незнакомца из драматического этюда “Красный цветок”, причем В. Ф. сама давала мне реплики. Не помню, как я кончил свое чтение, но в результате я был принят Верой Федоровной в ее труппу и к сентябрю должен был приехать в Петербург. Летом, в связи с революционным движением 1905 года, я был вторично арестован и сидел в тюрьме… Но судьба была на моей стороне — меня выпустили из тюрьмы, и с небольшим опозданием я приехал в Петербург, в театр Комиссаржевской».
Следуя примеру МХТ, Комиссаржевская стремилась поднять в своем театре роль режиссера, распределяла спектакли с учетом художественной индивидуальности. Если для Попова был характерен романтический почерк («Уриель Акоста», «Мастер», «Красный цветок», «Эльга», «Гибель “Надежды”»), а для Петровского — обстоятельная правда быта, редко поднимающаяся над землей («Богатый человек», «Авдотьина жизнь», «Весенний поток»), то Тихомиров отличался определенностью социального взгляда. Его спектакли: «Дачники», «Бесприданница», «Иван Мироныч», «Строитель Сольнес» несли остроту конфликта, приводили действующих лиц пьесы к наивысшему напряжению. Горьковский спектакль придал всем его работам тон борьбы и острой полемики. Тихомиров был последовательнее и современнее других режиссеров, когда проводил основную тему театра.
Одним из лучших спектаклей сезона без участия Комиссаржевской стала тихомировская постановка пьесы Е. Н. Чирикова «Иван Мироныч» (премьера — 9 февраля 1905 года). Успех обусловлен идеей пьесы — осуждением «человека в футляре», образ которого ассоциировался с царским режимом. Параллельно пьесу готовил Художественный театр. (Режиссер — В. В. Лужский, фактический руководитель постановки — К. С. Станиславский, премьера была выпущена 28 января 1905 г.). Свое отношение к спектаклю Станиславский изложил так: «Из Калужского (то есть Лужского, который играл Ивана Мироныча. — Ю. Р.) надо сделать центр пьесы. Иван Мироныч и хороший человек и с достоинствами, но его педантизм, узкость и сухость никому не дают жить вокруг. Вокруг него все увядает. Калужский добивался этого {105} строгостью, чтобы быть страшнее и внушительнее… Я убедил его взглянуть на роль иначе… Инспектор ужасен тем, что он безгранично самодоволен и самоуверен. Он говорит все так положительно, что возражать нельзя… Он так самодоволен, что его нельзя даже рассердить».
В спектакле петербуржцев центром тоже стал Иван Мироныч. «Бравич дал удивительную фигуру педагога. Выдержка, манеры, тупое недомыслие при столкновении с практической жизнью, с вопросами, о которых ничего не говорится в книжках», — писал критик[51]. Бравич близок к требованию Станиславского создать фигуру, у которой не было бы внешне пугающих и вместе с тем случайных черт. Актер рисовал Ивана Мироныча по-своему симпатичным и вместе с тем выявлял в нем пороки современных хозяев жизни.
Станиславский находил, что в пьесе «много сцен тягучих, чеховских, без его лирики». Чтобы увести актеров от «тягучего» лирического тона, он требовал показа смешного. «Надо незаметно для присутствующего автора убрать лирику и выдвинуть комизм», — считал режиссер. Сатирическое оказалось сильной стороной спектакля Художественного театра. Тем же путем шел и Тихомиров. Способ существования Ивана Мироныча он в каждом случае доводил до конфликта. Конфликт этот обнаруживал неразумность действий инспектора. «Хохот в театре не прекращался, нимало не нарушая серьезности впечатления от пьесы», — писали о спектакле[52]. Оба театра вывели на посмеяние косную, но узаконенную систему взглядов Ивана Мироныча. Горький и знаньевцы помогли театру выполнить его общественную миссию.
2
И ясно во мне теперь, что ни один актер не может играть, и ни один режиссер поставить Ибсена, пока не узнает его всего, то есть не только его драмы, а его миросозерцание.
В России Ибсен был открыт поздно — в начале XX века (постановки прошлого столетия, как правило, успеха не имели). Его восприняли и прочитали глубоко и созвучно современности. Без {106} русских спектаклей наследие Ибсена кажется неполным. А без его драматургии многое теряет история русской сцены. Все значительные театры и актеры прошли проверку Ибсеном на право называться современным театром, современным актером. Ибсен стал нужным писателем в России, когда пьесы его заполнились мятежным содержанием русской действительности.
Именно в эти годы критическая мысль России (Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский, А. А. Блок) пыталась освоить норвежского драматурга, увлекаясь «проповедью бунта человеческого духа». Но, прославляя бунт, Ибсен сам хорошенько не знал, к чему он должен привести… «А когда человек дорожит “бунтом” ради “бунта”… тогда его проповедь по необходимости становится туманной… В художественное произведение вторгнется элемент отвлеченности и схематизма», — писал Плеханов в брошюре, посвященной творчеству Ибсена (1906). Для Плеханова идейной недостаточностью Ибсена было незнание им выхода «из морали в политику». На русской сцене драматург получил цель своему бунту, произошло соединение морали с политикой.
Блок как никто почувствовал, что это «мировой писатель, так жизненно, как хлеб и вода, необходимый людям, а теперь особенно русским людям». Поэт отмечал созвучность драматурга революционным событиям: «Творения Ибсена для нас не книга, или, если и книга, то великая книга жизни. И раз мы с Ибсеном — тем самым мы со всем современным человечеством». Ибсен близок своим нравственным беспокойством русским художникам, для которых, как писал Блок, «все дни были по преимуществу черные и вопрос “зачем” — особенно русский вопрос… Здесь речь идет как будто уже не об одном искусстве, а еще и о жизни».
Нравственное беспокойство как чувство вины и ответственности перед народом всегда лежало в основе русского искусства. Эту особенность восприняла Комиссаржевская. Ей была сродни напряженная противоречивость Ибсена, которую он подчеркивает и обнажает[53]. Ибсен помогал осмыслить русскую действительность, познать собственную деятельность.
Комиссаржевская всегда в пути. Остановки ей не свойственны. Только движение вперед, сознательное или интуитивное, помогало рождению актрисы. Одиннадцать лет она работала с полной отдачей, с сознанием цели, которую надо достигнуть, принося необходимые жертвы. Теперь она могла в очередной раз оглянуться. {107} Комиссаржевская пришла в свой театр не с пустыми руками. Она принесла с собой Нору — это «всеми признанное высшее достижение актрисы».
Нора заново открыла Комиссаржевскую, такую знакомую и полную удивительных, не известных ранее возможностей. Роль эта вобрала в себя сложную духовную биографию актрисы. Для появления Норы необходимо было пережить трагедию Ларисы и борьбу Нины Заречной, нужно было многократно рассказывать об ужасе погибших надежд и тяготе страданий. В Норе все обретало смысл. Надо было искать героическое у Зудермана и Метерлинка, чтобы обрести его в бытовой драме Ибсена. Нора — это счастливая реакция на полные отчаяния роли Марьяны и Фанни. Это создание человека, захваченного радостью и надеждой. Комиссаржевская переживала «праздник, радость высшего порядка».
Мечта о своей Жанне д’Арк обрела жизненные черты. Обычная женщина, с обычными радостями и тревогами у Комиссаржевской обладала темпераментом героини высокой трагедии. Вот где понадобилась ее способность вмещать в рамки обычной жизни страсти большого социального смысла. Для многих прежних ролей подобное наполнение казалось неправомерной нагрузкой. Уделом ее таланта всегда было страдание безысходное, отчаянное. И теперь актриса не уходила от этой темы, но обретала в ней новую позицию, позицию борца. Переломный характер роли стал понятен после спектакля, сыгранного на гастролях в Москве 20 февраля 1904 года. О нем писали: «Бесспорно и в “Цене жизни” и в “Бесприданнице” и даже в “Искуплении” Комиссаржевская всюду была сама собой, но вместе с тем словно какая-то непонятная дымка, не то усталости, не то тревоги, скрадывала художественность деталей и внутренний огонь исполнения. Эта дымка вчера рассеялась, и чудный образ Норы безраздельно овладел сразу почувствовавшим его залом. На глазах зрителей Нора Гельмер из ребенка, из жены-куколки выросла в человека с серьезными запросами к жизни»[54].
«Кукольный дом» был вторым спектаклем Драматического театра. Его премьера в Петербурге состоялась 17 сентября 1904 года. Пьеса была написана двадцать пять лет назад и имела большую сценическую судьбу. Она стала победой многих актрис: Бернар, Дузе, Режан, Аалберг, Зорма. Комиссаржевская заново открыла роль, уже известную и выстраданную до нее.
{108} Нора освободила ее от тягостной позиции созерцания. Революционное время позволило увидеть за семейной драмой общественную трагедию. Показательна неудача Савиной, сыгравшей эту роль в 1884 году в свой бенефис. Рецензент нашел пьесу скучнейшей и наивнейшей. «Своим выбором она явно опередила время, — пишет И. И. Шнейдерман. — Сама эпоха низвела интерес Савиной к социально-критической пьесе до уровня простой случайности»[55].
Творческим счастьем Комиссаржевской была возможность работать в революционную эпоху. Совсем недавние 1890‑е годы не дали простора ее таланту. Вынужденная кружиться в хороводе тихих покорных девочек, она нередко вызывала иллюзию полного совпадения ее личности с этими героинями. Находили, что цель актрисы — эстетизировать страдание. Этой оценки прочно держался Кугель. Даже в 1905 году он продолжал награждать ею актрису в ролях Сони и Ларисы. Новую для Комиссаржевской тему борьбы он или игнорировал, или отвергал. О Норе он писал: «Госпоже Комиссаржевской следовало бы все время оставаться куколкой, то счастливой и беззаботной, то грустной и задумчивой, то разгоревшейся, трепетной и протестующей… Г‑жа Комиссаржевская могла бы создать прелестный образ куколки и причислить эту роль к числу лучших, как Клерхен и Рози. Ее дарование именно из этого теста, а самое важное — познать себя».
Актриса создавала роль в полемике с теми, кто хотел видеть в ее Норе жаворонка, белочку, куколку. Она вычеркнула из текста пьесы слова, где Нора называет себя хорошенькой. Она исключила самый намек на инфантильность ее интонаций. Сцены «любовного воркования с мужем» она не считала важными. Идиллическое начало спектакля было лишено расплывчатого покоя. Быстро входящая с покупками Нора в первом действии не просто радостна — она победоносно счастлива.
У Ибсена разговор Норы с детьми — это ее монолог. Комиссаржевская разработала целый сценарий, где детям были даны свои реплики. Она тормошила, раздевала пришедших с улицы сыновей. Потом танцевала с маленькой Эмми на руках, в то время как Боб и Ивар теребили ее за юбку, наперебой рассказывая каждый о своем. Они затевали шумную игру в прятки. И все то же горделивое, торжествующее счастье в лице, фигуре, свободных движениях Норы.
«Я так счастлива… как чудесно жить и чувствовать себя счастливой», — повторяет она своей школьной подруге фру Линде, смущаясь, {109} но не желая останавливать это могучее чувство. Нора спасла мужу жизнь, сохранила, нет, создала сама семью, совершив свой главный поступок, которым она горда и который откроет Торвальду когда-нибудь в старости, чтобы он крепче ее любил. Для того чтобы вылечить Торвальда, она заняла восемь лет назад крупную сумму, подделав на векселе подпись умирающего отца. Что это? Преступление? Для Норы — единственная возможность жить и быть человеком, даже если законы этому противоречат. Восемь лет она трудилась, экономила и выплачивала долг. Дом Норы — заработанное ею счастье, дело ее энергии — так начинала роль Комиссаржевская. Вот где секрет ее торжества. Она упоена не идиллией, а результатом борьбы. Она совершила преступление? Нет. Благороднейший поступок, рассказать о котором мужу она просто стесняется. Неожиданный звонок Крогстада, владельца векселя, обрывает слова Норы о счастье. Дальше спектакль развивается как наступление правопорядка на завоеванное счастье Норы.
Труд придавал облику Норы — Комиссаржевской особую окраску. В белой строгой блузе, прямая, неприступная, она встречает свою беду мужественно. Она разговаривает с Крогстадом, как равная в этом чуждом для женщины деловом мире. С наивностью человека, не признающего условности, с сознанием своего права говорит: «Так плохие, значит, это законы».
Глухое сомнение заронил Крогстад в душу Норы. Напрасно пыталась она вернуться к прежнему. Напрасно с деланной веселостью украшала рождественскую елку. Что-то сковывало ее движения, руки опускались, игрушки падали на пол, глаза выдавали тревогу. Комиссаржевская передавала отчаяние женщины, у которой нет прав на борьбу.
Весь второй акт был рассказом об одинокой, мятущейся Норе. Нора бессильна что-либо предпринять, но и бездействовать она не может. Энергия словно вихрь срывает ее с места. То она судорожно хватается за лицо, то энергичным движением сжимает руки, всем существом ища выхода, спасения. Маленькая фигура в темном платье мечется по сцене. Она тянет фру Линде в двери, где в почтовом ящике лежит письмо, которое откроет Мужу ее тайну.
А жизнь идет своим чередом. Вечером они пойдут с мужем в гости, где Нора будет танцевать тарантеллу. Не угодно ли ей сейчас порепетировать? Гельмер — сама изысканность и снисходительность — у фортепьяно. А Нора танцует. Беспечно постукивает бубен. Глаза широко раскрыты. Губы плотно и скорбно {110} сжаты. Да, дело идет о жизни и смерти. Нору убивала мысль, что она своими руками уготовила такую опасность для мужа, потому что, конечно же, он возьмет вину на себя.
Последний акт. Нора и Гельмер вернулись из гостей. Он разбирает в кабинете почту, читает роковое письмо. Нора в нарядном костюме неаполитанской рыбачки стоит недвижно. Она опустошена и обессилена. На лице — ужас, отчаяние, надежда? — нет, мольба и готовность жертвовать, бежать, принять кару. Но трагедия Норы впереди. Муж трусливо и злобно обвинил ее в преступлении, ужаснувшись концу собственной карьеры. И хотя возвращенный Крогстадом вексель вернул ему душевное равновесие — Нора поняла, что была предана. С окаменевшим лицом уходила она сбросить маскарадный костюм. Этот символический жест выводил Нору из кукольного дома напрасных иллюзий и надежд.
«В Норе — этом всеми признанном высшем триумфе художественного пути Комиссаржевской — разве не побеждала зрителя прежде всего эта картина естественной душевной эволюции — Нора — куколка первого акта в зародыше уже заключала в себе у Комиссаржевской бурнопламенную мученицу второго акта, и естествен был переход к сильной духом, во всем усомнившейся, раздумчивой женщине будущего в третьем акте. Ненужны и нелепы казались все рассуждения о неправдоподобности душевного переворота, ибо перед нами было еще не полное перерождение, а моральное просветление и прежде всего, при всей человечности, глубоко женский протест во имя своего достоинства и чистоты», — писал один из современников актрисы[56].
Раздумчивая Нора — Комиссаржевская заставила многих говорить о неудаче третьего акта. Все ждали бури, экспрессии, а она спокойно показала, как освобождается человек от лжи. Она сбросила маскарадный костюм. Это дало ей силу и уверенность. Актриса вычеркнула слова Гельмера: «Но чудо из чудес». Ее Нора в чудеса не верила и не ждала их.
Комиссаржевская совершала неуловимый для зрителя шаг, превращая бытовую ситуацию в символическую. Умея быть вполне достоверной, она обладала даром воплотить отвлеченность мысли. Это давний и постоянный секрет ее таланта. Она щедро передавала всю полноту жизненных ощущений — в горе и в радости. И она всегда находила момент, когда мгновение останавливалось. {111} Останавливался, словно споткнувшись, зритель, и все увиденное вдруг обретало новый смысл. Событие на сцене вбирало в себя тысячи подлинных жизней. Актриса, словно прозрев, познавала смысл бессчетных судеб. Для зрителя это познание оборачивалось эстетическим осмыслением жизни. Эта способность к символическим обобщениям, как писал ее биограф Д. Л. Тальников, сделала последний разговор Норы с мужем, ее пространные монологи и уход естественными и необходимыми. Это была минута высокого осмысления всей роли.
В последующие годы Нора не уходила из репертуара Комиссаржевской. Образ не менял своей сути, исчезла внешняя эффектность некоторых сцен, их драматизм принял более глубокий смысл. Критики отмечали, что раньше тарантелла и ожидание чуда выходили ярче. Рецензент одного из последних спектаклей писал: «Никогда еще не играла Комиссаржевская так значительно, так глубоко последний акт… Лучший комментарий, самый убедительный — дать непосредственно почувствовать, что решение Норы — неизбежность, что иначе не могла она поступить, что это диктовала женская психика, а не ибсеновская теория. И такой “комментарий” дает Комиссаржевская». Комиссаржевская передает последнюю сцену «монотонно, на немногих глухих нотах… Вся ушла в одно решение. Точно стальною бронею оделось сердце. Под этой бронею, от которой отскакивает и жалость, и любовь, — тоска, тоска безмерная… Исполнение доведено до высшей простоты. Ни намека на эффектность»[57].
Режиссером спектакля был А. П. Петровский, но роль задумана и сделана самой Комиссаржевской. И на протяжении шести лет ее Нора в разных постановках (натуралистической — Петровского, условной — Мейерхольда) горела одинаково ярким и сильным светом. С. В. Яблоновский писал о Норе во время последних московских гастролей актрисы: «Поднимающий дух талант Комиссаржевской так близок, дорог нашей молодежи, и ее особенно много бывает на спектаклях артистки, что создает свой тон, значительно отличающийся от обычного тона московских театров».
Способность отдавать зрителям собственную душу свойственна Комиссаржевской с первых шагов на сцене. С годами она выявлялась полнее. Во время гастролей 1902 – 1904 годов чуть было не превратилась в исступленное самоистязание. Этой способности необходим был целевой выход. Напряжение таланта, колоссальный {112} прилив сил получал разрядку в трагических ролях. У Комиссаржевской была необычайно напряженная духовная жизнь. Ее письма не знают бытовых мелочей. Всякий факт будит множество ощущений, которые из хаоса фантазий переплавляются в думы о смысле жизни, об искусстве. Огромное и значительное содержание ее души раздвигает рамки играемых ролей и всегда ищет такой темы, которая говорила бы о важнейших сегодняшних свершениях. Даже если она сомневалась. Даже если в ее игре чувствовалась раздвоенность — как смутная пока потребность постоянного движения вперед.
Начав первый сезон в своем театре Норой, Комиссаржевская завершила его другой ибсеновской героиней — Гильдой («Строитель Сольнес»). Эти спектакли словно разделили то, что обычно выступало у актрисы в единстве своих противоречий. Сила, цельность и ясная вера Норы превратились в трагическую безнадежность и мистическое отчаяние Гильды. И Нора, и Гильда — ибсеновские героини-воительницы. Но земные черты Норы обернулись в Гильде аскетическим профилем девушки-символа с жесткой логикой речей. Таинственный ореол окружал ее. Наука о «горном пути» (как А. Белый писал об Ибсене, характеризуя высокую духовность его идей) здесь превращалась в самоцель. Актриса дала выход тем свойствам души, из которых, как ей казалось, должно вырасти вечное искусство. Потребность в «горном пути» была реакцией на преобладающий натурализм. «Строитель Сольнес» давал полет фантазии, был прекрасным материалом для символических обобщений, для восхождения на горные вершины духа. В эти же годы, ставя Ибсена, Станиславский мечтает о том, чтобы «отточить до символа духовный реализм исполняемых произведений». Неумение подняться до символа он считает причиной неуспеха постановок Ибсена.
«Надбытный» характер Гильды сложился у Комиссаржевской под влиянием событий личного характера. 1 марта 1905 года в Италии скончался отец Комиссаржевской. «После получения известия о его смерти в течение месяца Вера Федоровна была как в бреду и в таком состоянии и играла, и занималась ролью Гильды», — вспоминал ее брат Ф. Ф. Комиссаржевский.
Свою тоску она пыталась перевести на язык поэзии, описав смерть отца его ученику В. П. Шкаферу: «Знаете, как папа умер? Замечательно! Он любил очень цветы и ухаживал в садике за своими розами и вот, сорвав одну, слегка увядающую розу, он с ней сел на скамеечку да так тихо и поник. Нашли его мертвым с этой розой в руках. И я бы желала так умереть. Поэтично, не {113} правда ли?»[58] В творчестве она хотела утолить свое горе. Актриса словно клялась в верности духовным заветам отца. Но вместе с тем образ приобрел оттенок мистической обреченности.
Спектакль не только отразил ее личную тягу к символизму, но должен был стать реакцией на приземленно натуралистические спектакли театра, поднять философские вопросы современности. Для этого был приглашен А. Л. Волынский, талантливый литературный критик, знаток искусства. К концу сезона Комиссаржевская почувствовала неудовлетворенность режиссурой театра: романтические замыслы Попова не реализовались, большинство работ Петровского и Тихомирова было однотонно. Волынский фактически руководил постановкой «Строителя Сольнеса», режиссером которой был Тихомиров. В конце марта 1905 года Волынский стал заведующим литературной частью театра.
Первые встречи Комиссаржевской с Волынским относятся к концу прошлого века. В 1899 году они вместе посещают Италию. Там он сближается с Ф. П. Комиссаржевским, с которым позже состоял в переписке. С Комиссаржевской Волынский занимается шекспировскими ролями еще на Александринской сцене. В статье о положении театрального дела (1900) он находил неудачи актрисы закономерными: «Дарование Комиссаржевской, блеснувшее в пьесах Зудермана, в какие-нибудь два сезона было придушено и забито в рамки полумещанской банальности. Артистка бледнела с каждой новой ролью, потому что каждая предыдущая роль понижала на одну ступень те ее настроения, которые позволили ей первоначально развернуться». Он считал «истинно обновительным делом» в области сценического искусства Московский Художественный театр. Уход Комиссаржевской с императорской сцены многие склонны были приписать влиянию Волынского. Решение актрисы было, конечно, внутренним. Но идеалистические поиски Волынского для нее много значили. Об огромном воздействии его философских лекций на актерскую молодежь вспоминают Ходотов и Юрьев. «Это был какой-то напор убежденности в том, что лабиринт его концепций — единственный верный путь. Волынский сочетал эстетизм мысли, любовь к красивым построениям с горячностью сектанта. Он был очень далек от спокойного объективизма, этот человек не от мира сего, похожий на Данте, имевший холодный эстетский ум и вулканическое сердце», — писал о нем Ходотов.
{114} Популярность Волынского среди интеллигенции объяснялась тем, что бескомпромиссность и темперамент его мысли шли против существующего законопорядка. Хотя его позитивная программа была уязвима своим крайним идеализмом, отрывом от социальной конкретности русской жизни.
Комиссаржевская была идеалисткой не только в бытовом смысле этого слова. Не имея последовательной системы взглядов, она в своем мировоззрении чаще склонялась к идеалистическому восприятию жизни. Воздействие Волынского она испытала во время работы над образом Гильды.
Под мрачными, гнетущими сводами дома Сольнеса неожиданно раздавался звонкий девичий голос, и широкими шагами в «походном костюме странствий и исканий» в комнату входила Гильда — Комиссаржевская. Ее смеющееся лицо становилось серьезным и недоумевающим, когда архитектор Сольнес оказывался не в состоянии дать ей обещанное много лет тому назад королевство. Когда-то Сольнес поразил девочку Гильду красотой своего ума и таланта. Теперь он постарел и спустился с небес на землю, и Гильда мечтает возродить его. С первых сцен началось раздвоение роли на две линии, которые так и не соединились.
Та Гильда, которая на земле, может быть женственна, кокетлива, предприимчива. Узнав, что Сольнес боится соперничества молодого Рагнара, боится юности, идущей на него возмездием, она сострадает ему и велит быть справедливым. На вопрос Сольнеса, любит ли она кого-нибудь, Гильда очень строго отвечает: «То есть никого другого, хотите вы сказать?» Ей надо освободить Сольнеса от трусости и лжи — и вот с нежной заботливостью матери склоняется она над ним, пишущим доброе письмо старому другу, для которого он стал врагом. Гильде известны минуты неожиданного отчаяния. И тогда она сидит, обессиленная, положив голову на стол, закрыв глаза, желая уснуть и никогда не просыпаться. Миром человеческих чувств актриса владела вполне. Но роль требовала синтеза реалистических и символических черт. Гильда не просто человек — она воплощенная сила духа, символ прекрасной и жестокой юности. Эта сторона роли плохо сочеталась с ее реальной основой. Слова Г. В. Плеханова о законе, проповедуемом Брандом: «Благодаря своей пустоте он оказывается совершенно бесчеловечным», — можно отнести и к Гильде. Качалов в спектакле МХТ заполнил пустоты проповеди Бранда реальным содержанием. Абстрактность позитивной программы Волынского не помогла Комиссаржевской. Мир, куда так страстно звала ее Гильда, был неясен. Она радовалась победе Строителя, которая погубила {115} его. Это выглядело жестокостью, а не духовным торжеством. Слова, в которых должна была открыться идейная сущность Гильды: «Мой замок должен стоять на высоте», «Почему бы и мне не выходить на добычу», «Мой, мой строитель!», — рождали однообразные жесты взметнувшихся вверх рук, суховатое выражение непроницаемого лица. Символизм образа давал простор слишком широкому толкованию.
Рецензии говорили о раздвоенности ее Гильды. «Артистка прекрасно оттенила романтическую мечтательность Гильды, ее экзальтированное преклонение перед своим избранником — Сольнесом и присущую ей органическую правдивость. Но бесстрашный, иногда граничащий с жестокостью идеализм Гильды не нашел в ней полного воплощения. Когда Гильда, вне себя, молит Сольнеса “сделать невозможное” — подняться на головокружительную высоту, вы не чувствуете, где источник этого желания, и оно звучит как каприз», — писал один из критиков[59]. О двух ликах образа писали все, независимо от итоговой оценки. Э. А. Старк и К. И. Чуковский находили эту особенность положительной: «Ведет она сверхжизненный диалог с Сольнесом, и вдруг откуда-то нотки Марикки или Клерхен… Эти колебания тона были здесь совершенно кстати… Они даже были недочетом ее игры… Но этот недочет был как нельзя более в соответствии с характером ибсеновского творчества»[60].
Зрительский успех был большим. Московский критик назвал его succиs d’estime (успехом уважения). Это верно лишь отчасти. Молодежь, называвшая Комиссаржевскую в адресе актрисой-гражданкой, дополнила роль конкретным содержанием. Революционно настроенный зритель видел в пророчестве Гильды свои представления о борьбе и новой жизни. Роль существовала до тех пор, пока зритель ее домысливал и развивал. Блок писал о спектакле: «Идет в театре Комиссаржевской “Строитель Сольнес” Ибсена, быть может, величайшая из ибсеновских драм… — в театре скучно и серо, но под конец опять верхи бегут к рампе, за которой стоит для них не Гильда, а В. Ф. Комиссаржевская, популярная среди молодежи». Блок понял соотнесенность облика актрисы с ибсеновским образом, сказав, что «она — была вся мятеж и весна, как Гильда».
{116} Смысл спектакля заключался в продолжающемся диалоге Гильды — Комиссаржевской и Сольнеса — Бравича. Игра последнего отличалась той же двойственностью. Бытовая основа роли редко соединялась с духовностью. Если актеру удавалось передать величие Сольнеса, то «трагедия творца, побежденного своим творением», не получалась. Остальные актеры: Александровский (доктор Хэрдал), Ведринская (Кайя), Гардин (Рагнар) остались в пределах натуралистического толкования драмы. Это сделало спектакль разностильным.
«К глубочайшему символизму Ибсена, к снежным вершинам человеческого духа лежит только один путь — через правдивое и искреннее постижение человеческой жизни и быта […] Ибсен научил нас понимать, что внешними путями невозможно достигнуть символического смысла произведения», — к такому итогу пришел Станиславский, считая, что в символистских театральных работах человеческий характер должен быть реалистичен.
Две другие постановки Ибсена в Драматическом театре (без участия Комиссаржевской) имели традиционный характер. 23 октября 1904 года Тихомиров поставил «Привидения» с Самойловым — Освальдом и Холмской — фру Альвинг. Актеры дали психологическую мотивировку поведению героев. Но частная правда этих образов не создала трагической коллизии. Герои были разъединены. Конфликт, предложенный драматургом, исчез. Символическое, обобщенное в спектакле отсутствовало.
«Росмерсхольм» — спектакль второго сезона. Результат многих принципиальных неудач театра. Вновь приглашенный режиссер Арбатов был откровенно натуралистичен в своих работах и узок в замыслах. Попытка Волынского вмешаться ничего не дала. Голубева — Ребекка чувствовала неспособность подняться к ибсеновским высотам духа, ограниченная многочисленными физическими задачами режиссера. Арбатов предложил актрисе образ наивной, хлопотливой мещанки, оставив в стороне мятежное начало героини. «Отсутствие сценического одухотворения», как писали газеты, сказалось на игре Бравича и других исполнителей. Кугель считал, что «“Росмерсхольм” — трагедия неудавшейся революции». Большевистская газета «Новая жизнь» писала об идейном просчете драмы: «Почему они (Росмер и Ребекка. — Ю. Р.), отчаявшись в личном счастье, приносят никому не нужную жертву, бросаясь в пучину водопада вместо того, чтобы броситься в пучину общественной борьбы и пожертвовать собою для счастья людей?.. {117} Не слишком ли тонко выткал Ибсен свою психологическую сеть?»[61] Действительно, трагический дух пьесы был чужд революционным настроениям осени 1905 года, но повод к такому наивному осмыслению драмы мог дать лишь бытовой характер спектакля.
Ни бытовые постановки Арбатова и Тихомирова, ни попытки отвлеченных толкований Ибсена Волынским не принесли театру победы. Только Нора Комиссаржевской явилась вехой в истории русского прочтения норвежского драматурга. Роль эта стала органическим сплавом конкретного человеческого характера и высоких обобщений.
3
Ошибки неизбежны. Их будет много…
Драматический театр включил в свой репертуар и классику. Это было не данью традициям, а стремлением сохранить коронные роли Комиссаржевской. Актриса хотела проверить в новых условиях свои прежние роли, свою лирическую тему. И странное дело — в дурных антрепризах, со случайными труппами несколько лет назад она бывала несравненна. Теперь в спектаклях, заново продуманных режиссерами, с актерами своего театра она в лучшем случае сохраняет прежние позиции, но, как правило, больше теряет. Это выглядит прилежным повторением заученного урока. Те, кто видел ее впервые, испытывали радость и горе, потрясение творчеством. Но актриса чувствовала музейную консервированность прежних ролей. Губительное самоповторение, несмотря на поиски и даже находки.
Роль Негиной в «Талантах и поклонниках» (премьера — 22 декабря 1904 г.) Комиссаржевская никогда не любила. Сыграв ее впервые в Вильне десять лет назад, она скорее полемизировала с героиней, чем утверждала ее. Время не разубедило актрису: она так и не увидела подвига в поступке Негиной. Вот эта недостаточность убежденности сделала роль бескровной, отвлеченно благородной. Оценка критики должна была насторожить актрису: «В обычных “Комиссаржевских” тонах, столь известных поклонникам этого таланта, вела артистка свою роль. Хотелось бы и большего размаха, и большей актерской неразберихи, больше крови, {118} “среды”, ибо Негина ведь не ангел же во плоти и не институтка. Не в добродетельно-сдержанных движениях и смирной походке чистота Негиной»[62]. Решение Негиной выглядело слабостью в январские дни 1905 года.
Самойлов, как и прежде, не идеализировал Мелузова. Мешковатый сюртук, длинный семинарский парик и козлиная бородка — таков был внешний облик этого студента, потерявшего себя и поучающего всех. Но и самый красивый грим не приблизил бы Мелузова к подлинным героям современности. Актер почувствовал старомодность образа, но не дал критически определенного взгляда на него. О несоответствии пьесы современности один из критиков писал: «Требовательный зритель, ищущий на сцене отзвука своим сложным настроениям и современной жизни, не всегда останется ею доволен»[63].
Тихомиров, чувствуя некоторый анахронизм постановки, пытался поднять сатирическое начало в пьесе. Но это вызвало у многих актеров шарж, рушивший стилистику пьесы. Откровенно смешили публику Корчагина-Александровская — Домна Пантелевна, Гардин — князь Дулебов, Уралов — трагик Громилов, Унгерн — Бакин. Состоялось всего пять представлений, и спектакль не перешел ни на гастроли, ни в будущий сезон.
Иное дело Лариса в «Бесприданнице». Любовь к роли была у Комиссаржевской давней, растущей. Это одна из высших точек выражения ее лирического таланта. Преобладающая минорность героини не скрывала жажды настоящей жизни.
26 января 1905 года на сцене Драматического театра появилась знакомая и незнакомая девушка с тоской о любви, о свободе. Как прежде мягка, нежна, без «отпечатка цыганских черт». Но теперь рассказ о несчастной любви был вступлением в главную тему. Центр спектакля сосредоточился на финале. Гибель Ларисы превращалась в подвиг. Ее муки получали сознательный драматический исход. Публицистические интонации «Дачников» продолжали жить в «Бесприданнице». Вместо терзающего душу страдания Лариса Комиссаржевской несла бунт, протест, словно развивала тему трагических январских событий 1905 года. «Роль эта была в ее исполнении не только великим артистическим откровением, но и знамением общественного настроения», — писал А. В. Амфитеатров. Другой критик, один из сторонников символизма, {119} Г. И. Чулков писал: «“Бесприданница” в Петербурге тесно связана, неотделима от В. Ф. Комиссаржевской. После ее игры трудно представить иную манеру исполнения. Своеобразные переживания вызывает г‑жа Комиссаржевская в зрителе. Она заставляет его уйти в себя, искать в себе отзвуков, заставляет слишком много чувствовать. В иные моменты отзвуки поднимаются из сокровеннейших глубин души, потрясают и приводят в содрогание обывателя […] Кажется, что всякий раз она отдает часть самой себя и налагает на зрителя странную и тяжелую ответственность. Ее игра нравственно слишком обязывает».
Но, как и прежде, роль жила независимо от спектакля. Невольно, даже в своем театре, играя Ларису и Варю («Дикарка»), Комиссаржевская продолжала оставаться гастролершей. Там, где МХТ не давал образца, режиссеры Драматического театра расписывались в несостоятельности. Некоторые критики приветствовали в «Бесприданнице» возврат к старому искусству «без претензий и выдумок».
Постановка пьес Чехова устраняла, казалось бы, самую возможность такого обвинения, но возлагала на театр гораздо более сложные обязанности. Чехов в репертуаре давал все основания для идейного и эстетического новаторства. Вот почему актриса настойчиво просила у драматурга новых пьес и, не получив их, поставила «Дядю Ваню» и «Чайку». Высокий авторитет этих спектаклей в Художественном театре лишил режиссера Попова всякой самостоятельности. «Дядя Ваня» оценивался критиками как копия постановки художественников. Те, кто отрицал МХТ, критиковали спектакль за похожесть, те, кто любил — за отклонения от образца. Самойлов — Астров был мелодраматичен. Он плохо соответствовал стремлению режиссера приблизиться к спектаклю художественников. Такое противоречие было чревато неудачей и породило ее. Отзывы о Каширине — Войницком — положительны. Но это одобрение второго сорта. Так хвалят послушных учеников, правильно повторяющих слова учителя.
Комиссаржевская ни на кого не была похожа. Как и прежде и как всегда особняком. Сокрушительная сила таланта разрывала неестественную оболочку спектакля. Где-то внутри актриса говорила себе: «Я знаю, знаю больше, чем кто-либо, что творчество требует полной свободы, но…» И актриса умела творить в тяжелом рабстве. Всю жизнь так. Заставляла себя подчиниться новой идее — и тут же поднимала бунт. Для нее Соня не героиня уныния и обреченности. Как никогда актриса обладала той исторической перспективой, с которой можно было понять Чехова. {120} Мечты Сони не были абстрактны и безнадежны. Актриса показывала, как трагично насилие над теми незаурядными духовными силами, которым нет места в жизни сегодняшней. Внутреннее нарастание этого обыденного трагизма завершалось требованием пощады: «Надо быть милосердным, папа!» Ее заключительный монолог звучал как «Верую». В ответ по залу пронеслось сдержанное «браво». Зрители жили с актрисой одними помыслами, таили одни желания.
«Чайка» была поставлена на открытии нового сезона 1905/06 года. Для Попова, как и год назад, подражание художественникам считалось само собой разумеющимся. Талант его был скован рамками бесконечно высокого, но чужого искусства. Он и не искал своих путей, желая лишь быть преданным. На сцене жалкой копией возрождался спектакль Станиславского. Паузы, сложная партитура бытовых звуков, декорации «с настроением» — словом, «станиславщина», как тогда говорили. Воистину так, ибо нельзя же было спектакли Попова, Тихомирова назвать продолжением дела великого режиссера. И вновь антагонистом эпигонских задач театра должен был выступить Волынский. Сорежиссеры явились враждующими сторонами. Кугель, не принимавший Чехова, справедливо заметил отсутствие эстетической цельности постановки. Попов страдал буквализмом, стремясь найти в каждом слове символ, в каждой сцене — настроение. Влияние Волынского сказалось на игре Комиссаржевской. Памятуя о двойственности Гильды, она хотела сыграть Нину, отрекаясь от быта. Актриса всегда любила в «Чайке» пьесу-монолог Треплева. Теперь она нашла в ней прямое выражение своим символистским пристрастиям. Мечты Тригорина, надежды Нины, ее белое платье — этот светлый зачин спектакля резко сменился темой трагической безысходности. Исчез чеховский мотив терпеливого мужества.
О. Дымов рисует безысходный финал спектакля: «Нина белого цвета быстро и скорбно увяла. В четвертом действии мрачные тоны, трагические ноты, оборванные рыданием, черная накидка на худых плечах, как дыхание могилы».
В этом повороте спектакля был, конечно, повинен не Попов, а Волынский. Газета «Наша жизнь», симпатизировавшая Волынскому, писала: «Образ свободной девушки и ее роковая гибель — вот символ, приближающий нас к очарованному озеру и людям, которые мечтают и страдают на его берегу»[64]. Актриса, храня {121} верность принципам Волынского, отказывалась от интонаций бытовых, «земных», искала вечного в трагической неизбывности конфликта. Общий мрачный дух постановки лишал пьесу той светлой перспективы, без которой не может быть чеховской «Чайки».
4
Когда у меня нет мучений — я страшно несчастна.
Конфликт Попова с Волынским в следующем совместном спектакле — «Другая» Г. Бара (перевод Ф. Ф. Комиссаржевского) перерос в разрыв. Попов не разделял идеалистических взглядов Волынского и отказался значиться автором постановки. Этот спор и победа Волынского отразились на спектакле, сделав его символическим обобщением безудержной, почти патологической страсти, в то время как Попов пытался выявить социальный смысл пьесы. В отношении к спектаклю у Волынского было больше логики. Все дело в том, что пьеса не могла впрямую соответствовать прогрессивным настроениям, несмотря на якобы революционные приметы. Были восстановлены вычеркнутые цензором слова пролетария Августа о потерянной жизни, о жажде мести, о русских, от которых придет эта месть, и о начавшихся волнениях на улице. Но все эти признаки социальной бури выглядели у автора как отвлеченные разговоры и шум толпы. Поэтому даже восстановление цензурных вымарок не приблизило пьесу к современности. Кугель, Чулков и другие критики с полной справедливостью отнеслись отрицательно к наивным попыткам автора соединить любовь и революцию.
Комиссаржевская увидела в пьесе нелегкую судьбу одаренного человека. Лида Линд — девятнадцатилетняя скрипачка, существо духовно утонченное и надломленное. Ей говорят: «В вашей игре звучит мудрость более глубокая, чем, может быть, в людских словах». Ее артистические успехи, помолвка с любящим человеком — эти внешние приметы благополучия оказываются ненадежными. Неровное настроение Лиды — то слишком радостное, то слишком грустное — сулит беду. Неожиданно появляется некто Амшль, в прошлом импресарио и возлюбленный Лиды Линд. Его власть над ней всесильна. В Лиде просыпается другая женщина, раба этого господина. Дикая страсть уводит ее от любимого {122} человека, ломает артистическую карьеру. И в предсмертные минуты выбор ее предопределен. Она ищет Амшля.
Комиссаржевскую притягивала всякая непростая судьба. Не сенсаций она искала, а, напротив, того, что слишком знакомо и ей, и обществу. Вряд ли когда-нибудь актриса расставалась с памятью о своей трагической юности, о сложной личной жизни. «В современном мире люди стали неспособными жить», — говорит один из героев пьесы. Эту неспособность жить актриса подмечала во многих людях. Она подозревала ее и в себе. И вся жизнь стала борьбой с этой неспособностью, раздвоенностью. В пьесе побеждала не женщина с душой и талантом, а жертва инстинктов. Роль открывала актрисе истину современного характера, разъятого чьей-то жестокой властью.
Герцен пишет о полноте наслаждения и страдания как необходимых элементах истинной жизни. Цветаева предпочитает «полноту страдания — пустоте счастья». Художнику нельзя ограждать себя от горя, иначе никогда не приблизишься к его причине.
В этом же сезоне Комиссаржевская рассказала о другой жертве темных страстей, сыграв роль Мари в пьесе А. Шницлера «Крик жизни», посвященной, кстати, Герману Бару. Страсть заставляет Мари убить старого, больного, ставшего ей обузой отца. Ее любит врач, который скрывает следы преступления. Она бежит к другому, которого любит сама. Это офицер Макс из полка голубых кирасир. Их ждет бой, где они смертью должны восстановить честь полка, бежавшего с поля битвы тридцать лет назад. Сердце героя принадлежит жене полковника, который убивает ее из ревности. Макс не отклоняет признания Мари, но, предпочтя личную честь — полковой, стреляется накануне битвы. Мари говорит: «Я была счастлива, как ни одно человеческое существо в мире, и так же несчастна…»
Актриса чувствует себя обязанной говорить о любви как высшей степени человеческого горя. Только таким являлось это чувство ее героиням, которые не избегали его. Преступление Мари было показателем высшей точки страсти. Оно рождено постоянным и неестественным подавлением «крика жизни». Если не знаешь, как уйти от страдания, надо уметь принять его.
Не имея настоящих больших ролей в новом сезоне, Комиссаржевская обратилась к тем, которые были связаны с ее внутренним трагическим ощущением жизни. Эта тема возникала всякий раз, когда исчезала цель или наступало разочарование в ней. В тяжелый период двухлетних гастролей 1902 – 1904 годов {123} Пшибышевский, Шницлер, Потапенко заполнили образовавшиеся пустоты в ее творческой программе. Полного сочувствия у зрителей подобные роли не вызывали. Что же заставляло Комиссаржевскую вновь и вновь подходить к этому обрыву? Нет ли здесь поисков не выявленных еще возможностей искусства? И трагедия Бронки, и сумасшествие Марьяны, и патология Лиды Линд, и преступление Мари на языке искусства бытовой правды могут быть только констатированы. Лирическая стихия Комиссаржевской стремилась к обобщению.
Комиссаржевская вначале пыталась активизировать свои способности романтической передачей характера. Волынский требовал уходить от быта. Но куда? Дальше по-прежнему зияла пустота. Г. Чулков заметил новые интонации у актрисы: «Г‑жа Комиссаржевская как будто бы старалась придать чертам героини какую-то особенную “духовность”». И он же осудил театр за половинчатость находок: «И редко, редко слышишь на современной сцена желанный голос. Иногда открываются такие возможности в игре Комиссаржевской. Но не слишком ли она связана старой бытовой сценой?.. Так жить нельзя — вот “крик театра”».
В пьесе еврейского драматурга Шолома Аша «На пути в Сион» Драматический театр продолжал поиски «духовности». Пьеса символистская, сильная в обобщенном показе разрушения основ старой жизни. Каждый ищет и избирает свой путь в Сион, к истине, к счастью. Горького интересовал этот драматург, он следил за его творчеством. В 1907 году Горький писал И. П. Ладыжникову о пьесе Аша «Бог мести»: «Посоветуйте ему также дать эту пьесу Комиссаржевской или Московскому Художественному театру… Он, должно быть, талантливый человек, этот Аш, его “На пути в Сион” — тоже интересная вещь».
Роль Юстыны, романтической героини, которая в поэзии ищет выражения смысла жизни, играла М. А. Ведринская, а во время гастролей в очередь с ней Комиссаржевская. Комиссаржевскую хвалили. Пьесу — тоже. Даже Арбатов пытался «соответствовать» символистской пьесе. Но Комиссаржевская, вероятно, не раз перечитала статью О. Дымова: «Этот театр уважаешь, но хотелось бы не только уважать, но ошибаться, искать вместе с ним. Дерзания Драматического театра вообще робки и холодны, более рассудочны, нежели юны, более почтенны, нежели дерзки. Собственно даже не разбираешь его физиономии…»[65]
{124} 5
Дефицит наш равняется сорока одной тысяче…
Только в условиях частной антрепризы могло возникнуть прогрессивное театральное искусство в начале века. Императорская сцена находилась под строжайшим наблюдением официального ока. Московский Художественный театр был лучшим воплощением идеи нового театра. В сезоне 1903/04 года М. Горький основал в Нижнем Новгороде театр Народного дома. В труппу приглашены актеры и режиссеры, ученики школы МХТ. Но намеченный репертуар был сильно урезан цензурой. Административные власти чинили театру препятствия, из-за которых он нес крупные убытки. В мае 1904 года под нажимом полиции театр был закрыт.
Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской тоже возник из необходимости дать площадку демократическому искусству. У этой антрепризы были те же враги: цензура и материальные лишения. Выше рассматривалась принесшая театру урон история с запрещением «Дачников». По свидетельству писательницы С. И. Смирновой-Сазоновой, от Комиссаржевской «требовали подписку, что она не будет ставить пьес Горького и не допустит чтения адресов в своем театре. Она на это ответила, что если не хотят, чтобы у нее шли какие-нибудь пьесы, так это сделать очень просто: стоит только градоначальнику не подписывать ее афиши. Без его разрешения она ничего поставить не может. А смотреть за тем, чтобы не читали адресов, это уж дело полиции, а не ее».
В следующем сезоне цензурные преследования усилились. Были запрещены к постановке пьесы, выводившие народный мятеж на сцену: «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера, «Ткачи» Г. Гауптмана, «Мужики» Е. Н. Чирикова, «Голод» С. С. Юшкевича. В рапортах цензора о запрещении современных пьес основной мотивировкой является показ социального протеста. О драме «Голод» написано: «Пьеса производит потрясающее впечатление, картины голода и страданий нарисованы мастерскою рукой, без грубых внешних эффектов и тем еще усугубляют силу протеста против существующего строя, которым дышит вся драма». Театр Комиссаржевской был лишен пьес подлинного идейного и художественного смысла.
Даже МХТ, коллектив с настоящим художественным авторитетом и с прочной материальной основой, испытывал в эти годы серьезные трудности. Летом 1904 года умер Чехов. Станиславский {125} писал: «Это не было заметно, но авторитет Чехова охранял театр от многого». Отошел от театра Горький. Сезоны были бедны творчески, и это вызвало вялое настроение труппы. Зиму 1905/06 года Станиславский назвал «труднейшим из всех сезонов», в связи с политическими событиями и смертью пайщика театра С. И. Морозова. В письме к Немировичу-Данченко в середине июля 1904 года Станиславский объясняет тяжелое положение театра: «Мы существуем последний год. Все пьесы (Ярцева, Чирикова) идут в Петербурге у Комиссаржевской, и нам не будет с чем ехать гастролировать». Труднейшие условия существования и борьба за репертуар разъединяли театральные коллективы одного направления.
Комиссаржевская, начиная дело, надеялась на помощь и содружество МХТ. Обе труппы обратились к одному и тому же репертуару: Чехов, Горький, Ибсен, драматурги-знаньевцы. Осенью 1904 года в газете «Биржевые ведомости» появилось сообщение: «Московский Художественный театр […] в этом сезоне приезжает в Петербург. От гг. Станиславского и Немировича-Данченко получены авторами, пьесы которых приняты к постановке как в Художественном театре, так и в театре г‑жи Комиссаржевской, телеграммы с предложением не разрешать постановку их пьес в Петербурге». И хотя Найденов, Ярцев, Чириков, по словам Станиславского, для Художественного театра — «легкий компромисс», он борется за них. МХТ установил монополию на пьесы современных драматургов, не разрешая их постановку в Петербурге, куда коллектив театра почти ежегодно приезжал на гастроли.
Бравич, по поручению Комиссаржевской, начинает дипломатическую переписку со Станиславским. «Ваше же доброе и блестящее начало зажгло в нас энергию, и поэтому мне кажется, ей-богу, не было бы греха протянуть нам братскую руку и помочь нам справиться с нашей трудной задачей, а не тормозить наше дело, лишая нас пьес в эпоху страшного оскудения нашей драматической литературы», — обращается Бравич в мае 1904 года к Станиславскому.
В сезоне 1904/05 года пьесы разошлись с некоторой потерей для обоих театров. Вот как были представлены драматурги, в которых были заинтересованы труппы. В Драматическом театре шли три пьесы Найденова: «Богатый человек», «Авдотьина жизнь», «№ 13», в МХТ — одна: «Блудный сын». Зато Ярцев отдал художественникам «У монастыря» (вначале постановка эта предполагалась у Комиссаржевской). В репертуаре обоих театров оказался «Иван Мироныч» Чирикова. Драматическому театру повезло с {126} Горьким, который отдал им, а не художественникам, пьесу «Дачники».
Отношения коллективов имели характер скорее соперничества, чем дружбы. Новый сезон вызвал новые осложнения. Оба театра вели борьбу за пьесу Горького «Дети солнца». Драматург отдавал ее Комиссаржевской лишь при согласии МХТ. Пайщики Художественного театра возражали. Наконец, Станиславский внял доводам Бравича, который писал 25 августа 1905 года: «Лишать нас “Детей солнца”, значит нанести нашему театру нравственный удар, показать публике, что Алексей Максимович после постановки у нас “Дачников” не доверяет нашему театру, а мы этого не заслужили». Премьера «Детей солнца» состоялась 12 октября 1905 года в Драматическом театре и 24 октября 1905 года в МХТ.
Испытывая отвращение к монополии, Станиславский хотел идти навстречу молодому театру и даже развивал далекие планы совместной работы, когда два родственных коллектива могли бы меняться труппами и сообща выбирать репертуар. Но это не сбудется. И в 1907 году Бравичу вновь придется писать: «Я хочу думать, что существование такого театра, как наш, должно быть дорого Дирекции Художественного театра, как нам дорого существование такого культурного театра, как Московский Художественный театр, и поэтому ни минуты не сомневаюсь, что Дирекция Вашего театра захочет пойти навстречу и дать свое согласие на постановку “Жизни человека”». В письме речь идет о разрешении играть пьесу в Москве, которое Драматическому театру не было дано.
Но жизнь театра тормозили главным образом причины внутренние. «Дефицит наш равняется сорока одной тысяче, включая сюда около восьми тысяч расхода на будущий год и имущество […]. Значит, у меня остается капиталу двадцать пять тысяч пятьсот рублей…», — писала Комиссаржевская летом 1905 года. Тяжелое материальное положение вызвало по существу распад труппы — из тридцати семи человек ушли пятнадцать. Среди них были ведущие актеры: Самойлов, Каширин, Блюменталь-Тамарин, Домашева, Будкевич. Из трех режиссеров два, Тихомиров и Петровский, тоже покинули театр. Уходящие не выступали под единым лозунгом. Но факт оставался фактом — они отказались здесь служить, недовольные собственным положением, небольшим заработком. Необходимо было почти заново создавать репертуар, так как старые спектакли требовали ввода новых актеров, новых репетиций.
{127} По окончании первого сезона Комиссаржевская с частью труппы отправилась на гастроли в Москву. А Попов, оставшись с другой частью в Петербурге, поставил еще две пьесы: «Гибель “Надежды”» Г. Гейерманса и «Мнимый больной» Мольера. Второй спектакль был неудачным, первый не перешел на будущий сезон из-за ухода почти всех исполнителей главных ролей. Гастроли не имели обычного успеха. Актриса устала. Новая роль Бискры в пьесе А. Стриндберга «Самум» была встречена и критикой, и зрителем отрицательно. Драму перевел Ф. Ф. Комиссаржевский. Театр привлекли свободолюбивые мотивы пьесы. Но такова лишь исходная позиция. Подлинным содержанием пьесы и спектакля была месть. Арабская девушка Бискра мстит англичанам-завоевателям. Она владеет тайнами гипноза, чревовещания и прочими сверхъестественными способностями. Поэтому, призывая на помощь самум, заставляет своего врага лейтенанта зуавов Гимара страдать от внушенных ею видений: измены жены, смерти сына. Она принуждала его поверить в то, что он отрекся от веры и дезертировал. Лейтенант в припадке проклинает все, дорогое ему, и умирает. Пьеса была неестественна, перевод несовершенен, роль изощренной мстительницы чужда актрисе.
Круг единомышленников Комиссаржевской к концу сезона не вырос. Не окрепли и старые привязанности. Н. А. Попов подводил итоги года без большого удовлетворения. Сезон для него сложился неудачно. Он был в труппе самым рьяным приверженцем МХТ, а потому работы его имели более подражательный характер, чем у других режиссеров. «Уриель Акоста», «Дядя Ваня» повторяли известное. В «Мастере» Г. Бара режиссер, отказавшись от проповеди ницшеанской идеи, главное внимание обратил на обстановку, быт. Основная проблема пьесы осталась за бортом, спектакль удручал ненужным правдоподобием, скукой отторгнутых от борьбы характеров.
Романтический сюжет «Эльги» Гауптмана больше соответствовал режиссерским возможностям Попова. Дух легенды был воплощен на сцене. Декорации старинного замка с залитым лунным светом парком стали фоном необычных страстей и чувств. Но многие качества Попова как человека мешали ему в работе с актерами. Он был нервозен, мнителен, легко стушевывался, чувствуя неверный тон актеров, не умея с необходимой настойчивостью воплощать свои замыслы. И спектакль, который мог бы стать его удачей, не вышел. Ни Домашева, ни введенная в следующем сезоне Ведринская не создали образа Эльги. Эгоистичная и свободолюбивая, жестокая и страстная, жертва крушения старинного {128} дворянского рода, она сохранила гордый шляхетский нрав и несла в себе следы разложения этого рода. Домашева подражала Комиссаржевской, Ведринская фальшивила. Впрочем, в будущем сезоне «Эльга» пройдет несколько раз с успехом, но за спектаклем утвердится ранее сложившееся мнение. Желая поддержать режиссера, Комиссаржевская в следующем сезоне сама примет участие в его спектаклях «Чайка» и «Другая» Г. Бара. Последняя постановка вызовет конфликт Попова с Волынским, и Попов оставит театр, не дослужив до конца сезона.
Комиссаржевская теряла режиссера, имя которого было связано с предполагаемым направлением театра и на которого она возлагала большие надежды.
Одним из немногих до конца преданных Комиссаржевской людей оставался Бравич. Этот актер, перешедший из провинции в театр Литературно-художественного общества и слывший добросовестным работником, узнал наконец настоящую цену своему таланту. Он создал за сезон десять интересных ролей, счастливо выделяясь даже в наименее удачных постановках. Словно много лет копившаяся энергия прорвалась наружу. У актера появился героический темперамент (Де Сильва в «Уриеле Акосте» и граф Старшенский в «Эльге»). Он создал интересные психологические характеры в спектаклях «Авдотьина жизнь», «Весенний поток», «Привидения» и оказался мастером тонкой сценической сатиры в роли Ивана Мироныча. Он был прекрасным партнером Комиссаржевской, тон «взлетной площадкой», с которой она поднималась ввысь. В «Дачниках» Бравич — Басов, в «Бесприданнице» — Паратов, в «Кукольном доме» — доктор Ранк и главный герой — в «Строителе Сольнесе». Столкновение различных творческих начал Бравича и Комиссаржевской всегда было блестящим по результатам. В некрологе, посвященном актеру, Блок писал: «Она — Гильда — Вера Федоровна — опытная и зрелая актриса: но она ведь — синее пламя, всегда крылатая, всегда — летящая, как птица. И навстречу ее летящим словам раздаются эти живые, полные крови и земли, реплики строителя Бравича. Он совершает какую-то черную работу, он держит пьесу на земле, он — те густые, живые, мягкие скромные тона, на фоне которых особенно ослепительно сияет ее чудодейственное, вечно стремящееся улететь пламя».
Когда в театр звали Н. Н. Арбатова — вновь надеялись на его близость к МХТ. Арбатов оказался последовательнее Попова — тем очевиднее обнаружился нетворческий характер надежд театра. В прошлом член Общества искусства и литературы, он {129} остался верен принципам художественников с той разницей, что для Станиславского и Немировича-Данченко всякая остановка казалась гибелью, Арбатов же усвоенные им на определенном этапе методы и приемы возвел в непреложный закон. Пьеса Г. Гауптмана «Геншель», поставленная Лужским и Станиславским в сезоне 1899/1900 года, оказалась далеко не лучшей работой МХТ. Арбатов целиком повторил ее в Драматическом театре в 1905 году. Такая режиссура не могла открыть путей к художественным вершинам. Он был добросовестным режиссером, много работал с актерами, серьезно занимался вопросами обстановки пьесы. И часто натуралистические методы его давали иллюзию подлинной жизни.
В спектакле «Геншель» удачной оказалась сцена в кабачке. Но в целом постановка была утяжелена обилием подробностей, которые сковывали актеров. Актриса О. А. Голубева, игравшая под руководством Арбатова главные роли, вспоминала: «Он признавал только быт и загромождал каждую пьесу бесконечными бытовыми мелочами… Эти мелочи мешали актеру выявить душевную жизнь изображаемого лица». Уралов и Голубева оказались в плену у локальных красок и частных настроений. Поставленные Арбатовым «Свадьба» Чехова, «Праздничный сон — до обеда» Островского, «Завтрак у предводителя» Тургенева, несмотря на отдельные актерские успехи, погоды в театре не делали, создавая лишь общий «культурный фон». Арбатов был застрахован от поисков и ошибок; его добросовестность внушала творческие опасения.
Театр нуждался в новом репертуаре, новых режиссерах, в собственном художественном направлении. Первые попытки таких перемен сделал Волынский, корректируя спектакли Тихомирова и Попова. Волынский писал Комиссаржевской о репертуаре будущего сезона: «К несчастью, меня не радует перспектива, вычертившаяся для меня в беседе с Н. А. (Поповым. — Ю. Р.). “Чайка”, “Росмерсгольм”, “У моря”, “Нараспашку” и даже этот “Ромео”, при колоссальном труде, который будет уложен на его постановку, — все это не хлеб для театра в теперешнюю минуту. Все это не создаст идейного шума настоящего набата, от всего этого нервы публики и актеров не будут трепетать, биться как в бреду. А без такой жизни театр не может двинуться вперед, наш театр в особенности, потому что именно он должен сделаться теперь театром высших идеологических поучений, вышедших из жизни и ведущих эту жизнь, куда следует. Если не придут к нам новые русские пьесы, которые я предпочел бы для Вас всем {130} Шекспирам в мире, надо бы подумать о “Штокмане”, “Бранде”, “Столпах общества”».
Второй сезон театра тоже оказался убыточным. Комиссаржевская вновь гастролирует. Как год и два, и четыре назад. По-прежнему каждый день и час жизни своего театра она зарабатывает изнурительным трудом и понимает, что крушение дела не ограничивается материальной сферой. Выросла необходимость в коренной реформе. Нужна была сильная режиссура.
Одного Комиссаржевская достигла несомненно: ее позиция не была созерцательной. Каждый шаг актрисы был борьбой за высокое демократическое искусство. Она отвечала за удачи и неудачи своего дела, а потому не сложила оружия, решив испытать новые пути.
{131} Театр на Офицерской. Последние годы
1
В первый раз со времени существования нашего театра я не чувствую себя, думая о деле, рыбой на песке.
Ужас весь в том, что я никогда не сумею начертать себе путь и идти по нем.
Комиссаржевская прожила сорок пять лет. Поздний приход на сцену сократил время творчества. И неожиданно быстро наступили «последние годы».
Прошедший сезон 1905/06 года не умножил ее побед. Работы Драматического театра за этот год не могли быть отнесены к числу завоеваний. Цензурные запреты преградили театру путь к политической, актуальной драме. После ухода Попова единственным режиссером театра остался Арбатов, постановки которого довели до самоотрицания попытки идти за МХТ.
Новые поиски театра были связаны с общими процессами отечественного искусства.
Толстой и Чехов в последнюю пору их творчества делают новый и смелый шаг в истории художественной культуры. «Происходит своего рода интенсификация реалистического метода, выработка более экспрессивного художественного языка. Многостороннее живописно-картинное воспроизведение мира уступает место изображению в формах емких, экономных, но насыщенных авторской оценкой», — читаем в «Истории русской литературы»[66].
Толстой и Чехов чувствовали, что старые литературные формы отжили свой век. Доведя критический реализм до высшей точки, они словно завещали следующему писательскому поколению открытие нового в литературе. «Вы укокошите реализм», — писал Горький Чехову еще в 1900 году.
Все это свидетельствовало о назревшей потребности в смене социальных и эстетических норм жизни. Верность реализму в искусстве {132} начала XX века нередко таила в себе опасность выродиться в бескрылый натурализм. Не к этому ли пришли молодые прогрессивные писатели Е. Чириков, С. Найденов, С. Юшкевич? Ю. Юзовский считает, что «знаньевцы» рисковали скатиться к точке зрения провинциального обывателя.
Сложный процесс обогащения стилевых возможностей искусства происходит в живописи Творчество В. А. Серова становится средством глубочайшего проникновения в социально-психологическую природу человека. Здесь наблюдается процесс «интенсификации реализма», подобный толстовскому, чеховскому. Серов стремится к максимально возможной прямоте художественных высказываний. Совершенно по-новому воспринял и усвоил реализм Врубель. Мир предстал перед ним в виде разрушающейся гармонии. Разрывающие сознание фантасмагории передавали мучительную раздвоенность души современника. У художника — свой аспект реального мира. «Фантастика в созданиях Врубеля непостижимо сливается с глубоким и своеобразным реализмом. Всюду сквозь величественную сказочность этих изображений, столь похожих на какие-то причудливые сны, он разглядит реальную природу, запечатленную в живых ее подробностях с остротой и зоркостью необычайной», — пишет один из его первых биографов[67].
Ученик И. Е. Репина, художник с большой тягой к русскому быту, Б. М. Кустодиев тоже ищет новые стилевые возможности. Русские ярмарки, купчихи, провинциальная и деревенская жизнь были увидены Кустодиевым в их нарядной декоративности. Тот же праздник красок выявлял живописную сущность человеческого, характера.
Новые веяния коснулись творчества такого крупнейшего мастера реализма XIX века, как Н. А. Римский-Корсаков. Он создает в начале нового столетия оперы «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок». Композитор использует символику и условные приемы как основные средства художественной изобразительности.
Ведущее место в искусстве тех дней стремился занять символизм. В России течение это возникло в 1890‑е годы. И если в XIX веке его идейным пафосом была борьба с демократическими настроениями в литературе, то в 1900‑е годы симпатии В. Брюсова и «младших символистов» — А. Блока, А. Белого были на стороне первой русской революции. Они стали тяготиться социальным {133} одиночеством, принявшим у них трагический характер. Символисты не культивировали узкий фанатизм своего направления и стремились преодолеть его замкнутость, соединив его с реализмом.
В начале XX столетия символизм развивался в борьбе с миром сытых, правящих жизнью. Но способы противостояния этой действительности были различны. Чаще всего поэты уходили из реальности в царство грез и снов. Пристально вглядываясь в неизведанные глубины духовной жизни, символисты ограничивали себя миром лирической стихии. Их философские в социальные взгляды, отрицая буржуазный способ существования, были ретроспективны. Они выступали против капитализма с романтико-идеалистических позиций, ища совершенные формы жизни в средних: веках, в допетровской Руси. Им сродни была философия Шеллинга, Шопенгауэра, Т. Карлейля, Рескина. Соединяя искусство с философией, символисты придавали ему самодовлеющее значение, видя в нем главное средство духовного преображения жизни. «Вслед за кризисом мысли искусство неизбежно должно было выступить на смену философии как руководящий маяк человечества», — писал А. Белый. Поэт, отрицающий всеобщие законы ради правды каждого индивида, должен спасти мир. Это искусство, так настоятельно ищущее истины для отдельного человека, было гуманно и действенно. Несмотря на иллюзорность философских позиций, символисты передали в своих произведениях неприятие современной жизни, предчувствие назревших перемен, потребность человека в красоте и добре.
О социальной природе этого явления писал А. В. Луначарский: «Испытующий дух нового времени начинает гнать художника дальше старых границ его вопрошаний; вопрос о происхождении характера, вопрос о формировании духа во всех его особенностях не мог не стать перед психологически образованным художником […] Характер перестал быть чем-то определенным и стойким, человек перестал понимать самого себя: его помыслы, чувства и поступки выплывали на его глазах из темных недр его разрозненной, его бессистемной души […] Скомканность внутренней жизни и непонятность “случайностей”, от которых зависит судьба отдельной личности, породили новейший, декадентский, художественный мистицизм».
Комиссаржевской близки философские и эстетические поиски символистов. То же увлечение идеалистической философией и романтизмом. Ей знакомы имена Ф. Ницше, Т. Карлейля, Дж. Рескина. Она религиозна, склонна к мистицизму. В символизме ее {134} привлекало стремление к открытию безграничных духовных ценностей человека. Руководствуясь художническим инстинктом, Комиссаржевская так определяла программу ближайшего будущего: «Я же всей душой стремлюсь направить свой театр по новым, еще только намечаемым путям, которые стали все властнее завоевывать себе первенство в художественной литературе, в поэзии, драматургии, живописи, скульптуре, музыке… Теперь реальное воспроизведение быта художниками всех родов стало уже для многих неинтересным, ненужным. Быт достаточно использован… Человеческая мысль, человеческая душа стремятся теперь в искусстве найти ключ к познанию “вечного”, к разгадке глубоких мировых тайн, к раскрытию духовного мира».
Комиссаржевская решила довериться новому искусству, близкому ей лирико-поэтической природой. Там, в недрах человеческого характера, в познании непонятых случайностей пыталась она найти разгадку современности и путь к нравственному возрождению. Чувствуя себя неспособной отразить всю правду жизни, она пыталась, как и символисты, воспроизвести лишь миг этой правды.
Лирическая замкнутость символизма воспринималась как кризис даже сторонниками этого направления. Группа символистов во главе с В. Ивановым, Г. Чулковым выступила в 1906 году с теорией мистического анархизма. Главную мысль этой теории, как и ее название, определил Г. Чулков: «Я разумею учение о безвластии…, т. е. учение о путях освобождения индивидуума от власти над ним не только внешних форм государственности и общественности, но и всех обязательных норм вообще — моральных и религиозных». Мистические анархисты выступали против «мира, данного во имя мира, долженствующего быть».
Борясь с индивидуалистической философией символизма, они звали к «соборному действу», к «утверждению личности в общественности». Под мистицизмом они разумели «совокупность душевных переживаний, проявляющихся в искусстве». В самом творчестве и воздействии его на человека искали мистические анархисты путей к социальным преобразованиям.
Воплотить свою теорию на практике они хотели в сценическом искусстве. «Театр — это реализация тех переживаний личности, которые являются свободным утверждением религиозно-эстетического начала в самой жизни; иными словами — театр — это первое и элементарное выражение религиозно-общественного действия», — писал Г. Чулков. Они издавали альманах «Факелы» и предполагали так же назвать театр. Обсуждение этих вопросов {135} велось на литературных средах В. Иванова зимой 1905/06 года. В качестве высокого литературного авторитета Г. Чулков назвал имя Ибсена.
Комиссаржевской импонировали слова о духовной свободе, социальных преобразованиях. Ее увлекло то громадное значение, которое мистические анархисты приписывали театру. И снова ей показалось, что найден единственно верный путь.
Один из постоянных и активных участников ивановских сред — молодой режиссер В. Э. Мейерхольд, в недавнем прошлом актер МХТ. За три года работы в Товариществе Новой драмы (Херсон, 1902 – 1904 гг.; Тифлис, 1904 – 1905 гг.) Мейерхольд отказывается от традиций Художественного театра. Он испытывает огромное влияние В. Я. Брюсова и его статьи «Ненужная правда», в которой поэт выступил против натуралистических течений Художественного театра. «Театру пора перестать подделывать действительность», — провозгласил Брюсов, требуя сознательной условности на сцене. Мейерхольд выступал против натуралистического воссоздания характеров и быта, вытеснивших духовность и сузивших масштаб идейности. «Мы хотим проникнуть за маску и за действие в умопостигательный характер лица и прозреть его “внутреннюю маску”», — писал Мейерхольд. Искусство должно обрести утраченную способность производить катарсис.
Андрей Белый, один из теоретиков символистского театра, объявляет главным признаком искусства «примат творчества над познанием». Он провозглашает: «В драме впервые осознается сокровенный призыв к творчеству как призыв к творчеству жизни». Ему вторит Мейерхольд: «Я, мечтающий о преобразовании жизни искусством, мечту ставящий выше действительности».
Все это вернуло Комиссаржевскую к ее прежним привязанностям: к поэтической философии Ницше, для которого трагизм жизни, «чтобы быть хотя бы только выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства», к романтизму Т. Карлейля и Дж. Рёскина.
Философская обобщенность и отвлеченность символических пьес заставляла искать иных форм сценической выразительности. Эта драматургия помогла Мейерхольду порвать с принципами натуралистического театра и заново открыть старый закон театральности — условный прием.
Именно условность, отторгаясь от буквального прочтения драмы, открывает ее философский смысл. Условный прием предполагает видение не только первого и второго планов пьесы — он способен увеличить их число до бесконечности. Его задача — {136} обнажить план, наиболее значительный для современников, открыть новый масштаб драмы. Только так можно вернуть театру его очистительное значение, придать ему действенный характер. Доказывая совершенство данного метода, Мейерхольд писал: «Условный театр освобождает актера от декораций, создавая ему пространство трех измерений и давая ему в распоряжение естественную статуарную пластичность». Актер освобождается от нагрузок бытового характера для задач более высоких. Мейерхольд действительно предлагал актеру широкое поле деятельности в сфере условного театра. Его деспотизм заключался в непримиримости к натуралистической манере исполнителя, которой были связаны современные лицедеи. Если актер, принимаемый в МХТ, должен отвечать определенным условиям, если ученик мхатовской школы узнаваем, так как обязан следовать установленным принципам, то в театре Мейерхольда мог работать любой актер. Более того, его ученики поражают несхожестью друг с другом. Мейерхольд открывал талант, давая ему возможность выявить самобытность, не подравнивая его к единому идеалу. Он писал: «Режиссер условного театра ставит своей задачей лишь направлять актера, а не управлять им […] Как актер свободен от режиссера, так и режиссер свободен от автора. Ремарка последнего для режиссера лишь необходимость, вызванная техникой того времени, когда пьеса писалась».
Условный метод универсален. Открытый в пределах символистского театра, тяготеющего к отвлеченности, он продолжает жить после ухода символизма со сцены. Мейерхольд сразу же стремится разграничить эти совпавшие во времени явления: символистский театр и условный прием. Он доказывает плодотворность последнего по отношению к любой пьесе: «Название же “условный театр” определяет собой лишь технику сценических постановок […] Если признать, что подлинным методом должен считаться тот, который может удовлетворять требованиям архитектоники пьес разных родов, начиная с античных до ибсеновских, — метод условный несомненно победит приемы натуралистические».
Мейерхольд оставил авторские описания большинства своих спектаклей за первые десять лет режиссерской работы. Эти комментарии, касающиеся внешней стороны спектакля, давали повод иным исследователям назвать режиссера формалистом. К. Л. Рудницкий впервые справедливо отметил, что Мейерхольд не ставил перед собой задачи всесторонней характеристики спектакля. Мысль можно продолжить: режиссер говорит в каждом случае {137} о форме проявления условного приема. Опробование этого приема в пьесах разных времен и жанров — вот что занимало его в пору работы с Комиссаржевской.
Условный прием стал залогом творческого обновления театра, обязательным элементом художественного сознания в искусстве XX века.
Начинания Мейерхольда вызвали интерес у Станиславского, который помог ему весной 1905 года организовать театр-студию при МХТ. Мейерхольд готовил к постановке «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка. Спектакль Студии на Поварской должен был положить начало символистскому театру в России. Режиссер критически отнесся к предыдущим спектаклям Метерлинка в России, считая ошибкой своих предшественников то, что «они старались пугать зрителя, а не примирить его с роковой неизбежностью». Этот драматург дает «возможность выйти из мрака или переносить его без горечи. Искусство Метерлинка здорово и живительно». Для Мейерхольда подобные пьесы помогали философскому освоению действительности. В них он искал источник жизненной стойкости.
Сценической формой спектакля Мейерхольда становится «мистерия: или еле слышная гармония голосов, хор тихих слез, сдавленных рыданий и трепет надежд (как в “Смерти Тентажиля”), или экстаз, ведущий к всенародному, религиозному действу…, к вакханалии великого торжества чуда (как во II акте “Беатрисы”)». По-современному символичной стала тема борения со сном сестер, охраняющих жизнь Тентажиля, и вызов, который Игрена бросает неумолимой судьбе. Образ смерти в спектакле приобретал широкие ассоциации. Художники С. Ю. Судейкин и Н. Н. Сапунов создали условные декорации. Актеры должны были отказаться от реалистической манеры исполнения. Но премьера не состоялась. Открытия театра исканий не произошло. Мейерхольд лишь выявил единомышленников.
Брюсов после генеральной репетиции «Смерти Тентажиля» пишет статью «Искания новой сцены». Поэт считает, что студийцы не сумели еще порвать с традициями реализма.
«Движения, жесты и речь артистов должны быть стилизованы, должны стремиться не к подражанию тому, как бывает “на самом деле”, а к той степени выразительности, какой в жизни не бывает. Ведь достигает же слово высшей выразительности в стихе, между тем как стихами люди не объясняются друг с другом, даже в минуты величайшего возбуждения. Дайте нам в театре художественную {138} условность, и очень быстро все наше внимание обратится к тому, что составляет сущность всякого сценического представления: к идее исполняемой драмы. Театр Студия на Поварской не посмел окончательно порвать с традициями; он сделал нерешительный шаг вперед, но еще не сошел с прежних позиций. Но он показал для всех ознакомившихся с ним, что пересоздать театр на прежнем фундаменте нельзя. Или надо продолжить здание Антуан-Станиславского театра, или начинать с основания», — этот вывод Брюсова был близок и Мейерхольду.
Зимой 1905/06 года Мейерхольд находился в Петербурге, мечтал стать режиссером театра «Факелы». Он посылал Брюсову подробные отчеты об ивановских средах, рисовал контуры своей будущей работы. Большое впечатление на Мейерхольда произвело выступление Горького на одной из сред, слова которого он пересказал Брюсову: «В скудной России и существует только искусство, мы здесь ее “представительство”; мы слишком преуменьшаем свое значение. Мы должны властно господствовать, и наш театр должен быть осуществлен в огромном масштабе. Это должен быть театр-клуб, который мог бы объединить все литературные фракции»[68].
Мейерхольду близка эта широко развернутая Горьким программа театра, основанного на современной драматургии с широкими литературными связями. Мейерхольд — художник, смотрящий далеко вперед. Он в самом начале пути. Он выбирает дорогу. Сознательно экспериментирует. Ему необходима деятельность на столичной сцене, где последовательно проводились бы намеченные идеи, где ощущалась бы поддержка друзей.
Театр «Факелы» так и не начал своего существования. Мейерхольд уехал в Тифлис, где 10 февраля 1906 года получил письмо от Комиссаржевской с предложением вступить в ее труппу в качестве актера и режиссера. Он немедленно дал согласие, хотя чувствовал компромиссность этого решения. В одном из писем (1 марта 1906 г.) он сообщал: «Мне хотелось сказать несколько соображений по поводу театра Комиссаржевской. Я с тобой согласен, что театр не то и что мне придется тратить много сил, волноваться, и результатов все-таки достичь нельзя. Все это так, но, повторяю, поступаю туда только ради того, чтобы докончить начатое в Питере, чтобы то, что сделано уже, не пропало даром. Я говорю о “факельном” движении, о Дягилеве и т. д. Не могу же я {139} отказаться от возможности жить в Петербурге и закончить начатое и предпочесть провинцию, которая неподвижна»[69].
Мысль о приглашении Мейерхольда занимала Комиссаржевскую еще в 1904 году. У Комиссаржевской и Мейерхольда было общее прошлое: преданность Чехову, Горькому, МХТ. Оба встретились в поисках новых путей.
Театр Комиссаржевской — Мейерхольда возник как закономерность эпохи. И актриса, и режиссер испытывали потребность рассказать по-новому о трагедии русского общества. Они обратились к символизму как искусству повышенной духовной напряженности, которое увело бы в мир «космических» проблем. Согласовать современную жизнь с представлением о прекрасном и реальном будущем им казалось невозможным. В искусстве они выражали мучительную боль современника или уходили от мрачной повседневности в мечту.
В конце апреля 1906 года Комиссаржевская встретилась с Мейерхольдом в Екатеринославе, где она гастролировала, вновь пытаясь поправить убыток прошедшего сезона. Они подробно говорили о принципах нового дела, о будущей труппе и репертуаре. Осенью театр должен был переехать в новое здание на Офицерской улице, д. 39, перестройка которого уже началась. Следующее их свидание описывает Н. Д. Волков: «В мае 1906 г. Мейерхольд приезжает в Москву и здесь встречается с Комиссаржевской. По словам Ф. Ф. Комиссаржевского, она “как будто в его проектах нашла себя”. Казалась осуществимой ее мечта о “театре свободного актера, театре духа, театре, в котором все внешнее зависит от внутреннего”. И Мейерхольд, “по словам Веры Федоровны, говорит тогда о главенстве актерской души на сцене и о подчинении ей всего остального на сцене”»[70].
25 мая 1906 года в Театральном бюро Комиссаржевская подписала с Мейерхольдом договор сроком с 1 августа 1906 года до великого поста 1907 года. Перспективы ей казались оптимистическими. Она сообщала о встрече с Мейерхольдом: «Пока скажу только одно — что беседа наша произвела на меня самое отрадное впечатление. В первый раз со времени существования нашего театра я не чувствую себя, думая о деле, рыбой на песке. Это ощущение родилось в вечер генеральной репетиции “Уриеля Акосты” (т. е. первого спектакля Драматического театра Комиссаржевской в Пассаже. — Ю. Р.) и, не сознанное мной, жило {140} в тайнике души, мешая душе не только творить, но даже дышать, как ей надо, чтобы жить».
Летом 1906 года Комиссаржевская путешествует по Скандинавии с братом Ф. Ф. Комиссаржевским, встречается там с К. В. Бравичем. Для них отдых — не пустое провождение времени. Внимательные глаза художника запоминают все, что может пригодиться в будущей работе. Комиссаржевская духовно готовится к сезону, на который возлагает большие надежды.
Природа скандинавских стран поражает актрису поэтичностью. Она смотрит на родину Ибсена глазами его героинь. Она ищет источники сильного характера Норы, мятежного вдохновения Гильды. На берегах прозрачных озер, среди скалистых фьордов ей чудятся несозданные, невоплощенные, но заворожившие надеждой образы. В густом и древнем лесу, где могла разыграться трагедия Пеллеаса и Мелизанды, она видит кедр, похожий на Аркеля. Увиденные ею города сохранили древнюю культуру и национальный колорит. «Люди суровы, друг с другом любезны, но без гадливости», — сообщает Ф. Ф. Комиссаржевский о своем впечатлении Мейерхольду.
Вспоминая жестокий режим своего отечества, актриса невольно обращает внимание на чувство собственного достоинства и личной свободы у скандинавов. Она жаждет гармонии духовного и внешнего миров. Но обрести не может. Поражает горькое сознание недостижимости этой гармонии. Словно страшное проклятие тяготело над Россией. От этого нельзя было никуда уйти. «События нашей родины смутили мой покой, а то бы здесь чудно было», — писала Комиссаржевская 12 июля 1906 года актеру театра А. Н. Феона. В России продолжались забастовки, крестьянские волнения, демонстрации. Крупным трагическим событием этого периода был трехдневный еврейский погром в Белостоке (1 – 3 июня 1906 г.). В течение месяца русские и иностранные газеты печатали сообщения о погроме и его последствиях.
Потребность повышенной духовности привела искусство Комиссаржевской к символизму. Она легко восприняла его сложную систему сопоставлений, метафоричность мышления, эзотерический язык. Она и в жизни, обращаясь с друзьями, прибегала к языку «для посвященных». В письмах ее часто встречается условная терминология, понятная лишь двоим. Комиссаржевская со свойственным ей максимализмом признала мистическое, подсознательное подлинным источником искусства. С характерной для нее торопливостью она стремилась как можно скорее стать верной и последовательной символисткой.
{141} Новое направление театра требовало абсолютной погруженности в мир «творимой легенды». Эта мечта давала иллюзию освобождения от собственного бессилия. Подобное искусство могло сравниться только с религией. О. Мандельштам писал о новом помещении театра на Офицерской: «Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна — чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке». Художник Л. С. Бакст создал занавес, изображавший элизиум — светлые души потустороннего мира меж зеленых кущ и колонн античного храма.
Сколько друзей, знакомых и просто зрителей тревожились и хлопотали вокруг нового начинания Комиссаржевской! Они видели в Мейерхольде демона-искусителя, который погубит бедную, заблудшую актрису. Сколько друзей и знакомых будут торжествовать год спустя, считая свои предсказания сбывшимися! Может быть, они были правы? Может быть, и в самом деле в минуты кризиса, когда столкнувшиеся противоречия затрудняют выбор решения, должен торжествовать «здравый смысл»? Для Комиссаржевской такого выхода не существовало. Она знала, что для нее старая система театра исчерпана, и решила погибнуть, но искать, в душе надеясь на победу. Объяснить свой поступок логически, на большой аудитории она не умела. Поэтому, когда на одном из первых собраний труппы возник спор между Мейерхольдом и Арбатовым о творческих планах сезона, Комиссаржевская, поддерживая нового режиссера, сказала: «Я так хочу!» Это звучало не очень убедительно для Арбатова, который в прошлом году был полновластным режиссером в театре. Всю весну он был занят набором будущей труппы, перестройкой театра, хозяйственными делами. Без тени колебания подписал он договор на новый сезон. (Договор оформили 8 октября 1906 года, хотя составлен он был 25 мая). И вдруг оказался не у дел. Вокруг него собрались актеры, недовольные переменами. В газетах появились тревожные заметки о расколе в театре Комиссаржевской. Арбатова отстраняют от постановки пьесы С. Юшкевича «В городе». Ф. Ф. Комиссаржевский ждет его объяснений, так как не видит в нем сочувствия к делу. Некоторое время спустя, чувствуя сопротивление Арбатова, Комиссаржевская объявляет ему: «Считать Вас в числе сотрудников того дела, в которое я вложила свою душу, — я не могу».
Силой своего авторитета директриса театра утверждала и поддерживала Мейерхольда. Она чувствовала, что будущее принадлежало ему, а не Арбатову, хотя колыбелью обоих, был когда-то МХТ. Комиссаржевская выглядела бодрой, уверенной. Прямо {142} смотрела в глаза. Крепко пожимала руку, здороваясь. С восторгом встретила выступления Мейерхольда перед труппой. Она верила и должна была внушить эту веру другим. И все-таки за словами «я так хочу», вместо характерного для нее «я должна», таились беспокойство и неуверенность. Талант Мейерхольда, его огромные возможности не оставляли сомнений. Но придется ли все это впору ее театру, соединится ли с ее дарованием?
Не было такого союза Комиссаржевской с режиссером, который не кончился бы разрывом. Часто они не поспевали за ее стремительным полетом к совершенству, становились жертвой ее заблуждений на их счет. Иное дело Мейерхольд. Всякий его шаг, удачный или неудачный, вобрал в себя удачу или неудачу целой эпохи. Комиссаржевская этого не поняла, объяснив причину поражений театра личными свойствами режиссера. Союз перерос в конфликт и завершился разрывом.
В сентябре 1906 года часть труппы, находясь в Петербурге, репетировала «В городе» С. Юшкевича, другая часть, гастролируя имеете с Комиссаржевской, готовила «Гедду Габлер» Ибсена. Собирали деньги на затянувшийся ремонт. В октябре все съехались в Петербург. По субботам в помещении на Английском проспекте собирались, приглашая писателей, художников. Блок читал свою пьесу «Король на площади», Брюсов — стихи, Сологуб — драму «Дар мудрых пчел». Был поставлен дифирамб В. Иванова. А. М. Ремизов познакомил собравшихся с новой книгой сказок «Посолонь». Казалось, Мейерхольд хотел реализовать слова Горького о театре-клубе для художественной интеллигенции. По темам и составу действующих лиц эти субботы были продолжением ивановских сред. Мейерхольд пытался на практике осуществить «факельное» движение, но его работы вышли из замкнутого круга выдуманной теории на широкую дорогу искусства.
На субботах театр сближался с современной литературой, живописью, начинал осуществлять свою художественную программу. Ту, которая воплотилась в репертуаре театра. О случайных, кассовых пьесах не могло быть и речи. Ориентировались прежде всего на символистскую драматургию. Выступления Мейерхольда перед труппой начались с критики натуралистического театра, затем, ссылаясь на работы В. Брюсова, В. Иванова, Г. Чулкова, он говорил о символизме на сцене.
Разрушая старое здание, режиссер тут же намечал план постройки нового.
В репертуар должны были войти: «Сестра Беатриса», «Смерть Тентажиля», «Чудо св. Антония» М. Метерлинка, «В городе» {143} С. Юшкевича, «К звездам» и «Савва» Л. Андреева, «Земля» В. Брюсова, «Балаганчик» и «Король на площади» А. Блока[71]. Поиски новых сценических форм были необходимы для постановки символистской драматургии, для воплощения современных проблем. Репертуарная линия Мейерхольда была последовательна и внутренне логична. Забегая вперед, можно сказать, что Мейерхольд понимал недолговечность символистского театра, и поэтому подбор пьес для следующего сезона отличался большим многообразием. Условный прием, рожденный в недрах символистского театра, следовало опробовать на пьесах самых разнообразных направлений. Условный прием должен был жить, невзирая на гибель иных театральных направлений. Мейерхольд предполагал ставить романтические драмы, комедии, мистерии, исторические спектакли и даже «Ревизора». Существуют записи Мейерхольда, относящиеся к концу 1907 года, о крайностях театра исканий (так называли символистский театр Комиссаржевской) и о переходе к реализму, возникает проект мистико-реалистического театра[72]. Такова ближайшая перспектива этого художника.
Осенью 1906 года он разработал план докладов для труппы по истории искусства разных стран. Для совершаемых преобразований ему нужен развитой актер, образованный человек, который мог бы творить сознательно. Театр должен жить в атмосфере творческой дискуссии.
Открытие театра состоялось 10 ноября 1906 года в новом помещении на Офицерской улице пьесой Г. Ибсена «Гедда Габлер». Мейерхольд хотел рассказать в спектакле о борьбе свободной личности за свои права. В образе непонятой, замкнутой, трагичной Гедды современная интеллигенция должна была увидеть себя, в ее гибели — крушение своих надежд. Гедда — личность, которая хочет утвердиться, но у нее нет среды, нет опоры. В развитии своего замысла режиссер опирался на мечту Гедды о прекрасном. Мейерхольд ушел от правды быта, дав актерам нарядные экзотические платья. Цвет костюма и соответствующая поза актера выражали символически определенное настроение и дополняли живописную картину спектакля. Эскизы декораций (художник Н. Н. Сапунов) должны были создать атмосферу красоты, которую Гедда искала в себе и в людях. Помещение, где происходило действие, очень условно могло быть названо комнатой: на узкой, длинной полосе сцены декоративно расположились белый рояль, {144} кресло, покрытое белым мехом, стол, пуфы и длинный диван-скамья. Стена была закрыта гобеленом. Преобладали голубые и золотисто-соломенные краски осени. Среди этого великолепия появлялась загадочная, в изумрудном платье и рыжем парике, Гедда — Комиссаржевская. Многие зрители не узнали Ибсена, отказывались узнать любимую актрису. «Так не бывает, и Ибсен так не писал, — говорил и Мейерхольд о своем спектакле. — Постановка “Эдды Габлер” на сцене Драматического театра “условна”. Ее задача открыть перед зрителем пьесу Ибсена необычными, особыми приемами сценического изображения, и впечатление голубой, холодной, увядающей громадности (только это впечатление) от живописной части постановки было в задаче театра… Театр стремился к примитивному, очищенному выражению того, что чувствовал за пьесой Ибсен: холодная, царственная, осенняя Эдда».
Подчеркивая право героини на самоутверждение, режиссер требовал от исполнительницы тифлисской постановки: «Нельзя Эдду интерпретировать злодейкой, надо ее играть мадонной. Боже упаси, делать злые глаза»[73].
Комиссаржевская подошла к роли со смешанным чувством надежды и недоверия. Она заметалась между Ибсеном и Мейерхольдом. Смысл условного приема ей был пока не ясен. Надо сказать, что и Мейерхольд только искал форму выражения этого приема. В «Гедде Габлер» условность была им понята как перевод смысла драмы на язык живописи. Задача актера — быть в цветовом соответствии с палитрой спектакля. «Суть в декоративности актера… — записывает Мейерхольд в конце 1906 года. — Актер не “играет” всю полноту и разнообразие изображаемого лица; он передает отшлифованно-декоративно какой-нибудь мимический лейтмотив»[74]. Такая задача предполагала некоторую свободу режиссера от указаний автора. Мейерхольд требовал: «Относительно ремарок необходимо заметить следующее: актеру не важно точно выполнить авторскую ремарку во всех ее подробностях, а важно раскрыть настроение, вызвавшее ремарку». Комиссаржевская настаивала на точном воспроизведении ремарок драматурга. Заставив себя принять новую веру, она внутренне не могла расстаться со старой (и чем дальше, тем больше была верна этой старой вере). Через несколько месяцев она с новой убежденностью {145} повторит Мейерхольду то, о чем они спорили осенью 1906 года: «Помните, при постановке “Гедды Габлер” я говорила, что ее ремарки должны точно выполняться. Теперь я совершенно определенно говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала. Каждое слово ремарки Ибсена есть яркий свет на пути понимания его вещи». Это говорит убежденная реалистка, переход ее к символизму совершался не просто.
Спор о верности автору, его ремаркам перешел и в газеты. Он имел принципиальный характер. Режиссер пока не был достаточно убедителен в отступлении от авторского текста. Условный прием здесь тесно связан с символистским театром. Его живописно-декоративная форма выглядела насильственной по отношению к реалистической природе пьесы.
Живым людям со сложной драмой в душе отведена была однозначная роль марионеток. Реалистический интерьер Ибсена трансформировался в декоративно-символическое зрелище. Предложенные актерам железные рамки условного поведения заставили их отречься от реализма пьесы и не помогли открыть отсутствующее в ней символистское содержание.
Поэтому для Комиссаржевской оказалось невозможным требование Мейерхольда не выявлять характер, а условно (в данном случае живописно-пантомимически) передавать смысл пьесы. Комиссаржевская не представляла работы на сцене вне создания характера. На спектакле она, словно растерявшись, подолгу стояла в одной позе (послушно играла роль живописного пятна). Замедленные жесты были лишены внутреннего смысла. Иногда прорывались предательские нотки «Бесприданницы». Попытка согласовать собственную неуверенность с волей Мейерхольда привела к «намеренно недовершенным интонациям», к «намеренно заглушённым порывам чувств». Спор с режиссером продолжался на сцене. Актриса пыталась провести понятную ей тему душевной неудовлетворенности в словах героини «о свободной, смелой воле», в сцене сожжения рукописи Левборга, в страшных предсмертных криках. Актриса была не уверена в каждом шаге и то казалась «холодной, зеленой женщиной» с ледяными, строгими глазами, то «избалованной русской барыней».
Лиха беда начало. Замысел Мейерхольда не осуществился. Чистое золото условного приема не удалось отделить от шлаковых примесей. Даже самые рьяные адепты нового направления в Драматическом театре вынуждены были признать неудачу. Чулков писал, что спектакль стал «не союзом зрителя и режиссера, а борьбой», предсказывая ее продолжение. Блок трезво и точно {146} оценил спектакль: «“Гедда Габлер”, поставленная для открытия, заставила пережить только печальные волнения: Ибсен не был понят или по крайней мере не был воплощен — ни художником, написавшим декорацию удивительно красивую, но не имеющую ничего общего с Ибсеном, ни режиссером, затруднившим движение актеров деревянной пластикой и узкой сценой; ни самими актерами, которые не поняли, что единственная трагедия Гедды — отсутствие трагедии и пустота мучительно прекрасной души, что гибель ее — законна».
Нарядная, экзотическая «Гедда Габлер» оказалась чужда актрисе. Не в праздничных красках осени, а в непроглядном тумане коротких петербургских дней видела она соответствие своему психологическому состоянию. Ее сжигает несгорающий огонь поисков. Напряженно работает мысль после заполненного дня, после только что оконченного, такого неудачного спектакля. В эти остановившиеся минуты дум и созерцаний Комиссаржевская вспоминала прошлое, когда она блуждала мысленно в звездном небе, отыскивая Большую Медведицу. Звезды продолжали свой рассказ о непрочитанной, не разгаданной ее судьбе. Актриса возвращалась к не изменившим ей надеждам. Удивлялась силе творчества, которая жила в ней, вновь обретала свое место в искусстве. Как прежде умела
… вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
А. Блок
Поиски Комиссаржевской истины были интуитивны и эмоциональны. Постигая мир не разумом, а чувством, обращая основное внимание на следствие, а не на причины, она несла стихию мятежа и устремленность к идеалу. «У Веры Федоровны Комиссаржевской были глаза и голос художницы. Художник — это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека; тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной… Эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама», — так воспринимал Блок Комиссаржевскую, передавая собственный идеал художника.
{147} Трагическим был разлад между этим дальним видением и невозможностью приблизить к нему жизнь. Великий поэт понимал это и чувствовал свою беспомощность.
Враждебность общества и личности вызывает у художников XX века стремление к «уникальному», «неповторимому», заставляет их бежать от самих себя, от результатов своего творчества. Это приводит к тому, что романтизм воспринимается как универсальная жизненная позиция художника[75].
Датский философ Кьеркегор, родоначальник «философии жизни», на которую опирался символизм, считал, что романтическому художнику грозит расщепление личности. Ибо, отказываясь от познания объективных законов общественной жизни, личность переносит противоречия действительности внутрь собственного «я». Это вызывает в ней трагическое самораздвоение. Но для художника подобное раздвоение становится источником творчества, источником реального противостояния действительности.
Тревожно двоится мир в глазах Врубеля. Его фантастические образы дробятся причудливой мозаикой. Гармонического единства мира не существует. Он словно рассыпается на куски, соединить которые не под силу художнику. Ужас перед раздвоением действительности испытывает Л. Андреев в «Черных масках». Страшные превращения Лоренцо и его гостей вопиют о трагическом разрыве личности. Мир непостижим как кошмар. Ту же тему открывает В. Брюсов в рассказе «В зеркале». Ф. Сологуб пишет о любви и смерти, красоте и уродстве, как о несоединимых, но связанных близнецах. Кугель писал, что Мейерхольду была «присуща фантасмагория неотступно следующего за человеком “двойника”».
О том же разрыве поступков и желаний пишет в стихах и дневнике Блок. Реализуя эту мысль, он мечтает разъединить себя, передав часть невыполнимых дел двойнику.
Комиссаржевская всю жизнь мучилась сознанием, что в ней живут два человека. Вот как вспоминает П. Д. Боборыкин смысл ее писем и разговоров на эту тему[76]. Она рассказывала, как прочла {148} книгу о раздвоении личности, где ее героиня чувствовала в себе присутствие Луизы № 1 и № 2. Одна — веселая, бодрая, смешливая, добродушная, образованная. Другая — замкнутая, неразвитая, мрачная. Она или злится, или плачет. Месяц живет первая, месяц — вторая. О существовании друг друга они не знают. Комиссаржевская от этого приходила в ужас, так как чувствовала в себе «раздвоение души, ума, мира своих идей». Эта особенность определила творческое своеобразие ее таланта.
В истории театра преобладает тип актера, для которого характерно единство художественных намерений и свершений на протяжении всей жизни. Этот актер всегда узнаваем. Принципы творчества у него едины, несмотря на смену тем, амплуа, на эволюцию взглядов.
Поиски Комиссаржевской отмечены постоянной самоизменой. Ее путь — не усовершенствование, а отрицание предыдущего. Отрекаясь от старого, она начинала сызнова на пустом месте. Эти превращения Комиссаржевской были результатом расщепленного сознания, напряженно ищущего творческого совершенства. Процесс этот был сложен и требовал переоценки многих ценностей. Ей всегда казалось, что человечески она не достигла тех нравственных высот, которые позволяют выйти на подмостки. Ее слова о том, что она недостойна быть актрисой, всегда встречали недоумением. И слагали о ней еще более прекрасные легенды. Они не были ложью, эти легенды. Просто они не передавали всей правды о Комиссаржевской, они всегда игнорировали ее путь к творческому подвигу. А когда она открывалась близким людям, становилось понятно, что сознание своей недостойности — не просто взыскательность, а действительное и горькое понимание того, что слишком многим отравлена и отягощена душа.
Святой называли ее современники при жизни. Такой она осталась и в их сегодняшних воспоминаниях. А она вполне земная, увлекающаяся, неуравновешенная, в чем-то уступчивая, а в чем-то придирчивая и не всегда справедливая к окружающим. Вынужденная часто менять творческую атмосферу, она требовала этого же и от своих единомышленников, которым далеко не всегда было свойственно ее ускоренное движение вперед. Она решительно расставалась с людьми, легко и зачастую слепо доверялась новым. Опять разочаровывалась. И как же должно было мучить актрису звание святой, которым награждали ее зрители.
{149} И вот она нашла роль, где могла развить одну из главнейших тем жизни собственной и своих современников. Пьеса М. Метерлинка «Сестра Беатриса», названная автором «чудо в трех действиях», была подсказана актрисе Мейерхольдом. Оба художника поняли ее своевременность.
Под мрачными зеленовато-лиловыми сводами монастыря (художник спектакля — С. Ю. Судейкин, премьера состоялась 22 ноября 1906 года) перед задрапированной нишей со статуей мадонны стояла на коленях юная монахиня Беатриса. Ритмичное сочетание слов, бесстрастные интонации передавали напор сдерживаемой страсти. Так же строга и размеренна была пластика актрисы. Уродливый монашеский чепец падал с головы, тяжелые волосы покрывали маленькую фигурку. Красота ее требовала освобождения. Беатриса молила разрешить ей бегство из монастыря с принцем Белидором. Мадонна заменила ее в обители. Неподвижно и спокойно лицо мадонны — Комиссаржевской. В глазах живет добрая надежда и уверенность в своем могуществе. Ропщут и недоумевают сестры-монахини — они считают Беатрису самовольно надевшей облачение мадонны. Речь и движения монахинь тоже ритмичны: робкие слова ужаса, затем перебор четок и чтение молитв, и снова грозное обращение к мнимой Беатрисе. Но она не смущается их тревогой. Готова легко принять наказание. Скромно уклоняется от изумленного восторга сестер, когда они обнаруживают ее святость. Комиссаржевская триумфальных гастролей, восхищенных рецензий, зрительского неистовства смотрела из глаз этой мадонны. Признанная святая должна была соответствовать своему высокому положению и глубоко таить муку несоответствия.
Третье действие открывало завесу над тем, что было настоящей жизнью Беатрисы и помогало рассказать о себе. Боязливо и неуверенно появлялась в стенах монастыря постаревшая Беатриса. Силы оставляли ее. Из‑под седых волос был дико безразличен взгляд помертвевших глаз. Она падала на колени перед статуей мадонны, протягивая к ней руки, каялась, без сознания опускалась на ступени алтаря. Ее окружали тихие покорные монахини. Они оказывали почтение своей любимой сестре, которую привыкли считать святой. Они повторяли знакомые движения: перебирали четки, бормотали молитвы, смиренно опускали глаза. Мейерхольд даже не изменил их возраста, как требует того в ремарке Метерлинк. Режиссеру надо было показать неизменяемость, застылость жизни, которая страшна своей непроницаемостью, безответностью к страданиям.
{150} С содроганием рассказывает им Беатриса о своих грехах, но лишь ниже склоняют они головы и почтительнее выражают знаки любви к ней. Она недоумевает, бьется у них на руках, а в ответ — все то же признание ее величия и непорочности. Так же не поняты и отвержены оказывались многие темы Комиссаржевской. Так же тщетно стремилась она поведать миру о том, что за славой и признанием стояла несчастная, беспомощная женщина, способная лишь понять, что совершаемое ею никому не нужно, и отказаться от него.
Мятежный характер последних сцен помог актрисе выбраться за пределы монастырской привычки к страданиям. Этот образ перекликается с темой блоковской статьи «Безвременье» (октябрь 1906 г.), где рассказано о трагически неприкаянной интеллигенции, которая покидала свои очаги ради площадей и проселочных дорог. Безвременье выбросило людей из обжитых, подгнивших гнезд, опустошило, отняло у них старую веру, не успев дать взамен новой. Бродяги и нищие. Им нет пристанища. Но они в пути. Вместе с идущими — сестра Беатриса Комиссаржевской. Так же длинна и нескончаема ее дорога по бескрайним равнинам России. Она вместе с теми, кто не устает в пути. Эту неустанность, каждодневную способность к несмирению ощутил в актрисе Луначарский. Он писал об исполнении ею роли Беатрисы: «Драматичен момент буйного протеста изможденной Беатрисы против той справедливости небес, которую мы видим в живой жизни, и тут, несмотря на всю невыгоду положения, созданную и автором и режиссером, г‑жа Комиссаржевская вырвалась из всяких пут и схватила за сердце интонацией мятежа и неизбывной скорби. Эти злые нотки, эти бьющиеся в судорогах диссонансы провещали нам все-таки со сцены, что все это басня. Мадонны сходят с пьедесталов только в глухих монастырях нашего воображения, а там, вернее здесь, среди нас, в огромном мире, свирепствует чудовищный разврат, и тысячи Беатрис продают за кусок хлеба свое счастье, свое тело и детей своих на попрание и растление. И бог не дрогнет в небе, и богоматерь не осенит их святым своим покровом, и надеяться им можно только на собственный мятеж, мятеж эксплуатируемых против эксплуататоров».
Блок был своим человеком в театре на Офицерской. Поэт-символист, заинтересованный «факельным» движением, он начинал тогда свою драматургию. Искал выхода из лирической замкнутости в широкий мир. Комиссаржевской близка и понятна лирическая стихия его таланта. Для актрисы, как и для Блока, лирика «не просто поэтический жанр, но некое художественное {151} мировоззрение»[77]. Поэт в предисловии к сборнику первых пьес писал: «Лирика не принадлежит к тем областям художественного творчества, которые учат жизни… В современной литературе лирический элемент, кажется, самый могущественный; он преобладает не только в чистой поэзии, где ему и подобает преобладать, но и в рассказе, и в теоретическом рассуждении, и, наконец, в драме… Самое большое, что может делать лирика, — это обогатить душу и усложнить переживания; она даже далеко не всегда обостряет их, иногда наоборот притупляет, загромождая душу невообразимым хаосом и сложностью». Блок в своих драмах пытался уйти от лирической стихии. Ему была дорога в Драматическом театре нота борьбы с буржуазной действительностью. Работа над драматургией открывала поэту новые возможности его таланта. В декабре 1906 года он писал Мейерхольду: «Мне нужно быть около Вашего театра, нужно, чтобы “Балаганчик” шел у Вас; для меня в этом очистительный момент, выход из лирической уединенности».
История возникновения «Балаганчика» такова. На упоминавшемся уже собрании у В. Иванова 3 января 1906 года, где обсуждался будущий театр «Факелы», Чулков предложил Блоку написать пьесу, развивая стихотворение «Балаганчик». Пьеса была написана и посвящена Мейерхольду. Режиссер поставил ее 30 декабря 1906 года в Драматическом театре, посвятив работу Чулкову. Блок в предисловии к книге лирических драм, куда вошли «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка», писал: «Все три драмы связаны между собой единством основного типа и его стремлений». Через все пьесы проходит один образ (в «Балаганчике» это Пьеро, в следующих двух пьесах — Поэт), который олицетворяет разные стороны души одного человека. «Так же одинаковы стремления этих трех: все они ищут жизни, прекрасной, свободной и светлой, которая одна может свалить с плеч непосильное бремя лирических сомнений и противоречий и разогнать назойливых и призрачных двойников».
На сцене построен маленький театрик (художник Н. Сапунов). Раздаются звуки барабана, играет музыка, суфлер влезает в будку и зажигает свечи. Открывается занавес театра на сцене. Мейерхольд намеренно обнажает сценический прием, добиваясь иронического и пародийного смысла, который жил в пьесе. За длинным столом сидят мистики. Разговор их загадочен и тревожен. Он {152} обращен к чему-то таинственному. Блок и театр относятся к этому таинству иронически. Что-то спугнуло мистиков — они исчезли, оставив на стульях пустые сюртуки. Оказалось, что их головы и руки были просунуты в отверстия нарисованных на картоне сюртуков и манишек.
На сцену то и дело выскакивал Автор. Он хотел объяснить свой немудрящий, традиционный сюжет. Рука невидимого убирала его за кулисы, расправляясь с этим олицетворением пошлого и здравого смысла. В конце спектакля, испугавшись того, что происходило на сцене, он убегал сам. Сюжет пьесы развивался попреки мрачным ожиданиям мистиков, вопреки трезвому расчету Автора. Эти герои существовали для Блока лишь в ироническом ключе. Отношение к лирическим персонажам было двойственно. Каждый из них дорог автору своим лирическим существом и вызывал его осмеяние своей неполноценностью. «Трагичен, страшен сам мир, порождающий такие неполноценные души, как Пьеро и Арлекин […] Ирония здесь двойственна. Она осмеивает неполноценность персонажей, но не сами их стремления», — пишет исследователь творчества поэта П. П. Громов. Основа содержания «Балаганчика» — «история о том, как “не получилось” любовное счастье»[78]. В первом действии об этом рассказывают герои любовного треугольника: Пьеро, Арлекин и Коломбина, во втором — три пары карнавальных масок. Эти герои символизировали распад современной личности, ее органическую неспособность выступить в роли романтического героя. В этом Блок видел подлинный трагизм жизни[79].
Романтическая ирония Блока ожила в спектакле Мейерхольда. Поэт излагал режиссеру впечатления о репетиции спектакля: «Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые перспективы на “Балаганчик”… Я сам стараюсь “спрятать в карман” те недовольства, которые возникают в моей лирической душе, настроенной на одну песню и потому ограниченной; я гоню это недовольство пинками во имя другой и более нужной во мне ноты — ноты этого балагана, который надувает и тем самым “выводит в люди” старую каргу, сплетенную из мертвых театральных полотнищ, веревок, плотничьей ругани и довольной сытости».
{153} Спектакль имел бурный общественный резонанс. Даже недовольные вынуждены были признать его значительность и связь с современностью. «Да не сатира ли над самой публикой этот “Балаганчик”»? — спрашивал Ю. Д. Беляев, возмущенный тем, что театр разрушал иллюзорную тему ухода от жизни. В сентябре 1907 года спектакль был показан на гастролях в Москве — его встретили тревожно и внимательно. Дружественно относившийся к театру Н. Е. Эфрос (он помогал в организации гастролей) не принял спектакля, но признал его общественное значение: «Из‑за таинственной нелепости блоковского “Балаганчика” раскалываются на враждующие партии». Спектакль будил потребность в цели и идейности.
Последним спектаклем сезона стала пьеса Л. Андреева «Жизнь Человека». Противоречивые тенденции современной литературы уживались в творчестве писателя почти одновременно. Войдя в литературу добропорядочным реалистом, другом Горького, он вскоре создает рассказы и пьесы, приближающие его к символистам. А затем параллельно работает над вещами противоположных направлений. Сам изумляясь двойственности, он не отрекается ни от одного из этих начал. Его талант, не умея задерживаться в определенной художественной сфере, вобрал в себя противоречивые эстетические тенденции. Это не было ни позой, ни разрушением личности. Он нес в себе трагический конфликт времени, который стал источником его творчества.
«Жизнь Человека» была первой «неожиданностью» в творчестве Л. Андреева. Первый «крен» писателя с репутацией критического реалиста. Влияние Горького на Андреева было огромно. В этих отношениях не было ни покровительства, ни подражания. Была творческая заинтересованность обоих. «По нашим писаниям люди со стороны могут принять нас за врагов, — писал Андреев Горькому, — ты храбрый, я трус; ты нападаешь на жизнь, я обороняюсь; ты свободный, я раб — но они не знают того, что твоя храбрость идет из того же источника, как и моя трусость: из бездонного колодца великого отчаяния и великой любви».
Единый источник творчества не делал эти таланты близнецами. Влияние Горького на Андреева было огромно, но трансформировалось в сознании последнего особым образом.
В 1902 году Горький предлагал Андрееву: «Пощипли Мысль мещанскую, пощипли их Веру, Надежду, Любовь, Чудо, Правду, Ложь — ты все потрогай. И когда ты увидишь, что все сии устои и быки, на коих строится жизнь теплая, жизнь сытая, жизнь уютная, жизнь мещанская, зашатаются, как зубы в челюсти {154} старика, — благо ти будет и — долголетен будешя на земли». Вышедшая через пять лет драма «Жизнь Человека» несет в себе зерна этого совета. Нарицательные слова превращены Горьким в имена собственные. Эта настойчиво повторяющаяся заглавная буква требовала символического обобщения названных тем. Андреев предельно обнажил схему связи человека с жизнью в своей драме. Это усилило трагизм бытия. Герой пьесы — одинокая личность, гордая и свободная. Он рождается, женится, богатеет, затем подвергается тягостным ударам судьбы и умирает. И пусть его ничего не ожидает, кроме падения и смерти, — он вызывает на бой судьбу. Для Блока пьеса и спектакль явились доказательством того, «что Человек есть человек, не кукла, не жалкое существо, обреченное тлению, но чудесный феникс, преодолевающий “ледяной ветер безграничных пространств”. Тает воск, но не убывает жизнь».
Театру было чуждо мещанское недоумение по поводу андреевской драмы: «О чем, собственно, беспокоиться? И что за пьеса?» Блок назвал этот спектакль лучшей постановкой Мейерхольда. «Было в некоторых актерах и в режиссере труппы Комиссаржевской, — писал поэт, — что-то родственное Андрееву; даже слабым довольно актерам удалось разбудить в себе тот хаос, который так неотступно следовал за ним». Театр, видя в этой постановке смысл своего существования, преподнес драматургу венок с надписью: «Леониду Николаевичу Андрееву Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской — Любовь. Изумление. Восторг. Надежда».
Спектакль шел без декораций, в сукнах, с единственным источником света, обращенным к месту действия. Он начинался мрачным предсказанием старух. Зловещей была атмосфера рождения Человека. Она сменялась идиллическими сценами любви и бедности, когда Человек бросал вызов року, когда он жил вопреки мещанским заповедям. Намеренно схематично и условно рассказывали драматург и театр о герое, отрывая его от быта, лишая индивидуальности. Все это укрупняло проблемы пьесы.
Центральной стала сцена бала у Человека, который разбогател и получил признание. Толстые серо-белые колонны, стоявшие полукругом, должны были передавать торжественность обстановки, — разрушали ее сидящие у колонн фигуры «нарочито идиотических дам и рамольных стариков». Под удручающе-монотонный мотив польки старательно двигались в танце словно деревянные фигурки. Как заведенные пиликали музыканты. Музыка (композитор М. А. Кузмин) была ироничной, как и весь спектакль. В ней крылось то же разрушение основ расшатанной жизни. О. Мандельштам {155} вспоминал: «… Не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из “Жизни Человека”, сделавшуюся символом мерзкого, уличного символизма».
Мейерхольд писал впоследствии: «Исходной точкой замысла всей постановки явилась ремарка автора: “Все как во сне”». Сцена в кабаке говорила об иллюзорности и кошмаре жизни. Фигуры людей, столы, стулья, сами стены — все покачивалось как во сне. Драматург и театр не скрывали своего отчаяния, не утешали надеждой на добрый конец. Но ведь иной жизни нет. Надо уметь быть человеком в этой невозможности. Мейерхольд, благодаря условному приему, раздвигал границы символизма, говорил о «космических» проблемах современности. Он искал наиболее соответствующие стилю пьесы формы выражения этого приема. «Эта постановка, — писал Мейерхольд о “Жизни Человека”, — показала, что не все в новом театре сводится к тому, чтобы дать сцену как плоскость. Искания нового театра вовсе не ограничиваются тем, чтобы, как это многие думали, всю систему декораций свести до живописного панно, а фигуры актеров слить с этим панно, сделать их плоскими, условными, барельефными». Спектакль дал понять, что главное для Мейерхольда не формальные приемы, а постижение нового принципа театральности. Пока этот принцип был опробован на символической драме.
Сезон 1906/07 года в театре на Офицерской знаменовал собой открытие символистского театра в России. Впервые пьесы Метерлинка и русская символическая драма показаны на сцене в свойственной им условной манере.
О театре спорили. У него появилось много друзей и много врагов. Мейерхольд задевал всех, он умел опрокинуть на маленькое сценическое пространство «вечные» вопросы дня. Открытие Мейерхольда было потребностью времени и стало новой страницей сценического искусства. Характерно, что условные спектакли МХТ испытали влияние молодого режиссера.
Критик И. Лазовский писал о «Жизни Человека» в МХТ (режиссеры К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий): «Интерес новой постановки Художественного театра не в пьесе, а в тех сценических формах, тех режиссерских приемах, при помощи которых андреевское “представление” воспроизведено на театральных подмостках […] Для стиля этого серьезно использованы “мейерхольдовские” принципы».
Многие критики в своих оценках ориентируются на достижения Мейерхольда. Э. М. Бескин, оценивая постановку «Анатэмы» в МХТ (режиссеры В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский), {156} считает, что театр допустил крупную ошибку, поняв «трагедию-символ» натуралистически. Критик упрекал режиссеров, которые исходили от быта и тем самым из «трагического представления сделали просто историю о Давиде Лейзере». Бескин допускает исключение лишь для самого Анатэмы — Качалова, достигшего истинных высот трагедии, нашедшего необходимую меру условности.
В открытии и утверждении нового закона театрального искусства — смысл союза Комиссаржевской с Мейерхольдом. Ее личное участие в этом открытии было пассивным и не вполне осознанным. Гораздо острее ощутила она неудачи театра, в конце концов посчитав их главным итогом совместной с Мейерхольдом деятельности.
2
Я потеряла свое прежнее «я», а нового не нажила.
Ощущение близкой творческой гибели возникло у Комиссаржевской потому, что ни одна роль мейерхольдовской поры, кроме Беатрисы, не принесла радости ни зрителям, ни критике, ни ей самой. Здесь сказалось главное противоречие символистского театра, обусловившее его недолговечность. От актера требовалась предельная схематичность, которая превращала его в марионетку. Впервые об актере-марионетке заговорил Метерлинк. Этому принципу была верна и символистская драматургия, и Мейерхольд, давший ей сценическую жизнь. «Марионеточность» персонажей несла одну из главных тем символистского театра: человек — невольная игрушка в руках судьбы. Однако на практике схемы, воплощенные живыми людьми, а не куклами, порождали противоречия символизма на сцене, который пытался найти поддержку у реализма. Сестра Беатриса была сыграна Комиссаржевской в условной манере, но это не исключало тех необходимых реалистических элементов исполнения, которые превращали марионетку в реальный персонаж. В марионеточном театре актриса успеха не имела, и Мейерхольд чувствовал ее неуместность в спектаклях типа «Балаганчик», предлагая пьесы иного плана.
Дочь мудреца, молодая королева Сонка («Вечная сказка» С. Пшибышевского), по своей психологической природе близка прежним любимым героиням актрисы. Кроткая, терпеливая, полная душевности и сострадания Сонка мечтает о счастье для всех: {157} «Я сердце выну из груди и в дар им брошу». — «Растопчут», — отвечает ее наперсница Вожена. «Но что же делать?» — «Вернись к своим чудным волшебным замкам, отдайся радужным грезам».
Сказка символическая. Мейерхольд пытался определить позицию человека, ушедшего от всеобщей борьбы и поднявшегося над ней. Философские проблемы он хотел передать новыми сценическими средствами. Спектакль должен был нести ощущение холода, который становился «все ужаснее и ужаснее». Мейерхольд возражал против певуче-сказочных интонаций, не разрешал Сонке — Комиссаржевской быть печальной, то есть требовал отказа от приемов реалистического театра. Актриса послушно шла за режиссером, помечая свою роль записями, такими странными для нее: «Руку левую кладет на ручку трона короля… Поворот головы… Протягивает левую руку» и т. д.[80] Свойственная Комиссаржевской эмоциональность, рождающая необходимый жест, заменялась комплексом жестко закрепленных механических движений. Здесь обнажался извечный конфликт театра: несовместимость искусства переживания и искусства представления. Трансформация одного способа жить на сцене в противоположный была невозможна. Неудача спектакля показалась актрисе трагичной. Вспомнился Ницше с его безнадежной философией. Вспомнился не одной ей. А. Белый в статье «Пророк безличия» писал о Пшибышевском: «В нем перекрещиваются все течения ницшеанства и декадентства, старающегося совратить человечество с намеченного пути».
Чулков увидел в Сонке — Комиссаржевской «новый мир, освобожденный и преображенный». Гуманистическую концепцию спектакля считал Чулков залогом будущего искусства. Луначарский вынес спектаклю суровый приговор: «Для всякого, кто видел или читал пьесу, не может подлежать малейшему сомнению ее глубокая антидемократичность, антисоциальность и мизантропичность».
Комиссаржевская, испытывая тягостные сомнения, не пришла ни к какому выводу и отправилась дальше, надеясь лишь на спасительную силу искусства. Внешне она по-прежнему гостеприимная хозяйка театра. Участвует в благотворительных вечерах, несмотря на занятость и запреты врачей. Из старого репертуара возобновляет только Нору, понимая компромиссность выбора. Это была уступка публике, которая не все поняла в новом направлении, многое не приняла и требовала от любимой актрисы прежних ролей. «Кукольный дом» Мейерхольд поставил 18 декабря {158} 1906 года. Комиссаржевская была недовольна собой. Ее не могли утешить ни увидевшие в Норе соединение старого замысла с условностью, ни признавшие только первый вариант роли и выступившие против новых поправок режиссера.
Блок сказал как-то о Горьком, что он русский писатель «по масштабу своей душевной муки». Комиссаржевская «масштаб своей душевной муки» возвела в степень гражданственности. Это и было ее слово, ее открытие в искусстве. Когда иные роли не давали материала для высоких обобщений, актриса чувствовала себя беспомощной. Ненужными выглядели и мастерство и тонкость психологического анализа. Три новые роли, сыгранные актрисой в начале 1907 года, оказались нисхождением в замкнутый мир одинокого женского сердца, которое было то гордым и прозаически-трезвым (Свангильд — «Комедия любви» Г. Ибсена), то взбалмошным и неустроенным (Карен — «Трагедия любви» Г. Гейберга), то жестоко обманутым (Зобеида — «Свадьба Зобеиды» Г. Гофмансталя).
Рецензенты раздают ей обидные похвалы за «отдельные вспышки таланта». Так писали о начинающей Комиссаржевской в 1893 году. Попытка сделать роль значительной лишь выявляла слабость актрисы. Акцент на метаниях Карен придавал образу патологический характер. Протест Свангильд, которая любит поэта, но выходит замуж за купца, превращался в «головной». Впервые актриса производила «впечатление заправской посредственности, почти бездарной»[81]. О театре пишут, что он не может считаться Байрейтом Ибсена. Это был тяжелый упрек Комиссаржевской, мечтавшей назвать норвежского драматурга своим автором.
Актриса устала, растерялась. Видела безрезультатность многих попыток. Но вернуться к старому берегу не хотела. Все мечтала переплыть море неудач и неприятностей, выйти на новую землю. Пугала пришедшая однажды мысль, что с Мейерхольдом ей не по пути. Не умея отделить условного приема от примет символистского театра, она считала затею Мейерхольда несостоявшейся. Ее обида и недоумение избрали своей мишенью главного режиссера. Считая себя по-прежнему сторонницей символистского театра, который уже исчерпал свои возможности, она обратила свой гнев на Мейерхольда, не поняв, что его открытие только начиналось. Она все рассеяннее слушала его. Работая без прежней уверенности, {159} Мейерхольд, мнительный, неуравновешенный, болезненно воспринял начавшееся расхождение. А оно было неизбежно.
Символистский театр с его марионеточным принципом не был театром актера — там господствовал режиссер. Поэтому в любой работе этого театра задачи режиссера фатально расходились с актерскими. В спектакле «Свадьба Зобеиды» Мейерхольда интересовало применение условного приема в романтической драме, свободное движение, человеческие страсти. Мейерхольд записывал во время работы над спектаклем: «Постановка вызвана необходимостью противопоставить антитезу тенденциозной драме. И декадентский эстетизм постановки явился как неизбежное соответствие таковому эстетизму автора»[82]. Сорежиссерами были художник Б. И. Анисфельд и Ф. Ф. Комиссаржевский. Они увлеклись зрелищной стороной спектакля — на сцене воссоздали персидскую жизнь в ее красочности и экзотике. С добросовестностью художественника изучал Мейерхольд быт Персии, ее искусство, нравы. Каждый предмет на сцене имел свой язык, скрывал свою тайну. В этот восточный орнамент должна вплестись игра Комиссаржевской.
В день свадьбы муж, видя отчаяние своей нареченной, отпускает Зобеиду к прежнему возлюбленному. Она находит там обман и умирает. Актриса передала драматический накал чувств. Ее крик: «Ганем!», заканчивающийся на высоких нотах, никого не оставлял равнодушным. Но отсутствие конкретного характера мешало созданию образа. Настроение тревоги и беспомощности Комиссаржевская пыталась прикрыть сурово-трагической маской. В начале следующего сезона она сказала Мейерхольду по поводу роли: «Хочу верить, что судьба доставит мне радость не играть ее в Москве». Обидно звучал отзыв газеты «Русь»: «Нельзя не пожаловаться, что имея г‑жу Яворскую в идеале, г‑жа Комиссаржевская утрачивает правду чувства и все больше и больше склоняется в сторону искусственной и напыщенно-холодной декламации». Даже похваливший спектакль Чулков выразил надежду на перемены: «Но не могу не пожелать, чтобы театр вышел из заколдованного круга не только старого “быта”, но и нового “эстетизма”». Невесело посмеялся над спектаклем Блок, написав вместе с актрисой театра Н. Н. Волоховой шуточную пародию:
Мы пойдем на «Зобеиду», —
Верно дрянь, верно дрянь.
Но уйдем мы без обиды
Словно лань, словно лань.
{160} Конфликт Комиссаржевская — Мейерхольд вобрал в себя такие существенные «больные» вопросы дня, что ни биографы этих художников, ни те, кто изучает искусство начала XX века, не могут миновать его. К. Л. Рудницкий считает, что Комиссаржевской не суждено было перейти рубеж, отделявший старую театральность от новой: по его мнению, она не подходила к требованиям полифонической драмы, оставаясь в любом ансамбле солисткой. Эта принадлежность Комиссаржевской к дорежиссерскому театру определила, якобы, конфликт и разрыв актрисы с Мейерхольдом. Доказывая эту мысль, автор опирается на отдельные факты, но не на их внутреннюю тенденцию. Действительно, Комиссаржевская не стала актрисой МХТ, действительно «лучшие спектакли, в которых она играла, были спектаклями Комиссаржевской»[83]. И, наконец, актриса не смогла работать вместе с Мейерхольдом. К. Л. Рудницкий пишет: «При всей родственности искусства Комиссаржевской драматургии Чехова и психологизму Художественного театра, перейти эту грань ей не было суждено». Так обосновывается тезис о Комиссаржевской — актрисе домхатовского периода.
Факты несомненны. Упущено лишь то, что сама актриса в творчестве противостояла принципам старой театральности. Борьба с нею составила основу ее художнической биографии. И столичные, и провинциальные подмостки, на которых она отлично солировала, были для нее мучительно невозможны, ибо всем своим существом она искала качественно иного театра. Только для него жила. Только в нем, не существующем в яви, и творила. И не потому ли так непохожа была на тех, с кем работала? Она отличалась от своих коллег не одним талантом, но и творческой принадлежностью к эпохе нового театра. И не по внутренней тенденции, а лишь в силу внешних обстоятельств она оказывалась солисткой, и спектакли, в которых она играла, становились ее спектаклями. Это не было целью, а лишь невольным и печальным для нее результатом. «Игрой никто не должен выдвигаться, и я первая», — говорила она о своем театре.
Комиссаржевская не боялась подчинить себя. Легко признавала авторитеты. Охотно шла за такими режиссерами, как Н. А. Попов, И. А. Тихомиров. Заставляла себя верить Н. Н. Арбатову. Все это происходило от признания главенствующей роли режиссера в театре. Пригласив Мейерхольда, она менее всего {161} страшилась его «деспотизма», его режиссерской власти, оставляя на художественных советах за ним последнее слово, требуя от всех подчинения его режиссерской воле. Ее соло никогда не было гастролью знаменитости. И любая ее победа была отравлена сознанием одиночества. По задачам и характеру их осуществления Комиссаржевская принадлежала к новой театральной эпохе.
Сезон в театре окончился 4 марта 1907 года. За четыре месяца показали десять спектаклей. Мейерхольд мог с чувством удовлетворения подвести итог своей работе. «Сестра Беатриса», «Балаганчик» и «Жизнь Человека» стали для режиссера теми победами, на которых вырастут многие последующие. Он подписал контракт на новый сезон. Комиссаржевская чувствовала растущую неудовлетворенность. В труппе существовали два лагеря.
Режиссер и актриса сохраняют пока хорошие отношения, обсуждают будущий репертуар. Ни слова не произнесено о неизбежном разрыве, но он чувствовался во многом. Комиссаржевская повезла на гастроли свои прежние домейерхольдовские роли. Это вызывает возмущение Мейерхольда: «Какую ужасную ошибку сделала В. Ф., что поехала по России со старым репертуаром. Это ее компрометирует как ставшую во главе нового театра…»[84]
Но Комиссаржевская слишком хорошо помнила, что три года существования театра унесли около 100 000 рублей, из них больше 50 000 падало на последний сезон. Дефицит театра равнялся почти 15 000 рублям. Надо было отрабатывать долг любым способом, даже ценой творческого компромисса, который ранее был для нее невозможен. Она чувствовала себя скованно. Не отпускала, мучила мысль с долгах. А когда от этих дум переходила к репертуару, становилось еще хуже. Рози и Варю она играла вместе с Геддой Габлер. Нарушен был внутренний самоконтроль. Болезнь прервала гастроли. Потом они возобновились, но актриса вновь заболела. Мрачнели ее глаза, в них появлялось нехорошее, отталкивающее выражение. Она уходила в себя. Мейерхольд обижался невозможностью обсудить новый сезон с Комиссаржевской, когда писал ей 31 марта 1907 года: «У меня накопилось много-много поговорить с Вами о будущем нашего театра, много планов, интересных, легко осуществимых. Напишу Вам, если напишется, но скажу при свидании непременно. Впрочем, Вы мало со мной говорите. Пожалуй, скажу, не без некоторой охоты слушаете меня, но кажется мне, что все, что говорю, не глубоко ложится в душу, а {162} главное — больно, что Вы мне мало говорите. Вы только рассеянно слушаете меня»[85].
Актриса отвечает ему спустя несколько месяцев, в июле 1907 года: «Только теперь могу писать Вам, Всеволод Эмильевич. За поездку и болезнь так во мне все устало, так (нрзб) возможность разобраться в чем бы то ни было, что говорить с Вами о будущем не имело смысла. Теперь я отдохнула, а главное, побыла одна […] Еще сильнее, еще прекраснее стал для меня за это время Метерлинк и совсем по-новому полюбила я Ибсена». Письмо миролюбивое, творческое. К актрисе вернулись силы. Глухой отзвук спора чувствуется в том месте письма, где она говорит об Ибсене. Ей горьки упреки в том, что ее театр не стал Байрейтом этого драматурга. Она не теряет надежды сделать его таковым, собирается играть давно желанную роль Элиды в «Женщине с моря». Она исподволь готовит Мейерхольда к новому решению старых споров, требуя верности Ибсену, считает необходимым проникнуть в его миросозерцание. Здесь она ищет опоры для борьбы с тем, что ее смущало в Мейерхольде.
Она не могла понять, почему самые ценные находки режиссера оставляли в стороне актера. Дело было не в Мейерхольде, а в принципах символистского театра, которые он в это время утверждал. Лучшие символистские спектакли — «Балаганчик», «Жизнь Человека» не нуждались в больших талантах. Многоцветность реалистической характеристики была заменена однокрасочным пятном, выступающим в роли символа.
Н. Д. Волков спор Комиссаржевской с режиссером называет актерским бунтом. Было бы неполно и потому неверно объяснять растущий конфликт подобным образом. Комиссаржевская и не искала решения актерской проблемы для одной себя. Она ни на минуту не хотела отделиться от театра. Жила на равном для всех казарменном положении неудач, как ей казалось, временных. Пыталась постичь эстетику символизма. Хотела победы не только для себя, для всего театра. С осени 1904 года, с момента создания театра, она признает полноценным лишь успехи всего коллектива, а не свои собственные. Друзья и знакомые не раз пытались увлечь актрису примером ее личной славы. В письме драматурга и заведующего литературной частью театра П. М. Ярцева к Комиссаржевской ясно выражен этот совет: «В Вашем искусстве (как и во всяком искусстве) есть элементы подвижничества, и самый тяжелый из них — те переживания больной неуверенности, потери “заветного {163} слова”, о которых Вы пишете… Вам бесконечно трудно “собраться”, уйти в себя, окружить себя той атмосферой, при которой созревают вдохновения. Вы живете и должны творить как на базаре. Те впечатления, которые обогащают Вашу артистическую личность и принадлежат Вам одной, Вы не всегда в силах их собрать и к ним прислушаться. И Вы должны доходить до отчаяния: чувствовать, что растрачиваете свою душу и свой талант…
Театр Ваш, каков бы он ни был, в конце концов, несоизмерим с Вашим личным талантом. Это две разные плоскости, и если бы Вам удалось разграничить их — Вы бы скоро нашли себя. Если бы Вы смогли отдавать театру — как театру — минимум своей личности…»[86]
Совет практичный и несостоятельный. Ей советовали жить более благополучной, но чужой судьбой. Комиссаржевская не обрела себя в режиссерском театре, однако принципиально не желала быть одной.
Соединив себя с театром, она оказалась перед фактом близкого краха. Об этом громко и тревожно говорили друзья ее дела. Те, кто год тому назад возлагали на Комиссаржевскую большие надежды.
С 1 по 11 сентября 1907 года труппа выступала в Москве. Гастроли прошли неудачно. Станиславский возмущался: «Я заплатил бы 40 000 за то, чтобы это не показывали публике». Зрители встретили спектакли неуверенными аплодисментами и удрученным молчанием. Теоретический итог был подведен А. Белым в двух статьях под названием «Символический театр». Автор почувствовал несовместимость человеческой природы с законами символистского театра: «Стилизация превращает личность в манекен. Такое превращение есть первый и решительный шаг к разрушению театра […] Остается… убрать актеров со сцены в “Балаганчике”, заменить их марионетками. Вот истинный путь театра Комиссаржевской. Но самой Комиссаржевской в этом театре нечего делать: было бы жаль губить ее талант».
Блок целиком согласился с Белым. Правоту Белого подтверждала работа театра в новом сезоне 1907/08 года. Блок почувствовал потребность «тянуть всеми силами Мейерхольда из болот дурного модернизма». Поэт встретил резко отрицательно спектакль театра «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда. Эротическому настроению пьесы режиссер хотел противопоставить «солнечности {164} жизнерадостность декорации»[87]. Но спектакль получился темным и мрачным. Действие шло одновременно на двух площадках, что было необходимо для быстрой смены картин. Блок находил замысел интересным, по неосуществленным. Он понял, что дело здесь не в одном Мейерхольде, объясняя неудачу пьесой Ведекинда. «Метерлинк — уже золотой сон для нас, уже — радостное прошлое, незапятнанное, милое, чистое — в те досадные, томительные, плоские дни, когда в России становится модным Ведекинд… — пишет Блок. — Наша жизнь выше и больше этой мелкотравчатой жизни».
Мейерхольд открыл эстетику символистского театра, дал совершенные творения в этой области и вскоре вынужден был констатировать его конец. Белый и Блок предлагали Мейерхольду отказаться от избранного пути. Исчерпанность символизма на сцене воспринималась как крах всех замыслов Мейерхольда.
Эту же ошибку (невольную, исторически объяснимую) совершала и Комиссаржевская, видя причину кризиса своего театра в Мейерхольде. Брюсов в статье «Реализм и условность на сцене» (1907), рожденной последними работами Драматического театра, не проповедовал больше безоговорочно символизм, считая, что он не согласуется с живым телом актера. Поэт пытался найти необходимую меру соотношения реализма и условности: «Та сторона видимости, на которой преимущественно сосредоточено внимание данного искусства, должна быть воплощена со всем доступным ему реализмом… Реалистической должна быть и игра артистов, воплощающая сценическое действие, только реализм этот не должен переходить в натурализм». Положительная программа статьи была туманна — Брюсов звал к приемам театра античного и шекспировского.
К тому же времени относятся мысли Блока о примирении двух художественных начал: «Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух “келий”, им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы». Характерно, что в эти годы Л. Андреев пишет пьесы совершенно различных художественных стилей: символическую — «Черные маски» и реалистическую — «Дни нашей жизни» («Любовь студента»). Обе драмы он предложил в 1908 году Комиссаржевской на выбор. Она взяла «Черные маски». Вторая была отдана в Суворинский театр. Все это говорило о кризисе символизма.
{165} Театр на Офицерской становился невольной жертвой этого кризиса. И Комиссаржевская, и Мейерхольд работают над новым спектаклем «Пеллеас и Мелизанда», отчаиваясь, теряя веру в себя. Каждый обращается за помощью к Брюсову. Мейерхольд просит его приехать на генеральную репетицию: «… Принялся за “Пеллеаса”. И сердце стало обливаться кровью каждый день, каждый час. Боже мой, каких актеров надо для этой пьесы. За исключением В. Ф., никто не может играть, не смеет играть»[88].
Мейерхольду символистский театр не представляется исчерпанным. Он верит, что в нем может работать актер. В спектакле «Пеллеас и Мелизанда» режиссер доводит условный прием до предела, пытаясь либо оживить символистскую драму, либо навсегда расстаться с ней.
Мейерхольд хотел поставить поэму о любви. Искал максимальной обобщенности, смотрел на земные страсти с заоблачной высоты. Образ солнца (восход, полдень, закат), судя по режиссерским указаниям художнику В. И. Денисову, должен был занять в спектакле главное место, символизируя тему любви. Замысел не осуществился. Мейерхольд освободил актера от всякой сферы: нагромождение кубиков заменяло декорации. В этом спектакле условный прием не освобождал, а жестко ограничивал действия актеров. Спокойно размеренные движения, стилизованные позы, ровный трагизм с улыбкой на лице оказались бессильны перед лирической стихией. Актеры-марионетки в поэме о любви компрометировали себя.
Спектакль явился концом целого направления в творчестве Мейерхольда и Драматического театра. Рецензии не ограничивались бранью, а делали далеко идущие выводы, требуя решительных перемен в театре на Офицерской. Отзывы недругов театра (газеты «Русь», «Речь» и «Русское слово») были лишь выражением неприязни к любым поискам театра и режиссера. Друзья разделились на враждебные лагери. Л. Василевский, сотрудник «Свободных мыслей», слепо поклонялся Мейерхольду. Чулков раздраженно признавал неудачу, но не понимал причины. Брюсов ужаснулся дурновкусию режиссера и художника. Их работа уничтожила смысл пьесы. Брюсов пытался противопоставить спектаклю Комиссаржевскую — Мелизанду. Но актриса не давала к тому достаточных оснований. Упомянутый Василевский считал, что метерлинковскому образу противоречила «застывшая неподвижность барельефа». Актриса до минимума ограничивала свои {166} возможности, отрекаясь от таланта. На сцене оставалась сосредоточенно-замкнутая, много пережившая женщина. Блок оскорбился происходящим в спектакле и потребовал: «Пора нам тащить за фалды наших друзей, упорно лезущих в тупики и болота». Вывод Блока был категоричным: «Театр должен повернуть на новый путь, если он не хочет убить себя. Мне горько говорить это, но я не могу иначе, слишком ясно все. Ясно и то, что если нового пути еще нет, — лучше, во сто раз лучше — совсем старый путь. Стояния в тупике не выносит ни одно живое дело. И последняя постановка оставляет впечатление дурного сна».
Сразу после неудачной премьеры было созвано заседание дирекции (В. Ф. Комиссаржевская, К. В. Бравич и Ф. Ф. Комиссаржевский), а через два дня заседание художественного совета театра (кроме членов дирекции, были приглашены В. Э. Мейерхольд и Р. А. Унгерн). Комиссаржевская заявила, «что театр должен признать весь свой пройденный путь ошибкой, а режиссер должен или отказаться от своего метода постановки пьесы, или же должен покинуть театр».
Мейерхольд был почти во всем согласен с Блоком, судя по письму последнего Брюсову от 20 октября 1907 года. Но он болезненно реагировал на ход собрания, заявив: «Может быть, мне уйти из театра?» Действительно, Мейерхольду, поставившему в один сезон три больших спектакля: «Сестра Беатриса», «Балаганчик», «Жизнь Человека», утверждавшему вечный закон театральности — условность, трудно было назвать «пройденный путь», то есть последний сезон, ошибкой. Но трудно было и спорить с тем, что спектакли нового сезона убивали душу актера. Следовало признать кризис символизма. Мейерхольд пока отказывался лишь от некоторых примет символистского театра. В ответной речи он сказал: «Постановкой “Пеллеаса” завершен известный круг исканий и надо из него выходить»[89]. И предложил «скульптурный метод» для дальнейшей работы с актерами. Новые надежды он возложил на пьесу Ф. Сологуба «Победа смерти», то есть остался в границах символистской драматургии. «Заседание оставило впечатление смутное», — писала Комиссаржевская, но решила ждать еще месяц до новой премьеры.
Это был месяц холодной вежливости, взаимного недоверия режиссера и актрисы. Комиссаржевская не посещает репетиций «Победы смерти», но непременно читает их записи и делает замечания, {167} большей частью дисциплинарного характера. Исчезла взаимность творческих интересов, осталось внешне лояльное, но внутренне настороженное отношение директрисы к режиссеру. В сущности разрыв был налицо, происходило его психологическое оформление. Ни Комиссаржевская, ни Мейерхольд больше не ожидали положительных результатов от совместной работы. Нездоровое лихорадочное состояние передалось труппе.
В «Победе смерти» Мейерхольд обратился к «скульптурному методу», «расковал» актера, потребовав от него максимум движения и выразительности. Ступенчатая, уходящая в глубь сцены декорация избавила актеров от статуарной пластики живых манекенов. Вместо манекенов действовали люди с характерами. Внешняя непохожесть спектакля на все предыдущие: насыщенность действием, характеристика каждого персонажа энергичным, только ему присущим движением — вызвала бурю восторгов у рецензентов газет «Речь» и «Русь» (Азов и Кугель). В формальной смене режиссерских приемов они увидели новаторство. Восторги Чулкова и Беляева были продиктованы их солидарностью с философской концепцией Сологуба. Автор этот давно ждал своего появления на сцене Драматического театра. Осенью 1906 года, на одной из суббот театра он читал «Дар мудрых пчел». Пьесу запретила цензура. Год спустя он принес в театр новую драму. Сюжет «Победы смерти» символический, с философским подтекстом. Служанка Альгиста, красивая и мудрая, выдает себя за королеву Берту, а хромую и злую королеву называет служанкой. Проходят десять счастливых для короля и его народа лет. Появляется хромая Берта с сыном. Альгиста признается в обмане, считая себя победившей, но ее казнят. В жизни нет места истинной красоте, истинной мудрости, истинной любви — все побеждает смерть — такова концепция Сологуба. Этот спектакль стал пустой попыткой Мейерхольда оживить символистский театр.
Через два дня после премьеры, 8 ноября 1907 года, Комиссаржевская писала: «Мейерхольд создал в театре атмосферу, в которой я задыхаюсь все это время и больше не могу. Я не хочу, не должна гибнуть и потому делаю взрыв». Несколько раз переписала она письмо Мейерхольду, добиваясь лаконичности, сняв личные обвинения в его адрес и тему разлада в труппе. Осталось одно: «мы с Вами разно смотрим на театр, и того, что ищете Вы, не ищу я…» Комиссаржевская предлагала Мейерхольду оставить ее театр. Письмо было послано утром 9 ноября 1907 года, а в 12 часов собралась труппа, где оно было зачитано. Бравич сделал доклад, который должен был объяснить поступок Комиссаржевской. {168} Подводились итоги трем годам существования театра. Цифры делали общую картину трагичной. Более 100 000 рублей израсходовано со дня открытия Драматического театра. И каждый год был убыточным. Комиссаржевская не видела в Мейерхольде спасителя театра. Она опять сжигала корабли. На ее стороне была правда внешних фактов. Ею руководило чувство материальной ответственности перед труппой. У нее не было средств для художественного эксперимента. Не пришла в голову мысль, что конец символистского театра не означал конца поисков. Единственный решительный поступок, который она могла сейчас совершить, — расстаться с Мейерхольдом.
Требование это казалось Мейерхольду чудовищно несправедливым. Его мнительность, обидчивость, неуравновешенность получили обильную пищу. Мейерхольд еще перед началом сезона отмечал, что не берут рекомендованных им актеров, действуют, не советуясь с ним. Его задевает, что в печатаемых афишах театра пропущена его фамилия. Какие это мелочи по сравнению с отлучением от театра. Он возмущен и мотивами и формой отказа. «Их надо было придумать, чтобы вызвать разрыв», — записывает Мейерхольд после собрания[90]. Та же слепая и горькая обида продиктовала ему вызов Комиссаржевской на суд чести. Он намекал на соображения иного порядка, которые заставили актрису так поступить. Решение третейского суда не признало Комиссаржевскую виновной. И все-таки ее поступок не был принят многими. Брюсов упрекнул ее в «неполитичности». Станиславский, отзыв которого по делу Комиссаржевская — Мейерхольд запросили судьи, уклонился от прямого ответа. Логика его рассуждений оправдывала Комиссаржевскую, но он словно не желал этого вывода и потому не делал его. Может быть, невысказанное мнение объяснялось тем, что данный поступок не определял будущего. Комиссаржевская была человеком решительных слов и поступков. Критично относясь к своей деятельности, она часто меняла ее пути. Но если отказ от старого был всегда внутренне логичен и равноценен подвигу, то осуществление нового не всегда удавалось актрисе. Часто то большое, что она хотела совершить, сводилось к нулю. Подвиг оказывался неоправданным жертвоприношением.
Пригласив Мейерхольда, она не представляла практических результатов совместной работы. Расставшись с ним, она не предполагала, что до конца жизни останется на одной точке, {169} что ее движение в искусстве закончено. Порвав с Мейерхольдом, она хотела сохранить верность символизму. Именно поэтому все сделанное в театре после его ухода будет скучным повторением его же планов, репертуарных и режиссерских. Художник часто умирает раньше человека. Современники вспоминают слова Комиссаржевской о последних годах работы: «Мне нечем больше жить на сцене. Я потеряла свое прежнее “я”, а нового не нажила. Играть затем, чтобы доставлять публике удовольствие, я не в силах»[91]. Друзья замечали, что ее творческая энергия начала иссякать. Комиссаржевская завершала свой актерский путь. Через два года ее ждало отречение от театра. Мейерхольд лишь начинался. Ближайшее будущее готовило ему десять лет поисков, завершившихся большим спектаклем «Маскарад». Мейерхольд ощущал свое время в будущем неограниченно. Для Комиссаржевской оно кончилось.
11 ноября 1907 года на утреннем спектакле в Драматическом театре шел «Кукольный дом». Публика, знавшая о разрыве, устроила Комиссаржевской овацию. Актриса торжествовала, видя в этом доброе предзнаменовение. Но никаких перемен в театре после ухода Мейерхольда не произошло.
В репертуаре остались «Победа смерти», «Пробуждение весны», «Вечная сказка», «Гедда Габлер», «Жизнь Человека» и даже не любимая актрисой «Свадьба Зобеиды». Унгерн, второй режиссер, тоже ушел, когда Комиссаржевская отказала ему в праве быть главным режиссером и проводить линию Мейерхольда. Спектакли ставили художник М. В. Добужинский, писатель А. М. Ремизов. Возобновлением «Строителя Сольнеса» начал режиссерскую карьеру Ф. Ф. Комиссаржевский. Постановка эта лишь наиболее последовательно осуществила идеалистический замысел Волынского. В начале декабря 1907 года состоялась премьера мистерии «Бесовское действо» Ремизова, в прошлом ведавшего литературной частью в Товариществе Новой драмы. Его привел в театр Мейерхольд, и он остался там после ухода главного режиссера, несмотря на то, что Комиссаржевская и Ремизов недолюбливали друг друга. «Бесовское действо» было декадентской стилизацией русской старины. Постановка выглядела неудачным продолжением мейерхольдовских поисков.
{170} 3
Пусть будет, что было. Пусть будет, что будет. Пусть не будет то, что есть.
Комиссаржевская понимала, что руководитель театра из нее не получился. После разрыва с Мейерхольдом ее выбор пал на В. Я. Брюсова. Белый вспоминал впоследствии, что Брюсов в ту пору являл собой уравновешенную гармоническую натуру. Поэт-символист — он был одновременно, по словам Луначарского, «общественно-героический и монументальный мастер». Эту тенденцию к большому гражданскому выходу в искусстве и почувствовала в нем Комиссаржевская.
В дневниках Брюсова есть такая запись: «1907, осень, 1908, весна. Встреча и знакомство и сближение с Комиссаржевской. Острые дни и часы. Ее приезды в Москву. Перевод “Пеллеаса и Мелизанды”. Позднее в Петербурге на первом представлении пьесы. Замечательная ночь. Перевод “Франчески да Римини”. Напряженнейшая работа трех недель. Разрыв Комиссаржевской с Мейерхольдом. Невозможность поставить пьесу. Весною мое сближение с Ленским. Обещаю ему “Франческу”. Неудовольствие Комиссаржевской».
История этих отношений сложна. Она открыла новую страницу личной биографии Комиссаржевской и привела актрису к определенным творческим выводам. Как всегда, тема ее романа повторяет и продолжает ее творческую тему. Ощущение кризиса определило отношение актрисы к поэту. Ее эмоциональное воображение искало образную характеристику новому состоянию. Ушли в прошлое образы, чьими именами Комиссаржевская называла себя в письмах к друзьям: птица вещая Гамаюн; Свет далекий, заветный, как мечта; Учитель. Утрачен дар связи с будущим. Она видит себя несчастной сестрой Беатрисой. Память о прошлых мятежных настроениях живет в предсмертном бунте монахини. Именем страдающей и непримирившейся Беатрисы называет себя Комиссаржевская в письмах к Брюсову. Иногда этот образ в ее сознании расплывается, множится, и тогда она видит себя метерлинковской Мелизандой.
Перевод пьесы «Пеллеас и Мелизанда» дал театру Брюсов. Исполнительница главной роли Комиссаржевская и режиссер Мейерхольд возложили на нее неоправданно большие надежды. Трагическая любовь казалась им путем к той «вечной» теме, которую исповедовал «мистический анархизм».
{171} Комиссаржевской были близки атмосфера предчувствий и ожиданий, царившая в пьесе, и психологический строй души Мелизанды. Актриса, которой не раз приходила мысль о малых результатах своей борьбы, поняла и даже приняла невольную покорность героини. Она испытала на себе сильное влияние ее образа. Стилистика писем Комиссаржевской этой поры отмечена монотонной краткостью речей Мелизанды, внешней незначительностью и внутренней загадкой. Письма Комиссаржевской Брюсову — это воспринятое актрисой влияние Метерлинка.
Мелизанда. Ах, я сама не все понимаю, что я говорю… Я не знаю, что я говорю… Я не знаю, что я знаю… Я не то говорю, что хочу…
«Пеллеас и Мелизанда»
Комиссаржевская:
«Я получила письмо со строками о Мелизанде, со строками Мелизанды. Она шлет Вам какие-то слова оттуда, где нет слов»[92].
«Я что-то должна показать Вам. Что, я не знаю, не могу вспомнить. Думаю, надо писать все, что тогда вспомню. Мне кажется, что я схожу с ума. Пусть будет, что было. Пусть будет, что будет. Пусть не будет то, что есть»[93].
Трудно заподозрить актрису в подражании Метерлинку, трудно отказать ей в искренности. Но изменилось само качество этой искренности. Она рождена сознательным усилием. Словно Комиссаржевская контролирует свою непосредственность и придает ей желаемый характер. Вместо непроизвольной душевной жизни — найденное психологическое состояние, которое превращает улыбку в гримасу, до неузнаваемости меняет лицо. Те же глаза и губы, но как чуждо их выражение. Она думала путем насилия над своим духовным миром найти переход в чистый и прозрачный мир Мелизанды. Пожалуй, она могла и не заметить этого насилия, так как актерская способность позволяла ей легко перевоплощаться. Это была не осознаваемая до конца игра с самой собой.
Изменилась и атмосфера работы над спектаклем. До сих пор никто не знал доступа в святая святых ее творчества. Она скупо говорила о ролях, берегла их от чужого глаза, репетировала вполголоса. Теперь этот процесс обнажен. В самом начале работы над спектаклем 18 сентября 1907 года она пишет Брюсову:
{172} «Если в субботу в беседе о “Пеллеасе” я не услышу Вашего слова, Вы убьете трепет, с каким я иду искать Мелизанду, и погасите желание видеть ее в этом театре. Так случилось. Вот откуда мое — “необходимо”. Я жду Вас»[94].
Прежняя неуверенность перешла в недоверие к себе. Прежняя вера приняла мистически властный характер. Брюсов ей нужен как разумный и авторитетный контроль над своей работой. Она ищет роковых предзнаменований и связывает будущий успех с оценкой Брюсовым спектакля.
В письмах Комиссаржевской к Брюсову переплелись отношения интимные и деловые, властное требование и просьба, фанатическая вера и полная растерянность. Ее эмоциональность, активность, призывы, рожденные предчувствием близкой катастрофы, тронули в Брюсове поэта. Его ответы — стихи. Там нет имени Комиссаржевской, отсутствуют посвящения ей. Она живет в стихах анонимно. Образ ее часто зашифрован. Не видно лица, и лишь слышны интонации ее голоса. 27 сентября 1907 года Комиссаржевская отправляет Брюсову письмо:
«Думали ли Вы эти дни о Мелизанде? Думали ли Вы эти дни о Беатрисе? Если — да, что Вы думали? Если нет, почему Вы не думали?
Я хочу Вашего ответа таким, как Вы редко его даете: совсем таким, как он звучит в Вас, пока Вы читаете эти строки».
В день получения письма 29 сентября 1907 года Брюсов пишет стихотворение «Осенью», которое откроет впоследствии цикл «Обреченный» сборника «Все напевы»:
Это призрак или птица
Бело реет в вышине?
Это осень или жрица,
В ризе пламенной и пышной,
Наклоняет лик ко мне?
Слышу, слышу: ты пророчишь!
Тихий путь не уклони,
Я исполню все, что хочешь!
Эти яркие одежды —
Понял, понял — для меня!
Комиссаржевская часто пряталась за тот или иной образ. А Брюсов, увлеченный этой игрой, не раскрывал его. Он дал {173} символический ответ. Поэт лишь смутно угадывал черты новой музы. Дорисовывал незнакомое. В смене образов яркой осени, жрицы, пророчицы трудно узнать Комиссаржевскую. Поэтическая условность вначале увела Брюсова от трагической судьбы актрисы. И вдруг он увидел ее такой, какой она бывала сама с собой, без свидетелей. Появляется стихотворение большой душевной обнаженности. Оно обращено к встречной, незащищенной и легко ранимой. Комиссаржевская здесь узнаваема. Несмотря на совпадение по теме и во времени, стихотворение не включено в цикл «Обреченный», а помещено в раздел «Послания». Поэт и актриса не желали быть узнанными.
ВСТРЕЧНОЙ
Они не созданы для мира.
М. Лермонтов
Во вселенной, страшной и огромной,
Ты была — как листик в водопаде,
И блуждала странницей бездомной
С изумленьем горестным во взгляде!
Ты дышать могла одной любовью,
Но любовь таила скорбь и муки.
О, как быстро обагрялись кровью
С нежностью протянутые руки!
Ты от всех ждала участья — жадно.
Все обиды, как дитя, прощала.
Но в тебя вонзались беспощадно
Острые бесчисленные жала.
И теперь ты брошена на камни,
Как цветок, измолотый потоком,
Бедная былинка, ты близка мне, —
Мимо увлекаемому Роком.
Сентябрь — октябрь 1907 г.
Брюсов видит настоящую Комиссаржевскую, предугадывает исход затеянной борьбы и бесполезность собственного вмешательства. Провал «Пеллеаса и Мелизанды» вызывает у Брюсова поэтическую реакцию, которая предрешила его окончательный ответ Комиссаржевской. На следующий день, 11 октября 1907 года, находясь в Петербурге, он пишет два стихотворения: «Себастьян» и «Голос». Первое, вероятно, о собственных ощущениях. К переводу {174} пьесы он относился с авторской заинтересованностью, потому неудача театра больно ранила его, выставив на публичное осмеяние. Угнетала и невозможность помочь актрисе. Торжественная мелодия и героическая тема стиха должна придать страданиям поэта подвижнический характер.
СЕБАСТЬЯН
На медленном огне горишь ты и сгораешь,
Душа моя!
На медленном огне горишь ты и сгораешь,
Свой стон тая.
Стоишь, как Себастьян, пронизанный стрелами,
Без сил вздохнуть.
Стоишь, как Себастьян, пронизанный стрелами
В плечо и грудь.
Твои враги кругом с веселым смехом смотрят,
Сгибая лук.
Твои враги кругом с веселым смехом смотрят
На смены мук.
Горит костер, горит, и стрелы жалят нежно
В вечерний час.
Горит костер, горит, и стрелы жалят нежно
В последний раз.
Что ж не спешит она к твоим устам предсмертным,
Твоя мечта?
Что ж не спешит она к твоим устам предсмертным
Прижать уста?
Второе стихотворение — это чье-то обращение к поэту. Его текст взят в кавычки и передает настроение писем Комиссаржевской.
ГОЛОС
«Ты — мой, моей рукой отмечен,
И я, уверенная, жду.
Играй безумен и беспечен,
От счастья смейся, плачь в бреду.
Ты вдруг очнешься в час закатный
Поймешь мой зов, лишь сердцу внятный,
И с воплем крикнешь мне: Иду!
Ты многим клялся: буду верен!
Ты многим говорил: я — твой!
Но неизменен и размерен
Событий трепет роковой.
Что было — только предвещанья,
Что было — лишь знаменовенья
Того, что быть должно со мной!
{175} Ты сам не понял, не изведал
Своей последней глубины,
Ты душу радостности предал,
Как зыби медленной волны.
Я жду тебя с мечом разящим
В былом, в грядущем, в настоящем —
Мне дни твои обречены».
В последующих по времени стихотворениях — «Ответ», «Бой», «Лунный дьявол» Брюсов продолжает развивать характерную для его творчества тему любви как «бури роковой». Но тематическая связь этих стихотворений друг с другом («Голос», «Ответ», «Бой»), объединение их в цикле «Обреченный» позволяет и здесь увидеть присутствие Комиссаржевской. Характерно, что на обороте рукописи «Лунного дьявола» имеется черновик письма Брюсова к актрисе. Он рыцарски поклоняется «далекой, далекой Мелизанде», но не желает принять участие в делах театра Комиссаржевской: «Я (нрзб) могу отказ[аться] от всех своих лич[ных] “дел”, но не смею пренебречь путью “Весов” — потому что в них есть что-то большее, чем лично я» (Брюсов был редактором журнала «Весы», объединявшего символистов).
Отношения поэта и актрисы прошли разные этапы. Им не пришлось служить общему делу. Осталось одно — вера в художническое значение друг друга.
Для Брюсова признанием таланта Комиссаржевской было стихотворение «Близкой», написанное 11 января 1908 года. Актриса получила его в одном из прибалтийских городов, где она гастролировала по пути в Америку.
БЛИЗКОЙ
Как страстно ты ждала ответа!
И я тебе свой дар принес:
Свой дар святой, свой дар поэта, —
Венок из темно-красных роз.
Мои цветы благоуханны,
Горят края их лепестков,
Но знает розами венчанный
Уколы тайные шипов.
Венок вовеки не увянет
Над тихим обликом чела,
Но каждый вечер снова ранит
Тебя сокрытая игла.
В венце как на веселом пире, —
Ты мученица на кресте!
Но будь верна в неверном миро
Своей восторженной мечте!
{176} Мой дар — святой, мой дар — поэта!
Тебя он выше всех вознес.
Гордись, как дивным нимбом света,
Венком из темно-красных роз!
В стихотворении не названо имя близкой. Его позволяют угадать факты биографии актрисы. 5 января 1908 года Комиссаржевская приезжала в Москву — прощалась с Брюсовым. 10 января 1908 года он получил от нее записку: «Милый, милый, бедный, я зову, я жду, я жду, я верна, я». На следующий день появилось стихотворение «Близкой». Характерна его эволюция от чернового варианта к окончательному. Вначале под названием «венок» оно не имело определенного адресата. Поэт скорее выступал с самохарактеристикой. В последнем варианте венок адресован Близкой, происходит уточнение ее образа. Темно-красные розы появляются не случайно: Комиссаржевская называла эти цветы своими «неизменными любимцами». Друзья знали это и всегда дарили ей розы. Поэт глухо упоминает, что та, к кому обращены стихи, актриса:
Но каждый вечер снова ранит
Тебя сокрытая игла.
Не обычная актриса, а «мученица», верная «своей восторженной мечте». Здесь тема ее глубокой неудовлетворенности, постоянного самоотказа, вечного движения вперед.
Впоследствии сборник «Все напевы» Брюсов начнет двумя стихотворениями: «Поэту» (18 декабря 1907 года) и «Близкой» (11 января 1908 года). Первое — о себе, второе — о Комиссаржевской. Эти стихи — итог раздумий об искусстве, о роли художника.
Оба стихотворения сближаются следующими строчками:
… от века из терний
Поэта заветный венок
(«Поэту»)
Но знает розами венчанный
Уколы тайные шипов.
(«Близкой»)
Поэт и актриса с разными мечтами и разными судьбами оказались удивительно близки — у них были одни враги и общие беды.
{177} Трудно говорить о воздействии Комиссаржевской на Брюсова, сформировавшегося человека и художника, который сам руководил судьбами многих поэтов. Но их сближение вызвало общность творческих состояний, о которых Брюсов поведал в двух стихотворениях.
Как человека талантливого, Комиссаржевскую мучили неосуществленные возможности. Она обладала отличным даром слога. Под влиянием Брюсова ее письма, всегда далекие от бытовых тем, приняли законченную форму стихотворений в прозе. Появляется необычная для Комиссаржевской короткая фраза. Монотонно размеренные повторы слов делают ее музыкальной. Внешняя скупость и сдержанность таят взрывчатую эмоциональность.
«[…] Не хочется говорить ничего. Хочется послать какие-нибудь слова через океан. Через этот совсем огромный, беспокойно-спокойный океан. Какой-то нежеланный в своей бесконечности. Пусть идут слова без слов. Они пойдут долго, долго. Так долго, что почти обрывается хотение послать их […].
[…] Вот я смотрю вверх и вижу пропасть без дна и смотрю вниз и вижу небо без дна. Я хочу того и другого. И меня хочет то и другое».
Дальнейшие планы уводили их друг от друга. Иногда прежнее возвращалось и больно удивляло обострившимся трагизмом. Потеря веры в современное искусство окончательно разобщила. Оба почувствовали кризис символизма, и каждый по-своему отошел от него. Вновь наплывами шли письма. Вновь появлялись стихотворения. Но отношения приняли узколичный характер.
Наступил последний, самый горестный период жизни актрисы. Она больше не делает крупных ставок. Все заботы последних двух лет сосредоточены на поддержании материальных дел театра. Никаких новых планов, никаких перемен. Выход из безденежья снова искали в гастролях. Решено было ехать в Америку.
Гастроли проходили с 15 марта по 2 мая 1908 года. Они показались актрисе дурным сном. Им предшествовала газетная шумиха, превозносившая удивительную русскую актрису. Им сопутствовал откровенный грабеж со стороны дельцов и предпринимателей. Пресса оказалась щедра на всякого рода оскорбительные замечания. Комиссаржевскую крикливо и невыгодно сравнивали с Аллой Назимовой, русской актрисой, оставшейся в Америке. Газеты бесцеремонно судили о туалетах, драгоценностях, о графских и княжеских титулах актрис Драматического театра. Почти месяц труппа играла в Нью-Йорке в Дейли-театре. Показали американцам «Бой бабочек», «Дикарку», «Дядю Ваню», {178} «Кукольный дом», «Огни Ивановой ночи» и др. «Сестру Беатрису» удалось поставить, лишь изменив название, так как право на эту пьесу в Америке принадлежало какой-то актрисе. Во время болезни Комиссаржевской играли «Чудо святого Антония», «Жизнь Человека» и «Бог мести» Ш. Аша. Дорогие цены, удаленность здания Дейли-театра от русской и еврейской колоний, надувательство местной администрации привели труппу к материальным лишениям. Поехали в провинцию. Играли, согласившись на жесткие условия антрепренера, при полупустом зале. Вновь вернулись в Нью-Йорк, на этот раз в Талиа-театр. Актриса имела большой успех у публики. Талант прошел через кордоны недоброжелательной прессы и стесненных материальных обстоятельств. На прощальном спектакле были торжественные подношения и большой искренний прием. Но антрепренер их опять обокрал. Снова провинция (Филадельфия, Бруклин) — и скорее домой. Комиссаржевская отказалась от дальнейших спектаклей. Потеряв около 20 тысяч рублей, она бежала из Америки и «радовалась, как ребенок», сойдя на европейскую землю. «Я отдыхаю от варварской работы в Америке», — писала она Л. Андрееву летом 1908 года.
Теперь она радуется избавлению от провалов, о победах не может быть речи. Она ищет и не находит себя. Фотографии Комиссаржевской последних лет удивляют непохожестью на прежние ее изображения. Немного чопорная женщина демонстрирует в парижском фотоателье модный силуэт и элегантную шляпу. Ретушь стерла знакомые черты, сделала чужим и правильным овал лица, потушила глаза. Но дело не в ретуши. Ведь актриса сама пыталась увидеть себя в этом облике. Она искала приметы нового жизненного стиля. Иной сюжет — американские фотографии. На фоне античной колонны позирует женщина в белых свободных одеждах. Она чаще поворачивается в профиль. Ниспадающие линии прически и платья делают весь облик стилизованным. Нет проникновенности ее взгляда. Есть ложная значительность. Перед объективом позирует знаменитость.
Еще одна серия фотографий, сделанных в России. Актриса здесь простая, домашняя, в вязаной кофточке, с гребешком в низко опущенных волосах. Она задумывается или неуверенно улыбается. Будто бы ищет то выражение, которое покоряло публику. Но улыбка усталая, и подпись под одной из этих фотографий звучит драматично: «Радостей, больших, маленьких, лишь бы радостей». Актриса примеряется к новому незнакомому положению неудачницы, ищет ему мотивировку.
{179} Но все оказывается чужим и ненужным, кроме одного, — признания страшной правды — Комиссаржевская кончилась. Когда актриса остается лицом к лицу с этой правдой, взгляд становится тяжелым, приобретает на фотографии иллюзию живого. Белое нарядное платье — и боль в напряженных глазах, и аскетически поджатые губы. Горький, ни к кому не обращенный упрек читается на другой фотографии этого же года. Она закутана в меховую шубу с поднятым воротником, низко надвинута меховая шляпа. Живут одни глаза, а в них страх. Все чаще настигает ее утомление. Все сильнее разочарование.
Новый сезон 1908/09 года начали в Москве. Выступали весь сентябрь. Репертуар был смешанный, две премьеры. За старое ее хвалили, за новое ругали. Не могла она, повторяя азы, играть и радоваться этому. Актриса вспомнила Жанну д’Арк и вновь заметалась, ища желанную тему. За последние два сезона в ее театре появились «Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио и «Юдифь» Ф. Геббеля. Н. Н. Евреинов, постановщик первого спектакля, считал его «визитной карточкой сезона». Режиссер был увлечен работой, но цель ее видел в любовании различными историческими подробностями. Его эстетизм одинаково принимал и поэтическую юность Франчески, и жестокость Малатестино. «Красивая форма не нуждается ни в каком содержании» — вот девиз Евреинова. Эстетских позиций режиссера Комиссаржевская не разделяла, к Д’Аннунцио, по ее словам, относилась холодно. Актриса опять вошла в спектакль с чувством внутреннего компромисса.
Для актрисы, как и для Брюсова, который специально ради нее перевел вместе с В. Ивановым пьесу, Франческа была подлинным, жившим когда-то человеком. Не случайно поэт предпослал отдельному изданию перевода статью «Герои Д’Аннунцио в истории». Для автора красота Франчески была прежде всего героична. Она играет с греческим огнем на башне, наводя ужас на стражников. Она рядом с мужем во время походов. Вот на какой героической основе выросла любовь Франчески. А режиссер предложил актрисе певучие мизансцены. Музыкален был разговор ее подруг, их плавные медлительные движения напоминали балет. Для Евреинова роман героини был лишь красивой деталью в мире «опьяненных кровью кондотьеров». В этой постановке актриса не могла передать то, что хотела, — «огонь души Франчески». Л. Н. Андреев писал о Евреинове: «Поняв одно основание театра — “театральность”, он пижонски прозевал второе: “моральность”».
{180} Следующей работой Евреинова в театре была «Саломея» О. Уайльда. Несложен библейский сюжет короткой пьесы. Действие происходит на пиру у Ирода. Падчерица Саломея просит отдать ей пленника Ирода — Пророка. За это она исполняет танец семи покрывал. Ирод отдает ей голову казненного пророка. Интерес спектакля сосредоточился на художнике Н. К. Калмакове. Даже в воспоминаниях Евреинова живописное впечатление преобладало над прочими: «Тот, кто был на генеральной репетиции “Царевны” (“Саломеи”, запрещенной, как известно, в день спектакля), тот вряд ли без трепета вспоминает Калмановский гротеск гармонически-смешанного стиля, этот каменный сфинксообразный лик Иродиады с волосами Медузы под голубою пудрой этот звериный образ Ирода, золотые волосы совсем розовой царевны, зеленоватое тело Пророка, как бы флуоресцирующее святость, сладострастный излом нежного, как у ребенка, тельца сирийца, красный квадрат лица Тигеллина под ложноклассическим плюмажем нестерпимо-сияющего шлема и, наконец, ярко-красные руки и ноги черного, как ночь, палача Наамана».
На следующий день после генеральной репетиции, 28 октября 1908 года, спектакль запретили, объяснив это тем, что в основе сюжета лежала евангельская притча. Донесение в Департамент полиции сообщало об инциденте в театре. Актеры выступили в газете с протестом. Комиссаржевская хотела обратиться в суд. Театр, сделавший огромные затраты на постановку, оказался на мели.
«Юдифь» Ф. Геббеля перевел для театра Ф. Ф. Комиссаржевский. Он же поставил спектакль. И снова героическая женщина превратилась у Комиссаржевской в стилизованную сомнамбулу. Юдифь покоряет Олоферна своей красотой, затем убивает его, чтобы он не мог захватить ее родной город. В минуты трагического подъема у Комиссаржевской было окаменевшее лицо и неискренние интонации.
Другая работа Ф. Комиссаржевского — «Праматерь» Ф. Грильпарцера. Пьесу переводил для театра Блок. Художником спектакля был А. Н. Бенуа, композитором — М. А. Кузмин. Роль Берты играла Комиссаржевская. Результат сочетания этих блестящих имен был печальный. Пьесу не приняли.
Театр оставался верен символизму. То, от чего Комиссаржевская невольно помогла уйти Мейерхольду, стало для нее пленом. Новые режиссеры Н. Н. Евреинов и Ф. Ф. Комиссаржевский не стали идейными руководителями театра. Они обратились к романтическим приемам как наиболее выигрышной сценической {181} форме символизма. Н. Н. Евреинов показал зрителям лубочную драму Ф. К. Сологуба «Ванька-ключник и паж Жеан». Ф. Ф. Комиссаржевский работал над западными символистскими пьесами — «Госпожа смерть» Рашильд и «Балаганный Прометей» А. Мортье. В русской современности его привлекал все тот же символизм — «Черные маски» Л. Н. Андреева. С великолепным чувством старины поставил он пастораль Х. Глюка «Королева Мая». Комиссаржевская легко и артистично вылепила образ фарфорового пастушка Филинта. Но это была лишь игрушка. Облик театра становился все менее определенным. И Евреинов, и Комиссаржевский заботились о своих художественных биографиях. Отчаявшаяся актриса возобновляла «Дикарку», «Бесприданницу», «Родину». Зрители радовались встрече с обычной Комиссаржевской, не думая о том, как угнетал ее возврат к старому.
Шумно и торжественно прошел пятнадцатилетний юбилей актрисы. 17 сентября 1908 года она выбежала на сцену Эрмитажного театра в Москве задохнувшейся от смеха дикаркой. Комиссаржевская по-прежнему молода и вдохновенна. Ею ничто не утрачено. Но приобретено ли что-нибудь? Все было так, как и должно быть на юбилеях: бесчисленные делегации, сотни телеграмм и нарядные осенние цветы, в которых потонула сцена Эрмитажного театра. Но не могло все это заглушить глубокой неудовлетворенности и страха за будущее. Ей ли не знать, что в этот вечер славили ее прошлое?
Чувствуя ущербность символизма, актриса пытается работать над некоторыми новыми образами в реалистической манере. Так, после Франчески да Римини она играла Элину («У врат царства» К. Гамсуна), а рядом с Юдифью появляется Мирандолина («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони).
Г. В. Плеханов видел в пьеса Гамсуна две драмы: отношение Элины с мужем и борьбу ницшеанца Ивара Карено с обществом. Критик считал, что художественный талант Гамсуна проявился в первом случае. Бунт Карено он осудил, назвав его мещанским. Если Мейерхольд, поставив этот спектакль в Александринском театре, остановился на второй теме, то Драматический театр, благодаря Комиссаржевской, выбрал первую. Вместо головинской декорации, распахнувшей огромные окна в роскошный осенний сад, режиссер А. П. Зонов ограничил внимание зрителя глухой стеной мягких зеленоватых тонов с книжной полкой на ней и письменным столом рядом. Маленький замкнутый мир Карено — философа, мыслителя. Он поглощен работой и выключен из обыденной жизни настолько, что не замечает жены, которая пытается {182} вовлечь его в свой мир, полный человечности, тепла, милого лукавства. Элина уважает мужа. «Коллега», — кричит она ему. Ну разве не забавен ученый муж, который не замечает, как она, забравшись на приставную лесенку, трогает его бумаги? Но отчего же он не отвечает? Может быть, он сердится? И Элина спешит к нему с протянутыми руками и просящим лицом: «Я там ничего не трогала… Мне так хотелось побыть с тобой». Никакого ответа. Это два разных мира: удивленная, растерянно разводящая руками Элина и погруженный в себя Карено. Следующие сцены длят ее горькое недоумение. Казалось, никогда не бросалась она радостно навстречу мужу, не била его шаловливо туфлей, а только и делала, что тревожно задумывалась.
Критика упрекала актрису в том, что она показала вместо женщины непосредственной и бездумной — человека с надрывом, похожего на ибсеновских и чеховских героинь. Комиссаржевская высветила в Элине настойчивое раздумье человека, начинающего самостоятельно жить. Маленький эпизод с продажей подсвечников актриса превратила в сцену, где решимость Элины достать мужу деньги расценивалась как подвиг. Она сознательно флиртует с Бондезеном, поглядывая на Ивара. Элина разрешает себя поцеловать с мучительно напряженным выражением лица. Она не обнимала Бондезена, как того требовала ремарка, а отстранялась от него. Перед неприязненно вопрошающим мужем она стоит, прямо глядя ему в лицо, словно говорит: «Так ты ничего не понял? И мы действительно бесконечно далеки друг от друга?» Характерны пометы актрисы на тексте роли к дальнейшим репликам Элины.
«Месть Ивару», — пишет актриса против слов, где Элина сознательно сближает мужа с его врагом: «Я слышала, как он назвал и тебя, и себя самого мыслителями». «Со страхом» — это замечание относится к реплике: «Ты будешь продолжать писать так же, как писал до сих пор?» Элина Комиссаржевской ужаснулась тому, что ее муж никогда не переменится. И в длину всей страницы через поля идет надпись: «Надо мужество»[95].
Ужаснувшись отчужденности Ивара, Элина влюбляется в Бондезена и уходит к нему. Вот почему актриса требовала от А. А. Желябужского, позднее введенного на роль Бондезена, положительной характеристики этого лица. «Пусть он не особенно интеллектуален, но мужественность и какая-то душевная свежесть должны в нем проявляться. Не чувственность гонит Элину {183} от погруженного в книги мужа, а зов жизни. Исходить он должен от Бондезена», — так передает Желябужский слова актрисы[96]. Ее Элина полюбила Бондезена. Она обращается к нему со словами, которые актриса вписала сама в роль: «Я молюсь на вас. Я только проснулась, снова проснулась, понимаете? Когда я вчера увидела вас и вы взяли меня за руку, во мне снова проснулась жизнь. Когда-нибудь я расскажу все это Ивару. Господи, я на коленях буду просить у него прощения, но сейчас я ничего не могу»[97].
Не каприз движет Элиной, а борьба за живого человека в себе. Ничто не может нарушить ее ликования, когда, сменив обыденное черное платье на красное, она уходит из дома. На лице то и дело вспыхивает счастливое выражение. Н. Эфрос писал об исполнении этой роли: «Самый перелом, когда страсть захлестнула, передается Комиссаржевской с большой силою, огненностью, в той лихорадке чувств, которая всегда так удается этой нервной, взволнованной артистке». Подчиняясь замыслу спектакля, Бравич — Ивар Карено в гриме простака выглядел недалеким малым.
Такой же проверкой жизненности ее таланта стал спектакль «Хозяйка гостиницы». Перевод, постановка и оформление Ф. Комиссаржевского. Актриса выступила в комедийной роли. Возможно, этот образ имел в виду Блок, когда писал о Комиссаржевской: «Живи она среди иных людей, в иное время и не на мертвом полюсе, — она была бы, может быть, вихрем веселья, она заразила бы нас торжественным смехом, как заразила теперь торжественными слезами».
На фоне цветистой ковровой ткани появляются чопорные граф и маркиз. С церемонными поклонами целуют они руки Мирандолины. Рядом остолбеневший слуга Фабрицио с разинутым ртом. Две актрисы, разыгрывающие важных особ, в жеманном реверансе присели перед Мирандолиной. Реплики произносятся прямо в зрительный зал. Это была стилизация спектакля времен Гольдони.
Реалистическая характеристика Мирандолины сочеталась с условностью, с отвлечением от черт бытового правдоподобия. У Мирандолины — Комиссаржевской нет обольстительности и любовного вызова. На ней смешной чепец и мешковатый костюм, который не подчеркивает ее женской стати. Движения скупые и {184} точные. Радуется, негодует, лукавит только лицо, всегда обращенное к публике. Она весело разыгрывает кавалера, с комическим испугом разнимает дуэлянтов, кокетничает с Фабрицио и не забывает перекинуться взглядом и улыбкой со зрителями. И они, благодарные, смеялись вместе с актрисой, то доброжелательно, то иронично. Вместе с ней восприняли этот спектакль, как забавную игру, тревожно затихавшую при виде настоящей жизни.
А. В. Луначарский писал об исполнении роли: «Мирандолина, допустим, не должна производить никакого трагического впечатления — эта хорошенькая плутовка прекрасно умеет делать свои дела, и Комиссаржевская, играя Мирандолину, как бы приглашает публику забыться, посмеяться немного вместе с нею над какой-то иллюзией возможности действительно блещущей игры. И все-таки таланту Комиссаржевской была присуща неизбывная нота философского пессимизма. Никогда не могла она с крыльев своего таланта стереть какой-то траурный пепел, и как бы в Мирандолине крылья эти ни сверкали радугой, все же вокруг них оставалась черная кайма. Мирандолина тоже казалась бабочкой, вступившей в неравный бой, бабочкой, которая, может быть, в данном случае победила, но для которой — кто знает где — судьба все-таки приготовила западню».
Сезон 1908/09 года закончили в феврале сотым представлением «Кукольного дома». Был триумф, в котором актриса хотела почерпнуть силы для нового пути. А путь предстоял нелегкий. Вместе с труппой она отправилась на четырехмесячные гастроли по городам Сибири. Не хотелось думать, что все это затеяно лишь для материальной поддержки угасающего театра. Актриса тешила себя мыслью, что подобные цели преследовались ею раньше. А теперь все не то. Она писала к брату в 1908 году: «Смотреть на поездку будущего сезона как на неизбежное в материальном отношении я не хочу и не могу. Провинция была для меня до сих пор средством. В этой поездке она должна быть целью. Я ездила туда всегда лишь с желанием набрать денег для каких-то моих художественных целей. Незаметно образовалась какая-то связь. Родилось желание показать не только образы, созданные в различных стадиях работы, но и самое дорогое — работу последних лет, работу театра».
В репертуаре актрисы преобладали роли, сыгранные в Александринском театре. Города были новыми: Иркутск, Харбин, Чита, Томск, Омск, Челябинск. Новой была и аудитория. Но поездка проходила с ощущением много раз виденного безрадостного сна. Комиссаржевская тяжело заболела воспалением среднего уха, {185} чудом избежала операции, едва не сорвав все спектакли. Гастроли, как всегда, почему-то оказались маловыгодными, и она вынуждена была продолжать выступления сверх намеченного. С тяжелым чувством пишет Д. Я. Грузинскому в марте 1909 года участвующий в поездке Бравич: «Сборы пока были до седьмой недели громадные, а седьмая неделя, как я и предупреждал, нас подкузьмила. Вообще Рудин малоопытный администратор, и В. Ф., благодаря этому, заработает несравненно меньше, чем могла бы заработать. Но вы ведь знаете ее, она должна кого-нибудь слушаться — и слушается, конечно, Рудина. Все мои советы и сбывающиеся предсказания не имеют цены, и я махнул рукой. Даже, вероятно, уеду до окончания поездки»[98].
Один за другим уходили старые друзья. Бравич еще в январе 1909 года подписал контракт с Малым театром, женился и собирался осесть в Москве. Его материальные и художественные жертвы имели свой предел. А главное, он ничем не мог спасти дело. Перед поездкой она рассталась с Ф. Комиссаржевским, уехала из дома на Торговой 27, где жила с 1904 года. У Комиссаржевского были свои планы. Он не хотел оставаться только братом великой актрисы. Мечтал создать себе имя в искусстве. Оборвалась тоненькая ниточка надежды, связывавшая ее с Брюсовым. Она прощалась с ним тяжело. В одном из последних писем (около 18 января 1909 года) просила: «Если бы никогда не видела тебя — именно тебя, только тебе написала бы: сейчас во всем мире один мне нужен ты. Не ты — твои глаза, которые выслушают меня, пусть молча. Ты придешь, услышишь слово и уйдешь. Ты — поэт почуешь большое этой минуты для меня, для главного во мне. Я жду». В ответ она получила еще одно стихотворение «Неизбежность» (22 января 1909 года). Оно говорило о былом объединении двух людей, которые ничем помочь друг другу не могут.
Кто бы нас ни создал, жаждущих друг друга,
Бог или Рок, не все ли нам равно?
Но мы — в черте магического круга,
Заклятие над нами свершено!
Мы клонимся от счастья и испуга,
Мы падаем — два якоря — на дно!
Нет, не случайность, не любовь, не нежность, —
Над нами торжествует — Неизбежность.
{186} Комиссаржевская вербовала новых друзей. Среди них А. А. Мгебров, В. А. Подгорный, А. П. Зонов. В этой лихорадочной смене окружения тоже чувствовалась обреченность. Вместе с лучшей художественной интеллигенцией переживала она кризис. Блок писал в декабре 1908 года: «… Во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва». Социальные катастрофы переживаются интеллигенцией как личные. С болезненной честностью признает себя виновной в происходящих мерзостях и с такой же полнотой обвиняет и негодует. Блок считал критерием работы писателя неподкупное читательское мнение. Этого оправдания не находила себе Комиссаржевская.
Пока ее любили и ждали даже там, где она гастролировала почти ежегодно. Но сама она понимала, что для успеха ей все время приходится возвращаться на 5, а то и на 15 лет назад, играя Нору, Ларису, Рози. Комиссаржевская, хотела она этого или нет, превращалась в гастролершу.
В свой последний сезон 1909/10 года труппа Комиссаржевской так и не появилась в Петербурге. Третий год подряд начали работу в Москве. Выпустили две премьеры: «Юдифь» Ф. Геббеля и «Хозяйку гостиницы» К. Гольдони. Последней премьерой театра стал «Пир жизни» С. Пшибышевского, показанный во время гастролей в Екатеринославе. Режиссеры Комиссаржевская и Зонов придали спектаклю «строго символический характер». Ганка (роль была написана специально для Комиссаржевской) уходит от мужа с любимым человеком. Но ее мучит тоска о покинутом ребенке. Муж запрещает им видеться. Ганка бросается со скалы и умирает. Драматург во вступлении к более позднему изданию пьесы так объяснял ее смысл: «Я созвал много гостей на пир жизни — надо было показать им его во всем величии и дьявольской иронии». Как и в прежних драмах, Пшибышевский говорил о трагической неразрешимости жизни, во многом повторяясь. Для актрисы спектакль стал тоже самоповторением. Не новы были и символистские режиссерские приемы, которые лишь возродили дурной романтизм в игре актеров. Постановка не имела успеха.
Тщетно пыталась Комиссаржевская создать у публики и рецензентов иллюзию настоящей жизни театра, опровергала упорные слухи о его закрытии. Но все понимали, что это конец. Меньше всех хотела обманывать себя Комиссаржевская. Через два месяца после начала сезона она обратилась к труппе с письмом об уходе из театра. Актриса обещала лишь завершить гастроли, как было намечено.
{187} Этот горький и мужественный документ не был отказом от деятельности. Комиссаржевская писала: «Тем из вас, кому дорог во мне художник, я хочу сказать еще, что художник этот уходит из театра с душой, полной больше чем когда-либо ясной, твердой веры в неиссякаемость и достижимость истинно прекрасного, и когда, и как бы тихо вы ни постучались в эту душу — она услышит вас и откликнется на зов ваш». У Комиссаржевской всегда оставалось место для надежды. Последней надеждой была идея театральной школы. Мысль эта витала в то время в воздухе. Любое начинание в театре порождало неразрешимые конфликты. Нужен был иной человек. «Новая школа, не та, где учат новым приемам, а та, которая возникает только один раз, чтобы родить новый, свободный театр и затем умереть… Школа вне театра должна дать таких актеров, которые оказались бы негодными ни для одного театра, кроме того, который будет создан ими самими. Новая школа та, которая создаст новый театр», — так писал Мейерхольд в 1907 году. Через два года Комиссаржевская начнет создавать такую школу. Опять привлечет всех, кому внутренне доверяет. На этот раз штат ее будущих сотрудников обширен. Здесь преподаватели различных наук и искусств, поэты, художники.
С просьбой помочь актриса обратилась к А. Белому, вспомнив его статьи о символистском театре, раздумья о воспитании актера. А. Белый писал о встрече с Комиссаржевской в Москве осенью 1909 года: «В этом вихре прекрасных душевных движений, вполне неожиданных по отношению ко мне, вылепетала она душу, отдав мне в сердце, как в колыбель, “младенца” — идею свою (так она выражалась): она устала от сцены; она разбилась о сцену: она прошла сквозь театр: старый и новый; оба разбили ее, оставив тяжелое недоумение; театр в условиях современной культуры — конец человеку; нужен не театр; нужна новая жизнь; и новое действо возникнет из жизни: от новых людей; а этих людей еще нет; […] И вот: опыт свой и все силы стремлений решила она посвятить воспитанию нового человека-актера; перед нею носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу и даже в театральный университет; преподаватели, педагоги этого невиданного предприятия должны быть избранными людьми, тоскующими по человеку, она хочет сплотить их, они должны ей помочь»[99].
{188} По отъезде из Москвы она забросала Белого телеграммами и письмами с просьбой думать о «младенце». Неисчерпаемость ее духовной жизни порождала самые разные состояния. Она всегда была в движении, способная вобрать в себя десятки жизней, стремительная, переменчивая. Любили ее больше, чем понимали. Поверенным школьных дел в труппе избран молодой актер А. А. Дьяконов (Ставрогин). Через него актриса установила связь с поэтом и переводчиком Ю. К. Балтрушайтисом. В ноябре 1909 года он был вызван в Харьков для переговоров с Комиссаржевской. Через несколько дней уехал с надеждой и желанием работать. «С радостью вспоминаю харьковские часы, — писал он Дьяконову. — Началась воистину героическая пора моей жизни». Он ежедневно пишет Комиссаржевской, думы о ее проекте занимают все его время. У него возникают свои соображения: «Тому новому, что чудится, должна соответствовать и новая художественная педагогика, новым звукам, которые должны раздаваться в человеческом существе, должна быть основана новая, внутренняя акустика того же человеческого существа»[100].
Комиссаржевская написала отречение 16 ноября 1909 года и одновременно заложила фундамент нового здания.
Гастроли продолжались, несмотря на занятость главной актрисы новыми планами и растерянность труппы. Быстро миновали южные города — Киев, Харьков, Одессу, заехали на Кавказ в Тифлис и Баку. На пароходе перебрались в Среднюю Азию. Играли в незнакомых городах Ашхабаде, Самарканде, Ташкенте, где впервые видели Комиссаржевскую. И каждый день она отправляла письма своим новым друзьям. Последней вестью от Комиссаржевской, которую получил Белый, был проспект гастролей с февраля до мая 1910 года. В нем значились сибирские и дальневосточные города. На обороте подвернувшимся под руку синим мелком актриса написала: «Я верю. Я буду ждать».
12 февраля 1910 года в Российское театральное общество поступила телеграмма из Ташкента от уполномоченного общества Бонч-Осмоловского: «24 шла “Бесприданница”, Комиссаржевской жар. 26 последний спектакль “Бой бабочек”, здоровье хуже. 27 слегла, температура 41. Далее течение трех дней обычного падения температуры не было. Образовалась сливная оспа. Лицо, шея, туловище, руки покрылись сплошной язвой, опрыскивание производилось ноге. Первого февраля улучшение, максимум — 38°. Четвертого обнаружилось воспаление почек, сразу {189} ухудшение. Язвы мертвели, подсыхало только лицо. Последние дни обнажилась вся кожа, местами сплошной черный струп. Девятого потеряла сознание. Десятого два часа скончалась паралича сердца. Безотлучно, самоотверженно при ней находились секретарша Кистенева, режиссер Зонов, компаньонка. Период болезни провела квартире знакомого Фрея, страдала замечательно терпеливо, волновалась судьбу четырех заболевших оспой артистов. Смертельного исхода не предвидела. Три дня до смерти видела во сне Чехова, радовалась, говорила: “Хорошее предзнаменование”. Положена два гроба, запаяна, перенесена церковь. Публики много. Пресса отозвалась горячо. Возложено до 20 венков. В ночь на тринадцатое отправят Петербург. Мнению докторов все заразились Самарканде. Бонч-Осмоловский»[101].
Похороны были всенародными. Многие города могли проститься с актрисой. Над могилой в Александро-Невской лавре выступили с прощальным словом друзья, студенты, писатели, актеры, общественные деятели. После шлиссельбуржца Н. А. Морозова говорил В. И. Давыдов: «Поднимите глаза, оглянитесь вокруг, загляните в газетные листы, она соединила театральный мир со всеми. Наука и искусство, литература и рабочие — все пришли проститься с нею до общего радостного утра, и так было по всему пути следования траурного поезда по необъятной России […] Теперь я понимаю, почему она говорила, что никогда не умрет. Память о ней будет вечно жить среди нас».
Вера Федоровна Комиссаржевская выступила наследницей высоких заветов русского искусства. Она умела сообщить героиням черты своей личности, раскрыть трагическое содержание повседневности. Лирической ноте своего таланта Комиссаржевская придавала действенный характер, связывая с прогрессивными устремлениями времени. Сознательное, активное отношение к жизни и борьба с жестокими законами социальной действительности определяли лучшие работы актрисы. Характер ее отношения к жизни, к творчеству, высокий нравственный уровень художника явились главной ценностью ее духовного наследия.
Актриса не изменяла победам и поражениям эпохи. Она верила в свое право бороться. Это сделало ее имя синонимом вечно живого искусства.
[1] Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. Под ред. Е. П. Карпова. СПб., 1911; «Алконост». Памяти В. Ф. Комиссаржевской. Изд. Передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. СПб., 1911.
[2] Записки Передвижного общедоступного театра, вып. 26 – 27. Пг., 1920.
[3] Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.‑М., «Искусство», 1964; О Комиссаржевской. Забытое и новое. Воспоминания, статьи, письма. М., ВТО, 1965.
[4] Все эпиграфы — из писем В. Ф. Комиссаржевской.
[5] В. В. Стасов. Избранные сочинения, т. I. М., «Искусство», 1952, стр. 205.
[6] А. Я. Александров. Чайка русской сцены. Казань, 1914, стр. 8.
[7] Письмо Комиссаржевской — В. А. Соловьевой 12 декабря 1888 г. ГЦТМ, № 79176.
[8] Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы, стр. 32. В дальнейшем все письма Комиссаржевской, за исключением специально оговоренных случаев, цитируются по этому изданию.
[9] В. П. Шкафер. Сорок лет на сцене русской оперы. Л., изд. Акад. театра оперы и балета им. С. М. Кирова, 1936, стр. 49, 65, 59 – 60, 53.
[10] Гр. Маленькая хроника. «Театр и жизнь», 1891, № 532, 15 февраля, стр. 2.
[11] Хроника. «Дневник артиста», 1893, № 8, стр. 26.
[12] Гранитов [Н. В. Туркин]. Театральные заметки. «Донская речь», 1894, № 8, 18 января, стр. 3.
[13] Гранитов [Н. В. Туркин]. Театральные заметки. «Донская речь», 1894, № 18, 10 февраля, стр. 3.
[14] Н. А. Смирнова. Воспоминания. М., ВТО, 1947, стр. 176.
[15] М. Театр и искусство. «Виленский вестник», 1894, № 226, 21 октября, стр. 3.
[16] Н. Р[оссовск]ий. Театральный курьер. «Петербургский листок», 1894, № 162, 16 июля, стр. 4.
[17] М. Театр. «Виленский вестник», 1895, № 208, 26 сентября, стр. 3.
[18] М. Театр и искусство. «Виленский вестник», 1894, № 214, 7 октября, стр. 3.
[19] В. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 2. Избранные письма. М., «Искусство», 1954, стр. 66.
[20] Там же, стр. 156 – 157.
[21] О. Мандельштам. Шум времени. Л., «Время», 1925, стр. 23.
[22] И. Шнейдерман. Мария Гавриловна Савина. Л.‑М., «Искусство», 1956, стр. 111.
[23] О монологе Треплева как философской аллегории см. в статье: Павел Громов. Станиславский, Чехов, Мейерхольд. «Театр», 1970, № 1.
[24] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 8. М., «Правда», 1951, стр. 126 – 127.
[25] Н. Тамарин. «Волшебная сказка», пьеса И. Н. Потапенко. «Южный край», 1902, № 7496, 17 сентября, стр. 4.
[26] Ю. Беляев. Наши артистки. Вып. 1. Критический этюд. СПб., 1899, стр. 22.
[27] ЦГАЛИ, ф. 770, оп. I, ед. хр. 155, л. 17.
[28] ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 4, ед. хр. 65, л. 14.
[29] ЛГТМ, № кп. 6464‑42.
[30] За год до этого С. П. Нани перевела пьесу Гальбе «Юность», в которой Комиссаржевская сыграла роль Анхен.
[31] Об этом см. в сб.: «Вера Федоровна Комиссаржевская…», стр. 252.
[32] Л. О. [Л. Е. Оболенский]. Театр и музыка. «Новости и Биржевая газета», 1899, № 350, 20 декабря, стр. 3.
[33] Н. Р[оссов]ский. Театральный курьер. Александринский театр. «Петербургский листок», 1901, № 31, 31 января, стр. 3.
[34] ЦГАЛИ, ф. 901, оп. 1, ед. хр. 19.
[35] Г. А. Бялый. К вопросу о русском реализме конца XIX в. Труды юбилейной научной сессии. Сер. филол. наук. Лен. гос. ун‑т. Л., 1946, стр. 317.
[36] Гастроли В. Ф. Комиссаржевской. «Приднепровский край», 1901, № 1221, 17 июня, стр. 3.
[37] А. Блок. Собр. соч., т. 5. М., Гослитиздат, 1962, стр. 420.
[38] Сидень. «Огни Ивановой ночи». «Приднепровский край», 1902, № 1614, 11 октября, стр. 4.
[39] Василий Иванов. Гастроли В. Ф. Комиссаржевской. «Монна Ванна». «Южный край», 1903, № 7665, 7 марта, стр. 6.
[40] В. В. Розанов. Памяти В. Ф. Комиссаржевской. В сб.: «Среди художников». СПб., 1914, стр. 325.
[41] В. Д[орошевич]. «Манфред». «Русское слово», 1902, № 347, 17 декабря, стр. 3.
[42] В. Д[орошевич]. «Манфред». «Русское слово», 1902, № 347, 17 декабря, стр. 3.
[43] Мурз. Маленький фельетон. «Баку», 1903, № 263, 9 декабря, стр. 3.
[44] Театр и музыка. «Новое время», 1903, № 9944, 9 ноября, стр. 5.
[45] К. О. [К. В. Орлов]. Гастроли В. Ф. Комиссаржевской. «Русское слове», 1904, № 50, 19 февраля, стр. 3.
[46] Ю. Б[еляев]. Театр и музыка. «Новое время», 1903. № 9930. 26 октября, стр. 5.
[47] Н. М. Театр и музыка. «Кавказ», 1904, № 9, 11 января, стр. 3.
[48] Смоленский [А. А. Измайлов]. Драматический театр. «Дети солнца» М. Горького. «Биржевые ведомости», 1905, № 9075, 14 октября, стр. 3.
[49] Аш [Н. П. Ашешов]. «Дети солнца». «Новости и Биржевая газета», 1905, № 204, 14 октября, стр. 5.
[50] Эль [И. И. Лузин]. Драматический театр. «Новости и Биржевая газета», 1904, № 327, 26 ноября, стр. 3.
[51] О—в. Театр В. Ф. Комиссаржевской. «Иван Мироныч», пьеса Чирикова. «Слово», 1905, № 64, 11 февраля, стр. 7.
[52] Эль [И. И. Лузин]: Драматический театр. «Новости и Биржевая газета», 1905, № 34, 10 февраля, стр. 2.
[53] Об этом см.: В. Адмони. Генрик Ибсен. М., Гослитиздат, 1956, стр. 14.
[54] К. О. [К. В. Орлов]. Гастроли В. Ф. Комиссаржевской. «Русское слово», 1904, № 52, 21 февраля, стр. 3.
[55] И. Шнейдерман. Мария Гавриловна Савина, стр. 164 – 165.
[56] А. Гизетти. Записки Передвижною театра, вып. 26 – 27. Л., 1920, стр. 6.
[57] Театрал. «Нора» (гастроль Комиссаржевской). «Театр», 1909, № 475.
[58] Цит. по кн.: В. П. Шкафер. Сорок лет на сцене русской оперы, стр. 69.
[59] Эль [И. И. Лузин]. Драматический театр. «Новости и Биржевая газета», 1905, № 91, 9 апреля, стр. 3.
[60] К. Ч[уковский]. Драматический театр. «Строитель Сольнес» Ибсена. «Театральная газета», 1905, № 16, стр. 277.
[61] Л. Вилькина. Драматический театр. «Росмерсхольм», пьеса Г. Ибсена. «Новая жизнь», 1905, № 9, 10 ноября, стр. 6.
[62] О. Дымов. Драматический театр. «Таланты и поклонники». «Биржевые ведомости», 1904, № 665, 23 декабря, стр. 6.
[63] Эль [И. И. Лузин]. Драматический театр. «Новости и биржевая газета», 1904, № 354, 23 декабря, стр. 3.
[64] Жрец [Г. Чулков?]. Театр Комиссаржевской. «Чайка» А. П. Чехова. «Наша жизнь», 1905, № 246, 3 сентября, стр. 3.
[65] О. Дымов. Петербургские театры. «Золотое руно», 1906, № 2, стр. 105 – 106.
[66] История русской литературы в трех томах, т. 3. М., «Наука», 1964, стр. 716.
[67] А. П. Иванов. Врубель. Пг., 1916, стр. 5 – 6.
[68] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 808. л. 7.
[69] Н. Д. Волков. Мейерхольд, т. I, «Academia», 1929, стр. 32.
[70] Там же, стр. 240.
[71] См.: Записные книжки Мейерхольда. ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 626.
[72] См.: ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 622 – 624.
[73] Записки Мейерхольда на прогонных репетициях спектакля «Гедда Габлер» в Тифлисе. ЛГТМ. рукоп. отд., № 11288/46.
[74] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 194.
[75] Об этом см.: Ю. Давыдов. Искусство и технологический рационализм. «Вопросы литературы», 1967, № 8, стр. 123.
[76] Об этом см.: П. Д. Боборыкин. Туда! Туда! (Исповедь актрисы). «Вестник Европы», 1913, кн. 8. Автор не называет имени актрисы, но, судя по содержанию и рецензиям на книгу, речь идет о Комиссаржевской. Доказательством подлинности приводимых в повести писем и разговоров могут служить письма актрисы на те же темы к другим адресатам.
[77] Вл. Орлов. Александр Блок. В кн.: А. Блок. Собр. соч., т. 1, стр. XXX.
[78] П. Громов. Театр Блока. В кн.: П. Громов. Герой и время. Статьи о литературе и театре. «Советский писатель», 1961, стр. 445, 433.
[79] Об этом см.: П. Громов. Герой и время…, стр. 447.
[80] ГЦТМ, отдел рукописей, № 163487.
[81] Объективный. Театр В. Ф. Комиссаржевской. «Обозрение театров». 1907, № 56, 24 января, стр. 8.
[82] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 180.
[83] К. Рудницкий. Комиссаржевская в юбилейных изданиях. «Новый мир», 1964, № 4, стр. 261.
[84] Цит. по кн.: Н. Д. Волков. Мейерхольд, т. I, стр. 307.
[85] ЦГАЛИ, архив А. А. Дьяконова.
[86] ЦГАЛИ, архив А. А. Дьяконова.
[87] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1 – 2.
[88] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 808, л. 8.
[89] ГБЛ, отдел рукописей, ф. 386.
[90] ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 185, л. 322.
[91] Цит. по кн.: П. Д. Боборыкин. Туда! Туда! «Вестник Европы», 1913, кн. 8, стр. 67.
[92] ГБЛ, отдел рукописей, ф. 386.
[93] Там же.
[94] ГБЛ, отдел рукописей, ф. 386.
[95] ГЦТМ, отдел рукописей, № 163485.
[96] Сб. «Вера Федоровна Комиссаржевская…» стр. 288 – 289.
[97] ГЦТМ, отдел рукописей, № 163485.
[98] ГЦТМ, отдел рукописей, № 165924.
[99] ГБЛ, отдел рукописей, ф. 375, к. 5, ед. хр. 33.
[100] ГБЛ, отдел рукописей, ф. 375, к. 5, ед. хр. 33.
[101] ЦГАЛИ, ф. 641, оп. 1, ед. хр. 926, л. 1.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




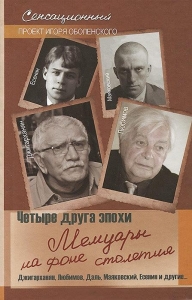
Комментарии к книге «Комиссаржевская.», Юлия Петровна Рыбакова
Всего 0 комментариев