Зерна гранита
ЗЕРНА ГРАНИТА Рассказы
МАТЬ
Сестра Георгия позвонила мне и попросила сообщить ему, что их мать умирает, никого уже не узнает и только в беспамятстве повторяет его имя.
— Пусть он немедленно приезжает! — взволнованно проговорила она.
В горе человеку прежде всего нужен товарищ. Горе — оно как туман, который окутывает все дороги, сжимает сердце, заслоняет свет. Георгий был моим другом, и я, конечно, поехал с ним.
— Значит, она уже никого не узнает? — может быть, в десятый раз спрашивал меня Георгий.
— Так сказала твоя сестра, — отвечал я.
— После потери зрения мать по шагам узнавала, какой сосед проходит, а по скрипу — какая калитка открывается. Встанет вечером перед воротами и ждет, а по улице тянутся стада овец… Когда приближались наши, она сразу же узнавала их. «Вот они! — кричала она детям. — Смотрите не пропустите!» Несколько лет назад я привез ее в Софию. Хотел, чтобы она погостила у нас, но она не выдержала. Ее пугал шум, она закрывала руками уши, не могла уснуть. «Здесь человеку нужны четыре глаза и четыре уха, — сказала она мне, — а у меня глаз уже нет». Мать все время сидела в комнате, ждала, пока вернутся дети из школы, и еще с порога начинала расспрашивать их, как прошел день. Гладила их по головам и просила рассказать ей об улицах, магазинах, трамваях. «Когда-то, до сентябрьских событий, — однажды сказала она, — ваш дед обещал мне, что после победы прежде всего в Софию меня отвезет. А все произошло так, что и он…» — и не договорила.
Мой друг вздохнул, помолчал немного и продолжал:
— В те дни она пожелала побывать в Мавзолее Димитрова и на площади перед Партийным домом. Оделась во все новое, повязала черный платок, и мы пошли. А пока шли, она попросила: «Когда подойдем к Георгию Димитрову, сожми мне руку». Когда мы вошли в Мавзолей, она крепче схватилась за меня. Я взглянул на нее — она немного побледнела. А когда подошли к саркофагу, я выполнил ее просьбу. Она отпустила мою руку, низко поклонилась и перекрестилась. Потом опять схватилась за мою руку. Мы вышли. Она больше ничего не сказала… На площади перед Партийным домом я сказал ей, сколько этажей в доме, на какой высоте находится звезда. Она подняла голову и как будто вглядывалась в каждое окно, но больше всего «смотрела» на звезду. Так мать стояла довольно долго. Потом развязала платок с каймой, достала свой партийный билет, который был завернут в газету, развернула и поцеловала его. Поцеловала как икону, и мы пошли дальше. «Все видела, сын. Спасибо тебе!» — сказала она мне тогда.
Некоторое время мы с другом молчали. В такие минуты слова не нужны. Затем Георгий махнул рукой, как будто хотел что-то прогнать от себя, и снова заговорил. Голос у него от волнения сделался хриплым.
— В тысяча девятьсот двадцать третьем году деда здорово избили. Он был при смерти. Я стоял возле него и менял мокрые полотенца на его посиневшем и распухшем теле. Мать ходила вокруг амбара и умоляла: «Не выгребайте все! Хотя бы немного для детей оставьте… Неужели в вас нет ни капли человечности?» Она рыдала и просила, а полицейские ругали ее и ведрами выгребали зерно из амбара. Под вечер пошел дождь. Капли падали крупные, как слезы. Дед открыл глаза и шепотом спросил меня: «Твоего отца отпустили?» Он не знал, что внизу с телеги сгружали трупы. Не обошли и наш дом. Мой старший дядя нес гроб, а младший стоял под дождем, и капли стекали по его мокрому лицу. Все село было в слезах… На следующий день двух покойников, отца и сына, похоронили рядом… Застану ли я мать в живых? — взволнованно проговорил он.
По сторонам дороги проносились мимо нас деревья и столбы. Шофер машинально нажал на педаль газа и, не отрывая взгляда от дороги, спросил:
— А ваша мать знала, что вы ушли к партизанам?
— Знала. От матери мы ничего не скрывали, она все знала. Даже приготовила теплую одежду — носки, фуфайки, перчатки. Когда я сбежал из гимназии, чтобы уйти в отряд, то прежде всего зашел домой. Погода стояла промозглая, неприятная. Ночь нависала над крышами и деревьями. Мать вошла в комнату, где я собирал свои нехитрые пожитки, и подала мне одежду. «Береги себя!» — только и сказала она. Мать печально смотрела на меня и не могла наглядеться. Перед тем как выйти из комнаты, она обняла меня, и слезы побежали по ее щекам. «Возьми и это! — Она протянула мне свадебную фотографию, где были изображены она и отец. — Может, получится так, что, когда вернешься, от дома ничего не останется». Она верила, что я останусь в живых… А сколько гонений, сколько побоев она перенесла после моего перехода на нелегальное положение! Там в участке один изверг ей выбил глаз. Потом у нее заболел и другой глаз. Надеялись, что удастся его спасти с помощью операции, но ничего не получилось. Прошло совсем немного времени после победы, и она ослепла окончательно.
Георгий вынул из бумажника выцветшую, истертую фотографию.
— Это та самая, которую она тогда подарила мне перед уходом. Я не расстаюсь с ней. Ношу как талисман, — сказал он.
С фотографии на меня смотрели два молодых и сильных человека. Отец — с высоким лбом, вьющимися волосами, крупными челюстями, волевым ртом и небольшими усиками. Мать — улыбающаяся, с широким круглым лицом, с ямочками на щеках, с волосами, заплетенными в толстую косу.
— Крупная и сильная женщина. Ты на нее похож, — сказал я.
— Сильная, — как бы про себя повторил он. — Дома она много лет была и за мужчину и за женщину. В поле выйдет — на все руки: пашет, жнет, снопы вяжет. И на телегу снопы грузила лучше, чем иной мужчина.
Георгий откинулся назад и повернул голову в сторону.
А я представил себе мать Георгия — крепкую женщину с большими сильными руками. Женщину, которая с одинаковым умением может работать мотыгой и вязать детскую одежду, управляться с плугом, вкусно готовить, печь пироги, воевать и петь колыбельные песни. Я всегда думал, что женщины сильнее мужчин, потому что они более самоотверженны.
Мы спустились с Балкан. Дорога раздваивалась, и шофер замедлил ход машины.
— Куда теперь? — спросил он.
— Налево! — ответил я вместо Георгия. — Вдоль ущелья.
Георгий, закрыв глаза, склонил голову на плечо. Но спать он не мог. Сон давно пропал. Его угнетала скорбь.
Я смотрел на него и думал, сколько раз глухими ночами сходил он по этим тропам, чтобы увидеть дом, чтобы услышать издалека голос своей матери, и, успокоившись, ощутив прилив сил, проворно, как серна, возвращался в горы к товарищам.
Село встретило нас молчанием. Перед домом Георгия стояла машина «скорой помощи».
— Неужели мы опоздали? — с тревогой спросил он.
В ответ послышался крик его сестры:
— Скорее, братик, скорее! Только тебя и дожидаемся!..
В глубокой печали стояли у дома мужчины и женщины. Глаза людей были полны слез.
Мать, бледная, худая, с измученным лицом, казалось, утонула в постели. В безжизненных глазах, как в двух пустых колодцах, не было даже признака жизни.
— Мама, Георгий пришел, — промолвила сестра моего друга.
— Мама, это я, — произнес чужим, незнакомым голосом Георгий.
Что-то дрогнуло в почти бесплотном теле. Одна рука мучительно приподнялась, дотронулась до склонившейся над ней головы и упала.
— Это я, мама! — повторил Георгий.
Во дворе кто-то пояснял:
— Приехал Георгий, застал ее, но она его не узнала.
Рука матери приподнялась. Мать дотронулась до его подбородка, остановилась на ямочке, затем скользнула по руке и замерла на локте. Потом ощупала его еще раз, как будто хотела удостовериться, что это действительно он. Голова ее качнулась. Губы зашептали:
— Георгий, сын…
Сколько раз она, битая до потери сознания в полицейских участках, сжимала зубы, чтобы это имя не сорвалось с губ!
— Сын! — Она всхлипнула, голова ее приподнялась и сразу же опустилась на подушку…
Через два дня, когда все село собралось, чтобы проводить мать в последний путь, кто-то прочел в газете, что полковнику Георгию Николову Петрову присваивается звание генерала. Новость быстро передалась из уст в уста. Произнеся прощальную речь, секретарь парторганизации склонился, поцеловал руку старой умершей женщины и положил возле нее газету с сообщением о сыне.
ПРОПУЩЕННЫЙ В СПИСКЕ
Когда Ивану позвонили по телефону и сообщили, что приглашают его в качестве гостя на отчетно-выборную партийную конференцию в его родной край, он удивился и так обрадовался, что забыл спросить, кто у телефона. Иван держал телефонную трубку, плотно прижав к уху, чтобы лучше слышать, и взволнованно повторял:
— Спасибо вам… Спасибо вам…
И даже когда в трубке что-то щелкнуло, а это означало, что трубку положили, Иван продолжал повторять:
— Спасибо… Сердечно вас благодарю…
Радость охватила его. На скуластом лице появился румянец. Иван встал с большого кресла и только теперь заметил, как много света в его кабинете.
— Значит, не забыли меня, помнят.
Постепенно радость переполнила его… Воспоминания захлестнули Ивана. До сих пор работа занимала его с утра и до позднего вечера. Не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы подумать о себе. Под глазами у него появились мешки, волосы стали седеть. Скрипка, его единственная отрада, лежала на шкафу, покрытая слоем пыли. Заседания, споры, «увязывание» плана, «выбивание» вечно недостающих материалов стали его буднями. Эти постоянные заботы поглощали и его отпуск. Когда тяжелая усталость брала верх и сжимала голову тисками, Иван уезжал в родное село, в родительский дом. Два дня он восстанавливал свои силы и снова возвращался в большой город.
И вот теперь этот звонок… Облокотившись на подоконник, спиной к улице, Иван с приятным чувством вспомнил именно тот день, когда впервые приехал из села сюда, в новый окружной центр. Он знал, что этот город интересен своими архитектурными памятниками, известен крупными историческими событиями, но никогда не посещал его. Маленькое село, где жил Иван, затерявшееся в складках Балканских гор, никогда не было связано с этим городом. Иван хорошо помнил: тот осенний день, когда он покидал свое село, был таким же теплым, как и сегодняшний. В город Иван ехал на машине, сидел рядом с шофером. Головокружительное сумасбродство осени возбуждало его. По обеим сторонам дороги мелькали одетые в багрянец деревья. Ему показалось, что земля поет. Мелодия была многоголосая и волнующая, нежная, как колыбельная песня.
— Слышишь песню земли? — спросил Иван шофера.
Шофер недоуменно взглянул на него, а потом, помолчав немного, ответил:
— Кроме машины, я ничего не слышу. — И прибавил газу, чтобы обогнать запыхавшийся «запорожец».
— Земля, дорогой, что мать, милая и добрая, строгая и взыскательная, а машина… — Иван запнулся, подыскивая нужное слово, и резко определил: — Машина — это зверь. Земля рождает человека, делает его сильным и гордым. Поэтому я люблю ее, и все должны ее любить.
— Вы, случайно, не агроном? — спросил шофер, бросив на него хитрый взгляд.
— Нет, я учитель.
— Примерно так я и думал, — сделал заключение шофер и без видимой причины нажал на клаксон…
Зазвонил телефон, но Иван не спешил брать трубку. Однако на второй звонок он отозвался. Это звонила его жена.
— Обедать придешь? — спросила она.
— Обед не убежит! Ты знаешь, я приглашен на партийную конференцию в наш край, — похвалился Иван.
— Я думаю, что это не помешает обеду. Ведь конференция-то не сегодня?
— Иду, иду, — ответил Иван.
Дома они обсудили эту приятную весть. Дело дошло до спора. Сыновья настаивали на том, чтобы Иван взял их с собой. Они не скрывали неприязни к городу и грустили о балканском «гнезде».
— Ведь это родные места, — настаивали они. — А родное нужно чтить. Вы же сами так нас учите…
Иван долго хмурился и молчал. Ему очень хотелось побыть в родном селе одному. Ведь это было бы реальное возвращение не только к людям того края, но и к молодости. Там он начал работать секретарем комитета комсомола, а вот теперь он секретарь парткома…
— Возьми детей, — неожиданно сказала и жена, тепло глядя на него большими карими глазами. — Если бы не дела, и я бы поехала. Время не властно разорвать нашу связь с родным краем.
Конечно, Иван согласился взять детей с собой.
Выехали они рано утром. Солнце светило прямо в глава. Ехали долго. Немного не доезжая до села, перед подъемом в гору, Иван свернул с дороги на обочину и остановился. Сверху хорошо было видно все село. Иван вышел из машины и сел на камень. Возле него молча пристроились и оба его сына. Котловина, словно утыканная высокими зданиями, горела в солнечном огне. Река, извивавшаяся сначала среди скал, а потом вокруг зданий, блестела, словно посыпанная серебром дорога.
— Здесь вы родились, ребята. Здесь прошла и наша с вашей матерью молодость…
Иван наклонился, взял горсть земли и долго сжимал ее в руке. Потом поднес к носу, чтобы почувствовать ее запах. Любовь к земле была его вечной болезнью.
— Знаете ли, сыновья мои, что нет на свете ничего сильнее земли? Кто крепко стоит на ней, тот никогда не пропадет.
— Пусть об этом думают пилоты и стюардессы, — прервал его младший сын.
— И космонавты, — подхватил другой.
— Не придирайтесь к словам. Думаю, вы хорошо поняли, что я хотел сказать. Позабыли мы эту землю. Все дела да заботы… Хорошо, что вспомнили обо мне. Великая вещь — дружба, настоящая дружба. Она, как золото, никогда не ржавеет.
— Папа, из-за своих бесконечных философских рассуждений ты можешь опоздать на конференцию, — сказал ему младший сын.
Машина заскользила в направлении села. Уже через несколько минут появились первые здания. На месте старых одно- и двухэтажных домов, с вьющимся по фасаду виноградом, сейчас стояли высокие, залитые светом солнца дома. Иван Ангелов с нескрываемой радостью восхитился:
— Современный город! Дома как дворцы!
Когда машина остановилась перед Партийным домом и Иван вышел из нее, несколько спешащих на конференцию делегатов увидели его.
— Ну, наконец-то ты вспомнил о нас! — Такими словами встретили Ивана его бывшие товарищи.
— Все не было времени повидаться, правда? — Старый товарищ взял Ивана под руку. Когда-то они вместе обсуждали, каким быть их селу, работали дни и ночи напролет. — Вон там, в фойе, тебе надо отметиться о прибытии, и там же тебе скажут, где будешь питаться и спать. А я подожду тебя здесь.
«Очень постарел мой старый друг, — подумал Иван. — Мы не виделись с тех пор, как я уехал отсюда». Эта мысль испугала его, и он инстинктивно ощупал свои щеки, чтобы проверить, неужели и его лицо стало таким же морщинистым. Он вспомнил, как этот товарищ на его проводах тяжело вздохнул и сказал:
— Ты оставил след. Если мы, эгоисты, забудем тебя, то не однажды споткнемся, идя по твоему следу, и волей-неволей вспомним тебя. А ты и на новой работе будь таким же, как здесь.
Иван не спешил. Здоровался за руку с каждым из группы. Среди людей были и очень молодые, которых он не знал. Но они хорошо помнили бывшего секретаря организации. Среди коммунистов он был известен своей исключительной честностью и жесткой самокритичностью. Как-то раз, отчитываясь перед ЦК о ходе партийной учебы в течение года, он допустил ошибку. На следующий день после отчета, обнаружив эту ошибку, Иван сам предложил на бюро, чтобы ему вынесли выговор.
В фойе Партийного дома, за столом, покрытым красным плюшем, сидели несколько девушек.
— Добрый день, комсомол! — весело поприветствовал их Иван. — Куда меня поместите?
— Ваша фамилия? — спросила самая высокая девушка и, когда он ответил, тонкими пальчиками с бледно-розовым маникюром пробежалась по списку приглашенных. В списке его фамилии не было.
— Может быть, случайно пропустили вашу фамилию? Подождите, пожалуйста! — И девушка быстро направилась в комнату секретаря, где перед открытием конференции собрались некоторые гости и члены бюро комитета. Девушка осторожно открыла тяжелую обитую дверь, извинилась перед гостями и спросила, как поступить с делегатом, чью фамилию она не нашла в списке.
В этой комнате, из которой сейчас доносился приятный запах кофе, Иван много лет часто засиживался до полуночи над докладами, информацией, отчетами. Вспомнилось, как в одну весну — она была дождливой и тяжелой для сельского хозяйства — он целыми днями обходил поля, вел работу по осушению, а по вечерам сидел и готовил материал для пленума. Домой не возвращался, а, накинув одеяло, дремал час-другой и снова шел на поля. А на рассвете ему позвонили из больницы и сообщили, что плохо с его женой: у нее произошло прободение язвы.
— Она жива? — спросил Иван.
— Да, — ответил главный врач, — но может случиться страшное…
Два месяца подряд Иван рано утром ехал в больницу, чтобы повидать жену и рассказать о детях. А она едва находила силы, чтобы приподнять голову…
И вот сейчас из этого кабинета через открытую дверь долетел хриплый, властный голос:
— Пропущенных быть не может! Кого нет в списке, того не размещать! Мы не туристическая организация, чтобы размещать всех подряд… И больше не беспокойте нас!
Иван не стал дожидаться ответа девушки. Он все слышал. Хотел сказать что-то стоявшим у стола людям, но не смог. Голову обдало жаром, в глазах потемнело. Комната завертелась и поплыла. А в ушах у него звучал тот хриплый голос. Иван хорошо знал этого человека: когда-то он был инструктором и Иван, так сказать, учил его уму-разуму, учил азбуке организационной работы. Иван настоял, чтобы этого человека избрали секретарем общинного комитета партии.
— Молодой, энергичный парень, мы должны его учить, помогать ему, — уверял он членов комитета партии.
И коммунисты согласились с Иваном, как один, проголосовали «за». Но не прошло и года, как тот человек перессорился со старой гвардией. Обвинил их в том, что они не уважают молодых, мешают новому, потворствуют групповщине. Никогда не забудет Иван того заседания комитета, когда тот же самый хриплый голос предложил исключить из партии одного из самых старых ее деятелей. Своими глазами Иван видел, как закаленный в борьбе революционер не выдержал, гримаса сморщила его лицо, но он сохранил самообладание и ясным и твердым голосом ответил:
— Исключить меня из партии вы можете, но партию отобрать у меня — никогда! А тебе, товарищ секретарь, хочу сказать, что ты на машине столько дорог не исколесил во имя нашей партии, сколько я исходил пешком!
Хриплый голос попытался возразить, не дать ему говорить, но старик резко бросил ему:
— Молчи! Партия не значок и не ювелирное изделие! Партия — это солнце, которое согревает и дает жизнь даже тогда, когда ты ошибся. Это слово не для твоих уст. — И вышел.
Случившееся Иван тогда приписал молодости своего подопечного. Снова взял его в комитет партии инструктором. А когда того выдвинули на должность заместителя заведующего отделом, он снова начал показывать себя во всей красе. Вот тогда Иван не выдержал, предложил на заседании бюро вывести его из аппарата партии…
Иван схватился за перила и, как слепой, пошел вниз по лестнице. У него было только одно желание — сесть в машину и сбежать, как можно скорее скрыться с глаз людей. На третьей или четвертой ступеньке его догнал незнакомый мужчина. Представился, сказал, что он из ЦК.
— Это я позвонил по телефону и пригласил вас на конференцию. Во время первого перерыва начальство хочет поговорить с вами. Прошу вас, идемте! — И дружески подхватил Ивана под руку…
Когда незадолго до окончания конференции председатель для включения в состав нового комитета назвал кандидатуру Ивана Ангелова, делегаты, как будто только того и ждали, зааплодировали. Некоторые встали.
В глазах старого коммуниста заблестели слезы радости.
ДЕД СТОЯН
Мой старый приятель Тома утром приехал ко мне на работу и сказал:
— У деда Стояна — восьмидесятилетие, он был один из лучших ятаков[1], и мы должны обязательно поздравить его. Дед, может, и позабыл, что он юбиляр, — продолжал Тома. — Мы считаем годы лет до семидесяти и радуемся им, а потом перестаем их считать.
— У деда Стояна столько родственников и боевых соратников, что кто-нибудь да напомнил ему либо телеграммой, либо письмом. А может, и торжество организовали, — ответил я.
— Молодой ты, потому и говоришь так. Имей в виду: коню задают овса и расчесывают гриву до тех пор, пока он может носить хомут. Потом ищи его в зарослях терновника. А сейчас с тебя — машина и цветы, с меня — ракия и закуска, и трогаемся в путь, — закончил Тома.
Я без колебания согласился и только спросил:
— А сколько купить цветов?
— Для этого человека всех цветов, что на полях да на Балканах, мало, но мы преподнесем их символически… — ответил Тома.
Договорились, что поедем после обеда. Довольный Тома кивнул мне в знак согласия и ушел, а я остался, чтобы дописать отчет. Я должен был сегодня же закончить его, согласовать с руководством и отправить. Но мои мысли были уже заняты дедом Стояном… Неужели можно забыть такого человека, как дед Стоян? За что мы уважаем и ценим людей — за пост, который они занимают, или за то, что сделано ими в жизни, или за их прекрасные слова? Я шагал по кабинету, отдавшись воспоминаниям об этом человеке. Одни эпизоды жизни деда Стояна, о которых я знал от Томы и других товарищей, сменялись другими. Я запомнил деда крупным, краснощеким, с выдающимися скулами. Он носил брюки из домашнего грубого сукна, перехваченные ярко-красным поясом, и красивую рубашку с каймой. Рукава рубашки зимой и летом были завернуты до локтей. Руки у деда жилистые, с сильными, выпуклыми венами, с загрубевшими ладонями. В пять лет Стоян остался без матери, в шесть стал сельским пастухом, когда подрос, начал трудиться в слесарной мастерской, сначала был подмастерьем. В партию вступил в 1919 году, в 1923 году повел за собой повстанцев. На глазах Стояна погиб его старший сын, еще юноша. В предсмертной агонии парень воскликнул:
— Это ты меня заставил, отец!
Сырая ложбина подхватила его слова и повторила их. А в ушах отца они до сих пор звучат по-другому:
— Ты меня убил, оте-ец!
Горстка повстанцев стояла тогда возле ограды, не зная, чем помочь командиру. Стоян склонился над раненым, а сын корчился в предсмертных муках на земле.
— Не кори меня, сын! — только и вымолвил Стоян.
Потом он низко наклонился над сыном, дрожащими пальцами провел по его лицу, которое еще не знало бритвы, и закрыл глаза погибшему. Снял шапку и постоял в молчании, окруженный повстанцами из села. Они перенесли тело во двор училища и ушли. Уходя из села, уставшие повстанцы увидели с возвышенности, что дом их командира горит.
— Скотину, скотину пощадите! — кричала жена. Она хотела броситься в хлев, чтобы спасти хоть что-нибудь, но расплакавшиеся дети обхватили ее ноги и не дали ей сдвинуться с места.
Коровы, привязанные в хлеву, метались и мычали, а пламя окружало их смертоносным обручем. Овцы блеяли и сбивались в кучу. Собака отбежала в сторону и завыла. Бай Стоян смотрел с холма, как горит его дом, и меховой шапкой вытирал потную голову. По его небритому лицу катились слезы…
Телефонный звонок прервал мои воспоминания. Дела текущие вернули меня в сегодняшний день. Это звонил Тома.
— Утром на твоем столе я видел портрет Ленина у шалаша в Разливе. Знаешь, как обрадуется дед Стоян, если мы подарим ему этот портрет! — сказал он.
— Отлично! Кладу в портфель, и едем! — ответил я.
Я еще не положил телефонную трубку, как в дверях показалась моя новая секретарша. Это была молоденькая девушка, худенькая, нежная, с детскими розовыми щеками, с мягким и теплым голосом. Она смущенно смотрела на меня и, как ученица, зазубрившая урок, поспешно говорила:
— Букет готов. И шофера я предупредила. Еще будут какие-нибудь поручения?
— Какие же еще? — удивился я ее вопросу.
— Я могу позвонить вашей жене и сообщить об отъезде, — ответила она.
Ее неподдельно искренний, даже немного наивный, ученический ответ развеселил меня. В том же тоне я сказал ей:
— Спасибо за напоминание, девочка, но в этот раз я хочу изменить жене и поэтому еду инкогнито. Букет красивый?
От моего ответа девушка вспыхнула. Она смотрела на меня широко открытыми, полными недоумения глазами. Оттого, наверное, что знала — в изменах не признаются, а может, думала, что я не способен на это. И, чтобы успокоить ее, я продолжал:
— Один еду. У меня будет спутник, но он — испытанный конспиратор. Да и рабочее время заканчивается, так что вы можете идти…
— Я подожду… — нерешительно ответила она.
Складывая и убирая со стола материалы, я все время думал: «Поймет ли она, что я шучу? Она еще такой ребенок. Этой весной окончила среднюю школу и курсы машинописи и стенографии. Тома рекомендовал ее. Сказал мне, что она из хорошей семьи». Я надел пиджак и вышел из кабинета. Девушка стояла в приемной с роскошным букетом в руках.
— Желаю приятно провести время! — сказал я ей приветливо и вместе с тем по-отечески строго.
— Спасибо. И вам желаю приятно провести время.
Внизу меня ждала машина. Тома занял свое обычное место на заднем сиденье. Даже когда он едет один, он все равно не садится впереди, рядом с шофером. В свое село на служебной машине Тома старается не ездить, а если же такое случается, оставляет ее на окраине у последнего дома и идет по улицам пешком. У каждого дома остановится, поговорит, ему есть что сказать людям. В селе о нем говорят: «Наш Тома». И когда его ищут в городе, спрашивают: «Вы не знаете, где работает наш Тома? Вы видели нашего Тому?»
— Начальство, мы готовы? — шутливо спросил я его.
— Я не царь, чтобы меня так титуловать. У меня есть имя, и не плохое, — не принял он моей шутки.
Машина отъехала. Солнце еще висело над горизонтом. Через открытое окно хлынул прохладный воздух и освежил нас. Тома рассеянно смотрел в окно. Когда мы были уже за городом, он заговорил как будто про себя:
— Как летят годы! Как летят! А мы радуемся! Чему?
— Мудрости, которая приходит с годами, — ответил я.
— Легко тебе говорить, потому что ты молод, тебе и море по колено. А нас ты спрашивал, тех, кто спешит догнать деда Стояна?.. Завидую вам, молодым! А наш юбиляр! Восемьдесят лет, шутка ли?! Представляешь себе? В свое время, когда я был на нелегальном положении, частенько случалось мне, замерзшему и голодному, заходить к деду Стояну. А он смотрел на меня, крутил ус — тогда усы у него были большие, торчащие в разные стороны, — и каждый раз говорил: «У тебя, как у меня, все не так, как у людей».
— Дед Стоян — шутник, наверное? — спросил я Тому.
— От его шуток слезы катятся. Жизнь ему трудная досталась. Помню, когда он вернулся из эмиграции после 1923 года, у него едва хватало сил двигаться. Чахотка его мяла, она последние соки жизни из него выгнала. А жить было негде, дома своего он не имел. Работал на испольщине и едва сводил концы с концами, только не соль да на керосин оставалось, но оптимизм никогда его не покидал. Выходил Стоян утром в поле, и песня была его подругой. Вечером вернется усталый, едва ноги волочит, но обязательно зайдет в торговую лавку, где люди всегда есть, и поинтересуется, как тот поживает, как этот. Всегда о других думал. Позднее Стоян стал скотником. Здесь можно было и домочадцев приютить в пристройке, и за квартиру не платить, да и для дела полезнее. Сколько нелегальных прошло через этот скотный двор!
«Здесь безопасное место, — уверял он нас, когда мы, опасаясь провала, высказывали свои сомнения. — Стоит мне только выпустить быка, околийский начальник и близко подойти не посмеет».
Тома развеселился, поправил упавшие ему на глаза седые волосы и продолжал:
— Как-то раз ночью, выбираясь из села, где у нас было собрание, мы с товарищем наткнулись на засаду. С постов нас заметили, закричали, и мы, не имея другого выхода, свернули к скотному двору. Полицейские начали стрелять. Дед Стоян услышал выстрелы и крики и вышел посмотреть. Увидев меня и моего товарища, он схватил нас за руки, потому что темнота была непроглядная, и привел нас в хлев, где стоял бык. Запихнул в угол яслей и накрыл большой плетеной корзиной. Бык засопел.
«Не бойтесь, — успокоил нас дед Стоян. — Я его привязал накоротке двумя цепями». — Сказал он это и поспешил в свою каморку.
Прошло немного времени, и у ворот скотного двора что-то загремело. Полицейские начали колотить в дверь. «Открывай!» — кричали они.
В комнате деда Стояна что-то с грохотом упало — похоже, стул. Потом послышалось, как дед открывает дверь и шумно зевает.
«Что ведете, корову или буйволицу? Неужели не могли дождаться рассвета? Пришли среди ночи…» — сердился он.
«Ты где их спрятал?» — спросили полицейские.
«Кого прятать-то?» — грубо ответил вопросом на вопрос дед Стоян.
«Тех, нелегальных из твоей партии».
Дед Стоян громко рассмеялся:
«А-а, ты о нелегальных спрашиваешь? Вон они, у быков, хочешь их увидеть?» — Он двинулся к хлеву, открыл его, и тут бык начал бить копытом и страшно сопеть.
«Ты что, издеваешься? — разозлился полицай. — Мы государство охраняем! Открой комнату, в которой живешь, да коридор покажи!»
«А я быков стерегу, ребята. Разные у нас с вами должности. И комната у меня только одна, коридора нет. Входите!»
Полицаи осветили фонарями углы, пошарили под кроватью и, убедившись, что никого нет, ринулись в долину догонять нас…
Мы въехали в село и вскоре приблизились к дому деда Стояна.
— Комита[2], ты жив? — крикнул Тома.
На пороге появился наш богатырь, приодевшийся — в новой рубашке и новой меховой шапке.
— Значит, не забыли меня. С утра говорю детям: оденусь по-людски и остужу ракию, все кто-нибудь да вспомнит. Входите же, что стоите как чужие?!
К нам подошел почтальон. Он подъехал к дому на велосипеде и поставил его у проволочной ограды.
— Дед Стоян, у меня нет времени, чтобы зайти, люди ждут, хотят скорее получить газеты, чтобы почитать о политике, а ты распишись вот здесь, что получил это письмо.
— Письмо? — обрадовался дед. — Давненько я не получал писем! Ребята, — обратился он к нам, — посмотрите, что там за письмо, кто его знает, куда я очки подевал.
Тома вскрыл письмо. Прочел его и, не сказав ни слова, крепко обнял деда Стояна.
— Томик, что пишут и кто пишет? Вот это ты мне и скажи. Что ты меня обнимаешь, как даму?
— Это тебе поздравление с днем рождения. Центральный Комитет нашей партии тебя поздравляет.
— Да ну?! — удивился дед Стоян и с волнением взял письмо. — Действительно. И печать есть! А я и сказал детям, что кое-кто, кого я учил и берег как родного, может меня забыть, но партия — никогда. Она умеет чтить своих сыновей.
На шум из дома вышли люди — то были родные и близкие деда Стояна. Накрытый стол под пологом вьющегося винограда приглашал нас. Мы окружили его. И в тот самый момент, когда Тома поднимал тост, скрипнула калитка. Первым обернулся дед Стоян:
— А вот и внучка моя идет.
Я посмотрел и изумился — это была моя новая секретарша.
РЕЛИКВИЯ
Вот уже две недели, как мы с утра до вечера обходим поля пшеницы. Время жатвы — пора горячая. Десять комбайнов, объезженные сильными, загорелыми мужчинами, идут один за другим. Как в атаку. В конце поля, на небольшом холме, как бы специально созданном самой природой для того, чтобы нам видеть все как на ладони, находится штаб. Тут, в штабе, председатель трудового кооперативного земледельческого хозяйства, главный механик, агроном, два монтера и несколько шоферов со своими машинами, ждущих сигнала комбайнеров. Здесь же секретарь парторганизации Петр Маноев, бай Марин — председатель общинного комитета Отечественного фронта — и я. И два газика для постоянной связи.
Над нами как шатер — несколько развесистых деревьев, чудом оставшихся при обработке земли. Их ветви словно окаменели без ветра и птиц. Летний зной тяжел как свинец.
Бай Марин, давно сменивший свое имя на псевдоним Революция, как всегда, первым разжигает огонь воспоминаний.
— Эх, ребята, давненько, когда только создали ТКЗХ, на этом месте у нас было пшеничное поле в десять гектаров. Оно было самым большим в околии, на нем собиралась молодежь из окрестных сел, чтобы соревноваться в жатве.
— Помним! — перебивает его кто-то из мужчин. — Ты тогда был председателем хозяйства, а Петьо — секретарем комитета комсомола.
— Но какие мы были крепкие тогда!..
— Крепкие, крепкие! По две овцы в день съедали…
Рассказы, шутки продолжались до тех пор, пока солнце не касалось гребня холма и не тонуло за горизонтом. Когда темнело, комбайны собирались на краю поля, и казалось, что в темноте движутся и подскакивают крохотные светлячки.
То утро не было похожим на другие. В воздухе висела тревога. Солнце скрывалось за белыми развесистыми облаками, которые очень медленно ползли по небу. Ветер принес откуда-то запах кориандра. Комбайнеры спешили. Грузовики сновали между комбайнами и гумном. На этом поле зерно уродилось крупное, как кизил.
Молния расколола потемневшее небо, и тут же донеслись раскаты грома. Посыпались крупные, тяжелые капли дождя. Мужчины с тревогой посматривали на облака и в сторону ракетной площадки, но работа продолжалась. И вдруг — залп. Ракеты били беспощадно.
Это были страшные минуты борьбы. Облака рвались на мелкие куски прямо на наших глазах. И вот чистая и прохладная синева разлилась над нами. Петр шумно вздохнул с облегчением. Широкие, нависшие брови его поднялись. Суровые черты лица разгладились. Синие тени под глазами, говорившие о бессоннице, как будто посветлели.
— Не беспокойся, начальство, с нами шутки плохи. Поле имеет надежное ракетное прикрытие, — с чувством собственного достоинства ответил на вздохи Петьо главный механик.
— Теперь все мы можем говорить о прикрытии, а вспомни, что было совсем недавно, — поддел его Революция.
Мужчины быстро забыли о тревоге и снова вернулись к воспоминаниям. А мы трое — Петьо, Революция и я — поняли друг друга с одного взгляда и сели в газик. Мы не прощались: ведь еще не раз придется сегодня нам побывать на этой «огневой позиции».
— Куда? — спросил шофер.
— В комитет, — ответил Петьо, взглянув на часы.
Полдень давно миновал.
— Мы, кажется, увлеклись, Петьо, уморили голодом гостя. Вы там, наверху, — обратился Революция ко мне, — по часам едите. В селе все не так.
Он говорил много и этим восполнял молчание Петьо.
— А я и сам из села, — улыбнулся я.
— Знаешь, не хочу тебя обижать, но только тот, кто в селе родился, а живет в городе, все-таки капризнее селян.
Под непрерывное урчание мотора машины начался разговор. Философским рассуждениям бай Марина не было конца. Он вспомнил прошлое, вспомнил те голодные годы, когда, будучи инструктором околийского комитета, однажды в командировке три недели питался только печеньем. Петьо слушал нас молча. Эти беды ему, как инструктору комсомола в прошлом, были хорошо знакомы, но он не любил рассказывать. Еще с первой нашей встречи у меня создалось впечатление, что Петр знает дело не с парадной стороны, а его сущность. Он не любил, когда называли степени и звания, терпеть не мог восхвалений. А вот подбирать факты и анализировать явления он умел. Из цепи задач всегда четко выделял главное звено. Конкретно напоминал об обязанностях и жестко спрашивал с людей.
Газик остановился. Мы оказались на площади.
— Бай Марин, идите в комитет, я скоро вернусь, — распорядился Петьо.
Я с любопытством оглядел площадь. Белые двухэтажные дома словно улыбались нам.
— Проходите, пожалуйста, — пригласил меня бай Марин.
Мы поднялись по деревянным ступеням, узким и скрипучим.
— В таком доме только банк размещать. Ни один вор не решится ограбить его, — рассмеялся бай Марин. — Все мы разместились в этом доме: и партия, и Отечественный фронт, и комсомол.
Комната секретаря парткома была небольшой. В ней стояли письменный стол, стол, застеленный красным потертым плюшем, диван и два кресла.
— Говорю Петьо, давай разберем стену, побольше кабинет тебе сделаем. Да и ковер постелем, чтобы было похоже на самое главное место в общине. А он на меня сердится: «Среди людей, а не в комфортабельных кабинетах наше место, Революция!» Вот такой он — утром с рассвета, вечером в любое время все среди людей, по объектам. И всегда знает, где и что произошло. Никто не может его обмануть. Скажу откровенно, очень нелегко с ним работать.
Бай Марин опустился в кресло. Годы и усталость давали себя знать. Ведь ему уже было за шестьдесят. Я остался стоять. Взгляд мой остановился на портрете, что висел на стене. Это был выгоревший, видавший виды портрет Ленина, но в дорогой раме.
— Что ковер не желает вешать, это его дело. Но разве получше портрет нельзя было найти?.. — спросил я.
Бай Марин встал. Улыбка сошла с его старческого лица.
— Погоди! Не спеши с оценкой. С этим портретом связана целая история.
Я вопросительно посмотрел на него. А он мягким голосом начал рассказывать:
— Петьо было десять лет, когда его отца арестовали. Они были на поле. Петьо пас коров, а отец его пахал. Полицейские приказали ему распрячь лошадь, привязать ее к груше, а самому идти с ними. Двинулись прямо по стерне, а шагах в двадцати от них бежал и плакал маленький Петьо. Меня в тот же день взяли с виноградника. Собрали всех нас в общине. Связали цепью — рука одного к руке другого — и повели к околийскому управлению. Оттуда нас хотели срочно отправить. А место было такое безлюдное и глухое, как будто все затаились от страха. Вышли мы из села, и отец Петьо обратился к полицейскому: «Начальник, разреши сказать ребенку, что делать с коровами, потому что его мать беременна и не сможет их загнать». Он оглядел нас и обернулся назад. Петьо все так же шел за нами и плакал. Мы как раз проходили мимо их поля. Две коровы и лошадь, привязанные к груше, стояли смирно и жевали. И крестьянская душа полицейского смягчилась. «Смотри не вздумай какие-нибудь коммунарские дела ему поручать, а то и на меня беду накличешь», — сказал он…
Тут бай Марин замолчал. Он как будто всматривался в лицо своего друга. Время было бессильно зачеркнуть даже самые малые подробности, заглушить слова этой встречи.
— Отец позвал сына, — снова заговорил он, — но мальчик стоял, как окаменевший, и не двигался. «Иди ко мне, сын, иди. Эти дяденьки разрешают», — сказал его отец, но, когда он сделал попытку показать на полицейских, цепи, которыми мы были скованы, звякнули, и Петьо всхлипнул громче.
Старший полицейский понял, что парнишка боится, и тоже позвал его: «Иди сюда, мальчик! Твой отец хочет тебе что-то поручить в отношении скота», — и отошел в сторону.
Петьо приближался к нам, опасливо озираясь. Глаза у него сверкали, как у зверька. В одной руке он сжимал камень. Когда мы увидели его, готового отомстить за нас, мука обожгла сердце. «Петьо, — начал его отец, — ты вернись. Иди домой и скажи маме, что нас с Революцией повели в околийское управление, а с дядей потом пригоните коров домой. — Он огляделся украдкой и, убедившись, что полицейские его не слышат, добавил: — Когда пройдет неделя-другая и я не вернусь, сходи в луга к трем огромным дубам. В среднем из них я оставил кое-что дорогое, завернутое в материнский фартук. Возьми это, сын! Там мое наследство… И береги его…»
Старший полицейский прикрикнул: «Давайте, хватит там!» «Мы готовы», — ответил отец, поцеловал онемевшего Петьо, и мы двинулись. Он остался стоять посреди дороги и смотрел нам вслед, пока мы не завернули за холм…
Революция замолчал. Молчал и я, глядя на портрет. В это время открылась дверь, вошли Петьо и шофер. Они несли брынзу, помидоры, огурцы и два мягких каравая. Увидев, что мы стоим, Петьо обратился к бай Марину:
— Что же ты не усадил гостя?
Революция не ответил. Две слезы покатились по его морщинистому лицу.
Я почувствовал себя неловко и ответил:
— Мы так… о портрете.
— Это наша реликвия…
ЗЕРНА ГРАНИТА
Село тонуло в летней жаре. Замерли в дреме дома. Протяжно ворковали горлицы. Мы с Дило шли по оглохшей улице. Он вел меня дорогами своего детства.
— Здесь был наш стадион. Ворота мы обозначали кучками песка. У нас было два вида мячей — из козьей шерсти и из заплаток. Заплаточным мы играли меньше, потому что тогда и на заплатки тряпок не хватало.
Я улыбнулся. И мне вспомнились заплаточные мячи моего детства. Приятное и безвозвратное воспоминание.
С годами у человека накапливаются новые впечатления. Как сейчас, вижу Дило инструктором комсомола, шагающего от дома к дому и записывающего молодежь в строительные отряды. А вечером — собрание. Зал заполнен до отказа. Кто-то сидит прямо на ступеньках, многие просто стоят…
— Помнишь, как ты выступал, агитировал вступать в отряд? — спросил я его. — Какую речь ты тогда произнес!
— Разве она была единственной, чтобы ее помнить?
— Но я-то запомнил. Особенно вот эти твои слова: «Пусть такой молодежи, которая нам не помогает, не будет среди нас!»
— Что думали, то и говорили. Важно было, что молодежь поняла, что от нее требуется, и выполняла.
— Годы молодые, — вздохнул я.
— Самые прекрасные, — не без грусти ответил Дило.
Мы остановились на заросшей травой поляне.
Внизу клокотала небольшая речка. Вербы низко склонили ветви над водой. Дило снял пиджак, бросил его на траву и спустился к реке. Я остался наверху и смотрел на него. Умные, внимательные глаза и юношеская нетерпеливость — вот что осталось в нем от прежних лет. Волосы поседели, черты лица изменились.
— Нет реки прекраснее нашей, — сказал он, выйдя из воды и поднявшись ко мне.
— Это так, — согласился я.
— Знаешь, мне страшно хочется, перед тем как тронуться в путь, все увидеть, все прочувствовать вновь. Поэтому я и привел тебя сюда. Здесь был наш дом, — показал он на фруктовый сад. — Его давно нет. Теперь мы живем в доме дяди Петко. После того как расстреляли отца, дядя остался для нас самым близким человеком. Кусок хлеба делили с его детьми…
Мы шли по улице к дому дяди Петко. Дом стоял среди буйно разросшейся зелени, окруженный старым деревянным плетнем.
— Странный старик дядя Петко, — продолжал Дило. — Чудак. Не признает проволочных оград. «Дом привык к этой ограде, сроднился с ней», — отвечает он мне всякий раз, когда я говорю, что пора сменить ограду.
Мы дошли до калитки. Дило толкнул ее, и медный колокольчик забил тревогу.
— Это тоже его выдумка.
Прохлада и чистота встретили нас. Заросшая травой мощеная дорожка повела нас под арку, оплетенную виноградными лозами.
— Кто там? — послышался голос из внутреннего дворика.
— Свои, свои, — ответил Дило.
— Коли ты свой, так иди сюда, — пригласил старик. — Тяжело мне вставать.
Он сидел на пне возле колоды для колки дров и заострял колья. Медленно поднимался топор и резко опускался. Шерстяная безрукавка покрывала широкие плечи старика, а голова была замотана каемчатым полотенцем. Когда мы приблизились, он опустил топор. Небольшие, пытливые глаза, прикрытые лохматыми седыми бровями, глянули на нас. Старик не скрывал своего удивления.
— Ты ли это, Дило? Вчера вечером в парикмахерской говорили, что ты уехал в Европу. Слышали, послом тебя назначили.
— Я не посол, но буду работать в посольстве. Могу ли я уехать, не повидав тебя?
Улыбка пробежала по лицу старика.
— Вы, молодые, все можете. Младен целый месяц не приезжал. Забыл дорогу в село… Что же вы стоите? Садитесь, садитесь! — заволновался он. И ладонью, широкой и потрескавшейся, как засохшая земля, протер соседний пень. — Не испачкайте новые костюмы! А теперь садитесь. Стулья есть, да они в доме.
— Не нужно, дядя. Мы ведь только так, повидаться, и дальше пойдем.
— Знаю, что время у вас расписано. Но ведь жизнь состоит не только из слов «добрый день» да «прощай». Если хотите, то в дом можем войти. Как, Дило?
Мы отказались. И, чтобы он больше не настаивал, присели на ошкуренное дерево. Отказались мы и от угощения, ведь мы шоферы, но он не оставил нас в покое:
— Так ведь вы ведете машину не разом. Стало быть, одному из вас и можно сделать глоток.
Он встал и пошел на кухню, пристроенную к дому.
— Проволочную ограду не признает, но от телевизора не отказывается, — сказал я, заметив возле кровати телевизор.
— Пока не прослушает новости, не ложится спать. Однако комментировать политические вопросы не любит.
Старик вернулся. Немного сгорбленный, с жилистыми руками, покрытыми набухшими синими венами… Шаги у него медленные, крупные, спокойные. Он сел на свое место и вынул из кармана бутылочную тыкву с ракией. Налил немного из нее в стаканчик, старательно ополоснул и только тогда уже налил доверху.
— Небольшая дезинфекция, — засмеялся он.
Он налил и себе, а Дило, которому предстояло вести машину, подал бутылку.
— Ну, на здоровье, ребята. Чтоб вы у меня были живы и здоровы, чтоб нам, старикам, быть на посту, чтоб дом этот всегда был открыт для вас. — И опрокинул ракию в рот. — Эх, чуть было не забыл! — И, запустив руку в другой карман, он вынул два огурчика. — Закуска. — И протянул нам по одному.
Было в поведении этого старика нечто такое, что согревало и одновременно внушало уважение. Нежность его была грубоватой, но искренней. Может, уважение шло от мудрости?
— Дядя, мы должны двигаться. Истекло наше время, — засмеялся Дило.
— Ваше право, ребята. Ты трогаешься в дальнюю дорогу. И надолго ли?
— На несколько лет, — ответил Дило.
— Какую вещь на память тебе дать? — спросил вслух дядя Петко. — Когда-то тем, кто уходил в дальний путь, давали хлеба. Теперь он у вас есть. Другие давали золотые монеты, но вам это не нужно.
— Подожди, дядя. Хватит об этом. Я зашел, чтобы увидеться и попрощаться. Глубоко в сердце я храню твою доброту. Этого мне достаточно.
— Брось ты эти сказки! Мы не женщины, чтобы хвалить друг друга… Подождите меня еще немного.
Он опять пошел в кухню. Что-то загремело там.
— Какой человек! — прошептал мне Дило. — Каменотес по профессии. Всю жизнь с камнями боролся. И никогда ни на что не жаловался. Когда обрабатывает камень, разговаривает с ним, как с живым человеком.
Дядя Петко появился с узелком в руке. Подошел и опять сел на пень. Медленно снял каемчатое полотенце, повязанное на голове, как у жнецов, и положил его на землю. Развязал узелок, осторожно, как будто там лежали золотые монеты, раскрыл его.
— Здесь зерна гранита от памятника твоему отцу, — пояснил он.
Зачерпнув горсть этих зерен, он положил их на расстеленное полотенце и завязал.
— Возьми их, сын, — с теплотой в голосе сказал дядя Петко. — И когда беда посетит тебя там, за границей, сожми в руке эти зерна, сожми до боли. Эта боль наша, в ней частица твоего отца. Эта боль одолеет любую беду.
Старик не выдержал. Повернулся к нам спиной. Непривычная тишина зазвенела у нас в ушах.
КОЛХОЗНИК
Во время коллективизации я был направлен в родное село. И начал я со своего дома. Как только мы расселись за большим низким обеденным столом, я завел разговор о кооперативе. Говорил я долго и все время поглядывал то на отца, то на деда. Отец не сводил с меня глаз. А дед покачивал головой и бесконечно долго набивал свою трубку. К налитому ему супу он так и не прикоснулся. А когда старая кошка по привычке начала ластиться к его ногам, дед сердито ее прогнал.
В этот вечер никто ничего мне не сказал. Только мама молчком все приглашала меня поесть.
На третий вечер я обратился к отцу:
— Завтра на собрании создадим кооператив. Ты должен быть первым.
Отец хотел что-то сказать, но только грустно вздохнул. Посмотрел на мать, потом на деда.
— Мы запишемся в кооператив, поддержим тебя, — пообещала мама.
— Если таким позором голод изгоняется, то войдем… — сказал дед.
— Дед, не беспокойся, мы не дадим тебе голодать. Эту прекрасную землю заселим народом. Тракторами ее вспашем, водой из Панеги напоим. Изобилие будет невиданное, дед! — гремел я.
— Подожди, подожди, мой мальчик! Слышали мы это и от других. А только словами амбар не наполнишь.
— Надо послушать парня. Ведь его для того и учили столько лет, чтобы умом с нами поделился, — опять начала мама.
— Не учили мы его поля дарить, но… — заикнулся было дед.
— Ладно, если пришел наш черед, то давайте, — махнул рукой отец и вышел во двор.
Список начался с его фамилии. Но сколько его ни искали, чтобы он расписался, отец как сквозь землю провалился.
— Слушай, куда он подевался? — беспокоилась мама. Я обошел весь двор и нашел его в хлеву. Стоя у яслей, он гладил волов, а глаза у него были припухшие…
Начало было положено. После собрания люди собирались толпами, комментировали происшедшее. И как только отец появился на площади, один из селян съязвил:
— Вот и колхозник пришел!
Отец смолчал.
— Эй, ты, никак, предводителем голытьбы стал? — пошутил кто-то.
— И свое поле у Панеги отдаешь? Там же золото течет!
Испортилось настроение у отца. Пошел в корчму, опрокинул одну, вторую, третью рюмку, но односельчане и здесь не оставили его в покое:
— Выпей, выпей, теперь ты колхозник, едва ли захочешь с нами общаться!
А когда сельский пастух спросил отца, обоих ли волов он сдает, отец заплакал. Когда я вошел в корчму, он уже бил кулаком по столу:
— Моему сыну, который загнал меня в ТКЗХ, я…
— Отец, пошли.
— До свидания, колхозник! — послышалось со всех сторон.
Погрустнел человек, начал чахнуть на глазах. Работал, но без желания. Мама держалась молодцом, хотя и переживала. А дед долго не мог успокоиться, все бормотал, что одной подписью мы разорили свое хозяйство.
Прошло лето. Осень выдалась щедрая, и, пока отец переносил мешки в амбар, дед покачивал головой и, как ребенок, рылся руками в крупном зерне.
Частники задыхались от поставок продуктов государству. Заботы согнули их. Начали они вертеться возле порога кооператива.
Другим стал и отец. Однажды вошел он в корчму, оглядел всех и горделиво воскликнул:
— Колхозник угощает!
ОТЕЦ ОТРЯДА
Долго простоял дед Петко перед дверью, пока не прочел толстые и крупные буквы на табличке, которыми было написано имя, но не вошел. Сомневался в чем-то, а людей, у которых можно было бы спросить, поблизости не оказалось. В конце концов дверь соседней комнаты скрипнула, и из нее вышла бледная, лохматая и неуклюжая девушка. Дед Петко остановил ее:
— Извини, ищу здесь Георгия, да не знаю, в какой он комнате.
— Какого Георгия?
— Георгия Петрова.
— Вот его кабинет, — показала девушка.
— А я читаю его имя на табличке, но тут есть и другие буквы, потому и сомневаюсь, может, это кто другой.
Девушка улыбнулась. Этот старик, сморщенный, иссушенный годами, с насмешливыми глазами, показался ей очень интересным. Она подошла и, глядя на табличку, висевшую на двери, сказала:
— Кандидат технических наук, доцент, инженер Георгий Петров.
— Что-то уж очень длинно, девушка, а написано только несколько букв.
— Дедушка, здесь написано сокращенно.
Дед Петко подошел к двери, постучал, повторил еще раз, но ответа не получил.
— Входите, входите! — настаивала девушка. — Там сидит секретарша, она вам скажет, где сейчас товарищ Петров.
В небольшой комнате, куда вошел дед, сидели люди и смиренно ждали. За столом, который украшали несколько различного цвета телефонов, сидела девушка. Она очень походила на ту, которая разговаривала с ним в коридоре, только волосы были другие — цвета соломы. Вздрогнув от скрипа двери, она спросила вошедшего:
— Вы к кому?
— К Гоше.
— Какому Гоше? — спросила она с раздражением.
— Георгию Петрову.
— Он занят, принять вас не может.
— Ты только скажи, что дед Петко его спрашивает.
— Я не могу этого сказать, — ответила секретарша.
Звонили телефоны. Она удостоила вниманием только один из них.
— Конечно, сразу же, — ответила она в трубку и исчезла в кабинете начальника.
Старик подумал, подумал и решил подождать.
В это время в приемную вошел молодой мужчина, многозначительно улыбнулся секретарше, которая появилась из кабинета, и, приблизившись к ней, сказал:
— Восхищен вашей красотой.
— Пожалуйста, без комплиментов, — проворковала она.
— Божество в комплиментах не нуждается… Вот справки для товарища Петрова. — И он показал на папки, которые принес. — Я хочу передать их лично, чтобы выяснить некоторые детали.
Она кивнула ему и улыбнулась, и мужчина скрылся за двойной дверью.
Девушка, выпрямившись за столом, окинула взглядом посетителей:
— Товарищ начальник вас примет… А вам я уже сказала, что не сможет. Вы не записаны на прием, — посмотрела она на деда Петко.
— Если нужно, запиши меня.
— Сейчас нельзя, гражданин. Это делается предварительно.
Вспыхнула обида в душе старого горца, рассердила его эта девчонка, и он не стерпел:
— Какой я гражданин?! Я человек из села. Если я побыл здесь два дня, чтоб увидеть внуков, то не стал же я от этого гражданином! А Георгия я увижу! — ответил он.
— Если у вас плохо со здоровьем, ищите врача, здесь не больница. Я сказала вам, что, раз вы не записаны, товарищ Петров не примет вас. И нет смысла ждать!
— Меня примет! Примет, девушка! — И дед Петко направился к свободному стулу.
Секретарша подняла трубку одного из телефонов и гневно сказала:
— Почему пускаете сюда всяких людей, не спрашивая разрешения?
Эти слова как пощечина обожгли старика. Он поднялся со стула:
— Сам уйду! Но знай, здесь нет «всяких», девушка!
В это время дверь кабинета открылась. Вышел молодой мужчина с папками, улыбнулся секретарше. За ним показался также молодой, приветливый человек.
— Пожалуйста, кто следующий? — И вдруг он заметил старика: — Ба, кого я вижу?! Отец, что ты делаешь здесь?
Покрасневшее от гнева лицо секретарши пожелтело и слилось с цветом ее волос. Едва слышно она спросила:
— Это ваш отец?..
— Это отец всего нашего отряда. И какой отец! — Обняв деда Петко и глядя на него с нескрываемой радостью, Георгий продолжал: — Когда окружили дом, нас было девять человек, помнишь, отец? Ты уложил нас на больших нарах и сверху набросил соломенный матрас. Дети и бабушка Пена легли на нас, а ты пошел открывать разгневанному старшему полицейскому.
— Помню, Георгий, как не помнить, но тогда в доме не было приемного дня и предварительно не записывались.
— И сейчас нет, отец. Прошу!.. Пожалуйста, — обратился он к секретарше, — принеси нам по рюмке коньяка!
— Подожди, Гоша! Не люблю я эти современные напитки. Если можно, пусть девушка стакан даст! — И дед Петко достал из кармана бутылку с троянской сливовой водкой. — Если же нет, тогда выпьем по-нашенски.
— Давай так, по-нашенски! — согласился Георгий.
МЕЖА
Дорога, извиваясь, шла то слева, то справа от реки. Машину, привыкшую к ровным асфальтовым покрытиям, стало заносить. Шофер украдкой бросал на нас взгляды, в которых читался вопрос: «Когда же этому конец?»
— Здесь живут братья моего отца, — проговорил Милчо, мой спутник. — А наш дом находится еще выше.
Шофер поспешил свернуть вправо, под ветви огромного орехового дерева. Мы еще не вылезли из машины, когда к нам подошел крестьянин, старше среднего возраста. Чистые рубашка и брюки, гладко выбритое лицо… Сухой, жилистый, слегка согнутый в плечах. Глаза небольшие, прищуренные, смотрят весело. Голос — мягкий, напевный, подкупающий.
— Прошу в дом! — пригласил он нас.
Мы прошли через сад, миновали двор и остановились под развесистой грушей. Отец когда-то меня учил: «Когда увидишь, как выглядит хозяин, как прибрал он свой двор, знай, такое у него и все хозяйство». Двор у бай Лазара был чисто прибран. Он показал нам на стулья вокруг стола и спустился в погреб.
— Хороший хозяин! — сказал я.
— Во имя земли согрешить можно, — засмеялся Милчо и, отвечая на мой недоуменный взгляд, начал рассказывать: — Есть у меня еще дядя Пенчо, он самый младший из братьев. В тот день когда мы спустились с Балканских гор, он только успел повидать родителей — и сразу на фронт. А после войны и дня не мог отдохнуть, его сразу вызвали в околийский комитет партии, и он начал работать. И дяде Лазару предлагали работу в околийском народном Совете, но он был категоричен: «Не хочу на службу. У меня есть земля, буду ее обрабатывать, мне этого достаточно».
Катились мирные дни. Водоворот событий и забот захватил их. И братья встречались редко. Один на селе, другой в городе. Третий не вернулся с фронта.
Однако началась коллективизация и в вашем крае. Посланцем околийского комитета был дядя Пенчо. С раннего утра до позднего вечера из дома в дом ходил, беседовал, убеждал. Он всегда-то был маленький и худой, а теперь голод и недосыпание совсем иссушили его. Одна вера придавала ему сил.
Первыми в ТКЗХ записались те, кто раньше отдавал последний кусок хлеба, чтобы кормить бойцов отряда. Потом дошла очередь и до дяди Лазара. Однажды вечером дядя Пенчо пришел к брату, сели они за стол, поговорили о том о сем, и дядя Пенчо, когда понял, что время подошло, повел речь о хозяйстве. Дядя Лазар сразу насторожился. Выслушав Пенчо, он закричал:
— Уходи! Владелец земли я!..
Тетя, которая баюкала детей в другой комнате, выскочила:
— Лазар, что ты делаешь? Брата своего гонишь!
— Не твое дело! — крикнул Лазар и впервые грубо оттолкнул ее. — А ты не смотри на меня как иностранец, — обратился он к своему брату. — Ты знаешь меня! Я хлеб с этой земли тебе носил и твоих товарищей кормил!
Вечерняя тьма окружила обиженного Пенчо. Дверь после него осталась незапертой на засов. В голове у него шумело. «Неужели возможно такое, неужели это он, мой брат?.. Ведь это он мне принес впервые ту небольшую книжку, «Манифест». Ведь это он в ту черную зиму, когда смерть отняла у него первенца, самого любимого, собрал куски хлеба, оставшиеся с похорон, и принес их нам в горы, в наш лагерь. А сейчас… сейчас он прогнал меня…»
В отчаянии он долго бродил по притихшим сельским улицам.
Ссора братьев не осталась в тайне. Слух о ней обошел это село, пополз в соседнее. Противники ТКЗХ нашли повод похвалить дядю Лазара, стали оказывать ему мелкие услуги и внушать ему, что в их селе нельзя создать земледельческое хозяйство. Подбрасывали ему и грязные идеи. Внушали, что он, как настоящий хозяин, должен выбить ненужные мысли из голов молокососов, а уж если они не поймут, можно и…
Тетя слушала их злые слова и дрожала. Тихо стало в доме, только время от времени ругательства как гвозди вбивались в чистую душу женщины. Даже дети перестали озорничать. Тяжелым стал взгляд дяди. Трудно ей было все это выдержать. Нашла она повод, чтобы отправиться в город, и явилась прямо в комитет.
— Братец, не ходи в село! — заплакала она еще с порога. — Опозоримся. Все говорят, что только ты один настаиваешь на ТКЗХ. Да и к Лазару каждый вечер ходят… Прошу тебя, братец!
Стояла она, стройная, с широко открытыми глазами, и просила своего деверя не ходить к ним. А была она сильной женщиной. Бывало, за ночь дважды замешивала тесто и выпекала хлеб для него и его товарищей.
— Иди, сестра, и не беспокойся. Все наладится. А это отнеси детям. — Он подал ей две книги и пакет с конфетами.
Не прошло и недели, как дядя Пенчо снова прибыл в село. Наступал решительный момент — близилось собрание. Село опустело рано — все вышли в поле. Несколько человек вертелись возле клуба-читальни, ходили вокруг нового трактора, смотрели на него как на диковинного зверя. Тракторист завел его и важно поглядывал на собравшихся.
— Пенчо, если так хорош твой ТКЗХ, почему брата своего не заставишь вступить, а берешься нас агитировать? — спросил его один из крестьян.
Спазмы сжали горло, и дядя ничего не смог ответить. Он схватил ружье и подбежал к трактористу:
— Поехали!
Солнце припекало словно перед дождем. Дядя Лазар жал на поле, а его жена кормила маленького под грушей. Трактор съехал с утоптанной проселочной дороги и остановился у самой межи. Жена Лазара испуганно прижала ребенка к себе, и он заплакал.
Любопытные крестьяне оставили работу и приблизились к трактору.
— Добрый день, братец, — приветствовал Лазара дядя Пенчо. — Отдохни немного! А твой младенец, которого ты назвал моим именем, знатным певцом станет с таким голосом! — Дядя Пенчо подошел к груше, поднял баклагу, попил и опять обратился к своему брату: — Помнишь, брат, что эта груша и нас воспитала?
Только сейчас Лазар поднял голову:
— Ты зачем приехал? Если ты без дел, то я не могу зря время терять. Земля меня ждет.
— По делам прибыл.
— Говори!
Серп блеснул на солнце. По уставшим рукам Лазара стекали капли пота. Повязанное на голову полотенце съехало набок.
Пенчо взял с трактора ружье и двинулся к своему брату.
— Братец, ты что надумал? — воскликнула жена Лазара и вскочила, едва не уронив ребенка на сухую землю.
— Такая, что ли, у вас агитация? — подал голос кто-то из толпы. — На брата своего руку поднимает, тоже мне коммунист!
Братья стояли друг против друга.
— Возьми ружье, Лазар! Я затем и пришел, чтобы отдать его тебе, хотя знаю, что меня многие выслеживают и черные планы строят. Не понимают, что жизнь требует кооперации земли.
Ружье, одноглазое и страшное, стояло между ними.
— Возьми его! Ты меня защищал когда-то, когда мы пасли скот. Ты меня кормил в Балканских горах, делясь со мной и хлебом твоих детей. Только ты можешь меня защитить, если кто-нибудь сейчас…
— Что ты на него смотришь, Лазар? — воскликнули в толпе. — Он пришел твою землю топтать!
— Если веришь им, можешь и в меня… Только тебе разрешаю меня судить, если думаешь, что я…
Серп выпал из мускулистых рук и воткнулся в землю.
Это был миг, когда Лазар увидел всю свою жизнь. Перед ним стоял его брат — тот маленький мальчишка, который, как привязанный, везде ходил за ним. Те, кто постарше, звали его за это шавкой. А однажды зимой Пенчо тяжело заболел. Глаза у него еле открывались, он весь горел. Соседские бабки одна за другой ворожили над ним, а он таял, как восковая свеча. Мать выплакала все слезы, она только всхлипывала, и время от времени страшные вопли раздирали ей грудь, нагнетая страх в доме.
Лазар стоял ошеломленный возле растерявшихся бабок. И вдруг решился, схватил ягненка с черными пятнами возле глаз и бегом преодолел два хребта, чтобы как можно быстрее добраться до врача. «Прошу тебя, пойдем к нам, мой брат умирает! Как только оягнится другая овца, принесу тебе и второго ягненка… Прошу тебя, пойдем, умирает брат мой!»
…Слезы застилали ему глаза. Перед ним стоял его худенький брат, а напротив — толпа.
Ружье упало рядом с серпом.
— Сестра, возьми ребенка. Не мешай трактору…
…Из погреба вылез бай Лазар:
— Ребята, извините, что задержался, пока найдешь шланг, пока нальешь… Да и годы берут свое, не та уже быстрота…
— Ничего, дядя. Мы тут немного перемыли тебе косточки.
— О чем это вы?
— О том, как ты стал членом ТКЗХ.
— Зачем вспоминать прошлые дела? Ну, на здоровье, ребята!
ЗАСЕДАНИЕ БЕЗ РЕШЕНИЯ
Небольшое село словно зеркало. Кто и что делает, не остается скрытым.
Недавно позвонил мне по телефону секретарь общинного комитета партии одного такого села, которое я курирую как инструктор.
— Очень вас прошу непременно поприсутствовать на завтрашнем заседании у нас, — пригласил он.
— Я был у вас только неделю назад. И другие общины есть, не только вы одни, — попробовал я отказать ему.
— Вопрос, который будет обсуждаться, особенный, ваша помощь крайне необходима! — И он поспешил сказать, что меня будут ждать и без меня не начнут заседания.
Я выехал на следующий день. Столько лет я все по одним и тем же дорогам езжу, что уже и пассажиры, и шоферы, и кондукторы мне знакомы. В этот раз кондуктором был Марин Тревога. Кто ему придумал это прозвище, не знаю, но оно очень точное, а самое важное — он сам уже привык к нему и воспринимает его как фамилию.
— Тревога, когда мы будем в селе? — спросил русоволосый юноша, похожий на школьника или на солдата.
— Кондуктор знает, когда выезжать, — ответил Тревога, — а когда прибудем на место, того и шофер не знает. А сейчас предъявляйте билеты, чтобы не обманывать государство.
— Уж не ты ли государство? — подшутил над ним остриженный юноша. — Если мы кого и обманываем, так это тебя.
— Все мы — государство: и я, и ты, и бабушка Цена, — авторитетно проговорил Марин.
— Что ты говоришь, сынок? — не поняв, к чему ее вспомнили, спросила бабушка Цепа. И сразу же, как бы оправдываясь, пояснила: — К детям ездила. То все времени не хватает, то как обожжет вот здесь что-то, — показала она на сердце, — и не можешь шевельнуться. Как стукнет вам столько же, тогда поймете меня.
Завязался живой разговор. А Марин Тревога, стоя посередине, обращался то к одному, то к другому. Автобус еле двигался. Перед ним ехал грузовик с прицепом, груженный бревнами. Прицеп заносило то влево, то вправо. Поворотов на дороге было так много, что за час езды человека просто укачивало.
Время летело незаметно. Час, на который было назначено заседание, приближался. И я, не имея другого занятия, начал представлять себе, как собираются один за другим участники заседания и занимают свои обычные места. Первым появляется, конечно, дед Никола. Ему скоро восемьдесят, но он еще держится бодро. Дед Никола с 1939 года — член общинного комитета партии. Он медленно открывает дверь, и она протяжно скрипит.
— Немножко маслица ей нужно, учитель, — говорит он секретарю общинного комитета партии, который перед этим три года работал директором школы, и садится на свое место у печки.
Секретарь не обращает внимания на замечание старика и продолжает рыться в бумагах, наваленных на столе.
Дед Никола набивает трубку табаком, ударяет несколько раз кремнем, пока трут не затлеет, и, когда вся операция завершается, спрашивает:
— Что, опять будем заседать?
— Такая у нас работа, дед Никола. Ведь мы комитет, а потому все вопросы обсуждаем коллективно.
— Вот это как раз не наша работа, хотя от заседаний и совещаний не умирают. В свое время мы все на ходу обговаривали. Тогда у нас тоже был комитет, и прямо тебе скажу, учитель, бывало, и посерьезнее дела решали.
Дверь снова скрипит. Показывается тетя Цона. Ее знают не только в районе, но и в округе. С тех пор как создано кооперативное хозяйство, она бессменная звеньевая. Гибкая, загорелая и подвижная, она трудолюбива и словоохотлива.
— Кольо, — обращается она к деду Николе, — ты опять надымил в комнате своим табаком. Подождал бы немного. И постановление вышло не курить в помещении. Не знаю, как тебя терпят дома?!
— Не кори меня, Цона. Ведь и твой муж когда-то курил. А дома меня терпят, потому что моя пенсия — хороший вентилятор, — спокойно отвечает дед Никола.
Тетя Цона поправляет сдвинувшуюся к краю плюшевую скатерть на столе и сразу идет к горшкам с цветами, расставленным на подоконнике.
— Опять герань не полита, учитель. Не хотите понять, что цветку, как человеку, забота нужна, — говорит она и берет графин с водой с этажерки.
Наконец входят секретарь общинного комитета партии, председатель Совета и секретарь комитета комсомола. Вместо приветствия председатель Совета спрашивает деда Николу:
— Комита, знаешь, какая новейшая клятва в селе?
Старик, не вынимая трубки изо рта, отвечает ему:
— Какая бы ни была, а все равно интеллигентская, потому что у вас больше свободного времени на то, чтобы выдумывать разные глупости.
— Хочешь, скажу тебе? — снова спрашивает председатель.
— Скажи, скажи, — настаивает секретарь комитета комсомола, не скрывая любопытства.
— Клятва относится только к нашему селу. «Будь трубкой Николы Райкова, ботинками Ивана Недкова, ослом Недко Маринова и легковой автомашиной Ивана Чикова».
— Хорошо придумано! — подхватывает директор школы. — Действительно, Иван Недков так волочит ноги, что ботинки, будь они хоть из стали, все равно сотрутся.
— И о легковой автомашине верно. Этот парень ее водит как на состязаниях. Всех кур на улице передавил, — дополняет секретарь общинного комитета партии.
— Вернее всего о Кольо. Знаете ли вы, что он, даже когда спит, не вынимает трубки изо рта? — смеется тетя Цона. — Так, Кольо?
— Так ведь только трубку мне и осталось жевать. Если и ее заброшу… Бросьте эти россказни, враки это. Начнем, пожалуй, потому что ночь близится, солнце уже и так, смотрите, свернуло за холм, а в доме некому скотину загнать…
Наконец я прибыл на место. Все расселись, и заседание началось.
— Позвал я вас, товарищи, — заговорил секретарь общинного комитета партии, — чтобы обсудить поступившую записку с сигналом от председателя Совета относительно поведения Димитра, нового директора промкомбината. Прочесть вам ее или…
— Что читать! Пусть председатель расскажет, что случилось.
Председатель Совета, крупный, краснощекий мужчина, лет за пятьдесят, встал, и на лице его отразилась боль.
— Трудно говорить о таких вещах, — начал он. — Более того, они не всегда могут быть и доказаны. Да и не в доказательстве дело, а в пересудах, в сплетнях.
— Расскажи нам, что произошло. Димитр наш человек, и мы хорошо его знаем, — прервала председателя тетя Цона.
— Именно потому, что наш, решил я просигнализировать в комитет. Ведь он сейчас живет один, жена его не то учится, не то работает в городе, мы ее не видим, вот он и завел любовницу. В прошлую субботу в сумерках к нему зашла молодая, красивая женщина. Плотного телосложения, с длинными волосами. Этот поздний визит произвел впечатление на сторожа, и он за ней проследил. Она вошла, а Димитр, видно, ждал ее, они так и впились друг в друга. Все видел сторож, ведь канцелярия Димитра находится низко, да и шторы не были задернуты.
— И кто же это был? — спросила тетя Цона.
— Сторож не знает молодых женщин в селе, но думает, что это акушерка. Ведь и она сейчас одна, ее муж работает в Ливии.
Все молчали. Дневной жар с улицы придавил всех сидящих в комнате. По лицам мужчин струился пот.
— Это невозможно, — сказал дед Никола.
— Что невозможно? Что он целовал женщину в кабинете? Все мы мужчины, и… А разве ты, дед Никола, не целовал?
Дед Никола вынул трубку изо рта, потянул рукой рыжий ус и немного рассерженно ответил:
— Целовал. В сентябре двадцать третьего года вон там, на площади. Все село меня видело. Вы, молодые, не знаете, но Цона может вспомнить, как ту девушку убили на улице. Из раны ее еще текла кровь. Я взял девушку на руки, перенес в сторону, к ограде дома, и перед тем, как положить на землю, поцеловал.
Все словно окаменели. Мы хорошо знали об этом прощании деда Николы с его невестой. Поэтому неловкость наша переросла в стыд.
— Не наказали меня, — продолжал дед Никола. — И записку, как вы называете это, никто не написал. Но позавчера был я в городе. Зашел в суд к нашему Лазару, ведь он — окружной судья, а мне надо было увидеться с ним. Смотрю, передо мной по коридору идут двое детей — постарше девочка, помладше мальчик. Перед каждой дверью останавливаются и читают, что там написано. Спрашиваю их: «Кого ищете?» А они: «Самого главного, дедушка». «Зачем он вам понадобился?» — любопытствую я. — «Хотим его попросить, — говорит девочка, и голосок ее дрожит от волнения и боли, — не разводить папу с мамой. Мы их обоих любим».
— Вот поэтому и ставлю вопрос! — прервал деда Николу председатель.
— Вот поэтому я тебе говорю, что не может такого быть! Потому что я хорошо знаю Димитра! Как сына, его знаю!
— Напрасно вы так уверены. Нынешняя молодежь не такая, как мы. Сын Пены оставил жену с двумя детьми, и только его и видели с певицей…
— Не равняй их, Цона!
— Вот это тот вопрос, который нужно обсудить и по которому мы должны принять решение, — сказал секретарь общинного комитета партии. — Димитр не только директор нашего единственного предприятия, но он и коммунист. Мы пригласили его из города из-за накопленного им опыта, хотели, чтобы он помог нам… Кто хочет выступить?
Мы молчали. Мысленно я спросил себя, возможно ли это. Димитр стоял перед моими глазами — молодой, красивый, атлетически сложенный. Природа не поскупилась и одарила его и красивой внешностью, и умом. Мы знали друг друга еще с комсомольского возраста. Тогда девушки засматривались на него. Потом, так получилось, мы с ним работали в одной комнате. Когда он видел, что я грущу, то хватал меня за плечи и запевал русский романс. Веселая натура. Кто его не знал, мог сказать, что он беззаботно живет среди песен и танцев. А в сущности это было не так. Бывали и у него неприятности, неудачи, но он всегда находил выход из трудного положения. И никогда не отказывал в помощи другим. Однажды зимой снегу навалило по колено. И тут мне сообщили, что у меня родился сын, а я, вместо того чтобы радоваться, растерялся. «Что это ты, вроде бы как испуган? — спросил меня Димитр. — У тебя теперь есть сын, это дело нешуточное». «Я рад, да дома нет ни щепки, чтобы обогреть комнату. Дороги занесены снегом, откуда можно привезти?» — ответил я. Он по-братски обнял меня: «Почему же ты раньше не сказал? У меня есть дрова на экспорт! Ведь я же горец с Балкан!.. Пойдем, ребята, поможем нашему милому отцу!»
Потом я узнал, что в тот день он отдал свои последние дрова, а сам, чтобы не замерзнуть, перебрался жить в комитет.
Помню и его свадьбу. Он настоял, чтобы сыграли ее в селе, где жила его мать. На свадьбу собралось все село. А улица оказалась тесной, чтобы вместить легковые автомашины из округа. К вечеру мы отправились за село на поляну среди кривых верб. Там, у реки, находилась могила его отца. В первые же после победы революции дни боевые товарищи и признательные односельчане установили на могиле небольшую, сложенную из камней пирамиду со звездой наверху. Димитр и Наталия, так звали его жену, положили большой свадебный букет к подножию пирамиды. Мать Димитра не выдержала и всхлипнула: «Взгляни на них, муж! Посмотри, какие они красивые! Встань и посмотри на них!»
Я не забуду этой свадьбы. И Наталию не забуду, высокую и статную, с сияющими глазами. Волосы у нее, как у русалки, длинные, блестящие, покрывали плечи. Наталия приблизилась к пирамиде, нежно погладила звезду, как будто ласкала живого человека, потом обняла свою свекровь. Снова заиграла музыка, люди, которые только что стояли опустив голову, стали танцевать хоро около верб. Гости не расходились допоздна.
С тех пор пролетели годы. Многое изменилось в нашей жизни. Димитр окончил высшую партийную школу, у него родились дети. По поручению окружного комитета партии он вернулся в село для работы на промкомбинате. И вот сейчас — такое обвинение…
Секретарь общинного комитета партии несколько раз приглашал желающих высказаться. Но все молчали. Тогда он обратился и ко мне:
— Что делать?
— С Димитром беседовали?
— Нет, — ответил секретарь. — Я решил, что сначала мы должны все обсудить сами, А его вызовем потом.
— Нет, пусть сейчас же придет на заседание и расскажет, что случилось, — предложил председатель Совета.
— Да, надо пригласить! — подхватили другие…
Димитр совсем не изменился. Только глаза его стали глубже и выглядели уставшими. Он учтиво поприветствовал всех и остановился у двери.
— Проходи, проходи, — пригласил его секретарь. — Ты у нас сегодня в центре внимания.
— Не беспокойтесь. План выполним. Люди у нас золотые.
— А женщины, как наши женщины? — спросил председатель Совета.
— И они тоже. Ведь вместе работаем, чтобы выполнить этот тяжелый план. Я сам думал зайти, но хорошо, что вызвали меня. У меня есть несколько предложений, которые можно решить только с вашей помощью.
— Митко, верно ли, что несколько дней назад ты в своей канцелярии того… с женщинами… Скажи правду! — прервал его дед Никола.
— Какие женщины? Зачем меня вообще вызвали?
— Ну-ка послушай, что нам сообщили! — И секретарь общинного комитета партии зачитал записку. — Сказано все точно и ясно.
Тетя Цона не сдержала своего гнева:
— Если бы мать твоя услышала это, из могилы бы встала и живым тебя закопала! Ты позоришь свою семью. За юбками волочишься… Голосую, товарищи, за самое тяжелое наказание.
— В записке не все сказано. Сторож, наверное, не видел или автор пропустил, что я не только целовал эту красивую женщину с волосами, как у русалки, но и взял ее на руки и нес до ступенек! — Димитр замолчал. Что-то застыло в нем, только мускулы на скулах играли.
— Как понимать это дополнение?.. — вскинул брови председатель Совета.
— Как хотите, так и понимайте, товарищ председатель. Но вы действительно должны меня наказать. И самым жестоким образом, как предлагает тетя Цона. Но не за поцелуй, а за то, что в тот день моя жена Наталия защитила диссертацию на звание кандидата наук, а я не смог присутствовать на защите, потому что вместе со специалистами требовалось провести испытание, последнее предпусковое. И я ее целовал, и на руках носил, и даже выпил на Стояновской мельнице. От радости выпил. Вот что произошло в тот субботний день, товарищ председатель.
— Есть ли другие вопросы на повестке дня? — спросил дед Никола.
— Нет, нет, товарищи!
Заседание закончилось без принятия какого бы то ни было решения. Первым поднялся дед Никола. Тетя Цона вышла с Димитром и по-матерински поцеловала его. Улыбка опять засияла у него на лице.
РАСХОЖДЕНИЕ
В кабинете директора уютно. Все на своем месте, все оборудовано рукой специалиста: удобная современная мебель, деревянная обшивка. Телефоны, которые еще недавно загромождали большой стол, заменены на аппарат, в котором, как светлячки, мигают небольшие кружки.
В этом солнечном и приветливом кабинете и сам директор как по заказу — рослый, стройный, улыбающийся…
Мы беседовали с ним уже целый час.
— Сила человечества в экономике, — авторитетно закончил директор и, довольный тем, что ошеломил меня точностью и масштабностью руководителя, спросил: — По чашке кофе выпьем?
Не успел я ответить, как обитая дверь бесшумно, словно в сказке, отворилась и появилась девушка, белолицая, с длинными волосами и, что меня поразило, с большими, какими-то плавающими глазами. Этой девушке достаточно только один раз посмотреть на мужчину, чтобы лишить его покоя.
Директор попросил ее приготовить кофе. Я же не мог оторвать глаз от красавицы. И вдруг она заговорила, и мне показалось, что говорит она не только губами, но и глазами.
— Вас ждет одна женщина. Примете ее?
— Что за вопрос? Я занят!
Я инстинктивно встал и, все еще не отрывая глаз от секретарши, ответил:
— Мы закончили, так что можно обойтись и без кофе.
— Нет, пожалуйста! Вы меня обидите! — настаивал директор.
Я согласился: кофе так кофе.
Пока мы пили ароматный напиток, директор продолжал бомбардировать меня цифрами. Я слушал его и думал о том, что цифры — бездушные символы, которые давно пора выбросить из употребления и заменить чем-нибудь другим, в чем есть душа, чтобы они отражали талант и мастерство людей. Эти невыразительные знаки, не есть ли они насмешка или, более того, пренебрежение к искусству и умению людей творить?! А там, в цехах, бесперебойно трудятся люди — молодые и старые, ловкие и неуклюжие. Глубоко в душе каждый таит радость или грусть… Вероятно, директор переборщил с этими проклятыми цифрами, а я — со своими размышлениями, потому что и не заметил, когда в кабинет вошла женщина.
— Товарищ директор, разрешите мне завтра взять день за свой счет?
— Как это вы будете завтра отсутствовать? И это — в конце квартала, решающего для года! Нет! Нельзя!
— Мне необходимо, товарищ директор.
— С начальником цеха говорили?
— Он согласен…
— Согласен, согласен… — прервал ее директор. — А о плане кто будет думать — директор? План — это альфа и омега нашей жизни. Понимаете ли, товарищ?
Пара глаз смотрела на директора. Пара больших, немного усталых глаз.
— Товарищ директор, вас спрашивают из городского комитета партии, — передала секретарша.
Он быстро встал:
— Алло!.. Да!.. Здравствуйте!.. Воюем за план… Конечно, товарищ секретарь, прежде всего у нас человек!.. Да. Будет участвовать группа комсомольцев. Необходимо изучать героическое прошлое… Я? Да, буду… Спасибо.
Он еще не положил трубку, когда секретарша сказала:
— Начальник цеха позвонил и просил вам передать, что бригада, в которой работает эта женщина, выполнит и ее норму. Люди настаивают, чтобы вы разрешили ей отсутствовать завтра.
— Хорошо, — повернулся директор к женщине, — если так нужно. Напишите заявление на отпуск!
Передвинув свое кресло на колесиках поближе к столу, на котором стояла недопитая чашка кофе, он дал указание секретарше:
— Организуйте комсомольцев из администрации. Завтра автобусом поедете на торжественное мероприятие.
Я смотрел на женщину. Знакомое лицо. Откуда я могу ее знать? В сущности, может быть, случайно где-то встречал. Нет! И она меня узнала. Почувствовал, как она спросила меня взглядом: «Я очень постарела?» Наверное, и с вами бывает такое: закрадется какая-нибудь мысль в голову и сверлит, не дает покоя. Так случилось и со мной.
— Кто эта женщина? — спросил я директора, когда посетительница ушла.
— Я не знаю ее. С расширением завода число работников удвоилось. Большинство приехали из соседних сел.
— А секретарша?
— И она новая. По рекомендации комсомола ее взял.
— Есть вкус у молодых.
— Есть, есть, — подтвердил директор и рассмеялся.
Я поспешил проститься. Договорились, что на завтрашнее торжество поедем вместе. Направляясь к центру города, я рылся в своей памяти. Откуда все-таки мне знакома эта женщина? Я мысленно воскрешал множество встреч, случаев… Нет, никак не удавалось вспомнить. А ее глаза — такие прекрасные, такие знакомые — все стояли передо мной. Я никогда не считал себя философом, не любил отвлеченных размышлений, но сейчас не мог не делать этого. Вспомнился мне мой сосед, которого когда-то приглашали в наш дом сватом. Он говорил, что, как только входит в дом девушки, старается увидеть ее глаза. «Глаза — это сам человек, — говорил он. — Посмотришь в них и раскроешь его характер. Они не могут лгать. Они праведные. Волосы можно перекрасить, лицо напудрить и румяна навести, глаза же изменить нельзя». Он не все сказал. Он не предупредил меня, что глаза могут превратить ночь в день. Да, поверьте мне! Именно так и случилось со мной. В эту ночь я не сомкнул глаз.
Утро было прохладное и румяное. Свежий горный ветер разогнал свинцовый туман. Я пришел раньше условленного часа встречи. Думал, что комсомольцы там, но оказалось, что все уже уехали. Только несколько пенсионеров стояли и ждали. Вскоре подошла машина, и мы тронулись в путь. Машина быстро скользила по извивавшейся меж деревьев черной дороге. Мы догнали пионеров, комсомольцев, взрослых. Тридцать четыре раза из года в год в этот день народ массами выезжал сюда.
Начался митинг. Бывший командир отряда, заслуженный, немолодой человек, генерал, говорил с нескрываемым волнением:
— …Нас была горсть против тысячи. Бой мы встретили бессмертной песней «Жив он…» и вошли в бессмертие. А сколько совершено таких подвигов! Память о них хранится в народном музее — в сердцах людей!..
Легендарный командир, видимо, расчувствовался, рассказывая о своем отряде, который вырвался однажды из огненного кольца окружения и возвратился, чтобы вынести из огня своего раненого товарища.
— Этот раненый был моим отцом, — прошептал мне директор.
— …И мы успели! — продолжал генерал взволнованно. — Да только пуля, которая никогда не рождает жизнь, настигла его.
Когда выступление генерала закончилось, родным и близким погибших, а затем представителям организаций и предприятий предложили возложить цветы к памятнику.
Женщина, которая со вчерашнего дня не давала покоя моим мыслям, подошла, преклонила колена перед белокаменным памятником со звездой наверху и положила большой букет цветов. Траурный салют нарушил установившуюся тишину. Я смотрел на женщину, мучимый загадкой, потом мой взгляд остановился на фотографии на памятнике. Это была фотография моего друга с ученических лет, который как бы говорил мне сейчас: «Это моя сестра. Я знал о твоих чувствах, но ты был скромен больше, чем нужно, а я не дожил, чтобы сказать ей об этом…»
Он всегда мне помогал, когда безысходность меня душила.
Я сделал шаг вперед. Хотелось крикнуть, во все горло крикнуть, чтобы заглушить выстрелы: «Прости, я не узнал тебя вчера!» Но директор шепнул мне:
— Смотри, та женщина с нашего завода — знакомая человека, который спас тогда моего отца.
— Не знакомая, а сестра, — уточнил я.
— И ты знал об этом?
— К сожалению, я вчера не узнал ее.
Я поспешил пробраться среди людей, чтобы догнать ее. Но и сейчас, как и тогда, в дни нашей молодости, не догнал.
Машина тронулась. Мы с директором сидели в молчании и думали о вчерашнем и сегодняшнем дне. И вдруг увидели — перед нами шли, взявшись за руки, его секретарша и та женщина.
— Останови! — сказал директор шоферу. — Товарищи, идите сюда! Я должен…
— Нет, нет! Мы с дочерью пойдем с комсомолом. Там лучше. — И они влились в разноцветный поток людей.
СОВЕСТЬ
Писать о близком человеке и легко и трудно. Легко — потому, что все тебе хорошо известно и не надо искать удобных моментов для бесед, не надо рыться в архивах, чтобы найти позабытые даты и события. Трудно — потому, что и о мелких фактах жизни нужно рассказать, они должны занять свое место, а сделать это в одном очерке просто невозможно. С такими трудностями столкнулся я и сейчас, когда решил рассказать о Недке Лаковой из Тетевена. Она из тех десятков, сотен наших сограждан и знакомых, с которыми мы встречаемся каждый день, разговариваем, советуемся, не подозревая, что за все, что они сделали, их можно назвать героями. Живя с ними рядом, мы очень часто забываем о них. Так получается потому, что люди, подобные Недке Лаковой, не любят говорить о сделанном, не ищут наград.
Жизнь Недки очень напоминает мне легенду о мастере Маноле, который при строительстве крепости заложил в ее основу тень своей молодой и красивой жены, чтобы крепость была прочной и осталась стоять на века. Только вклад Недки в основы новой жизни — ее молодость. И сделала она это без какой бы то ни было позы, тихо, честно, самоотверженно. Всегда, когда в наших разговорах заходила речь о старой и новой жизни, Недка застенчиво улыбалась и говорила, что в наши дни трудно представить то, что было когда-то, о прошлом знают только наши матери и отцы.
— Я не раз говорила детям, что мерило страданий в прошлом — это жизнь их бабушки. — Проговорив это, Недка рассказала мне историю своей матери.
Оставшись круглой сиротой в возрасте одного года, девочка жила среди ругани и ссор. Никто из родственников не хотел взять маленького ребенка к себе, считая, что это слишком разорительно, что он ничего не приносит в дом. И родственные чувства бледнеют перед расчетливостью. Нашлась одна богатая бездетная семья, которая взяла сироту. Близкие вздохнули облегченно. Однако очень скоро в семье, которая удочерила сироту, родилась дочь. Чужое остается чужим. От стыда перед людьми ребенка не выбросили на улицу, но стали относиться к сироте как к батрачке.
Рассказывая, Недка Лакова понижает голос. У меня такое чувство, что в этот миг она смотрит на истертый и пожелтевший портрет своей матери, которая вырастила шестерых детей — пятерых девочек и одного мальчика. Смотрю и я на портрет. Совпадение ли это? Или все матери-героини очень похожи? На стене висит портрет бабушки Цены, а с него как будто смотрит на меня бабушка Тонка. У обеих овальные озабоченные лица, повязанные платком головы. И судьбы их почти одинаковы. Бабушка Цена не только вырастила сыновей, дочерей и внуков-революционеров, но и сама на старости лет приняла участие в борьбе и геройски держалась на мучительных допросах в полиции.
— Однажды вечером, — продолжает Недка, — хозяева оставили маму, тогда ей было десять лет, одну спать в поле, чтобы охранять оставленные вещи и ранним утром надергать колосьев из буйно выросшей нивы для жгутов на снопах. Девочка испугалась, когда поле, где в течение дня было шумно, вдруг затихло. Прекратились песни жнецов, шутки, восклицания, смех. С Балкан опустились холод и темнота. Только кое-где слышался сердитый рев скота или лай собак. Невидимые во тьме птицы и кузнечики начали свою серенаду. Поле, утомленное от сильного дневного зноя, погрузилось в дремоту. И в этой сказочной красоте маме, свернувшейся возле груши, стало страшно. Она подумала о разбойниках и зверях, которые подкарауливают ее за каждым кустом и подбираются все ближе и ближе. Ветер раскачивал ветви груши, плясали на земле их рваные тени. Она не выдержала. Расплакалась и бросилась бежать по стерне. Страх гнал ее к дому. Ей казалось, что злые колдуны из сказок бегут за ней по пятам. Вихрем, с колотящимся сердцем, неслась она к дому. Толкнула калитку, а навстречу ей толстая, злая мещанка. Она, долгое время таившая ненависть к сироте, схватила в ярости нож и бросила его в плачущую, до смерти напуганную девочку. Та едва успела повернуться спиной, и нож попал ей в поясницу.
Недка опускает голову и замолкает. Как будто рассматривает корень, продолжением которого является и она. А мне хочется, чтобы голос ее не прерывался. Она так интересно рассказывает, что я готов слушать ее день и ночь. Но ее ждет множество неотложных дел. Внучка, как и дочь-студентка, нуждаются в ее заботах. Но люди, которые хорошо знают Недку Лакову, скажут, что эти заботы — не самое главное для нее. Первая и самая серьезная ее забота — это общественная работа. И, чтобы задержать интересную собеседницу еще на минутку и услышать конец истории о ее матери, я спросил Недку:
— А потом? Что стало с вашей матерью?
— Ее лечили известные знахарки, водили к ворожеям, и она выздоровела, но осталась хромой. Когда ей исполнилось семнадцать лет, она вышла замуж за моего будущего отца, такого же бедного, как и она сама. А ведь известно — коль соберутся две нужды, получается одна, но большая. Так было и с ними. Они работали не покладая рук, чтобы не остаться без хлеба. Во время войны отец заболел и через некоторое время умер. На руках у мамы остались мы, шестеро детей. Работали по чужим угодьям. Тяжела была для нас не работа, а тяжелые, ненавидящие взгляды в спину.
И она рассказала, как однажды подрядчик собрал ребят и девушек из их села, чтобы вести на жатву в село Горни-Дыбник Плевенской околии. Пошла и она со своим братом Павлом. Прошли пешком больше семидесяти километров. Когда прибыли на место, хозяин захотел, чтобы они сразу же принимались за работу, потому что ненастье может застать их врасплох. Оглядев каждого по отдельности, он остановил свой взгляд на Недке и сказал:
— Эта девушка так худа, что могу взять ее только на половину поденной платы.
— Она самая проворная среди нас и быстрее всех жнет, — заступились за нее товарищи.
— Неужели я не вижу, что она взяла душу взаймы, чтобы только сюда дойти? А сколько будет с нее работы, один господь знает! Буду платить ей как водоносу.
Вперед вышел Павел, брат Недки. Крупное его тело слегка дрожало, а в жилистой руке блестел острый серп.
— Если оплата на килограмм веса, то ты должен снять поденную плату у половины группы.
— Да меньше он и не возьмет. Ведь он от нашего труда толстеет, — добавили ребята.
Ссора становилась острой. Недка боялась, как бы брат не бросился на хозяина, и поспешила успокоить его:
— Братец, он не знает, как я умею жать. Увидит и сам убедится, Прошу тебя, братец…
— Чего ты хочешь, босяк? — ярился собственник. — Я вас, что ли, звал? Мне нужны работники, а не заморыши!
Кулаки Павла сжались, но разум оказался сильнее эмоций. И он внешне спокойно ответил хозяину:
— А вот хочу предложить тебе, давай устроим состязание. Она будет жать, а ты снопы вязать. Посмотрим, чья возьмет. Если не успеешь…
Таким было детство Недки Лаковой. В нем больше горечи, чем детского смеха и забав; больше слез, чем песен; больше ругани, чем теплых слов. Поэтому с раннего возраста и она, и ее братья стремились обучиться какому-нибудь ремеслу. Она продолжает вспоминать:
— Мама выгребла последнее блюдо муки и отдала его портнихе, пришедшей из Луковита, чтобы учить меня шитью. Позднее мы с братом Марином шили на одной машинке: он — мужскую одежду, я — дамскую. Хорошо, что наши клиенты были не столь капризны.
Жизнь многочисленной семьи стала меняться. Горе уступило место суровым, но оптимистическим мыслям. Марин, самый старший из братьев, первым увлекся революционными идеями и стал верным солдатом коммунистической партии до конца своей жизни. Книги, которые он приносил домой, заинтересовали и остальных братьев, а также их самую младшую сестру. Ночью допоздна засиживалась Недка, читая при керосиновой лампе книги и впитывая строку за строкой. Часто случалось, что не было керосина, и тогда она садилась поближе к печке, чтобы в отсветах огня разобрать, что написано в книге. Вместе со своими братьями она ходила на собрания, слушала беседы, участвовала в заседаниях, встречах, где разучивали революционные песни, а ведь в ту пору Недке не было еще и тринадцати лет. Вспоминая о впечатлениях от прочитанных книг в эти годы, она откровенно поделилась со мной:
— Я почувствовала себя более сильным человеком, выросло мое самосознание, особенно когда я прочитала «Цемент», «Железный поток», «Что делать?». Столько лет прошло с тех пор, а я до сих пор помню наизусть целые страницы из них. Мой брат Павел, который очень любил рисовать, собирал пачки из-под сигарет и на них рисовал героев из этих книг. У нас уже были герои, которым хотелось подражать.
В четырнадцать лет Недка Лакова уже знала, чего она хочет от жизни. Она обогнала в развитии своих сверстников. Люди старшего возраста в селе обращались к ней за советом и считали ее зрелым человеком. В женской рабочей группе ее избрали секретарем-рабкором. Газета «Работница» — печатный орган женщин-коммунисток — стала ее настоящим другом. Недка была одним из самых активных рабкоров.
19 мая 1934 года в Болгарии была сделана попытка запретить легальное существование партии. Многие из партийных руководителей были брошены в тюрьму. Но партия и Рабочий молодежный союз — это сила, которую никакими средствами нельзя уничтожить. Партия ушла в подполье. В плевенскую тюрьму на имена Тодора Златанова, Пеко Такова, Ивана Иванова и других молодая коммунистка Недка Лакова отправляла хлеб, сало, банки с маслом. Это уже была не та девочка, которая жила жизнью героев книг. Теперь она жила среди героев своего времени и, сама того не сознавая, сделалась настоящим героем.
Мы садимся на скамейку в стороне от асфальтированной площади Тетевена. Напротив возвышается новый Дом культуры, рядом просторное кафе с большой открытой террасой, на которой вокруг круглых столиков сидят девчата и ребята. В этот миг они очень похожи на белых голубей, собравшихся на углу площади. Может быть, эти беззаботно смеющиеся молодые люди вернули Недку Лакову к дорогим ее сердцу воспоминаниям.
— Поручено мне было отправить посылку Адальберту Антонову. Испекла я печенье, положила ему носки. Не удержалась, написала ему письмо. Через месяц я получила ответ, да только тюремная цензура перестаралась — от целого письма остались видными только несколько строк.
Не могу забыть и встречи с Лазаром Станевым. В нашем старом доме проходили собрания, на которых он выступал. Он очень хорошо говорил, а когда слушатели, утомленные работой, начинали уставать, запевал «Черней, горо, черней, сестро». Все его любили, как брата. После собрания обыкновенно все оставались поужинать. Он рассказывал нам о Советском Союзе. Он очень любил говорить о своей матери, бабушке Веле, и о своей дочери Каринке, которую назвал в честь девочки, родившейся на «Челюскине» во время экспедиции. Наша мама все хлопотала по хозяйству, а он обнимал ее и говорил: «После победы революции пошлем вас вместе с бабушкой Велой в страну Ленина. Согласна ли ты на такую награду за заботы, которыми окружаешь нас?» «Ох, Лазар, для нас с твоей матерью самая лучшая награда — видеть вас здоровыми», — отвечала мама.
Прекрасные люди! Очень часто думаю я о Владо Тричкове, Авраме Стоянове, Марко Иванове, Стояне Нешеве. Все они также бывали в нашем доме. Они как будто родились для революционной борьбы. «Человек силен, когда побеждает, — говорил мне Стоян Стоянов, с которым позднее мы вместе партизанили. — Мы должны научиться побеждать». И сейчас я, как председатель городского комитета народного контроля, когда встречаю людей, смотрящих на общее как на чужое и крадущих у народа, вспоминаю эти слова Стоянова. В наше время враги общества — именно расхитители и воры, и мы должны научиться их побеждать.
Она не скрывает своей ненависти к подхалимам, ловкачам и неприязни к тем, кто добр, честен как человек, но как руководитель плох.
— В жизни нет больших и малых постов. Каждый на своем месте должен иметь чувство ответственности самого большого руководителя.
Откровенность, непримиримость к недостаткам сделали ее желанным судьей. Даже те, кого она часто критикует, уважают ее и идут за советом. Конечно, есть у нее и противники.
Мы были в ее кабинете в здании городского комитета партии. Разговор шел об обыкновенных будничных делах. Вдруг с треском распахнулась дверь, как будто внезапно разразившаяся буря толкнула ее. Показался хмурый, возбужденный, готовый к ссоре человек среднего возраста.
— Я уважаю твое прошлое, но не забывай, что и у нас есть партийный билет. С проверкой и выводами я не согласен. Хочу сказать тебе, что нельзя так проверять коммунистов!
За несколько секунд Недка Лакова буквально преобразилась. Я никогда не видел ее такой. Ее мягкий, теплый взгляд стал строгим.
— Входи, входи, — пригласила она нежданного посетителя. — И закрой дверь, чтобы лучше меня слышать.
Он молча выполнил ее распоряжение. Она встала, едва сдерживая гнев.
— Ты должен запомнить одно. Партийный билет дан тебе не для того, чтобы козырять им! А мне кажется, что ты запачкал свои руки, и партбилет у тебя должен быть изъят, чтобы ты не испачкал и его. Имя коммуниста — долг, а не власть. А сейчас иди. Поговорим, когда оба будем спокойнее.
Непрошеный гость поспешил выйти. Осторожно закрыл дверь за собой, и мы не услышали его шагов по коридору.
Много раз я думал о том, чтобы рассказать о заслуженных женщинах-партизанах, помощницах партизан из нашего края. Поводом для этих мыслей послужила именно она — Недка Лакова. Действительно, трудно себе представить существование отряда имени Бенковского без бабушки Стойны Кралевой из села Беленци, без Цоны Лаковой из Добревцев, без бабушки Гены из Дерманецев, без отважных женщин из квартала Топилиште на окраине села Гложене. Их отличали большая материнская забота и теплота, преданность и верность делу, которому они посвятили себя.
Эти женщины-патриотки превратили свои дома в активные очаги сопротивления. Было достаточно одного слова, чтобы на борьбу поднялся не только их дом, но и все село. В то время когда тайные агенты подслушивали и подсматривали, когда жандармерия и армия каждый день проверяли складки Балканских гор, эти обыкновенные сельские женщины принимали преследуемых революционеров и заботились о них как о родных детях. Кто только не побывал в то время в доме Недки Лаковой, но самыми частыми гостями были Пеко Таков, Тома Стефанов, Петко Крыстев, Васил Симеонов, Мако Даков, Вылка Горанова, Марин Цанцарский. Не было человека, который в поисках дороги в отряд не зашел бы в Добревци и не был бы гостем семьи Лаковых хотя бы на одну ночь.
— Летом 1942 года, — рассказывает Недка, — в Княжевской комсомольской организации пошли аресты. Йорданка Георгиева, девушка из нашего села, работавшая в Софии, привела к нам нелегального Николу Георгиева. Мы приняли его сначала опасливо. Но не прошло и месяца, как нас буквально пленил его добрый характер. В то же самое время к нам часто приходили Пеко Таков, Григор Вылев, Тома Стефанов и другие. Мы скрывали его от них, так как еще не могли полностью доверять ему и нельзя было подвергать опасности товарищей. Так прошла зима 1942/43 года. В конце концов мой брат Павел не вытерпел и сообщил обо всем Томе. За эту опасную игру мы получили от районного комитета партии выговор, а Никола вместе с Петко Крыстевым ушли в Балканские горы, Так случилось, что оба они погибли в Тодоричене — родном селе Петко. Осталась в нашем доме память о добром характере Николы. Когда мы рассказали маме о его гибели, она целую неделю тихо плакала.
Второй случай связан с одним уголовником, который часто сидел в тюрьме и хорошо знал имена многих деятелей. В селе он назвался именем одного нелегального товарища, и жители укрывали его целую неделю. В конце концов он взял одежду, продукты и сбежал. Важно, что не предал нас. Что-то человеческое в нем все-таки было, — смеется Недка.
Ее жизнь связана с судьбами многих людей. После перехода на нелегальное положение Петко Крыстева — первого человека в Луковитско-Тетевенском крае — Недка и ее братья взяли на себя нелегкий труд по обеспечению нелегальных провизией. Она приняла руководство районным комитетом комсомола. Осенью 1943 года, когда борьба вступила в следующую фазу, был создан отряд имени Бенковского. Правительство понимало, что сила сопротивления растет, и жестоко расправлялось со схваченными. Полиция схватила в селе Видраре партизан отряда «Чавдар», затем последовал провал в селе Орешане, были арестованы самые лучшие ятаки. Марин, брат Недки, успел только за час до окружения скрыться и пробраться в отряд. День и ночь вокруг дома ходили незнакомые люди. По различным причинам всех членов семьи Лаковых непрерывно вызывали или в общину, или в полицейский участок села Ябланица. Несколько раз околийский начальник полиции Йордан Гатев появлялся в селе и грозил, указывая на их дом, что там скоро полетят головы. Обруч жестоко стягивался.
Однажды в мае, рано утром, в доме зарезали последнего ягненка, приготовили его, как и все в селе, на праздник, а под вечер Недка и брат ее Павел прощались со своей матерью.
— Она не заплакала. У нее уже не осталось слез. Только обратилась к Павлу, наказав ему беречь меня, а бай Марину сказать, что яблоко не падает далеко от дерева — его сыновья твердо держались в участке. И мы тронулись в путь.
В отряде их встретила Митка Грыбчева. Недка Лакова взяла себе имя Славка, а Павел Лаков стал Борко. Этот период в жизни Славки более всего был наполнен драматизмом. Было проведено множество операций, проделана огромная политическая работа. Одни гибли в бою как настоящие коммунисты, другие не выдерживали и дезертировали.
22 июня 1944 года отряды разделились. Рано утром третий отряд, в котором были подруги Славки Янка, Нина, Станка, Вера, Соня и Эли, выступил в направлении Брусенского Балкана. На прощание Эли сняла свою жилетку и отдала ее Славке, сказав: «Может, не увидимся. Возьми ее и помни, что мы очень любили друг друга». Славка достала из ранца свою жилетку, отдала ее Эли. Она обняла подругу: «Увидимся, вот посмотришь. Тогда я куплю тебе прекрасную жилетку». Расставание было грустным. Отряд выступил в путь. 26 июня Славка на рассвете услышала сильную канонаду. «Слышишь, у Брусена происходит что-то страшное», — сообщила она своему брату Марину. «Все может быть, сестра, — спокойно ответил он. — То, что должно произойти, случится скоро. А за это можно и жизнь отдать».
С тех пор прошло много лет. Но когда заходит речь о тех сражениях, Славка не скрывает своих слез. Там навсегда остались лежать девятнадцать ее самых лучших товарищей.
— Каждый год в этот день я бываю с детьми у обелиска, — рассказывает Недка. — Долго стою и не могу уйти оттуда. Прощаюсь с каждым по отдельности. Мысленно рассказываю им, что мы сделали, чего нам не хватает. И как будто из-под земли слышу голос Стояна Стоянова, который меня предупреждает: «Эй, умница! В грядущей жизни все должно планироваться без ошибок».
Часто бывает так, что придешь к Недке в гости, а ее дома нет — она то в комитете, то на собрании, то на заседании.
— Ты ведь на пенсии, а работаешь больше тех, кому еще до нее далеко, — укоряем мы ее.
— И вы будете такими же, как я, и поймете: если хочешь кого-нибудь быстро уморить, оставь его без работы. От этой болезни ни один врач не поможет.
Недка Лакова — председатель городского комитета народного контроля, женсовета, председатель городского отделения Общества болгаро-советской дружбы. Ее избирают не для престижа или из уважения. Она — деятельный, исключительно жизнеспособный человек. Глубоко в душе Недка сохранила искренность и неподдельность. Я спросил ее однажды:
— Когда тебе было труднее — до социалистической революции в Болгарии или сейчас?
Она посмотрела на меня испытующе:
— Я никогда не задавала себе этого вопроса. Наверное, в разные периоды жизни по-разному относишься к трудностям. Во время коллективизации я пережила немало огорчений. Наши ятаки — помощники партизан — прекрасные люди, у каждого было по гектару земли, и они не хотели расставаться с ней. И нам, женщинам, приходилось с ними работать. Придешь к такому человеку, начинаешь беседовать. А он смотрит на тебя исподлобья: «Затем ли я хлеб тебе давал, чтобы сейчас ты у меня землю отбирала?» Возьмет шапку и с обидой кинется в корчму. Начнешь с его женой разговаривать, обо всем вспомним — и о девических годах, о посиделках, и о нынешнем дне поговорим. Мужчины — люди упрямые. Иной поймет, что в кооперативе лучше, а все равно не будет соглашаться. Мы, женщины, должны были таких вразумить. И мы побеждали.
Нет ни одного крупного начинания партии за последние годы, в котором не приняла бы участия Славка. Она всегда находится в рядах настоящих борцов, ни на миг не оставляет строя.
Недавно мы побывали с ней в стране Ленина. Посетили Белоруссию. В сожженном фашистами селе Хатынь ей стало плохо. Когда приехали в Брестскую крепость, она наклонилась ко мне и спросила:
— Ты знаешь, почему побеждала Советская Армия?
— Потому что сражалась за правое дело, — поспешил я ответить ей.
— Не только поэтому. Прежде всего потому, что каждый солдат знал свое место в бою. Это нам необходимо и в мирное время, — сделала она заключение.
Как только мы ступили на землю Брестской крепости, Недка замолчала. С нескрываемой болью смотрела она на землю, истерзанную снарядами, впитавшую кровь героев, на солдата, что нагнулся с каской к журчащей воде и остался здесь стоять на века…
Мы шли примолкшие. Пережитое в первые минуты и часы 22 июня 1941 года осталось жить в глазах неизвестного солдата, отражается в языках пламени Вечного огня. Каждая пядь земли здесь обожжена огнем, изрешечена сталью.
Недка немного отстала от группы. Я заметил, что глаза у нее влажные. Они словно собрали слезы многих матерей, навсегда оставшихся без сыновей, и жен, потерявших мужей, и осиротевших детей. Она наклонилась и взяла комок земли. Потом присела и осторожно положила его обратно.
На мой удивленный взгляд Недка ответила смущенно:
— Я хотела взять этот комок земли на память в Болгарию, но почувствовала себя неудобно и вернула его на место.
— Но почему? — удивился я.
— Эта земля необыкновенная. Каждая пылинка весит тонны. Эта земля — совесть.
Больше мы не сказали ни слова и поторопились догнать группу.
Пора кончать рассказывать, а меня одолевают все новые и новые мысли. Возможно ли описать жизнь, до конца отданную партии, жизнь, собравшую скорбь и радость целого поколения? Едва ли. Но на прощание мне хочется сказать Недке Лаковой, нашей Славке, что ее жизнь — это память, которая остается самой дорогой реликвией для молодого поколения.
Срываю цветок с герани, растущей перед домом Славки в Тетевене, и обещаю, что, вернувшись в Софию, зайду к другой Славке, ее дочери, и скажу ей, чтобы чаще писала своей матери, потому что каждое ее письмо приносит в дом радость.
ВОСПОМИНАНИЕ
С того дня как я впервые встретился и познакомился с Велко Атанасовым, прошли годы. Позади остались дальние дороги, чужие земли и тысячи знакомств. Но ни время, ни новые впечатления не стерли в моей памяти образ этого доброго человека. Время иногда как будто сознательно замедляет свой бег, чтобы люди с необыкновенной судьбой, подобные бай Велко, не забывались. Кто-то, может быть, скажет: «Что, собственно, необыкновенного в его жизни? Ведь он, как и другие крестьянские дети, пас овец и буйволов, лазил через плетни по садам, чтобы набить свою пеньковую рубашку поспевшими яблоками и грушами, черешней и виноградом». И действительно, в этом нет ничего необыкновенного. Он рано подружился с книгой, и книга отвлекала его от шалостей и уводила в другой мир. Жизнь Велко Атанасова, настоящая жизнь, о которой я и хочу рассказать, началась тогда, когда он, закончив начальную гимназию в родном селе Извор, Видинского округа, поступил учиться в ломское педагогическое училище. В городе Лом Велко Атанасов начал свою политическую жизнь. Он стал заниматься в марксистско-ленинском кружке под руководством Живко Ошавкова, будущего известного философа. Тогда же он вступил в РМС и вскоре был исключен из училища за активную политическую деятельность. Начался путь, по которому прошли тысячи солдат партии, путь, отмеченный обелисками славы. А те, кто уцелели, пройдя через «игольное ушко», и сегодня живут с болью в сердце, вспоминая о самом дорогом в их жизни — о друзьях.
Тяга к науке привела Велко Атанасова в университет, на юридический факультет. В университете он познакомился с Верой Ивановой, студенткой, родом из его края, а также с Бояном Чоносом, Мико Ниновым и Костой Йордановым, ставшими позднее секретарями окружного комитета РМС в городе Видин. В Софии Велко вступил в ряды Болгарской коммунистической партии.
В 1940 году вместе с Кирилом Марковым и другими студентами они образуют в Видине студенческую группу, в задачу которой входило различными способами поддерживать революционное движение в его родном крае, помогать медикаментами и нелегальной литературой. Затем Атанасов стал руководителем группы и вместе с Верой Ивановой занимался доставкой оружия и лекарств партизанам в их крае.
Это были годы испытаний, требовавшие самопожертвования. И он был готов к этому. Путь, который он избрал, был полон тревог и опасностей…
Сейчас я нахожусь в доме Велко и Веры. Их внук давно уснул. Мы сидим за столом, заставленным закусками. В рюмках искрится новосельская гымза. Я неблагоразумно попросил этих прекрасных людей вспомнить свое прошлое и пожалел об этом.
— Страшные, кошмарные воспоминания не изгладить из памяти. Они часто навещают нас в снах. Тюрьма с толстыми стенами, за которыми прошла наша молодость, с сырыми, зловонными камерами, зверские побои, карцер…
— Молодыми погибли тогда Яким Гергов, Вылчо Марков, Лило Стефанов, Йорданка Петкова. Мы все были одного возраста. Они недоучились, недолюбили…
— Помнишь, Вера, черную ночь 13 июня 1944 года? Как зловеще прогремели цепи по ступеням! Вся тюрьма пробудилась… К виселице повели Йоло Гергова, Стояна Пешева и Петко Иванова. Мы стучали деревянными башмаками по стенам и пели революционные песни. Мы прощались с ними и клялись отомстить за их смерть.
Вспомнив о погибших товарищах, они разволновались и замолчали. Так закончилась наша встреча. Внучонок в соседней комнате что-то крикнул во сне и заплакал, Вера поспешила к нему.
Там, где была тюрьма, сейчас возвышается памятник Свободы. На следующий день мы сидели с бай Велко на скамейке в парке на берегу Дуная, возле памятника. Всматриваясь в фигуры, изваянные из камня, Велко как бы старался найти черты тех, кого хранил в воспоминаниях.
— Самым страшным днем было 17 июля 1944 года. Нам зачитали приговоры. Председатель суда Димитр Гологанов вынул часы и сказал: «Любен Ценов, Велко Атанасов и Мико Вылчев осуждены на смерть. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сейчас 9 часов утра. В течение 24 часов приговор привести в исполнение». Первым пришел в себя Любен Ценов. Он крикнул во все горло: «Тот, кто погибает в бою за свободу, не умирает!.. Недалек день, когда вас будет судить народный суд. Вам не уйти от него!» Все осужденные на смерть подняли руки, скованные цепями. В тишине раздался могильный звон кандалов. Началась паника. Судьи испугались. Гологанов пытался перекричать шум и, торопясь покинуть место председателя, отдал распоряжение: «Скорее повесить их!»
Бай Велко — разговорчивый человек и увлекательный собеседник. Большинство из его рассказов — воспоминания о встречах с интересными людьми. А встреч у него — тысячи. Работая секретарем окружного комитета партии, в аппарате ЦК БКП, председателем окружного комитета Отечественного фронта, он всегда был там, где решались жгучие вопросы дня.
— Не люблю канцелярий, — сказал он. — Может быть, после тюрьмы ненавижу сидеть в четырех стенах. Сердце мое всегда жаждало простора. — Он вглядывался в воды Дуная и опять возвращался к проведенным в тюрьме годам, к людям, ставшим дорогими и родными. — Испытал ли я страх, услышав приговор? — спросил он. — Да, конечно. Ведь страх — он из сферы человеческих эмоций. Я попробовал найти успокоение в мысли, что рано или поздно жизнь каждого человека заканчивается. Хотелось подражать Бояну Чоносу, который и в тюрьме круглосуточно работал, чтобы быть полезным своим товарищам до последнего часа. Он проводил политические беседы, рисовал карикатуры для газеты «Узник», изучал языки. А над ним уже висели два смертных приговора. Очень мне хотелось быть таким же сильным, как Мико Нинов. Он сам себе надел петлю на шею и спросил ошеломленного прокурора: «Идет ли мне этот галстук, господин прокурор? Придет время, такой галстук вам подойдет еще больше…» И все это происходило вот здесь, на этом берегу Дуная…
Его воспоминания медленно разматывали серый клубок времени. От радостных волнующих встреч с товарищами из отряда он переходил к черным дням людей, осужденных на смерть. Слова надзирателей он помнит до сих пор.
— Когда нам раздали еду на ужин, надзиратель Кирил Николов посмотрел на меня с насмешкой и сказал: «Ешь, ешь, Велко, хоть и тяжелее будешь на веревке. Этим вечером вас повесят». Щелкнул висячий замок. Я лег на пол. Хотелось ни о чем не думать, но не получалось. Я ощущал, чувствовал, переживал смерть. Психологическая смерть страшнее физического уничтожения. Осужденный на смерть умирает многократно, страшно мучительно. К мысли о смерти никогда нельзя привыкнуть, она превращается в кошмар. Не знаешь, встретишь ли рассвет следующего дня или, прежде чем солнце взойдет над горизонтом, повиснешь на веревке…
Каждый вечер, сидя в камере, смертники пытаются понять, нет ли признаков того, что сегодня смертный приговор будет приведен в исполнение. Обыкновенно это связано с отключением тока, или повар, уголовный преступник со смертным приговором, который вешает, не возвращается в камеру, или удваивается охрана тюрьмы…
21 августа 1944 года все эти признаки были налицо. Бай Велко и его товарищи поняли, что пришел их смертный час. Они сели поближе друг к другу и принялись рассказывать о том, что было самого плохого в их жизни. Это был последний, прощальный разговор перед тем, как их уведут на виселицу. Любен Ценов, самый буйный из них, предложил им наброситься на полицейских, которые придут за ними. «Хотя бы двоих убить! — воскликнул он. — Пусть здесь нас убьют, но ни за что не пойдем как овцы!..»
— Мы приняли его предложение и умолкли. Так и дождались зари. Но в ту ночь мы остались в живых. А это ожидание… не страшнее ли оно виселицы? Не обрывается ли что-то в молодых, истерзанных побоями телах, прежде чем придет минута казни? Только смертник знает тяжесть ожидания.
О сентябрьских днях бай Велко вел записи в дневнике.
«4 сентября 1944 года.
Дни тревоги. Дни ожидания. Не столько узнаем, сколько чувствуем, как Советская Армия громит гитлеровцев и стремительно приближается к нашей границе. Эти новости каждый день проходят сквозь толстые стены тюрьмы, и мы с охотой комментируем события.
Рано утром мне сообщили о свидании. Я оцепенел. Почему так рано вызвали меня? Возбужденный ожиданием, подхожу к решетке и вижу своего брата Цвятко… «Не к добру», — говорю я себе.
— Принес тебе еду и смену одежды, чтобы ты мог переодеться. Наши живут хорошо… Сказали, чтобы не беспокоился о них…
Надзиратель отошел от нас. Брат тихо и взволнованно прошептал:
— Прибыл приказ о повешении трех осужденных на смерть. Кажется, что это относится к тем, кто был осужден раньше вас… Узнал это из достоверного источника. Посмотрите, если сможете бежать, будет лучше…
Погрустневшие, мы расстались. Оставшись один, я весь ушел в тревожные мысли. Приказ об исполнении смертных приговоров относился к нам троим. У других приговоры были больше для назидания. Да, смерть вставала передо мной: грозная, страшная, готовая поглотить меня в любой миг. Холодные мурашки побежали по телу. Мысль о смерти была более жестокой, чем сама смерть. Она мучила меня уже два месяца. Каждый вечер я ждал, что меня повесят. Я переживал эту смерть день за днем, час за часом…
5 сентября 1944 года.
Под вечер, глядя сквозь тюремные решетки, я наблюдал за отблесками солнца. Над тихими водами Дуная догорал день. В голове у меня бродили разные мысли, но больше беспокоила одна — какой будет наша судьба, не повесят ли нас за час до свободы?..
— Вы поняли, что партийное руководство провело встречу с прокурором? — нарушил мои мысли Мико Вылчев.
— Да, — сказал Любен Ценов, — ему предложили снять с нас цени и предупредили, что, если он не выпустит нас в течение двух дней, мы уйдем сами…
— Эй, каторжане, идите брать еду! — закричал Радко Пуев — крупный и полный узник, родом из села Князь-Александрово (теперь город Димово).
— Ешьте, ешьте побольше, вы уже знаете, что этой ночью вас повесят! — намекнул надзиратель Кирил Николов. Щелкнул ключ в замочной скважине, и он ушел. Глухо раздавались его шаги в коридоре. Неужели действительно нас повесят на заре свободы?
Допоздна мы разговаривали о событиях на фронте, о приближающейся победе, а мысль о виселице не выходила из головы. Кто-то попытался пошутить, но не получилось. Камера смертников… К полуночи наконец заснули. Ночью кто-то меня толкнул. Я оцепенел. Неужели пришел конец?..
— Не бойся, Велко, и этой ночью мы уцелели, — сказал Филип Тропурский, который лежал возле меня. Эта его привычка просыпаться точно в три часа осталась у него с тех пор, как палачи увели на виселицу Йоло Гергова, Стояна Пешева и Петко Иванова.
Проснулись и другие.
6 сентября 1944 года.
Прекрасный солнечный день. Мы двигались по тюремному двору, выложенному булыжником. Оживленно обсуждали предстоящие события.
Меня вызвали на свидание. Напротив меня за решеткой — мой брат Цвятко, радостный, улыбающийся. Громким голосом он сказал мне:
— По радио сообщили, что вы помилованы. Никакие смертные приговоры исполняться не будут. Вам повезло. Приказ о повешении от 4 сентября 1944 года относился к вам, но у меня не было сил сказать тебе об этом. Прокурор Пенко Георгиев под нажимом ответственных деятелей коммунистической партии согласился выехать из Видина, а без него вешать вас не имеют права.
«Имеют право или нет — это другой вопрос, — подумал я. — Они и без права совершили много преступлений. Но сейчас есть нечто другое, со дня на день ожидается приход Советской Армии».
Я быстро попрощался с братом и побежал передать товарищам радостную весть. Когда пришел, понял, что они уже знают об этом. Кто-то опередил меня.
7 сентября 1944 года.
Двор гудел, как растревоженный улей, Иван Чонос и другие политические деятели пришли в тюрьму требовать нашего немедленного освобождения.
К вечеру с нас сняли цепи. Свалилось тяжелое железо. Я вырвался из лап смерти.
Мы вышли во двор. Сотни рук политзаключенных протянулись к нам. Люди подняли нас и понесли. Мощное «ура» прокатилось под мрачными сводами тюрьмы, перелетело через стены и разнеслось над городом и Дунаем.
Вокруг нас собиралось все больше и больше политзаключенных. Сияли лица. Блестели глаза.
Вечером надзиратели не заперли нас в камере смертников. Мы оставили нашу гробницу — не могли больше находиться в той камере, где каждый вечер ожидали смерти, где столько мучений выпало на нашу долю. Я взял свою рваную пеструю постель и перешел в камеру к Велко Палину, с которым мы прежде вместе работали. Счастливые, мы проговорили всю ночь и заснули только на рассвете.
8 сентября 1944 года.
Нас по очереди вызывали из камеры. Расписавшись в толстом журнале, мы покидали тюрьму живыми.
Перед тюрьмой нас ожидали близкие. Матери обнимали своих сыновей, дочери целовали отцов… Радость. Слезы и радость. Затем Иван Чонос сказал:
— Товарищи, в этот момент я испытываю одновременно и большую муку, и радость. Скорблю, что моего сына Бояна повесили и он не вышел вместе с вами. Но я счастлив, что вы, его товарищи, живы! Вы продолжите дело, во имя которого он погиб! Победа близка. Советская Армия идет на запад, и мы должны помочь ее победоносному маршу на Берлин…
Полицейские стояли и слушали, но никто из них не остановил его, не помешал говорить. Что было бы, если бы это происходило несколько дней назад!
Я все никак не мог поверить, что я свободен и жив. Воодушевленные и веселые, мы направились к городскому парку. Громко говорили, пели. Счастью не было конца. Дышали чистым воздухом… Наслаждались видом Дуная. Не было больше тюремного режима. Не было тревоги в ожидании исполнения смертного приговора.
Этот светлый день, первый день свободы, я никогда не забуду…»
Велко Атанасов член бюро окружного комитета БКП в Видине. До заседания у него еще есть полчаса. И я иду с ним по Дунайской аллее и думаю о нем и его жене Вере, удивительных, самобытных людях.
Позади осталось место, где когда-то находилась тюрьма, а сейчас возвышается памятник Свободы и цветут красные розы.
Мы прощаемся. Он спешит на заседание, но я не расстаюсь с ним. Такая жизнь и такой человек не забываются. Они остаются в нашей памяти, они переходят из поколения в поколение.
МОЛЧУН
На этот раз в командировку я поехал не один. Со мной отправился инструктор организационного отдела. Я плохо знал его. В комитете он был известен своей молчаливостью, поэтому, когда стало известно, что я еду с ним, один из моих друзей съехидничал:
— У тебя будет возможность выговориться в этой командировке…
— Каждый человек сам выбирает себе друзей, но не командировки, — сдержанно ответил я ему.
Мы выехали. Автобус в эти часы был почти пустой — два старика, одна старушка, длинноволосый парень и поп. Можно сказать, прекрасная компания. Кондуктор злился, ворчал, что напрасно гоняют шестидесятиместный автобус для горстки людей.
— Какой здесь хозрасчет? — спрашивал он шофера. — Пассажиры, пассажиры нужны, и побольше!
— Ты не прав, парень, — вмешался один из стариков. — И мы на хозрасчете, потому что дома откармливаем по нескольку свиней, телят, кур да и небольшой огородик обрабатываем.
— А дети, за которыми присматриваем? Молодые сейчас не имеют возможности их растить. Кто же, если не мы, будет присматривать за детьми? — дополнила старушка.
Так завязалась беседа, непринужденная и забавная. Молчали только мы с коллегой. Он рассеянно смотрел в окно, но внимательно прислушивался к разговорам. Один из стариков стал рассказывать, как в их селе поп чуть не утонул, когда поливал перец в личном хозяйстве.
— Поскользнулся поп и упал в реку, — говорил старик. — Успел лишь схватиться за ветку вербы. Попадья закричала, собрались люди. Один парень забрался на вербу и говорит ему: «Дай руку, отче!» А поп смотрит на него вытаращенными глазами и молчит. «Давай руку, отче!» — кричит парень, а поп не шевельнется. Поняв, что силы у него на исходе, а ряса от воды тяжелеет, я крикнул парню: «Эй, слезай!» Забрался сам на вербу и сказал попу: «Отче, возьми руку!» Он схватился, и мало-помалу мы его вытащили.
В автобусе стало весело. Засмеялся и мой коллега.
— Такие дела, отче, — обратился старик к попу. — Вы не даете, вы только берете. А ребята молодые еще, не знают этого.
Поп неприязненно посмотрел на старика, передвинул торбу к себе поближе и поспешил сойти на следующей остановке. Мы поехали дальше. В какой-то момент старик, который рассказывал о попе, уставился на нас. Встал с места и подошел к моему напарнику.
— Иван, ты ли это? Совсем забыл дорогу к нам! — Он снял шапку и подал руку моему коллеге. — Сколько же лет мы не виделись? Знаешь, как соберемся, в корчме или на собрании в клубе-читальне, тебя все вспоминаем. — Он сел на свободное сиденье около нас и обратился ко мне:
— Ты, парень, не знаешь, как мы проводили коллективизацию, молодой еще. — Он снова повернулся к моему спутнику. — Тогда тебе вроде было столько же лет, сколько и ему, верно? Молодой был, сильный, красивый. У девушек, как только тебя видели, щеки краснели. Не забуду случая, когда вытаскивали молотилку Молдаванина. Его жена кричала так, как будто ее режут. Собрались соседи. И как раз, когда нам выходить из больших ворот, Молдаванин выскочил из сада с ружьем, охотничьим. Чего скрывать — убежали мы, потому что знали — человек он суровый, убьет нас и глазом не моргнет. Против него остался только ты, Иванчо, один на один, помнишь? «Вертай волов!» — кричит Молдаванин, а в руках у него ружье. «Убери эту железку! — ответил ты ему так спокойно. — Ведь мы друг за друга знаем, этим меня не испугаешь». А он: «И не стыдно тебе, собака, десять лет мой хлеб ел, а сейчас сердце у меня вынимаешь?!» «Не десять лет, — сказал ты. — Больше, значительно больше. Ведь в твоей конюшне моего отца нашли умершим, ведь мать моя с твоего поля не вернулась. Не помнишь разве? А за эти десять лет кроме хлеба и пары изношенной твоими детьми одежды что ты еще дал мне? Ничего! Вот за батрачество отца, матери, за мои десять лет забираю эту молотилку! Берегись!» И погнал волов, которые тащили молотилку. Молдаванин стоял возле тебя ошеломленный, хотя и держал в руках ружье. Иванчо, помнишь ли ты?
— Пустяшное дело это, бай Петко, пустяшное…
— Вот ведь пустяшное, пустяшное, да не забывается. Если бы и ты сбежал, как мы… Те из односельчан, кто помоложе, навещают тебя, говорят, что в Москве ты большим наукам учился. Говорят, что и в газетах тебя часто печатают.
Автобус остановился. Бай Петко, прощаясь с Иваном, снова снял шапку и по-своему благословил его:
— Ну, давай, от здоровья не убежать. Заезжай и в село. Будем очень рады.
Этот старик открыл неизвестные стороны жизни моего коллеги. Я понял: он действительно из тех людей, кто молчаливо переживает и радость и горе. Я украдкой окинул взглядом его лицо, поседевшие волосы и заговорил как будто про себя:
— Наше село находится в нескольких километрах от станции Карлуково. Автобусы тогда еще были редкостью, и мы с дядей, когда возвращались из Софии, выйдя из поезда, всегда нанимали фаэтон. А дядя был неповторимый молчун. Напрасно однажды словоохотливый кучер пытался его разговорить. Дядя рта не открыл, отвечал только кивком. Это обидело кучера, и он за оставшуюся часть пути ни слова не проронил. И на коня ни разу не крикнул. Когда прибыли на место и дядя ему заплатил, кучер взял один из банкнотов и подал мне. Я посмотрел на него с удивлением — как может этот бедный человек делать такие подарки без всякого повода? «Бери, бери!» — настаивал он. «Но за что?» — в недоумении спросил я его. «Чтобы ты не рассказал никому, о чем мы с твоим дядей говорили в дороге».
— Разные люди есть, — ответил мой спутник. Он, конечно, понял мой намек и постарался не попасть в положение дяди. Из его рассказа я узнал, что в этом районе он работает несколько лет. Знает не только руководителей, но и работников, и кооператоров, и учителей.
Я спросил, не надоело ли ему это, а он посмотрел на меня с удивлением:
— Надоело?! Люди — это не обыкновенный роман, который за день можно прочесть и понять. Нити человеческой души невидимы для глаза. Они постоянно меняются, и мы должны непрерывно изучать их. Теперь я хорошо понимаю: прежде чем довериться тебе, люди хорошо тебя изучат и, только когда откроют в тебе частицу самих себя, примут тебя как своего, распахнут душу.
Говорил он немного коряво, все равно что шел спотыкаясь, но мысли у него были глубокие. Недавно в комитете рассказывали, как при обсуждении плана аграрно-промышленного комплекса, за который отвечает мой коллега, один из агрономов аргументированно доказывал, что если засадить луком не шестьсот, а триста гектаров, то можно будет лучше их обработать и получить урожай почти такой же, какой запланирован с шестисот гектаров. Председатель АПК прервал его:
— Меня не интересуют твои рассуждения, даже если они и верны. Меня интересует выполнение плана. Вы должны засеять шестьсот гектаров. Вам это ясно?
Иван, который сидел в зале в последнем ряду, встал. Все взгляды обратились на него. Председатель АПК произнес:
— Вот и товарищ из окружного комитета партии вам скажет то же самое. Это план.
Однако Иван сказал:
— Не прикрывайтесь окружным комитетом. Никогда и никто не давал указаний для таких действий, как твои. Если бы я был прокурором, немедленно отправил бы тебя в тюрьму. Ты не хозяин. Ты расточитель! — И сел.
На несколько минут в зале воцарилась тишина, а потом посыпались предложения. Председатель внимательно все записывал и никого не прерывал…
Автобус приближался к селу, в которое нас направили. Иван посмотрел на меня, подкупающе улыбнулся и предложил:
— Сходим сначала в коровник. В парткоме мы едва ли сейчас найдем кого-нибудь.
Я согласился. Дорога нас сблизила. Не буду скрывать: меня заинтересовала особая привлекательность этого человека. И что меня поразило — этот «молчун» среди обыкновенных тружеников становится другим, для каждого находит доброе слово, никого не обходит. С работниками коровника он разговаривал так, как будто они были профессорами, а он — студентом. Они высказывали ему свои предложения. Иван записывал их в маленький служебный блокнот, интересовался жизнью людей.
— А где сейчас Радка? — спросил Иван. — Что стало с ее мужем?
— Женщина всем на диво — умная, работящая, скромная, терпеливая. А он каждый вечер пьяный домой возвращается. Вон он стоит у двери, боится подойти к тебе. Стыдно ему. Ведь обещал…
Иван отошел от людей, приблизился к нему и строго сказал:
— В понедельник жду тебя в комитете. Если у тебя нет воли самому себе помочь, тогда мы обязаны сделать это. Ты понял? В понедельник!
Когда мы выходили из коровника, нас встретила сгорбленная старушка.
— Спасибо тебе, сын! — сказала она Ивану. — Скрасил ты мои годы. Будь здоров и счастлив!
Она больше ничего не стала говорить, но оба хорошо знали, о чем идет речь. Бабушка дала ему единственное яблоко, которое было завернуто у нее в переднике.
На следующий день мы решили посетить заводскую партийную организацию. По пути секретарь парткома с гордостью сообщил, что на этом заводе партийная работа поставлена хорошо.
— Секретарем парткома здесь опытный товарищ! — закончил он.
Нас встретила пара улыбающихся глаз. Кабинет выглядел блестяще.
«Эстет», — подумал я.
На столе красовались три телефонных аппарата разного цвета, немного в стороне виднелся и скрытый звонок.
— Беседа пойдет лучше, если ее согреть чашкой кофе или чая, — предложил секретарь парткома завода.
— Но ведь есть решение… — хотел я удержать его от угощения.
Его игривые глаза прищурились, по лицу расплылась улыбка, и он сказал:
— В каждом доме свой закон! Важно общественное не расходовать, но еще важнее — не терять времени, тем более в буфетах.
В дверях появилась девушка в синем переднике.
— Пожалуйста, скажите, кто будет чай, а кто кофе? — спросил секретарь парткома и посмотрел на нас.
Он ждал ответа. И девушка у двери ждала.
— Чаю и немного сахара, — ответил я.
Началась «беседа». Секретарь сам себе задавал вопросы и сам отвечал. Время от времени он морщил свой красивый лоб и тяжело вздыхал, чтобы убедительнее выразить, какие большие трудности пришлось ему преодолевать. Он так красноречиво обо всем рассказывал, что невозможно было не поверить ему. Иван воспользовался паузой и сказал:
— Людей, людей бы увидеть! Если для крестьянина главное — земля, то для нас, партийных работников, — люди.
— Есть ли в этом необходимость? В цехе грохот, пыль… — попытался отговорить нас секретарь.
— Догадываемся, что это не парфюмерный магазин, — сказал Иван и встал.
Мы надели новые синие передники, которые висели на вешалке за дверью. В цехе нас встретили как делегацию. С любопытством рассматривали. А когда Иван остановился около рабочего и спросил, какое личное обязательство он принял, рабочий посмотрел на него с изумлением.
— От нас требуется только план выполнять. Остальное — дело начальников. Они все знают, — сказал он и продолжал работать.
Мы пошли дальше. Секретарь парткома завода молчал. У дверей Иван снял передник, подал ему и долго молча смотрел на него, а потом проговорил:
— Вы напоминаете мне большое облако, долгожданное и желанное, которого люди ждут в засуху. Но оно проходит с сильным шумом, грохотом, ветром и без капли дождя. Партийная работа — это как мелкий дождь, который проходит незаметно, но поит землю досыта.
Я уверен, что секретарь парткома на всю жизнь запомнил этот урок.
ДОВЕРИЕ
Повестка дня заседания парткома давно была исчерпана, но начавшемуся разговору не было видно конца. Люди не расходились. Через открытое окно дым клубами выходил на улицу, и можно было подумать, что горит комната. С сигаретами были даже те, кто не курил. Спорили горячо, перебивая друг друга, говорили все одновременно.
— Остановитесь! — раздался среди сильного шума голос одного из членов комитета. — Говорите по одному.
— Ведь заседание закончилось…
— Закончилось, но мы не заканчиваем, потому что еще не все сказали.
И разговор продолжался, все такой же горячий. Те, кто помоложе, обвиняли секретаря парткома в том, что комитет превратился в проходной двор — открыт днем и ночью, люди заходят для праздной болтовни.
— Должен быть порядок. Надо принимать в определенный день и час, — говорили они секретарю. — Как в округе, как в министерствах. Там на дверях обозначено и время для приема. А у нас на что похоже?!
Кто-то из старших прервал их:
— На селе не как в городе. На селе кооператоры поздно вечером возвращаются с поля, вот в это время они и будут заходить в комитет… Порядок надо установить твердый. Ведь иногда происходят различные безобразия, посетители надоедают до такой степени, что ни дня, ни часу, ни даже минуты не дают поработать спокойно.
Временный порядок опять нарушился. Дым свивался в кольца и вытягивался в открытое окно. Вместе с дымом уменьшался и шум. В задремавшем селе одно за другим стали гаснуть окна.
Секретарь парткома молча слушал спорящих, по привычке слегка выдвинув вперед подбородок. Этого человека я знал давно, помнил его еще бригадиром молодежного отряда. Тогда он только что демобилизовался из армии, его синие глаза смотрели дерзко, непокорно торчал вихор.
— Потомком славного рода является этот парень. Из него получится хороший руководитель, — сказал мне тогда бай Кольо Лалев, старый революционер из этого края. — Из их рода Ангел-воевода[3], а говорят, что и Рада-комитка была оттуда же. А ты знаешь его отца? — И он рассказал мне такие подробности, которые я воспринял больше как легенду, нежели чем правдивую историю. — Очень похож он на своего отца, — продолжал бай Кольо. — И тот был высоким и краснощеким. Он и поныне стоит у меня перед глазами. Батрачили вместе с ним по чужим хозяйствам, вместе холостяковали, вместе нас взяли в солдаты. Это было во время первой мировой войны. Тогда часто приходили сообщения о погибших. Случалось, что в течение всей недели не прекращались стоны и плач в селе. Оплакивали погибших, оплакивали своих мужей и сыновей, пропадавших в окопах.
Судьба отца секретаря парткома была похожа на судьбы других. Однажды пришло сообщение и о нем. И как делали для всех, так и для него родные сделали гроб, положили туда его холостяцкий костюм, пошитый для свадьбы, кларнет, игрой на котором он волновал все село, несколько пар царвуль — крестьянской обуви из кожи, чтобы он мог навещать близких в их снах, и похоронили его. Было это осенним мрачным холодным днем. Осень сменила лето, за ней пришла зима, потом весна, лето… Много дорог исходила мать, чтобы гадалки рассказали ей, где лежат кости ее сына. Напрасно. Годы шли один за другим, впитывая горе и радость всего села. Переженились братья, повыходили замуж сестры, обзавелись своими домами, и каждый из них назвал по одному ребенку именем брата. Зажили все своими заботами. Только мать осталась со своей скорбью, которая с каждым днем все больше сушила ей сердце.
И кто бы мог подумать, что в это время в далекой стороне ее сын в плену терпел лагерные лишения?! Два раза он пытался бежать, но безуспешно. На восьмом году он, худой и обессиленный, сумел устроиться на болгарское торговое судно. Неделю отлеживался, а потом стал выполнять обязанности матроса. Каждый день он встречал рассвет и провожал закат с мыслью о родине. Когда пристали к родному берегу и матросы на руках перенесли его с судна на землю, он заплакал от радости. Царапал руками землю и плакал. Тот день тоже был осенним, но солнечным и праздничным. Балканские горы пламенели осенним багрянцем. Спешащие люди останавливались, с изумлением оглядывали человека с необыкновенно длинной бородой и отходили. Как добрался до своего дома, он и сам не знает. На одном дыхании поднялся по деревянным ступеням и встал перед открытой дверью, ведущей в большую комнату. Мать, высохшая и обессилевшая от скорби, сидела возле очага и готовила обед для косарей.
— Добрый день, мама! — сказал сын.
Старушка не обернулась.
— Гостей принимаешь, мама? — спросил он громче.
Старая женщина выпрямилась. Посмотрела на незнакомого человека и испугалась. Приняла его за черную чуму и едва слышно промолвила:
— Не ты ли добрался до моего сына?
— Мама, неужели не узнаешь меня? Ведь это я…
Минуту длилось молчание. Старая женщина жадным взглядом оглядела нежданного гостя. Щипцы, которыми она ворошила жар в очаге, упали, громко звякнув, и это как будто пробудило обоих. Старушка бросилась к сыну, которого она не уставала оплакивать. Громко, словно для того, чтобы ее услышало все село, она выкрикнула его имя и у него на руках умерла.
— Как жестоко мы расстаемся, мама. В этой разлуке есть виновные. Придет день, и они нам ответят за все. Мы научились бороться…
То была клятва, которая стала сущностью всей его жизни.
В его доме собирались люди, чтобы, как говорится, набраться ума-разума. Позднее подвал его стал и мастерской, и клубом… Чудные в нашем краю люди, — рассказывал мне бай Кольо, — если кого полюбят, то, будь он хоть на двадцать лет моложе их, все равно уважительно будут называть его с приставкой «бай»…
Слова Кольо вернули меня к действительности. Передо мной был секретарь парткома. Я смотрел на него и удивлялся, как спокойно он слушает гвалт. Это его, когда он еще был бригадиром молодежной бригады, называли бай Тодором. Потом его избрали председателем кооперативного хозяйства. Дела шли плохо. В конце года в хозяйстве трудно было свести концы с концами. Много было расходов, мало прихода. Молодые один за другим покидали село. Земля начала пустеть. В комитет поступил сигнал о том, что бай Тодор в ночное время бродит по улицам, по лесу. Это обеспокоило нас. Напряжение и до такого могло довести. Я пошел к нему. Застал его в канцелярии. Он рылся в книгах, что-то подсчитывал.
— Ты, случаем, не бухгалтер? — спросил я его и указал на горку листов, исписанных цифрами.
— Председатель, дорогой мой, должен быть и агрономом, и бухгалтером. Без знаний и умения считать дело не пойдет.
Я пригласил его обойти земли, встретиться с механизаторами. Вышли. По пути я спросил, как у него с нервами, выдерживают ли. Он с удивлением посмотрел на меня.
— Люди видят, как ты ночью ходишь в лес, — объяснил я.
— Верно. Когда дело не идет и сна нет, я встаю и отправляюсь в горы к поляне. На беседу и за советом хожу. А иногда и для отчета.
Мне все стало ясно. Вверху на горе, на поляне, — место, где погиб его отец. Сейчас там стоит невысокий памятник.
— Ты помнишь, как он ушел в отряд?
— Конечно. От меня он не скрывал ничего. Верил мне. Поздно ночью, когда мама подала ему вещевой мешок, а на улице его ожидал человек из отряда, он с улыбкой обернулся ко мне. Похлопал по щеке и сказал: «Ты уполномочен быть главой семейства. Я ухожу. Запомни: без свободы человек не может быть счастлив, и мы завоюем ее, непременно завоюем. А если случится так, что мы не увидимся, завещаю тебе это самое большое богатство. Береги его, как берегли все в нашем роду. И учись, сын. Во время своей скитальческой жизни я понял, что человек без знаний слеп». Это было все. Он не вернулся.
Бай Тодору было в чем отчитаться перед белокаменным памятником на поляне. За эти трудные для хозяйства годы он нашел силы вывести его из безнадежного положения и сам выучился на агронома. От забот ли, а может, от ответственности, которая лежала на его плечах, он уже тогда стал седым.
Несколько лет бай Тодор возглавляет общинный комитет партии. За это время его не раз приглашали на более ответственную работу в окружной комитет партии, но он отклонял предложения:
— Если меня переместите, корни мои все равно останутся здесь. А дерево без корней разве живет?
…Когда спор вспыхнул с новой силой, секретарь машинально стукнул карандашом по телефонному аппарату. Этого оказалось достаточно, чтобы наступила тишина. Бай Тодор не встал, как делал всегда, когда говорил на заседании, а, задумавшись, как бы уйдя в себя, тихо начал:
— Вы вот упрекаете меня, что, мол, ко мне люди могут прийти в любое время. Может быть, вы и правы… Не знаю.
Он замолчал. Потом обвел взглядом каждого в отдельности. Столько тепла было в его взгляде! Они хорошо знали друг друга. Он продолжал твердо и громко, чтобы все услышали его:
— Двери партии не могут быть заперты на засов, дорогие друзья. Люди идут не ко мне, а к дежурному солдату партии, а через него — к самой партии. Они идут в любое время, делятся самым сокровенным, потому что доверяют ей…
— Ты прав, бай Тодор! — прервал его один из самых старых членов партии в селе. — Мы должны строго беречь доверие партии. Потому что его, как и слово, однажды потеряв, назад не вернешь. Доверие и еще раз доверие. С ним, будучи на нелегальном положении, наши отцы шли темными ночами по опасным дорогам и крутым партизанским тропам, с ним обветренные, ослабевшие материнские руки тайно замешивали тесто для хлеба, с ним студенты оставляли аудитории и выходили на улицы. С ним молодые и старые, бесстрашные и сильные шли в одном строю. А сейчас, когда и небо наше, и земля наша, и все — наше? Сейчас…
Кто-то предложил:
— Давайте расходиться. Первые петухи пропели.
— Ты прав, припозднились, — сказал бай Тодор.
Мы вышли на улицу, но разговор продолжался. Под звездным куполом на площади продолжали тему о доверии, спорили, приводили примеры из жизни. К нам приблизился запыхавшийся парень. При электрическом освещении лицо его казалось белым как полотно.
— Бай Тодор, можно на минутку? — встревоженно спросил он.
— Что у тебя? Говори прямо!
— Отец помирает. Ему уже немного осталось. С вечера только твое имя повторяет. Хочет тебя видеть. Я искал тебя дома, там мне и сказали, что ты в комитете… Знаю, поздно уже, но человек помирает, едва ли дождется утра.
На следующий день бай Тодор принес в комитет небольшой сверток. Начал разворачивать газету, а руки у него дрожали от волнения. В свертке оказался старый партбилет, а в нем вырезанная из газеты фотография Георгия Димитрова.
— Вот что передал мне бай Никола в свою последнюю минуту.
Мы раскрыли партийный билет. Там стояла подпись отца бай Тодора, секретаря парторганизации.
ПОМОЛВКА
Редко бывает так, что человек, занятый партийной работой, забывает о делах и всем сердцем отдается веселью. Но именно так получилось со мной и моими товарищами на помолвке Вылко, инструктора организационного отдела.
Вылко долго не женился. Волосы его поредели, он постарел. Напрасно он искал компанию моложе себя. Однажды даже попал в неловкое положение. Отец парня, у которого мы были в гостях, вошел в комнату. Поздоровался со всеми, а дойдя до Вылко, задержал его руку в своей и спросил у своего сына:
— Это не директор завода?
Комната грохнула от дружного смеха. И Вылко засмеялся, но к его смеху была примешана и горечь. Смеялся и весь комитет. История эта быстро распространилась, и Вылко даже начали называть «директором». Подхватили шуточки и наши ребята из комитета. А кроме всего на одном из инструктажей секретарь парткома между прочим предупредил:
— Некоторые товарищи из аппарата забывают о своих годах и думают всю жизнь холостяками прожить. Вот так, без особых забот…
Мы, конечно, поняли, что он о Вылко говорит. Вылко выглядел как ошпаренный. После инструктажа поспешил закрыть блокнот и выйти из кабинета, боялся, как бы его не остановил кто-нибудь из наших и не повторились прежние остроты. Только вечером, выходя из комитета, я встретил его. В глазах у него отражалась озабоченность.
— Где бы мы ни находились, как только дашь сигнал к свадьбе, мы готовы, — заговорил я и похлопал его по плечу. — Давно мы не гуляли на свадьбе. А перед свадьбой должна быть помолвка. Так принято в нашем крае.
Он рассеянно посмотрел на меня:
— Нужно кончать с холостяцкой жизнью, но знаешь, как трудно старому холостяку решиться?! Будто течением воды меня сносит то в одну, то в другую сторону. — Он вздохнул и отошел. Потом догнал меня: — Но помолвке без инструкторов не бывать. И под землей все равно найду вас.
Вскоре мы разъехались по округу. Засуха иссушила землю, и она растрескалась. Воды в водохранилищах было так мало, что для поливки ее уже не хватало. Работы было много. Дни и ночи слились в одно целое. Однажды меня разыскали на дальнем участке поля и передали, чтобы вечером я явился в соседнюю общину на важную встречу. И больше ничего. Я решил, что опять нас собирает кто-то из секретарей партийного комитета, и поэтому прежде всего достал записную книжку с задачами и контрольными цифрами. В уме начала выстраиваться четкая информация, наметились выводы и предложения. Но времени для размышлений не оставалось, наползали сумерки, а расстояние, которое мне предстояло преодолеть до соседней общины, было немалым. Хорошо, что председатель ТКЗХ разрешил мне воспользоваться его газиком.
— Слышал, у вас веселье готовится, — шутливо заметил шофер.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Вылко, инструктор вашего отдела, этим вечером помолвку устраивает. Акушерка она… Отец его двух ягнят зарезал.
Так вот, оказывается, куда меня вызвали! Ведь Вылко именно из этого села! Я понял, что попал в заблуждение. Перестал думать о цифрах и представил себе Вылко, высокого, крепкого. В нашем крае о таких людях говорят, что они росли в трудные годы, а он, подшучивая над собой, объяснял, что вырос от мамалыги. Может быть, его рост и был больше, чем нужно, вот почему он никогда не поднимал высоко голову, а вжимал ее в плечи.
Нас встретила улица с выстроившимися по обеим сторонам домами. Вылко стоял перед новыми железными воротами и встречал гостей. Рядом с ним стояла его невеста.
— Конец! — засмеялся он, увидев меня.
— Не конец, а начало, братец мой.
Его невеста, женщина тоже не первой молодости, но симпатичная, подавала руку каждому и принимала поздравления.
Началось веселье, буйное, балканское. Замелькали бутылки с домашней сливовицей. Родные и соседи Вылко расставляли столы во дворе, словно устланном зеленым ковром. Соседки носили закуску, накрывали столы.
Самая молодая из них, крупная, стройная, в новом платье, усаживала нас. Иван, один из близких друзей Вылко, не отрывал от нее взгляда и только пел во все горло:
— Эх, Балкан ты наш родной…
Все шумели, как обыкновенно бывает на свадьбе, веселились.
Только муж красавицы, сидя в конце стола, безучастно смотрел на наши проказы. Долговязый и худой, с редкими усиками, он не говорил ни слова, но его бесцветные глаза не отрывались от жены. Шутники потешались над ним:
— Береги свою жену, друг, а то Иван похитит ее, как волк ягненка. Кому на свадьбе поется, а кто за топор берется.
— Береги, береги ее!
А он как будто их не слышал. Сидел в своем углу. Мне подумалось даже, что он всю жизнь вот так был в стороне от других. И от своей жены тоже. Я попытался представить себе, каким он бывает дома. Наверное, молчит целый день, возится с чем-нибудь и молчит. А что он может сказать этой женщине, которая согревает дом? И ведь они тоже когда-то обручились. И такое же было веселье, такие же крики. А потом, когда они вдвоем пошли одной дорогой, кто из них остался в тени другого? И неужели этой женщине так весело на чужой помолвке? Иногда человек смеется и проказничает, чтобы скрыть муку. Вылко, этим вечером ты больше всего должен смотреть на эту женщину и ее мужа. Если будешь похож на него…
Взвизгнул кларнет, загремел барабан, по двору разлился танец рученица. Красавица распрямилась, плечи ее запрыгали в ритм с ногами. К ней подскочил Иван, и началось состязание. В пляску ринулись и другие. Иван сбросил пиджак, а она, заигрывая, поддразнила его:
— И брюки сбросишь!
— Держись, Иван! — кричали мы.
Ее муж раза два поднимал голову, а она отбрасывала его взглядом, размахивала над головой платком и кричала:
— Мы так долго ждали этого веселья!
Она ждала этой помолвки, чтобы окунуться в пору своей молодости, чтобы, когда придет этот миг, сразу онеметь, забыть все, как в пьяном угаре, и сгореть.
А ее муж? Он пил рюмку за рюмкой и, подняв голову, встречал отталкивающий взгляд жены. Потом он вдруг исчез куда-то, а когда музыканты устали и Иван отирал пот большим мохнатым полотенцем, он вдруг появился перед ним с бутылкой ракии.
— Выпьем по-мужски, — предложил он Ивану.
— А мы только мужские дела и делаем, друг, — ответил Иван, и ракия заклокотала у него в горле. Выпив немного, он отдал бутылку, но муж не взял ее.
— Одним волом поля не вспахать, — ответил он.
— Всю ее выпью! — пообещал Иван.
— Посмотрим! — поддержала его красавица, обмахиваясь полотенцем, чтобы охладить разгоряченное лицо.
Иван встал, приподнял бутылку и, выпив ее, показал всем, что она пуста, и забросил ее в реку. Музыканты как будто только этого и ждали. Снова началась музыка. Понеслись песни. Сначала Иван дирижировал, потом строевым шагом начал ходить между столов и вскоре затерялся в сутолоке.
Незаметно наступил вечер. Заработали моторы у газиков — это шофера напоминали нам, что пришло время отъезда. Мы искали Ивана — его нигде не было. Обошли комнаты, двор, но нигде не нашли его. Один из стариков, который наблюдал за весельем с самого начала, вынул изо рта давно погасшую трубку, вытер свой пожелтевший ус ладонью и трубкой показал на поляну у реки.
Там метался и стонал, как раненый тигр, наш Иван. Мы посадили его в газик и выехали, провожаемые улыбкой красавицы.
Вылко и его будущая жена долго махали нам вслед.
Только через неделю мы узнали, что муж красавицы, рассерженный насмешками Ивана, бросил ему в ракию пепел от сигареты. Вот так и закончилась эта история.
ЕСЛИ ЕСТЬ СЕРДЦЕ
Морозы стояли из тех, что люди называют небывалыми.
В один из таких дней и прибыла к нам инструктор. Вечером состоялось собрание. Когда объявили докладчика и она, откинув голову, встала, некоторые парни многозначительно переглянулись, спрятали улыбки в ладонях.
Она начала говорить тихо-тихо. Но постепенно ее голос окреп, зазвенел — она то спрашивала и сама отвечала, то как будто допрашивала неизвестного дезертира, то словно вдруг стреляла в упор. Мысли ее были четкими и ясными. Что-то поразительное было в хрупкой фигуре девушки и в той внутренней силе, которая крылась в ней. И когда она закончила, ребята долго хлопали, как крылья веселой стаи. В заключение состоялись танцы. Танцевали до полуночи. В танцах она походила на ласточку. А когда переплясала в рученице самого прославленного танцора в селе, все подошли поздравить ее.
— Посмотришь на нее, — говорили меж собой старики, пришедшие порадоваться молодости, — и быстрее пролетит долгая зимняя ночь. И девушка-то из себя невидная, а ума и проворности ей не занимать.
На следующий день она должна была вернуться в город, но автобус не пришел. Как мы ни просили ее остаться, она не согласилась.
— По телефону позвоним, чтобы тебе разрешили.
— Нет! До обеда я должна быть в городе!
Она ушла, а мы долго смотрели ей вслед, пока маленькая фигурка не слилась с окружающей белизной. Нам стало неудобно, что мы не догадались ее проводить, а собрались в теплом клубе. Молчание угнетало нас. Секретарь комсомольской организации неотрывно смотрела туда, куда скрылась инструктор, и очень обрадовалась, когда увидела, что к клубу идут двое ребят, смельчаки, как их называли все. Не дождавшись, пока они войдут, она бросилась к ним:
— Девушка-инструктор ушла на станцию. Одна. Что будем делать?
— Как так ушла? — спросили они.
— Вот так и ушла! Неужели вы не поняли, какая она упорная?!
…Кони проваливались в снегу, а кое-где сугробы доходили до груди. Дорога угадывалась только по окружавшим ее деревьям. Ребята догнали ее на середине пути. Она едва дышала, вся посинела.
— Вы на станцию?
— Кто вас послал?
— Никто нас не посылал. Мы просто должны забрать почту, и все.
— И случайно меня догнали?
— Да, случайно.
— Это другое дело…
— Дайте руку! — сказал один из парней.
— Коню и без того тяжело.
— Ничего, выдержит!..
Так более двадцати пяти лет назад мы познакомились с Иванкой Кюрдовой. Когда я недавно напомнил ей об этом, она вздрогнула:
— Молчи, не говори! Неужели прошло столько лет? А кажется, что все было вчера.
Действительно, время не смогло изменить ее. Думается, оно вообще бессильно перед такими людьми, как Иванка. Они живут в другом ритме, в ритме завтрашнего дня, и время не может настичь их и наложить свою печать старости.
Когда-то, когда она была первым секретарем горкома БКП в Луковите, ее коллеги из других городов округа шутили:
— Иванка, верно ли, что автомашинам через твой город запрещено проезжать, потому что они пугают кур и мешают овцам проходить утром и вечером через центр?
Она пыталась шутками отвечать на шутки, но сердце у нее сжималось, а вечером сон не приходил. Ночи напролет она не спала, строила планы.
«Так больше нельзя. Как можно скорее нужно преобразить село. Люди, для которых мы живем и работаем, начали переселяться в Червен-Бряг, в Ботевград. Нужна экономика… Путь ясен, но…»
Руководство города, представленное старшим поколением, было удовлетворено достигнутым. Любое ее предложение встречали с усмешкой.
— Эта девушка думает, что ей море по колено, — говорили одни.
— Если бы было нужно, мы давно бы все сделали, — дополняли другие.
Но жизнь опровергла их мнения. Иванка искала свои пути в жизни. Именно эти пути видела она в своих планах. Они имели силуэты заводов, в них слышался рокот локомотивов. Она знала, что люди ее поймут, стоит только однажды начать. И новое придет, не задержится.
Поезд наверстал упущенное, пересек золотую долину Панеги и нырнул к цементному заводу. Неверящие когда-то приняли его в штыки и сочли едва не лишним для города. Но это было лишь начало. Вскоре и завод по производству приборов обосновался на самом высоком месте между Луковитом и Петровене. В пустующем клубе-читальне разместилось швейное предприятие, которое собрало женщин-умелиц не только из города, но и из близлежащих сел. Был построен и завод по производству гофрированного картона.
Остряки из других городов теперь говорили:
— Иванка, мы знаем, что вы строите новый центр города, можно приехать взглянуть на него?
— Примешь нас, чтобы показать, как ведется соревнование?
Действительно, события здесь приняли невероятный характер. Только за несколько лет небольшой поселок превратился в современный город, которому многие могут позавидовать.
Те, кто проезжали через город, не знали, как все это стало возможным. И жители Луковита, привыкшие к быстрым изменениям, подчас не догадывались, что за всеми этими переменами — и ее бессонные ночи. Сколько забот и горечи перетопилось в сердце первого секретаря городского комитета партии! Острее всего это ощущали на себе ее дети, которые соскучились по тому, чтобы сесть вечером вокруг стола вместе с родителями, как другие дети, и рассказать, как прошел день. Хорошо, что бабушка Донка понимала заботы своей снохи и, когда дети выражали недовольство тем, что мать их опять задерживается, желала им:
— Хорошо бы, чтобы и вы были такими, как она.
Однажды я спросил Иванку:
— А как вы преодолеваете свои трудности?
— Не буду скрывать, женщина всегда остается женщиной. Она не может, как мужчина, приказывать, не может выпить рюмку коньяка и этим заглушить горечь. Я, случалось, и плакала. А когда в бюро городского комитета партии мы не могли найти ответа на некоторые вопросы, то обращались в окружной комитет. Важно быть настойчивым и чтобы сердце лежало к работе.
И она вспомнила, как несколько лет назад пошла в окружной комитет партии к секретарю и сказала ему:
— У меня такое ощущение, что я не справлюсь с работой.
Секретарь долго смотрел на нее и молчал, потом спросил:
— Тебе это сказал кто-нибудь или…
— Нет! Я сама так думаю.
— Это хорошо! Это очень хорошо! Это прекрасная болезнь сердца, которая прозаично называется неудовлетворенностью. Эх, если бы мы все могли болеть ею!.. Действуй!
Вот уже более трех лет Иванка Кюрдова работает секретарем окружного комитета БКП в Ловече. Она осталась такой же — по-юношески упорной и дерзновенной.
— Самое страшное для партийного работника — это успокоение, застой, — говорит мне она. — Партийный работник должен, как солнечный луч, и согревать, и рассеивать мглу, чтобы люди его искали, протягивали руки к нему. А в чем магическая сила успеха? В умении уважать и слушать людей. — Она рассказала мне: — Однажды в комитет зашел мой знакомый. Он был возбужден, негодовал, что его освободили от работы в городском комитете партии. И при любой моей попытке остановить его начинал рассказывать свою историю сначала. А она была очень простой и краткой — его направили на хозяйственную работу. «Нет, ты должна понять, — сказал он, как отсек, — что по профессии я партийный работник. И таким должен остаться».
После урагана слов и бесчисленных ударов по столу он замолчал, ожидая ответа. А мне трудно было принять решение. Я спросила его, есть ли такая профессия — партийный работник? Он тянул с ответом. Нигде ведь об этом не написано. Тогда я спросила, есть ли профессия — солдат? И ответ последовал незамедлительно: «Нет. Это исполнение долга перед родиной». «А разве коммунист не является солдатом партии? И, когда требуется, партия переводит его в тот или иной гарнизон, на различную работу. Может ли это быть профессией? Нет! Это также обыкновенный долг коммуниста».
И знаете, мне было так неприятно, что мой знакомый капризно вел себя, выбирал должности, рассуждал в выгодном только для него плане.
А может быть, это только фразы? Бесплодные фразы. А жизнь требует разума, требует действий. Мой знакомый, весь покрасневший, нахмурившийся, ждал, сжав губы, что я ему скажу. И я сказала: «Иди! Не знаю, есть у тебя право или нет. Там на месте обсудим, с народом».
Он ушел недовольный. Сдержал гнев и ничего обидного не сказал мне, хотя резкие слова были готовы сорваться с его языка. Я чувствовала это. Как тяжела была ночь после такого разговора! Но утро всегда мудренее вечера. Рано утром я отправилась в городской комитет партии, где работал этот товарищ. Поговорила со всеми. Люди осуждали его откровенно. С тревогой, как о заболевшем товарище, многое рассказали мне о нем. И до сегодняшнего дня у меня в ушах звучат слова одного активного борца, члена бюро, который сказал: «Жизнь меня научила такой мудрости: если человек отправится в путь в одиночестве, он далеко не уйдет. Или зверь, или соблазн, или усталость собьют его с пути. Только в обществе людей дорога не чувствуется, с нее не собьешься. А он отправился один, забыл о своих товарищах. Некоторые называют это интеллигентством. А по-моему, это слепота. И слепота привела его к отчуждению. Давайте лечить парня, потому что слепота может его доконать».
Он, по сути дела, сказал главное. Мне стало гораздо легче…
Секретарша осторожно открыла дверь и едва слышно сказала Иванке:
— Товарищи пришли.
— Будем обсуждать программу выставки прикладного искусства в Орешаке. Есть интересные идеи.
Вечер опустился над городом. Иванка продолжала работать, а дома, наверное, ее ожидали…
ОТЕЦ, ОТЕЦ…
В городе есть две главные улицы. Одна из них идет параллельно железнодорожной линии, а вторая, намного длиннее, упирается в первую точно перед входом на станцию. Там, на перекрестке, самое шумное место — одни спешат на поезд, другие прибывают. Выбрав удобную позицию, на одном из углов в ожидании стоит Мартин. Он пришел раньше назначенного времени. Знакомые издалека улыбаются, а ему кажется, они спрашивают его: «Что, опоздала девушка?»
В сущности, он ничего не знает о ней. Они познакомились в поезде, и все. Только одна встреча, а ночью она приснилась ему — большие глаза, роскошные длинные волосы, властный взгляд. Она вдруг вошла в его жизнь шумно и неожиданно, как бегущая весенняя вода с Балканских гор.
На станцию прибыл скорый поезд. Люди как лавина хлынули на перрон. Новые пассажиры спешили сесть на поезд, искали свои места. На перроне остались только провожающие. У вечернего поезда их всегда меньше. Среди них Мартин увидел дядю Георгия. Нет, он не был простым провожающим. По старой привычке, стоя перед своей «канцелярией», на которой издалека была видна надпись «Штаб гражданской обороны», он уже несколько лет из года в год встречал и провожал поезда.
Мартин вспомнил вчерашний разговор с дядей Георгием.
— По нашему мнению, Мартин, твое место в партии.
— Да, но я не знаю, дорос ли до этого…
— Ты прав. До партии каждый доходит своим путем. Для одних он становится длинным, они проходят его медленно и трудно. Твой отец его прошел на одном дыхании…
Поезд медленно тронулся, и перрон опустел. Мысли вернули Мартина к вчерашней поездке. В купе они оказались втроем — Петр, коллега Мартина, он сам и незнакомка. Ее приход коллега встретил враждебно. Взглядом он сказал Мартину: «Ненавижу таких женщин… Не закрывай окно, давай ее подразним».
— Грубияны! Женщина их просит, а они притворяются глухими! — возмущалась она.
Мартин встал и энергично закрыл окно.
— Хочешь показать, что ты не грубиян? — поддел Мартина его коллега…
Мартин все чаще посматривал на часы. Неужели Петр устроил какую-то шутку, когда сказал, что она назначила ему встречу здесь. Еще немного, и он уйдет.
— Добрый вечер! Я хотела быть точной, но… — Она остановилась перед ним, ласково улыбнулась.
Он смутился, оцепенел, не зная, что сказать.
Был приятный вечер.
— Твои подруги, наверное, вечером будут смотреть на меня со злостью. — Она заговорила с ним на «ты».
— В городе у меня нет подруг, — пришел он в себя.
— Ну-ну, мы не маленькие, чтобы обманывать друг друга. Сыном героя многие интересуются.
— Какое отношение имеет к этому мой отец? — спросил с недоумением Мартин.
— Я хочу сказать, что тебя все знают и тебе в жизни открыта зеленая улица.
— Каждый сам стрелочник своего будущего!
— Это не так. В будущее проходят через мост, и довольно узкий. Одни могут его пройти, другим этого не дано.
— Нет! — возразил Мартин. — Одни проходят по этому мосту, потому что трудятся, а другие желают быть перенесенными на руках.
— Когда ты говоришь, тебя интересно слушать! Скажи мне, ты влюблялся когда-нибудь? Но только честно! — настаивала она.
— Да! Когда был студентом. Но она оказалась замужем, с двумя детьми.
И оба засмеялись. Парк давно окутал их своим мраком.
— От реки тянет холодом… — Он хотел снять свой пиджак, но она отказалась. — Сколько дней вы пробудете здесь?
— А что, тебе неинтересно со мной? — спросила она. — Я такая скучная?
— Нет, я просто хотел… Впрочем… — Он смутился окончательно.
Они сели на скамейку. Мартин все-таки сиял пиджак в накрыл ей плечи. Ее волосы ласково коснулись его лица. Запахло скошенным сеном и липовым цветом.
— Это неприлично, нас увидят, — отодвинулась она.
— Пусть целый мир нас видит. Вы для меня…
— Не спеши, прошу тебя. Все вы обещаете, а потом… Пошли. Я в гостях, и нельзя опаздывать.
Ее волосы обожгли ему лицо.
— Здесь нет ветра, — пошутила она, отдавая ему пиджак, когда они выходили из парка. Она дотронулась до него, но у него возникло ощущение, что она его обняла.
— Мы пришли! Отсюда я могу дойти одна. Мне было очень приятно.
— И мне. Завтра увидимся опять?
— Если ты хочешь, — ответила она…
Пока Мартин ожидал ее, он прочитал на афише о торжестве в молодежном клубе. Он предложил ей завтра пойти туда, и она согласилась.
Казалось, какая-то сила несла его к дому.
Дверь хлопнула, как от весеннего ветра. Лицо у него сияло. Мать уловила волнение сына и поспешила его спросить:
— Ты как будто что-то решил?
— Не знаю, — засмеялся он. — Я бы очень хотел, чтобы эта девушка стала твоим утешением. И чтобы ты была счастлива.
— Э, мое счастье не может быть полным, сын. Если бы жив был твой отец…
Ужинали молча. Каждый думал о счастье.
— Ты хорошо знаешь эту девушку? — внезапно спросила его мать, помолчала и добавила: — Потому что есть такие…
— Я уже не мальчик.
— Такие, как ты, легко влюбляются.
На столике под портретом отца лежал семейный альбом. Каждое утро первой заботой матери было стереть с него пыль. Такова была традиция. Когда Мартин был маленьким, мать научила его перед уходом в школу встать возле портрета отца и сказать: «До свидания!» Это тоже стало традицией.
— Сядь, мама.
Он раскрыл альбом. На фотографии — маленький мальчик, оседлавший буйвола с большими витыми рогами. На другой фотографии — ученик в грубошерстных брюках, коротковатых, раздувшихся на коленях.
— А эта фотография сделана за неделю до женитьбы, — показала она следующую.
Стройная фигура, мужественное лицо, проницательный, как у орла, взгляд.
Шелестели страницы альбома. В который уже раз материнские глаза ласкали взглядом выцветшие фотографии.
— А вот эта последняя, — сказала мать, и глаза ее наполнились слезами.
Они молчали, и разговор продолжался мысленно. На последней фотографии его отец снят в форме железнодорожника. Озабоченный, строгий взгляд, немного заострившийся нос.
Мартин закрыл последние пустые страницы альбома. На них не было фотографий. Здесь оборвалась жизнь.
На лицевой обложке альбома неумелая рука нарисовала белокаменный памятник со звездой.
— Мартин, иди сюда! Знаю, что ты любишь яблоки! — позвала из соседней комнаты мать.
Ночью он долго ворочался в постели. Сон не шел. Мартин зажег ночник, взял книгу, но читать не мог. Мысли уносились далеко-далеко. Он встал и долго ходил по комнате. Так и дождался утра, свежего, прохладного. Капли росы блестели как бриллианты и с легким шелестом падали с веток, когда Мартин шел через сад. Он не знал, что делать. Ему хотелось, чтобы побыстрее прошел день и наступил вечер, лиловый и тихий. Он придумал, что скажет девушке…
— Мартин, прохладно, а ты легко одет. Возвращайся! — услышал он.
«И она не спала, думала обо мне. Спасибо тебе, мама! Мы, дети, чем старше становимся, тем меньше ценим материнские заботы. Ты же живешь мною».
— Сейчас иду! — Он ухватился за перекладину, медленно подтянулся на руках и перекувырнулся.
После завтрака Мартин пошел к железнодорожной станции. По пути ему встречались знакомые, и он учтиво здоровался с ними. На углу, перед тем как спуститься по ступенькам лестницы, он увидел дядю Георгия. Свернув кусок слоеного пирога с брынзой в трубочку, дядя Георгий спешил в свою комнату. Несколько станций по линии гражданской обороны находились в его подчинении. Человек он был авторитетный, пользовался почетом и уважением не только в городе, но и в соседнем округе.
— Доброе утро, дядя Георгий! Рано встаешь.
— Когда мне было столько же, сколько тебе, мне здорово спалось. А теперь, когда прогудит в полпятого идущий в Софию скорый поезд, как по сигналу встаю. И, чтобы не будить молодых, иду в депо. А там всегда находится работа.
Они медленно пошли вместе.
— Что будешь делать, когда уйдешь на пенсию? — спросил его Мартин.
— Мне пенсия не нужна, Мартин. Боюсь я пенсии. Она станет для меня концом жизни. Пока я жив, буду работать.
— Но ведь она, как говорится, заслуженный отдых.
— Пенсия для меня что топор. Она подходит, чтобы обрубить корни жизни.
— Но ведь осень все равно придет, опадут листья с ветвей.
— Голая ветка грустит, что нет сил, мучается, что нет листьев. Но не стремитесь срубить ее!
— Я говорю в принципе, дядя Георгий. Ты ведь еще молодой.
— Если я встаю рано, не имея на то причины, то знаю, насколько я молод. А ты подумал о предложении?
— Подумал.
— Будь здоров!
Улыбаясь, Мартин шел к своей комнате.
— Эй, влюбленный, не проходи мимо обреченных женоненавистников! — догнал его Петр. — Рассказывай, что было вчера вечером…
— Не заглядывай в чужой двор, — засмеялся Мартин.
— Вот-вот! Так и с другими у меня бывало. Клянутся в дружбе, пока не станут рабами какой-нибудь женщины, а потом обо всем забывают. Скажи хотя бы, откуда она и кем работает, чтобы знать, станешь ли ты искать для нее работу здесь или уедешь с ней куда-то.
— Живет она в Софии, приехала в гости к своей тете, а кем работает — не знаю. Не дошли до подробностей.
Клуб был полон людей. Пионеры проворно поднялись на сцену, поднесли цветы и повязали алые галстуки ветеранам, занявшим места в президиуме. Секретарь комсомольской организации обратился к дяде Георгию с просьбой поделиться воспоминаниями.
— Это живая история партии в нашем крае, — прошептал Мартин девушке.
— Молодежи нужна музыка, а не воспоминания, — вяло ответила она.
— Воспоминания — это великое наше наследства, — продолжал Мартин.
— Надоело мне это наследство! — Девушка повернула голову в ту сторону, где длинноволосый, пестро одетый парень пошел к выходу, нагнувшись, чтобы не мешать людям. — Вот оно, наследство, — указала она на парня.
— Таким длинноволосым, может быть, лучше и уйти, — сказал Мартин. — Витрина безвкусицы!
— Почему? А разве крупные партийные деятели в свое время не носили бород и длинных волос?
Мартин посмотрел на нее с удивлением:
— Но что они носили под волосами и в своих сердцах?
Она не ответила. Воспоминания дяди Георгия она слушала рассеянно.
А он говорил спокойно, как будто речь шла вовсе не о том, отчего побелели его волосы.
— Я немного увлекся, но расскажу вам о командире нашей боевой группы. Он работал стрелочником на станции.
— Старому человеку дай слово, он и остановиться не может, — с досадой проговорила девушка.
Мартин не понял, кому предназначались эти слова. Или это были ее мысли вслух? Мурашки поползли у него по коже. Что представляет собой та, которая сидит возле него?
Он знал, кто такой этот стрелочник, о котором начал рассказывать дядя Георгий. Дома на столике под его портретом лежит семейный альбом.
Дядя Георгий продолжал:
— Процесс привлек всеобщее внимание в городе и районе. Пахари и землекопы, обходчики и машинисты пришли защищать стрелочника. Зал суда оказался мал, чтобы вместить их всех. Когда фашистский прокурор произносил свою обвинительную речь и через каждые два слова говорил о смертном приговоре, в зал протиснулся старший жандарм. Осклабившись, он подал записку прокурору. Во время паузы между словами прокурор прочел записку. Жандарм поспешил сказать ему: «Дочь! Поздравляю!» Прокурор продолжил свою речь, пропитанную жаждой смерти…
Девушка вдруг захотела, чтобы они вышли. Почему? Устала. Воздух в небольшом зале тяжелый, плохо влияет на нее. Слова о воздухе ударили Мартина в самое сердце. Он хотел ответить ей, что воздух этого зала — это воздух воспоминаний. Таким же воздухом дышал стрелочник во время того процесса, прежде чем встал перед дулами винтовок. Стрелочник был его отцом.
Мартин не раз слушал эти воспоминания дяди Георгия, но всегда, когда тот начинал рассказывать, он как будто слышал их впервые. И каждый раз думал о девочке, родившейся в тот самый день, когда был произнесен смертный приговор его отцу. Ведь и с этой девушкой они ровесники. Мартин родился за двадцать дней до вынесения приговора. Это она? Знала ли она, кем был ее отец? Возможно, ей сказали. Скорее всего, ее мать ей сказала. Но Мартин был уверен, что ей не сказали главного — что ее отец жаждал смертного приговора стрелочнику. Он хотел этого алчно, злобно, в опьянении произнося обвинительный приговор именно в тот день, когда у него родилась дочь.
Девушка встала, а вместе с ней и Мартин. Дядя Георгий уже заканчивал. Мартин знал, чем он завершит свои воспоминания. Знал, что на глазах у него появятся слезы, которые он вытрет обратной стороной ладони, как вытирают вспотевший лоб.
Он кивнул, извиняясь, дяде Георгию, но тот не видел его. Мартин шел за девушкой как во сне, в висках стучала кровь. «Значит, она — дочь прокурора, — думал он. — Только она может так реагировать на воспоминания дяди Георгия. Как я не почувствовал этого сразу? Как неожиданно истина открылась мне! Но почему я должен был влюбиться в нее?» Сердце у него сжималось от боли.
Они вышли на улицу, и она сразу взяла его под руку, не стесняясь, что вокруг много людей. Пусть все видят, что она, дочь прокурора, идет под руку с сыном стрелочника, смертный приговор которому ее отец когда-то подписал с легким сердцем, подписав вместе с ним и свой собственный приговор, приведенный в исполнение народным судом. Мартин попытался выдернуть свою руку.
— Спасибо тебе, — сказала она и поцеловала его в висок. — Мне действительно стало плохо.
В виске у него гулко пульсировала кровь. Почувствовала ли она это?
— Извините. Кто по профессии ваш отец? — глухим голосом спросил он.
Не отпуская его руку, она ответила, что отец ее служащий, банковский служащий. В этом году в качестве награды он едет в Венгрию.
— А раньше?
Она искренне удивилась, ответила, всегда помнила своего отца банковским служащим.
— Раньше он был прокурором, — сказал он.
Девушка замедлила шаги:
— Мартин, что с тобой?
Впервые она заговорила с ним прямо. И впервые он почувствовал, что девушка не выпускает его руку не потому, что душный воздух в переполненном зале утомил ее.
— Он был прокурором, — убежденно сказал Мартин. — И вынес смертный приговор моему отцу. Тот стрелочник, о котором рассказывал дядя Георгий, — мой отец. Пойдем ко мне, я покажу тебе его портрет.
Она остановилась. Отпустила его руку, но сразу же схватила ее снова, обняла его:
— Мартин!
— И он объявил смертный приговор в тот день, когда ты родилась. Мы с тобой ровесники. Я давно хотел тебя найти, поговорить с тобой и в конце концов нашел.
Девушка прижималась к нему, дрожала. И голос у нее дрожал.
— Вернемся в зал, мне уже лучше, — сказала она.
— Мы не можем вернуться, — ответил Мартин. — Дядя Георгий все рассказал и сейчас вытирает глаза. — В голосе его была злоба. Такая злоба, что он сам испугался.
Он вспомнил о своем сиротском детстве, о юности, о молодости, в которой ни разу не произнес слова «папа». Его трясло. Он сжал кулаки, и ногти впились в ладони. Он боялся, что ударит ее.
— Мартин, даже если допустить, что мой отец был прокурором, разве я чем-то виновата?
Она произнесла эти слова спокойно и этим как будто обезоружила его. Он смягчился. Вгляделся в ее лицо. Дядя Георгий рассказывал ему подробно, как выглядел тот прокурор. Нет, подбородок у нее не был острым и брови не нахмуренные. А может быть, она на самом деле была дочерью служащего банка?
— Извини, — сказал он. — И до свидания.
Он повернулся и медленно пошел к повороту, а после поворота побежал. Бежал и быстро удалялся от нее. Только когда добежал до дома, вспомнил, что даже не узнал номер ее телефона. И понял, что не мог бы сделать это. Ведь он встретил дочь служащего банка, а разговаривал со своей далекой ровесницей, родившейся в тот день, когда прокурор вынес смертный приговор его отцу.
Перевод Б. И. Коровина.
И НЕ СКАЗАЛ НИ СЛОВА Повесть
ПРОЛОГ
Тетевен — город, заботливо укрытый в глубинах Балкан, окруженный величественными вершинами Трескавец, Рамникамык, Петрахиля, Козница, Хайдушка-поляна…
Тетевен — город, несущий в себе дыхание революции.
Я иду по его узким солнечным улицам, всматриваюсь в лица прохожих, пытаюсь отыскать одноклассников Ивана Туйкова…
Какими они стали, его друзья и сверстники Никола Василев (Колци), Пенка Кунчева, Марин Темелский, Милка Милчева, Райна Атанасова, Генчо Бечев, Дико Гаврилов?.. Ведь прошло уже более трех десятилетий. Жизнь оставила свои отметины. Волосы их поседели. Глубокие морщины пролегли на их лицах, морщины, которые уже не разгладить… Эти самоотверженные, сильные люди вложили в красоту нашего времени пульс своей молодости.
И все равно годы и заботы не изменили ни их улыбок, ни их отношения к Ивану Туйкову. Все, с кем я встречался, говорили о нем так:
«Обаяние Ивана было так велико, что он сразу располагал к себе, потому что в нем были непринужденность и простота в отношениях с людьми, искренность и мужество, которые никогда нельзя забыть».
Напрасно я рылся в архивах с протоколами полицейских допросов. Найти ничего не удалось. Лишь случайный фотограф-любитель сохранил снимки. С фотографий смотрели большие, откровенные, полные дерзости глаза, в которых искрилась улыбка. Ничто так полно не раскрывает чистоту человеческой души, как улыбка.
«Лицо Ивана было бледно, но озарено умом и добротой…» — с уважением сказал один из его друзей.
Я долго размышлял о короткой жизни Ивана Туйкова, о его деятельности, потому что хотел рассказать о ней. Рассказать! Ведь ее истоки — в группах Рабочего молодежного союза, в партизанских явках, в нелегальных собраниях, на заснеженных горных тропах, по которым проходил он сам и проводил руководителей оперативной зоны. Эта работа была скрытной, но как ярко высветила она день и ночь 27 марта 1944 года! Тогда в полицейском участке Тетевена «маститые исследователи» приложили все свое умение и «искусство», а в конечном счете оказались бессильными перед каменной преградой слов двадцатидвухлетнего парня: «Ни о ком ничего не скажу!»
В этих словах были дерзость и сила.
Короткую жизнь Ивана Туйкова можно выразить одним словом — подвиг! Он положил начало его бессмертию.
А начиналось оно так…
НА РАССВЕТЕ
Снежная вершина Петрахиля искрилась в лучах восходящего солнца, которое отбрасывало яркие блики и на кровли домов. Тетевен просыпался.
Иван стоял у окна, пристально глядя на Балканы. Всю ночь глаз не сомкнул, не присел отдохнуть. Обошел всех товарищей из группы и передал им распоряжение командования отряда. Потом сложил и свои пожитки. Так Иван и встретил рассвет.
Он ждал прихода Колци и Марина Темелского. Они пошли на встречу с Томой Стефановым (Владо), чтобы получить последние указания. Слова заместителя командира отряда Владо, сказанные им прошлой ночью в пещере у села Полатен, еще звучали в его ушах:
«Ребята, борьба жестока, а потому в ней могут участвовать лишь смелые и бескорыстные люди. Каждый боец, прежде чем идти в бой, должен оценить свои силы. — Он помолчал, посмотрел каждому в глаза, на мгновение задумался и тепло, с заботой в голосе произнес: — А теперь отправляйтесь! Завтра вечером ждите меня здесь. И не забудьте о клятве!..»
Иван представил себе Владо таким, каким видел его минувшей ночью, и усмехнулся. До того как они встретились, он представлял его себе совсем другим человеком: большой, с сильными, крепкими руками, в огромной шапке, с крупными чертами лица и длинными усами, как у старых гайдуков. А Владо оказался щуплым, с худощавым лицом, с падающими на лоб волосами, с живыми, искрящимися глазами. У него был мягкий, теплый голос. Говорил он просто, ясно и лаконично. Все, кто бывал с ним, готовы были слушать его часами. А он, Иван, удивлялся его всесторонним знаниям. Владо был студентом-агрономом, но когда он в разговоре касался проблем философии, политэкономии, литературы, то говорил как специалист.
Иван сидел, прижавшись спиной к стене, и думал: «Сейчас его товарищи, его однокурсники сидят в теплых аудиториях, слушают лекции о научных открытиях в биологии, думают о том, как заставить землю обильнее плодоносить. Однако из этих лекций они не узнают о самом важном — об общественных преобразованиях».
Владо раньше других понял это и во имя этого, промерзший и голодный, ночевал в сырых пещерах, обходил хутора, села и города, искал тех сильных и смелых людей, которые любили народ и родину, презирали и ненавидели фашистов и мракобесов и были готовы с оружием в руках воевать против них.
По поручению партии Владо объединял и направлял деятельность партийных и молодежных организаций; помогал им в воспитании людей, создании боевых групп. В то же время он приводил в горы новых партизан. Самоотверженностью и преданностью народному делу он завоевал доверие людей Луковитского и Тетевенского края. В их глазах Владо постепенно превращался в апостола свободы, в легенду, символ и мечту о завтрашнем дне. Для него, Ивана, он был и самым лучшим учителем…
Прежде чем выйти из пещеры, Иван снял с пояса флягу, оплетенную кожаными ремешками, и сказал Владо:
— Знаешь… возьми это! Кроме нее, у меня ничего нет, чем бы я мог выразить тебе свою дружбу… Завтра вечером, — посмотрел он ему в глаза, — я приведу еще товарищей…
Иван поднял голову. Светало. Лишь сейчас он почувствовал холод. Расправил плечи, протянул руку и взял пиджак, лежавший на одном из стульев. Поднял глаза на Петрахилю. Это рождение нового дня он принял как символ рождения свободы. Душа его преисполнилась веры в светлый завтрашний день. И он мысленно повторил партизанскую клятву: «С гордостью я радостью принимаю звание участника народного освободительного движения. Клянусь перед товарищами и павшими смертью храбрых борцами Отечественного фронта, что отдам все свои силы и жизнь освобождению родины и всего мира от гитлеровских захватчиков и их болгарских прислужников, обещаю, что с оружием в руках буду бороться за осуществление программы Отечественного фронта. Клянусь, что буду выполнять боевые приказы своих командиров и не выдам тайны, которой воспользовался бы враг. Если же я нарушу эту клятву, пусть падет на меня суровая кара и позор. Да здравствует Отечественный фронт! Да здравствует Народно-освободительная повстанческая армия! Смерть фашизму! Свободу народу!»
Он огляделся и светло улыбнулся.
Со двора донесся голос отца. Он прикрикнул на лаявшую собаку и услужливо сказал кому-то:
— Дома парнишка, сейчас я его разбужу!
— Не спеши! Мы сами…
Иван замер. Он узнал голос одного из полицейских, соседа, который часто заглядывал в их корчму, и скорее почувствовал, чем понял, что пришли его арестовать. Мгновенно решил выпрыгнуть в окно, шагнул к нему, отворил. И тут же тихо отступил. Внизу стоял вооруженный полицейский.
«Обложили… Неужели все кончено?»
Едва Иван успел затолкать под кровать приготовленный узелок с едой, как на пороге появился отец. За ним шли Йордан Николов, прибывший несколько дней назад из плевенского управления общественной безопасности, и полицейский.
Николов легко оттолкнул отца в сторону.
— Доброе утро, Иванчо! Ты как будто только нас и дожидался? Готов уже в дорогу? — иронично произнес он, и лицо его растянулось в липкой улыбке.
— В село заскочить собрался, — ответил отец вместо сына.
— А-а, ну ничего, еще заскочит, только… с нами! — Николов взглянул на полицейского, и наручники щелкнули на руках Ивана.
— Люди, подождите! Эй, что вы делаете, люди?! — задохнулся изумленный отец.
Подмигнув полицейскому, Николов подхватил бай Павла под руку:
— Павле, чего это ты так затрясся? Обыкновенная проверка. Да ты не валяй дурака и не жмись, ну иди, иди туда… налей по одной…
Отец посмотрел на сына, перевел взгляд на полицейского, угодливо кивнул и кинулся в корчму. Довольный, Николов зашагал вслед за ним.
В корчме стоял густой запах табачного дыма и подогретой ракии. Ее аромат раздразнил Николова, и он жадно сглотнул.
— Милости прошу, господин… — Бай Павел поставил на стол стограммовый стаканчик.
— Ну, на здоровье! — воскликнул Николов. — А за парня не бойся. Я тебе за него головой ручаюсь!
Бай Павел налил еще. Николов снова опрокинул жгучую ракию в глотку. Встал и молча направился к полицейскому участку.
Бай Павел стоял словно окаменевший. Лишь чайник подрагивал в его руке. Растерянный, он смотрел, как медленно удалялся его сын. И только потом спохватился, что те двое, забравшие сына, не сказали ни слова, куда в зачем повели его. Внезапно будто острый шип кольнул бай Павла под ложечку. Силы ушли. Он попытался крикнуть, но голос застрял в горле. Хотел побежать следом, догнать, но там, впереди, уже никого не было.
Он упал на ближайший стул. Чайник, загремев, покатился по полу.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ…
Перед полицейским участком было оживленно. Весть об аресте Ивана, сына Павла Туйкова, облетела село с быстротой молнии. Она сильно взволновала людей, а они бросились к участку. Обогнали и Николова, и полицейского, и арестованного Ивана. Говорили громко, причитали, кричали, что произошла ошибка. Женщины проклинали полицейских и исступленно замахивались на них. Когда Иван приблизился к участку, общий ропот прокатился по толпе.
— За что сироту изводите, разбойники? — взвился высокий женский голос.
— Сиротой вырос, горемычный, а они — хватай и тащи! И руки ему заковали! Покарай вас бог! — вскричала низенькая полная женщина.
Николов толкнул полицейского, тот — Ивана. Николов спешил скорее войти в помещение. Он пятился задом, предусмотрительно сжимая в кармане пистолет. Как только подошли ко входу в здание, полицейский втолкнул Ивана, вошел вслед за ним. Дежурный полицейский сонно приподнялся и произнес, обращаясь к Йордану Николову:
— Начальник ушел отдыхать. Просил, чтобы нового закрыли в арестантской.
Ивана повели вниз по лестнице. Уже на третьей ступеньке в лицо ему ударил отвратительный запах застоявшегося воздуха. Когда остановились перед дверью, Иван с трудом сдержал тошноту. Было такое ощущение, что его вводят в ад, наполненный нечистотами.
Сопровождавший Ивана полицейский сунул ключ в замочную скважину.
— Вот это наша «кухня», Иванчо. Лучше сразу выкладывай правду, иначе можешь свариться здесь, как боб в кастрюле! — Он толкнул Ивана, чтобы тот не задерживался.
— Я ничего не знаю, — в первый раз произнес Иван.
— Ну да! Как же! Раз тебя сюда доставили, значит, нет дыма без огня.
Щелкнул замок, резко взвизгнули дверные петли. Перед Иваном открылся тесный коридор с бледным мерцающим освещением. Полицейский указал на одно из средних помещений:
— Заходи! И чтобы без глупостей!..
Иван переступил порог, и дверь захлопнулась за его спиной. Было темно хоть глаз выколи. Он постоял на месте. Ничего не было видно. Его охватило замешательство. Он стоял в липкой темноте и прислушивался. Тишина и сырость. Он кашлянул и осторожно спросил:
— Есть тут кто-нибудь?
Тишина.
— Или я один? — громче произнес он.
Никто не ответил. Иван слышал только свой собственный голос. Протянул руку и дотронулся до стены. Пальцы его ощутили крупные, грубо обтесанные камни.
Глаза его постепенно начали привыкать к темноте, и он осторожно стал продвигаться вдоль стены. В углу споткнулся о кучу угля. Тихо выругался. В другом углу нащупал охапку сена. Оно было сырое и пахло гнилью. Иван обошел весь подвал. Он был небольшим, и в нем, кроме угля и сена, ничего не было. Иван опять прислушался и услышал только удары собственного сердца. Казалось, оно колотилось и в груди, и в ушах, и в висках. Неожиданно Ивану вспомнилось, как однажды ребята из их квартала решили пойти в пещеру у села Градешница. Когда забрались внутрь, он потерялся и внезапно понял, что остался один. Тогда он почувствовал, как страшна тишина, в которой воет и плачет балканский ветер.
Сейчас тишина между четырьмя холодными каменными стенами начинала его душить, перехватывала дыхание. Он глубоко вдохнул воздух, стиснул голову ладонями. Стиснул до боли. Ему хотелось сбросить с плеч гнет тишины, прийти в себя, привести свои мысли в порядок. Один вопрос, сильный, как эхо, страшный и жестокий, как смерть, гулко звучал в голове: «Неужели кто-то предал?» Звучал и приводил его в замешательство. Он обязан, он должен был припомнить все!
Вчера вечером они с Колци были у Пенки Кунчевой. После их ухода в горы она и Милка приняли на себя руководство городской организацией Рабочего молодежного союза. Нужно было поговорить о многом. Там он оставил дубленый полушубок Колци, который носил зимой. Прощаясь, договорились, что он, Иван, домой не пойдет, а переночует в доме Колци. Это не удивит родителей Колци, потому что они привыкли к тому, что Иван часто дома не ночевал. Колци и Марин Темелский отправились на встречу с представителем отряда: она была назначена накануне вечером. Иван знал, что вечером выходить из города опасно. Установленный еще осенью 1943 года комендантский час сковывал действия людей. На шоссе непрерывно патрулировала дежурная полицейская машина, стучали подкованными сапогами патрули и в городе. Полиция часто меняла расположение секретных постов. Обстановка была сложной.
А вдруг полиция схватила Колци?..
«Неужели предал? — прошептал Иван, но стены молчали. — Нет! Никогда! Не-ет!.. Допрос еще не начался, а нервы у меня натянуты до предела…»
Он встал. Хотел размяться, но ударился головой о холодный камень и почувствовал сильную боль. Как он мог подумать что-либо подобное о своем лучшем друге?!
«Какой я дурак! Колци, прости мне мою глупость! Как будто я не знаю, что, даже если тебя и схватили, даже если душу из тебя выматывают, ты не предашь дело, ради которого живешь. В тебя я верю больше, чем в себя. Ты успел прийти на встречу. Я знаю… Знаю!»
Он вернулся к гнилому сену и сел. И опять подумал о последних событиях. Он помнил их до мельчайших деталей.
23 марта прибыл связной из районного комитета партии в Гложене. Иван разволновался как мальчик, когда увидел незнакомого товарища. Наконец-то! Им уже осточертело ждать. Руководство отряда несколько раз откладывало их уход в горы из-за глубокого снега, выпавшего в марте. Значит, решение принято?! Но связной не принес ожидаемого разрешения, лишь коротко передал:
— Сегодня вечером нужно провести в Лесидрен очень ответственных людей. — Он поглядел на облака, взглянул на глубокий снег и сочувственно покачал головой: — Ну и погодка!
Иван усмехнулся:
— Не беспокойся, мне не впервой!
Вечером около Гложене он встретился с командиром военно-оперативной зоны Борисом Поповым, с политкимиссаром Петко Куниным и начальником штаба зоны Стояном Едревым. Двинулись в путь. Ночь была туманной, но вскоре подул ветер, разогнал туман, и поле заблестело в предательской ночной белизне. Они шагали сквозь нее. Потом налетела буря, страшная балканская буря. Все кругом смешалось. Они с трудом пробивались через глубокий снег. Ветер выл, гудел, набрасывался на них, словно хотел унести их, но они обхватывали деревья и стояли так, пока вихрь не ослабевал. После каждого шага Иван оборачивался и искал спутников взглядом. Неизменно подле себя он видел Стояна Едрева. Закутанный в бурку, тот был похож на снежного человека. Когда ветер утих, до Ивана донесся голос Петко Кунина:
— Вот это настоящая партизанская погода! Сейчас и самые опытные собаки не смогут отыскать наших следов.
— Только бы не занесло нас куда-нибудь, — отозвался Борис Попов.
Они продолжали прокладывать тропку по заваленному толстым слоем снега склону.
Стоян Едрев остановился и спросил:
— Эй, проводник, ты хорошо ориентируешься? Куда мы идем и где находимся?
Иван повернулся к Едреву:
— Находимся над Тетевеном, местность называется Бивола.
Стоян Едрев кивнул, и оба они, словно страхуя друг друга, продолжали идти вперед.
От Помашка-Лешницы их повел Кирил Райков, Ему предстояло связать их с подпольщиками из Лесидрена. А те должны были провести их в район Трояна.
Кирил Райков был одноклассником Ивана Туйкова и руководителем группы Рабочего молодежного союза в гимназии. Общая работа давно сблизила двух молодых людей. Иван высоко ценил политическую подготовку и деловые качества Райкова и часто в разговорах с ремсистами защищал его от несправедливой критики. Действительно, Кирил был выходцем из зажиточной семьи. Родители его имели более десяти гектаров земли. Отец его был торговцем в районе. Но еще в первый год своей учебы в тетевенской гимназии он оказался среди ремсистов, без колебаний воспринял идеи РМС и стал членом союза. За прогрессивные ремсистские взгляды, которые легли в основу его доклада о Ботеве, он был исключен из девятого класса гимназии. Больших усилий стоило ему попасть в луковитскую гимназию, но и оттуда он был исключен из-за своего реферата о болгарском возрождении. В реферате он писал, что народ может приступить к возрождению, только освободившись от фашизма.
Кирил Райков снова вернулся в Тетевен и с самого первого дня с еще большей страстью продолжил свое участие в революционном молодежном движении. Эта страстность и горячая ненависть к фашизму часто приводили его к ошибкам в прямых идеологических схватках с классовым противником. Порой он не соблюдал никаких требований конспирации. Как-то раз в стычке с легионерами и бранниками[4] он схватил одного из них за шиворот, встряхнул его и проревел ему в лицо:
— Знаешь ли ты, гадина, сколько весит большевистский кулак?
Перепуганный легионер молчал. Кирил замахнулся и одним ударом сшиб его с ног, потом наклонился, поднял его и процедил сквозь зубы:
— Это была лишь треть его возможностей. А сейчас иди и скажи своим дружкам, чтобы не попадались у меня на пути!..
Иван вернулся из Лесидрена, падая от усталости, но не пошел домой, а поспешил найти Колци. Ему хотелось поделиться с другом своими впечатлениями о людях, которых он провел до Лесидрена, сказать ему: «Знаешь, какие это люди, братишка! Снегу по колено, а они идут! Буря их валит, а они поднимаются и снова продолжают идти! Потому что это настоящие революционеры. А мы кто? Пригрелись мы тут и… Чего мы ждем?..»
На другой день Иван узнал, что в Лесидрене произошла перестрелка. Полиция арестовала Васила Марковского и Петра Кантарджиева. Схватили и Кирила Райкова. Начались аресты в Лесидрене и Помашка-Лешнице. В Тетевене было спокойно.
«Из задержанных меня знает лишь Кирчо, — напряженно думал Иван. — Он сильный, предателем не станет! И все же… все же он для того, чтобы ошарашить полицию, может наговорить такого, что беды потом не оберешься… Нет, нет! Кирил?.. Едва ли… — Он провел ладонью по пылавшему лбу. — А ты, Иване? Ты?.. Я? Что я?.. Я никого не знаю! Ни о ком ничего не могу сказать!»
В напряженном ожидании он замер в углу.
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Услышав, что в Лесидрене и Помашка-Лешнице произведены аресты, Иван посоветовался с Колци, Пенкой Кучевой и немедля отправился в Топилиште. Нужно было предупредить товарищей.
«Всякое может случиться. Кто-нибудь из арестованных не выдержит пыток, и тогда потянется ниточка, как петля в порванном чулке».
Да и погода, леший бы ее побрал! Вроде и конец марта, а зима будто опять вернулась. Забушевала метель, закружились облака снега. Гудели телефонные провода, скрипели сучья деревьев. Весь в снегу, словно снежный человек, Иван пробивался сквозь пургу, едва переставляя ноги. Его гимназическая шинель, вылинявшая и давно уж ставшая тесной для его широких плеч и короткой для его высокой фигуры, легко пропускала свирепый леденящий ветер, и казалось ему, что еще мгновение, и он закоченеет, превратится в ледяную сосульку. Тогда он упадет, заснет, дыхание его остановится. Третий час боролся он с метелью, со снежной стихией. Но где же, где же домик Кынчо Милчева? Он должен туда добраться, должен добраться живым или мертвым! Нет! Только живым, потому что оттуда он свяжется с командованием отряда.
Иван напрягал силы, делая шаг за шагом. Падал, полз, приподнимался, снова шел. И вдруг какая-то тень мелькнула поперек его пути. Он медленно подавил в себе напряжение, залег и погрузился в глубокий снег у межи.
Но вот ветер отнес белую завесу, и Иван облегченно вздохнул. Не тень человека, а куст терновника качал перед ним своими голыми ветками.
— Проклятая погода! — выругался Иван, но ветер унес его слова.
Он снова двинулся вперед. Сколько времени Иван шел, он ничего и никогда не смог бы рассказать. Но какой-то клеточкой в самой глубине своего существа он ощущал: что-то неуловимое и живое ведет его верно. Оно привело его в Топилиште, оно поставило его перед дверью дома Кынчо Милчева. Он это скорее почувствовал, чем понял.
Иван постучал тихо-тихо, но ему показалось, что затрещали доски.
Дверь осторожно и медленно отворилась. Удивленное беспокойное лицо показалось в узком луче красноватого света. Лицо оживилось. Женщина тихо вскрикнула, потом всхлипнула:
— Ты же погибнешь, миленький! Куда ж тебя понесло в такую лихомань?
— В гости… — попытался пошутить Иван.
— Дорогой, значит, ты гость, раз в такую погоду решил посетить нас. Входи!
Иван медленно, с трудом переступил порог.
Бай Кынчо быстро встал, осторожно подхватил его, снял с него задубевшую одежонку и, поддерживая, усадил у печи. Потом вышел, зачерпнул пригоршнями снега, возвратился к Ивану и долго растирал ему лицо, уши, ноги.
— У нас это называется сиротская баня зимой, — запыхавшись, сквозь смех сказал он. — Так что… помыли мы тебя. А сейчас говори, куда ты отправился в такое сумасшедшее время? — Бай Кынчо цепко смотрел на него, ожидая ответа.
— Пришел вам сказать… предупредить… — с усилием заговорил Иван. — И товарищам из отряда надо сообщить, что после перестрелки в Лесидрене прошли аресты…
— Так, так… Надо же!.. Аресты, говоришь? — Бай Кынчо опустился на лавку.
Жена его принесла таз с теплой водой и мешочек с морской солью.
— Ну-ка давай грей ноги!.. Я по-крестьянски тебя буду лечить… лекарств у нас нету.
Иван задвигался, засуетился. Не знал, что ему делать.
— Я прошу вас… Зачем это?.. Не надо. Не беспокойтесь… Мне… ничего со мной не случится… Поверьте, ничего… — Щеки его слегка закраснелись.
— Слушай, сынок! — Бай Кынчо откашлялся. — Мы с тобой делаем одно дело, стали как одна семья! И не стыдись, как девочка, только потому, что стыд есть!.. — пожурил он его. — Как это не надо греть? Как говорится, свое тепло отдадим, лишь бы жив был! Ты смотри на него! Сам рискует, о товарищах беспокоится. Все делает, чтоб других спасти, а мы о нем и позаботиться не можем! — добродушно ворчал бай Кынчо, и на сердце ятака стало легче.
Ведь он ради таких людей не только себя, но всю семью свою подвергал опасности. И если бы завтра загорелся этот дом, он не стал бы жалеть. Лишь бы корни были живы!
Чувствительным человеком был бай Кынчо, а тут не выдержал. Встал, подошел, наклонился и в шутку потрепал Ивана за ухо. Потом направился к стоявшему в углу комнаты мешку, взял пригоршню грецких орехов, положил на пол у маленького трехногого стульчика и начал колоть. С этого и начался разговор.
Говорили они долго, о многом, а гость все посматривал да посматривал на окно. Они оба нетерпеливо ждали, когда придет тот, кто был так нужен им сейчас. Однако никто не появлялся, никто не стучал в окно. Лишь треск сухих поленьев в печке заставлял их время от времени поднимать голову.
— Может быть, и не придут, — с сожалением промолвил Иван. — А мне до рассвета надо вернуться домой.
Хозяева встрепенулись, встревоженные.
— Никакого «домой»! Здесь останешься! — решительно сказал бай Кынчо, готовый стать в дверном проеме, лишь бы не выпустить Ивана на улицу.
— Нужно! — отрезал Иван и так посмотрел на него, что тому сразу стало ясно то, чего парень не сказал ему словами.
Жена бай Кынчо кинулась что-то искать и, не найдя, сняла толстый шерстяной платок со своих плеч, настигла Ивана на пороге, протянула к нему руки и, как мать свое дитя, укутала ему голову, открыла дверь…
Спустя несколько минут после того, как бай Кынчо проводил гостя, в окно постучали. Это был Владо. Он вошел, а вместе с ним в комнату ворвался снежный вихрь. Кынчо поворошил угли в очаге, сердито сказал что-то тихо, словно для себя. Повернулся к Владо и проговорил:
— Только что ушел Иван Туйков. — И подробно рассказал, зачем приходил юноша.
Нахмурив брови, Владо молча поднялся, подошел к окну. Долго и напряженно прислушивался к вою ветра. Ему было и тревожно за Ивана, ушедшего в такую опасную погоду, которой и волки сейчас боятся, и радостно оттого, что у партии есть такие бойцы, как Иван Туйков.
— Они дети, Кынчо, а ходят босиком по раскаленным углям. В этом наша самая большая сила.
ПЕРВЫЙ ДОПРОС
Иван вздрогнул. По коридору стучали подковы сапог.
— В этой камере новенький, господин старший! — произнес кто-то угодливо.
— Отведи его наверх! — распорядился грубый сиплый голос.
Щелкнул замок. Заскрипели двери, и на пороге вырос охранник.
— Вставай, парень!
Охранник был человеком добродушным. Его старая измятая полицейская форма висела на нем как на чучеле. Фуражка со сломанным козырьком скосилась в сторону, сапоги сидели гармошкой, каблуки были стоптаны. И без того сутулые плечи охранника словно были судорожно сведены каким-то безотчетным страхом. На его губах застыла виноватая улыбка. Медленно, дрожащими руками он запер дверь, обернулся и спросил парня:
— А ты чей, парнишка?
Иван тихо ответил ему.
— А-а, трактирщика, хозяина корчмы! — Тщательно спрятав ключи, полицейский посмотрел на него и добавил: — Да, у отца твоего только и есть что вывеска. Корчмарь без капитала…
В проходе появился старший полицейский:
— Ты почему с арестованным разговариваешь? Ты что, служебное лицо, чтобы допрос вести? Без разговоров! — крикнул он.
— Да я… это самое… ничего… — растерялся охранник.
Старший полицейский выругался и затопал по коридору.
— Вот этого берегись, парень! — взволнованно прошептал охранник. — От него пощады не жди…
Иван зашагал по крутым ступенькам. Охранник пропустил его вперед и, пыхтя, топал за ним.
На средней площадке их ждал Йордан Николов. Он был известен во всем Плевенском округе под прозвищем Темница. Несколько дней назад его направили сюда как специалиста по особо сложным делам. Сейчас он стоял, расставив ноги, и рассматривал свысока худую фигуру Ивана, впившись в него прищуренными кошачьими глазами.
— Наверх! — приказал он юноше и стал медленно подниматься по каменным ступенькам. Иван последовал за ним. Позади них еле волочил ноги охранник.
Николов спозаранку был навеселе. Прежде чем подняться на второй этаж, он обернулся к охраннику:
— Свободен!
Тот поморщился — от Темницы шел густой запах ракии.
— Парнишка наш друг, а не опасный преступник, чтобы ходить у него за спиной. Иди себе! — распорядился Николов и ввел Ивана в комнату начальника околийской полиции.
Начальник полиции Йордан Гатев встал, усмехнулся и пригладил ладонью аккуратно зачесанные волосы.
— Садитесь! — Он указал на потертое кожаное кресло. — Мы рано вас разбудили, — произнес он, будто извиняясь, — но… служба. Что поделать? Интересы государства превыше всего.
Его острые глазки внимательно рассматривали Ивана. Гатев говорил отрывисто, а когда надолго замолкал, наступала мертвая тишина, которую нарушало лишь клокотание весенних вод Бели-Вита.
— Думаю, вы человек разумный и все откровенно расскажете. — Гатев уперся взглядом в парня. — Мы не можем допустить, чтобы коммунистическая бацилла травила детей в нашем крае.
Он отступил назад, повернулся к окну и задумался.
Бацилла! Да-а! Время, в которое появилась эта бацилла в городе, связано с годами его юности. Еще в 1919 году ему, Йордану Гатеву, предложили вступить в молодежную комсомольскую организацию, которой присвоили имя видного венгерского революционера, коммуниста Белы Куна. Тогда он только посмеялся над ними, потому что сколько заплат было на штанах его однокашников-ремсистов, столько у его отца полей.
«Что это — бацилла? — спросил себя Гатев. — Нет! — ответил он. — Это давно стало болезнью, страшной заразной болезнью! Она распространяется как огонь». Мурашки поползли по его телу.
На праздник Бенковского в 1922 году собрались организованные группы коммунистов и комсомольцев из Трояна, Луковита, Копривштицы, Панагюриште, Гложене и других мест. Более шестисот человек, со знаменами, одетых в красные рубашки и синие брюки, с песнями заполнили долину. В нем вспыхнули тогда злоба и ненависть, и он бросился на одного из них, разорвал на нем красную рубашку, но тут напоролся на высокого, здоровенного оборванца. Он и сейчас еще помнит его горящие глаза и убийственную силу широкой, как лопата, руки. Тогда ему показалось, что он умирает. Еле добрался до своего дома…
Иван смотрел на багровую шею начальника полиции и думал:
«Смешной человек! Коммунизм не бацилла. Он воздух и хлеб, вода и солнце, наша надежда и наша жизнь».
Йордан Гатев резко обернулся, подошел, смерил парня взглядом:
— Так что же вы молчите, Иван Туйков?
Иван выдержал его взгляд, но на вопрос отвечать не стал.
Гатев обратился к Николову, молчаливо восседавшему в кресле:
— Если он не назовет имен тех людей, которые пишут лозунги, засыпают город листовками, и тех людей, которые ими руководят, поручаю вам вместе со старшим полицейским Цано Стефановым провести допрос!
Темница ехидно усмехнулся, лениво привстал и произнес протяжно:
— Слушаюсь! — Он обернулся и шагнул к Ивану: — Пошли в другую комнату! Там духами не пахнет. И обстановка не такая официальная.
Он ввел Туйкова в комнату со старым письменным столом, креслом и несколькими деревянными стульями и развалился в кресле.
— Напрасно ты молчишь, мы ведь все знаем, — сказал он заплетающимся языком. — Поэтому сядь и собственноручно напиши список членов городской организации и комсомольцев из гимназии! — Он замолчал. Его налитые кровью глаза впились в лицо парня. — Напиши и о тех людях, которых ты провел в Лесидрен! Как видишь, мы все знаем! — Он похлопал ладонью по новой зеленой папке. — Пиши спокойно и поразборчивей! Надоели мне ваши кривые школярские загогулины.
— Да уж постараюсь… — с иронией бросил Иван.
— Браво! Вот это мне нравится! Выходит, ты человек умный. Пиши, а потом вместе выпьем ракии у твоего отца в корчме!
Николов чувствовал себя неважно после вчерашней попойки и раннего похмелья. А говорят, что клин клином вышибают. Ерунда! Голова, того и гляди, расколется. Он начал икать, и глаза у него еще больше вылезли из орбит.
Иван посмотрел на него и подумал, что есть в нем что-то жабье.
Темница нажал кнопку звонка и распорядился, чтобы немедленно пришел старший полицейский Стефанов. Тот не заставил себя долго ждать.
— Слушаю, господин Николов!
— Посидите!.. Я выйду… — Темница сделал неопределенное движение рукой перед своим лицом.
Цано Стефанов с важностью уселся в кресле, оглядел комнату. Потом будто что-то стукнуло ему в голову, он встал, пересел за стол:
— Пиши, парень! Пиши ясно и подробно! — Стефанов нажал на кнопку, которая находилась под крышкой стола.
Тотчас же появился дежурный полицейский и остановился в дверях, выпятив живот.
— Слушаю, господин старший полицейский!
— Стакан воды! Только холодной, как для начальника!
— Как прикажете, господин старший полицейский! А может, соды?
— Нет, воды! Сода изнеживает желудок, а желудок — это жизнь. Его надо беречь.
Иван еле сдержался, чтобы не рассмеяться.
«Глупые привычные картины… Прожженные головорезы с их «мудрыми» рассуждениями… Для одного жизнь — это кусок хлеба, за который он борется день и ночь, для другого — клочок синего неба и глоток воздуха. А есть и такие люди, — вспомнил он свой разговор о Владо, — для которых жизнь — борьба. Жестокая борьба! Да! А вот для этого, — взглянул он на старшего полицейского, — жизнь — желудок… — Иван в задумчивости перевел взгляд на окно. — А моя жизнь, в чем состоит моя жизнь? Для борьбы я сделал так мало! О куске хлеба заботился мой отец…»
— Чего глазеешь? — прервал его мысли Стефанов.
Удивленный Иван медленно обернулся.
— Я песню реки слушаю, — ответил он.
— А она журчит себе и зимой, и летом, — как-то рассеянно произнес старший полицейский, но вдруг спохватился: — А ты кончай мне голову морочить, давай пиши! Имена коммунистов напиши! Всех тех дураков, что хотят голыми руками власть царя свергнуть! Пиши и не мешкай, потому что другого выхода у тебя нет!
— Я никого не знаю! — спокойно, но твердо сказал Иван.
— Цыц! А вот этих твоих слов я не слышал! Пиши, что от тебя требуют, и… — Он насупился. — Пользуйся, пока я в хорошем настроении! Иначе, — внезапно закричал он, — слова с языка твоего бритвой соскребу! Слышал, наверное! Старший полицейский Цано Стефанов шуток не любит! У меня хиханек-хаханек нет! — Стул заскрипел под его грузным телом.
Иван присмотрелся к нему: ладони у него были широкие, как лемех деревянной сохи; грубое лицо и здоровенная шея говорили о здоровье…
С тех пор как его арестовали, Иван мысленно несколько раз обсуждал все возможные причины своего задержания. Остановился на двух вариантах: арестован по ошибке, случайно, или… если Кирил Райков не выдержал.
«Даже если это и так, — мысленно говорил он, — Кирил знает только то, что я член РМС. О том, что я член городского комитета и одновременно член районного комитета РМС, он не знает. Линией моего поведения сейчас при всех обстоятельствах должно быть полное отрицание всего. И, что бы ни случилось, ни слова больше!»
— Господин старший полицейский, — начал медленно и тихо Иван, — наверное, в отношении меня произошла ошибка? Вы говорите — писать, а я же ничего не знаю. Вижу, что вы добрый человек, вы поймете меня. Что я могу знать? Да вы подумайте…
— Хватит сказок! — крикнул Цано Стефанов. — Ты мне зубы не заговаривай, а пиши! Тебе есть что написать, сукин сын!
Он встал и начал приближаться к юноше. Доски пола прогибались под его тяжелыми шагами. Его припухшие желтушные глаза уперлись в лежащий перед Иваном лист: он был пуст. Это уж слишком! Полицейский освободил одну из сцепленных за спиной рук и изо всех сил ударил парня по лицу.
— У меня нет времени возиться с тобой! — закричал он. — Пиши! У меня еще столько таких, как ты, в подвале дожидаются… — Другая его рука взлетела, как подброшенный кирпич, и врезалась Ивану в губы. Юноша перелетел через стул и растянулся на полу. Из носа его и распухших губ тотчас хлынула кровь.
— Да-а, слабоват! И пару оплеух не можешь по-людски вынести! А туда же, руку поднимаешь на царскую власть! Уму-разуму я тебя научу, а ты себе на ус мотай! — Старший полицейский вновь нажал на кнопку.
Пробренчал звонок. В дверях снова показался дежурный полицейский.
— Вот этого вниз! Пусть посидит там да подумает…
ЦЕНА СЕКУНДЫ
Ивана потащили к подвалу. За какой-то миг он успел заметить у входа в участок родственников Колци и его однокашников Ивана Фикова и Йордана Костова…
— Наверное, и другие здесь есть, которых, как и меня, доставили сюда по ошибке? — как бы между прочим спросил он охранника.
— Да хватает, парень. Здесь как на мельнице. Каждый день волокут, шерстят… Вот и сейчас с десяток новых привели. — Охранник оглянулся. Он боялся, как бы его не услышал старший. В коридорах никого не было, и он, осмелев, произнес:
— В одиночке только ты. Погоди… а ты уж не их ли вожак, а?..
Иван скривил губы:
— Да ты посмотри на меня, похож я на вожака? Ну скажи! Они тебе говорят, тащи его в подвал, а ты и рад, винтовку в спину и ведешь меня. А виноват ли я, ты даже не задумываешься?
— Да, для этого дела, парень, не сила, а ум нужен. Ведь я же знаю их, и в нашем селе такие есть… Самые ученые, самые способные — это коммунисты. Пусть так и будет! А в другом, что ты мне говорил, ты не совсем прав! Какая у меня сила? Стоит только мне сказать что-либо не так, Стефанов прибьет меня. А если я сниму с себя все эти обноски, что на мне, так хоть по миру иди. Если я брошу винтовку, знаешь, сколько глоток у меня есть запросят? Нищета выше макушки!
Они остановились перед камерой. Дверь заскрипела.
Иван шагнул, но остановился:
— И прав ты, отец, и не прав. Потому что из-за тех, что наверху, матери тебя проклинать будут, а отцы осыпать руганью, грозить расправой…
— Жизнь пропащая, — тяжело вздохнул охранник. — Давай входи!..
Иван перешагнул через порог. За спиной щелкнул замок. Снова потекли мысли.
«Похоже, что кто-то не выдержал… Началось… И как только клубок распутают, доберутся до меня… Ну и что?.. О чем теперь думать, Иван Туйков? Ты, только ты должен оборвать эту ниточку! Ведь никто больше не знает о гложенцах, о тех добрых людях из Топилиште! А эти проходимцы хотят разрушить крепость. Разгромить ее изнутри. Поэтому и прислали из Плевена этого Йордана Темницу. Сколько домов он превратил в головешки, сколько селений вверх дном перевернул! А рукам его все нипочем. Бьют, увечат, мучают, истязают, режут, убивают! — По телу Ивана пробежала жаркая дрожь. — Что бы ни случилось, Иване, ты должен быть немым! Ты должен быть слепым! Ты должен быть глухим! На куски пусть тебя режут, ты не должен проронить ни слова. Тех людей, которые стали тебе ближе родных, ты не выдашь! О ремсистской организации — ни слова! — напряженно думал Иван. — А если не выдержу?» Этот вопрос все чаще вертелся у него в голове.
Он припомнил, как Кынчо Милчев говорил своей жене:
— Может случиться, что тебя арестуют, начнут допрашивать, но ты должна молчать! Сначала и сладкие сказки могут тебе рассказывать, чтобы обмануть тебя, запутать! И неожиданные вопросы будут тебе задавать, а ты отрицай! Ничего ты не знаешь. Они начнут кричать на тебя — ты будешь молчать! Будут бить тебя — будешь терпеть, ни слова не проронишь! Жена прервала его:
— Ох, Кынчо, Кынчо, хорошо бы, чтоб этого не случилось, потому что одно дело говорить о таком, а другое — когда тебя избивают, а ты должна молчать. Нет, не знаю, что бы произошло!..
— Именно потому мы и должны поговорить об этом заранее, чтобы потом… нас не застали врасплох, — строго ответил ей муж.
Этот сухощавый, загорелый крестьянин хорошо знал, что силы неравны. С одной стороны, грубая сила, оружие и власть, а с другой — лишь преданность общему делу. Многое знал Кынчо и потому продолжал ей втолковывать:
— Полицейские — мерзавцы. От них пощады не жди. Могут и пистолетом грозить, могут и выстрелить. Не исключено, что на дерево головой вниз тебя повесят. Но и в этом случае ты должна молчать! Молчание и только молчание! Им достаточно только одного слова, чтобы истребить всех детей и стариков, а дома превратить в пепел.
— Кынчо, ты все меня пугаешь да пугаешь, а парнишка из-за тебя рассудок потеряет…
Кынчо повернулся к Ивану:
— Ты понимаешь, Иванчо? Это всех нас касается. Я говорю с женой, но думаю и о себе. Если меня схватят, самое главное — молчание. — Он встал, огляделся, нашел за дверью кувшин, поднял его. Долго, глоток за глотком, пил. — Только молчание может спасти и меня, и тебя, и товарищей. И все те бандиты, разбойники, убийцы ничего определенного не знают, пытаются на обман взять. Ищут страх себе в союзники, думают, что он им поможет. Они думают: «Еще секунда, и страх развяжет ему язык!» А мы себе скажем: «Еще секунда, и мучения прекратятся!» Вот она, цена секунды!.. Самая дорогая и самая страшная…
«Какова же цена этой секунды? — спрашивал теперь себя Иван. — Только ли одна жизнь? Может быть, это самое малое!..»
Одна секунда! Выдержит ли он? Выдержит ли?
Он встряхнул головой, провел по лицу ладонью и почувствовал под ней запекшуюся кровь.
Усталость смежала веки. Иван привалился к холодному камню и сгорбился. В последние дни сон бежал от него. Иван расслабился, прикрыл глаза, и ему в голову хлынули воспоминания…
Ему десять лет. Утром отец распахивает дверь комнаты и вносит охапку дров. Присев, складывает их у печки. Потом берет кочергу, ворошит угли и бросает сухое полено. Наклоняется, дует несколько раз в угли. По комнате разносится запах дыма. Отец, ни к кому не обращаясь, словно случайно бросает: «Коммунисты прошлой ночью опять улицы лозунгами украсили».
Услышав это, он, Иван, вскакивает с постели. Крутится возле отца, смотрит на него и думает, что же это за лозунги, которыми украшены улицы? И кто же такие эти коммунисты, которые ходят и украшают улицы? Иван подходит к двери, приоткрывает ее. Снежный вихрь бьет ему в лицо. Он втягивает голову в плечи и выбегает на улицу.
На стенах, на воротах, на заборах алеют написанные масляной краской кривоватые красные буквы. Он останавливается у одних ворот и начинает читать по складам: «Требуем хлеба и работы!» Подходит к другим воротам. «Долой войну!» — читает он медленно. А на доме, что как раз напротив отцовской корчмы, огромными буквами написано: «Да здравствует СССР!» Он смотрит, вытаращив глаза, читает по складам, ломает голову, что же такое то, о чем он читает.
Мимо него проходит общинный сторож, шлепает его по мягкому месту. «А ну домой! — прикрикивает он. — Не видишь, что ли, сопли замерзли, а ты все стоишь тут и глаза пялишь. Марш бегом, пока я тебя своей палкой не огрел!»
Иван вбегает к себе в дом и сквозь щелки в двери наблюдает, как сторож вытаскивает кисть и начинает замазывать красные надписи на стенах.
Проходит несколько дней. По улицам города полицейские ведут, словно медведей на привязи, молодых парней, повесив им на грудь и спину дощечки с неприличными надписями.
— Коммунисты! — шепчут взрослые мужчины, столпившиеся у корчмы. — Изведут их эти откормленные душегубы! — Они сокрушенно цокают языком и гневно бранятся в усы.
Молодые парни проходят по улице, и дети бросаются за ними вслед. Идущие скрываются в полицейском участке. А там, у ограды, толпятся люди. Иван пробирается между ними, просовывает голову через доски забора и таращит глаза. Посреди двора полицейского участка двое жандармов, заставив одного из молодых парней положить голову на пень, топором обрезают ему волосы. Иван сразу узнает парня: это Марин Лалев Цочев из их квартала. Мальчик зажимает себе рукой рот, чтобы не закричать. Но когда рука полицейского, дрогнув, вместе с волосами острым топором сносит с головы часть кожи, кровь начинает хлестать, как из крана вода. Ивану страшно, и он кричит изо всех сил:
— Люди-и, режу-ут!.. Дядю Марина режут, люди-и! — Он бросается к своему дому, и голос его разрывает воздух. — Режут дядю Марина!..
Кто-то сильно застучал в дверь.
— Кричать запрещено, парень! Ты слышишь? — произнес тихий мужской голос.
Иван вздрогнул, огляделся. Он уснул. Значит, спал и кричал во сне. Перед глазами у него еще алела кровь, еще блестел топор над головой Марина, еще стоял в ушах чей-то душераздирающий крик: «Вы в своем уме? Это же человек! На колоде только кур режут!»
«Нервы! Напрягаются, дрожат, как струны. Не стальные они… но должны выдержать секунду… — Иван стиснул зубы. — Самую тяжелую, самую страшную секунду!»
МАТЕРИНСКИЙ ДАР
Точно раскаленными углями жгло сердце бай Павла, когда вязали руки единственному его сыну Ивану, когда уводили его.
Полицейские приходили в корчму, уходили. Он им подавал стаканчики с ракией и, не уставая, просил:
— На, выпей! Да присмотри, как бы там у вас с сыном моим не случилось чего.
Полицейские ухмылялись, выливали ракию себе в горло, кивали, уходили, чтобы снова вернуться. И снова пили, и снова качали головой.
Бай Павел ходил и к адвокатам. Те его успокаивали:
— Если заведут дело, мы тебя не оставим!
«Легко им рассуждать, — вздыхал бай Павел. — Не знают они, что значит обрубить у дерева корни».
Он расстегивал рубашку, будто она была причиной страдания, душившего его, тихо поглаживал ладонью грудь у самого сердца.
На следующий день во двор влетела Мария, тетка Ивана по материнской линии. Закричала, запричитала:
— Ты зачем им его отдал, висельник? Рук не было, чтобы их остановить? — Она так расходилась, что ее проклятия были слышны даже в соседнем квартале.
Бай Павел не выдержал. Что-то горячее ударило ему в голову, пусто стало в сердце, дом и двор завертелись у него перед глазами, опрокинулись. Он покачнулся, потерял равновесие и тихо, без стона сполз на землю.
Его внесли в комнату. Потом тетя собрала еду, одежду, одеяло и пошла в участок. Напрасно она умоляла, напрасно плакала, напрасно упрашивала. Ничто не помогло. Ничто не тронуло жестокие сердца полицейских. Свидания с Иваном ей не разрешили.
А Иван в это время сидел в подвале, напряженно ожидая, что его вот-вот вызовут. Ждал, но… Дверь приоткрылась, сквозь щель хлынул холод и всколыхнул спертый воздух камеры. На пороге показался охранник.
— Эй, парень, держи-ка! Вот тебе одеяло! Твои прислали. Бери! — пугливо проговорил он и поспешил закрыть дверь.
Иван наклонился, взял вылинявшее, старенькое одеяло. Поднял его и прижал к груди. Одеяльце, сотканное руками его матери, самого дорогого ему человека! Слишком рано умерла она.
Узоры на одеяле, темные и светлые, походили на землю, которую горцы Балкана пахали деревянными сохами. Эти узоры сменяли друг друга, словно солнце и тень, словно радость и мука.
«Это душу свою выткала мама. Немного она знала радости, потому-то светлых полосок и меньше», — подумал Иван.
Мама! Он не помнил ее, но образ, который он создал для себя по рассказам своих деда и тети, во всей полноте жил в его сердце. Он представлял ее себе стройной, с широким белым лицом и длинными русалочьими волосами. У нее, быстрой словно косуля, был голос соловья. Когда она пела, прохожие останавливались, чтобы послушать. Она пела, а они плакали, потому что все песни ее были жалобные-жалобные.
«Судьба, Иванчо! Жестокая и черная судьба! От нее человек уйти не может», — часто утешала его тетя.
Эти слова, он слышал это, часто повторяли и бедные, иссохшие люди, сидевшие в задымленной корчме его отца. Судьба бедняцкая. Испольщина… Батрачество… Нужда…
Однажды подвыпивший старец погладил его по волосам. Глаза его, большие и влажные, были переполнены страданием. Гладил старик его по волосам и выплакивал муку свою как перед взрослым человеком.
«Жизнь наша, сынок, горькая давит. Бедняку жить что по стерне босым ходить. А мы ходим, ходим… Ступни все в ранах…»
Судьба! Все ее проклинали, стискивали кулаки, слезы роняли, но молчали. А горечь копилась, копилась и превращалась в боль.
Эта проклятая судьба лишила его материнской ласки, доброго материнского слова, материнской заботы. Тяжело было старому человеку, но знал ли этот добрый бедняк, что нет на этом свете ничего тяжелее сиротской доли, сиротской неволи, сиротской муки? Знал ли этот старый человек, что он, Иван, часто, скрывшись в каком-нибудь укромном уголке за сараем, вспоминает, как хоронили его маму, как скорбели женщины, оплакивающие ее?
Повозка со скрипом катила по кривым улицам, навсегда унося от него любовь и защиту, ласку и теплые материнские глаза. Родные и близкие оплакивали усопшую, и в их рыданиях можно было услышать имена сестер Ивана, но чаще всего упоминалось его имя.
Одна из старушек развязала завязанный на конце покрывавшего ее голову платка узел, извлекла оттуда бог знает когда положенный туда кусочек сахара, подала ему:
— На, возьми, милый! Попробуй! Послади свои губки, а то они у тебя уж слезами просолились.
Иван шел за повозкой с сухими глазами.
Проклятый день! Проклятое безжалостное время!
На девятый день после смерти матери отец привел в дом другую женщину. Мать? Мог ли мальчик называть так чужую для него женщину? У нее было трое своих детей.
Годы шли своей чередой, наполненные тоской и печалью. Сколько слез было выплакано! Он все чаще прислушивался к разговорам мужчин, собиравшихся посидеть на солнышке около их дома.
— Нету бога! — с болью сказал однажды сухощавый пожилой крестьянин.
— Бога? — спросил другой. — А мы уж давно знаем, что нету его, бога-то. А раз нету, то опора наша — топор. Топор, топор в руки нам нужен, чтобы разговаривать с этими кровопийцами…
Иван лежал, закрыв глаза, и мысли его блуждали по прошлым дням и дорогам, возвращали его туда, чтобы наполнить душу горечью, мукой. Усталость унесла его в дремоту. Одеяльце, материнское одеяльце согрело ему озябшие ноги. И образ матери вновь ожил перед ним. Она смотрела на него, нежно улыбаясь, и шептала ему теплым, мягким голосом:
«Держись, держись, сынок! — Рука ее, вся в мозолях и трещинках, нежно опускалась на его лоб. Он пылал, горел, как уголь. — Боже милостивый», — шептала и всхлипывала мать.
«Бей его!» — кричал Йордан Темница.
И полицейские били. Крупные и сильные мужчины, они били его, били без устали резиновыми палками…
«Мамочка, холодно мне. Только ты меня можешь согреть, мама. Своей рукой, мама, своими губами, своим дыханием… милая мамочка!..»
Две руки подняли его с пола. Две крепких грубых руки зажали его словно в тисках. Свистели нагайки, били его по обнаженному телу. Тело вздрагивало от ударов, извивалось, корчилось, замирало. И сквозь эти мучительные, градом сыпавшиеся на него удары он слышал только один голос, знакомый и близкий, доходивший до него из небытия, дорогой ему до слез голос его матери. Он кричал и приказывал:
«Не убивайте моего деточку! Не убивайте моего ребенка!»
И пара глаз, милых, дорогих ему глаз наплывала на него, становилась все ближе и ближе, приближалась к самому его лицу.
— Мама!.. — крикнул Иван и протянул руки.
— Не только мать свою будешь звать, а и молоко, каким она тебя выкормила, с кровью выблюешь. Кишки свои повыплевываешь, если не скажешь нам все, что надо! — В дверях стоял старший полицейский Цано Стефанов.
И снова лестница. И снова колченогий стул в комнате Йордана Темницы. И снова…
ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДЕЛА
С каждым днем все тревожнее становилось в городе. Фашисты неистовствовали, воодушевленные своими успехами. Распоясавшиеся полицейские издевались над людьми, попирая человеческое достоинство. Жизнь вздорожала, и население выказывало недовольство. Ремсистская организация продолжала борьбу, и народное сопротивление фашистам росло.
Секретарь городской партийной организации Дико Гаврилов, испытанный революционер, часто дружески похлопывал по плечу секретаря горкома РМС Марина Темелского и восхищенно говорил:
— Молодцы! Вы сделаете больше нас, и наше солнце, о котором мы мечтали, взойдет над Балканом!..
Тихий и скромный, прошедший через фашистские тюрьмы, Дико Гаврилов обратил внимание на Ивана Туйкова и сказал товарищам:
— В гимназии есть один молодой коммунист. Он чист идейно, чист физически, чист в своих товарищеских отношениях. Нам нужно его беречь как зеницу ока!
Марин Темелский, бывший членом районного комитета РМС в Гложене, почти каждый день встречался с Иваном. Их связывала крепкая дружба.
Иван был замкнутым, молчаливым, не очень просто сходился с людьми, а Марин, общительный, разговорчивый, умел быстро найти ключ к сердцу любого человека. Благодаря своему веселому нраву, он приобрел много друзей. Он был секретарем ремсистской организации в городе и умело вел работу.
В тот вечер Марин очень спешил. Проходя мимо Ивана, он подхватил его под руку и, улыбаясь, будто рассказывая веселую историю, сообщил ему о месте встречи.
— Владо хочет видеть тебя… — сказал он на прощание.
Марина Темелского забрали в солдаты. По решению партийного комитета Иван Туйков принял руководство организацией РМС в городе и сразу же с головой окунулся в работу: проводил собрания, организовывал встречи… Первое собрание запомнилось ему за всю жизнь. И сейчас, сидя в сыром, вонючем и темном подвале, Иван внезапно до подробностей вспомнил его.
…Горы потонули во мраке, город засыпал тревожным сном, а ремсисты один за другим направились к сушильне Туйкова. Она находилась над Тетевеном, по дороге на Гложене. Иван и Владо первыми добрались до места и дальше пошли бесшумным, кошачьим шагом. Внимательно осмотрели сушильню, обошли ее кругом. Убедившись, что все спокойно, Иван посвистел дроздом и стал ждать. Запахнувшись в свои ученические шинели, с разных сторон подошли Иван Нунев, Никола Христов, Генчо Бечев… Всего собралось четырнадцать человек. Уселись на покосившемся плетне.
— Выдержит он нас? — пошутил кто-то. — Как-никак мы переполнены идеями…
— Сейчас не время и не место для шуток, товарищи, — произнес Иван. — Жизнь требует не лозунгов, ей не нужны высокопарные, красивые слова. Буржуазия предостаточно ими пользовалась. От нас жизнь требует дела!
Он сжато, четко и ясно заговорил о дисциплине, о распределении работы, о назревшей необходимости создания боевой группы. Потом обвел взглядом товарищей и сказал:
— Предлагаю руководство будущей боевой группой доверить Колци.
По указанию Ивана ребята начали делать ручные гранаты, чтобы выводить из строя оборудование на фабрике братьев Габровских, которая выпускала для немцев фанеру.
— Этого мало! — негодовал Иван. — Мы обязаны не допустить, чтобы из нашего города выходил материал для немецких фашистов.
Тогда родилась идея забивать толстые гвозди в буковые стволы, которые должны были идти на лесопильню.
Уже на следующую ночь Колци возглавил группу, которая ушла на лесопильню и рассыпалась там между разбросанными бревнами. Прошел час, истек второй, а Колци не возвращался. Иван сидел как на иголках.
«А что, если их заметили, если их поймали?» Тревожная мысль сжала ему сердце, высушила горло.
Колци! Кем был для него Колци? Другом? Братом? Нет, мало было сказать так. Вместе с Колци они читали нелегальную литературу, вместе обдумывали каждый шаг организации, вместе ходили на условленные ночные встречи.
Белолицый, с румяными, как у девушки, щеками, с мягким голосом и застенчивым взглядом, Колци не походил на конспиратора. Его ни в чем не могли заподозрить… Удары его группы, которые становились все более ощутимыми и разрушительными, нанесли большой урон лесопильне. Начали ломаться пилы. Владельцы предприятия просто бесились от злобы, понимая, что кто-то мешает производству и подрывает авторитет тетевенского хозяина в глазах фашистских господ.
— Кто этот неизвестный? — спрашивали друг друга братья Габровские. — И почему он вредит?
Они не могли представить, что это — результат деятельности двух боевых групп, одну из которых возглавлял Колци, а другую — Генчо Стоев.
«Можно ли измерить, оценить действия боевых групп в городе? — думал Иван и отвечал себе: — Можно! Потому что члены этих групп очень хорошо знали, сколько десятков кубометров древесины стали негодными. Рабочие поняли, откуда все шло, и сами продолжили деятельность боевых групп. Это-то и было самым важным».
Когда вышла из строя пилорама, управляющий, находившийся в это время на лесопильне, позеленел.
— Кто прикатил это бревно? — закричал он.
Иван посмотрел на него спокойно, потом внезапно шагнул в его сторону, но старый рабочий его легонько оттолкнул.
— Я его доставил! — коротко произнес он.
— Значит, это ты гвозди забил? Саботажник! — взбесился управляющий и пустил в ход кулаки. Удары кулаков, пинки, жестокие и безжалостные, посыпались на бедного измученного человека.
К ним бросились рабочие, и несколько пар крепких рук словно тисками сжали хозяйского прихвостня. Тот оцепенел от неожиданности, побледнел, растерялся.
— Значит… значит… все вы… саботажники! — заикаясь, выдавил управляющий и бросился докладывать в управу.
Иван подсел к старому рабочему, схватил его руку и с сыновней благодарностью поцеловал ее. Тот спокойно посмотрел на него и проронил:
— Не ты это, да и не я. Ненависть к фрицам и нашим волкам забила гвозди, Иванчо…
…Иван глубоко вздохнул. Вся грудь болела. И вдруг он представил, что эти люди сейчас рядом с ним, в камере. Их разговор легок и приятен. А среди них бай Дико, который рассказывает им, как придет и каким будет завтрашний день. Рассказывает бай Дико тихо и просто, а они на него смотрят и не сводят глаз.
Так же совсем недавно Владо говорил им о будущем на собрании в доме Пенки Кунчевой. Еще до того как закончился рассказ Владо, загрохотали небеса, ослепительные молнии одна за другой осветили город, непрестанно гремел гром, словно хотел разрушить горы. Потом внезапно хлынул проливной дождь. Неизвестно зачем Пенка распахнула дверь и, испуганная и побледневшая, прошептала:
— Показалось, человек снаружи… На лестнице стоит человек…
Иван напряг слух. В коридоре кто-то щелкнул выключателем.
«Значит, уже темно? — подумал он. — Сменился и охранник…»
Кто-то загремел замком. Дверь отворилась. В проеме показался полицейский.
— Иван Туйков, на выход! — приказал он сиплым голосом.
— А другого тут и нет. Один я… — произнес Иван.
— А я тебя об этом не спрашиваю. Выходи!
И полицейский отвел Ивана в уже знакомую комнату…
ВТОРОЙ ДОПРОС
Йордан Темница встретил его молчанием. Иван долгое время стоял в дверях, а Темница читал густо исписанные листы в зеленой папке, ставшей значительно толще.
«Еще кто-то пытался показать свою грамотность», — с тоской подумал юноша.
Ему очень хотелось заглянуть в эту папку-ловушку, посмотреть, кто из «неизвестных талантов» оставил там свою подпись.
Застывший в дверях полицейский тихо покашлял, желая напомнить Николову о присутствии задержанного. Однако Йордан Николов не поднял глаз. Он продолжал читать.
В голове Ивана загудели колокола. Удары их с каждой минутой становились все раскатистее, тоскливее. Они множились, и каждый удар сердца отдавался в висках колокольным звоном. Удары становились все сильнее и сильнее, и вот в голове его уже забушевала буря.
Тяжелый удар кулаком по столу заглушил все другие звуки, и сразу же наступила тишина.
Темница резко встал. Стул, на котором он сидел, отлетел в сторону и перевернулся набок. Йордан Темница не обратил на это никакого внимания. Его огромное тело, казалось, достало до потолка. Волосы были растрепаны, а в лице не было ничего, кроме усталости, равнодушия и злости. Он подошел к парню.
— Не знаешь, да? Ничего не знаешь? — процедил он сквозь зубы. — Ангелочка из себя строишь, ангелочка? — Он помолчал, взял папку в руки. — Наверное, и людей этих не знаешь! Конечно, не знаешь! — Он начал, заглядывая в папку, называть имена ремсистов из гимназии.
Список был длинным, и Николов его не дочитал, потому что полицейский вдруг снова легонько кашлянул. Йордан Темница будто только сейчас его увидел.
— А ты что тут делаешь? Вон! — рявкнул он.
Полицейский развернулся на каблуках и поспешно выскочил из кабинета.
Йордана Николова боялись все. Не только прозвище, но и темные дела его, известные во всем округе, сделали его имя ненавистным даже для полицейских. Оно нагоняло страх и ассоциировалось с представлениями о самых жестоких избиениях и пытках.
— Ну что, будем разговаривать по-человечески? — зло и резко спросил Темница.
Иван молчал. Он напряженно думал.
Положение усложнилось. Толстая папка, фамилии, которые назвал Темница, новые аресты говорили об очень серьезном провале.
— У нас, парень, две вещи не проходят: молчание и общие разговоры. Поэтому отвечай точно и ясно. Кто были те, кого ты привел из Гложене к своему однокласснику Кирилу Райкову? Это во-первых. Во-вторых, кто входит в состав руководства партийной и ремсистской организаций в городе? В-третьих, кто в составе руководства в Гложене? Ты виделся с этими людьми неоднократно. Напиши также, с кем из партизан и где ты встречался!
Зазвонил телефон, и Темница отошел к столу.
«Что ему еще известно? Как ему удалось получить такие важные сведения? Кто проговорился? Кто-то из наших не выдержал или появился провокатор? Что ему ответить на эти страшные вопросы?» Иван почувствовал, что в груди его словно потекли горячие струйки.
Николов схватил трубку и явно хотел выругаться, зачем его беспокоят, но вдруг черты лица его расплылись, а губы растянулись в угодливой улыбке.
— Благодарю!.. Благодарю! Вы ведь знаете, там, где побываем мы, все становится на свои места… Да… пораспустились тут, но вы не беспокойтесь… Дайте мне немного времени, и все будет ясно… Так точно! Доложу! — Положив трубку, он долго тер виски. Потом резко закрутил головой из стороны в сторону, и жилы на его шее вздулись. Налив стакан воды, Темница залпом выпил ее и посмотрел на Ивана.
О чем он думал? О том, что он, Йордан Николов, не случайный человек. Ответственные люди интересуются, как его здоровье. И успеха ему желают. Нет, перед ними он в грязь лицом не ударит. Он знает, что от него требуется. Он им докажет, что способен и на большее. Важные они птицы, но без него и гроша ломаного не стоят.
Напыжившись, Николов подошел к Ивану. Долго в упор рассматривал юношу.
— Итак, на чем мы остановились? — наморщил он лоб. — Да-а! Слушай! Еще я хотел тебе сказать, что здесь тебя хорошо разрисовали. — Он указал на зеленую папку. — Поэтому… пиши! Все пиши! Потому что глупо, по-дурацки выйдет, когда тебе начнут ломать кости из-за каких-то трусов и предателей, которые развязали языки и рассказали то, чего и не было, стоило их слегка припугнуть. Рассказали и сейчас сидят себе спокойно, а ты дышишь вонью в этой яме.
— Я ничего не знаю, — вяло произнес Иван.
Темница приблизился к нему. Сейчас он смотрел на Ивана как разъяренный зверь. Внезапно он протянул руку, схватил парня за ворот ученической куртки, рванул на себя и изо всех сил ударил о стену. Иван застонал, упал, но тотчас вскочил. Тренировки на футбольном поле не прошли для него даром. В его худощавом теле было много ловкости и проворства.
— Ага, не боишься? Хорошо!
— А мне нечего бояться. Я ничего не знаю. Кто знает, тот написал. Я протестую против того, чтобы вы и ваши люди так со мной обращались!
— Заткнись, трепло! Протестует он! Выучились коммунистическим фразам! Со мной такие вещи не пройдут!
Йордан Темница снова подошел к нему и протянул руки, чтобы схватить его, но на этот раз Иван ловко вырвался. Дрожа от гнева, они стояли, с ненавистью глядя один на другого.
— Куда ты от меня денешься, сукин сын?! — процедил сквозь зубы Темница, наклонился, схватил с пола у печи полено и резко ударил парня по голове.
Иван покачнулся, колени у него подкосились, и он рухнул на пол.
— Не знаешь, да? Ничего не знаешь?! А всю свою гимназию, весь город кто против нас настроил? — кричал Николов. — У меня никаких «не знаю» быть не может! Я не ваши полицейские пугала, которым вы врете, как умственно отсталым! Садись и пиши!
Иван медленно приходил в себя. Открыв глаза, он увидел только разъяренный рот Темницы. Этот мерзкий рот открывался, будто жевал:
— Пиши! Пиши! Пиши!
«В который раз все это «пиши, пиши, пиши»! — устало думал Иван. — Другие уже постарались и написали. Много написали. Может быть, они не выдержали. Кто знает, каким мучениям их подвергали. Имею ли я право их обвинять? Предательство ли это? А может быть, полицейский знает немного, но просто шантажирует меня сейчас?» Он медленно закрыл глаза. Будто уснул. Будто погрузился в сон…
Вот опять вечер, и снова он у Кынчо Милчева. Кынчо беспокоится за него и говорит своей жене о цене секунды…
И снова Иван пробудился от сна, и снова вернулись тревожные думы.
«Значит, сражение за решающую секунду началось. Держись, Иване! Сейчас они хотят растоптать огонь, разбросать костер вместе с землей, но ты не сдавайся!»
Разговор между Иваном и Темницей продолжился на страшном языке. Темнице этот язык был хорошо знаком. Много раз он им пользовался и привык делать это. Привык, но сейчас ему никак не удавалось добиться от этого парня признания. Он натолкнулся на гранитную стену, и бессилие разжигало его гнев. Он бил и бил Ивана. Топтал, пинал и снова бил. Бил, забыв, что болгарский народ уцелел под турецким игом потому, что имел таких сильных духом, стойких, несгибаемых парней, как Иван Туйков. А по телу Ивана гуляла резиновая дубинка, огненные удары обжигали его, пинки сыпались на него, но он не проронил ни стона. Он оплачивал цену секунды.
Выбившись из сил, палач остановился. Нажал кнопку звонка и, расстегнувшись, обливаясь потом, с видом измученного работой мясника выглянул за дверь.
— Эй вы, почему не идете? — прикрикнул он на дежурного полицейского. — Оттащите эту собаку в подвал! И подготовьте его побыстрее к «работе». Слышали? Быстро!
Два верзилы подняли обессиленное тело юноши и понесли.
«Этой ночью картина должна проясниться. Утренний доклад будет полным и точным». Темница сплюнул и, не закрыв двери, опустился на диван.
Полицейские несли Ивана словно мертвого. По полу тянулась цепочка кровавых капель.
— Как ты думаешь, живой? Здорово он его отходил! — произнес один из полицейских.
Второй не ответил. Молчал. Не потому, что ему было жаль парня, ведь он коммунист. Но бывают минуты, в которые и самый жестокий человек задумывается. Не о другом. О себе задумывается, потому что в этой борьбе не на жизнь, а на смерть и его может свалить пуля.
В коридоре, по дороге в камеру, их встретил Ибо. Это был цыган, осужденный на месяц карцера за кражу дров. В участке его использовали как слугу в подвале. Он отбывал свое наказание в камере, располагавшейся в той части подвала, где содержался и Иван. Однако его камера была просторнее. В ней находились уголовные преступники.
— Что случилось, плохо стало бедолаге? — вытянул шею Ибо, пытаясь рассмотреть, кого несут, но, увидев обезображенное лицо юноши и кровь, не выдержал и заплакал: — Что же вы наделали, батюшки-матушки, да вы же человека убили!.. Совсем мальчонку! Или у вас своих детей нет?..
Полицейские злобно цыкнули на него. Ибо отскочил в сторону, но, узнав в пареньке Иванчо Туйкова, запричитал в полный голос:
— Да вы же его, Иванчо… Да вы же святого убили! Вы… его убили, а сами каждый день жрете у его отца!.. И ракию сосете, не переставая! Ах, Иванчо, ах, какой же ты был парень!.. Вы меня, Ибо, можете наизнанку вывернуть, ну а Иванчо… его-то оставьте! Оставьте его!..
Старший полицейский Цано Стефанов, услышав причитания цыгана, скрипнул зубами и прикрикнул сверху:
— Эй, Ибо, ты по карцеру плачешь или меня зовешь, чтоб я с плеткой к тебе в гости пришел?
Ибо замолчал. Слезы катились у него по щекам помимо его воли. Он хорошо знал Ивана Туйкова, вратаря тетевенской футбольной команды, любимца молодежи.
Как-то раз Ибо встретил его на площади:
— Иванчо, все спросить тебя хочу кой о чем, батюшки-матушки! Скажи ты мне, при социализме нас, цыган, будут бить?
Иван тепло улыбнулся и серьезно ответил ему:
— При социализме, Ибо, все люди будут равны! Не останется богачей и подмастерьев. Тогда все будут работать. Потому что у социализма правило такое: кто не работает, тот не ест.
— Ну, конечно, будем работать, Иванчо, от души будем работать, только бы нас не лупили, как мешки с соломой…
Ибо ушел в свою камеру, продолжая причитать, а в соседнюю полицейские швырнули Ивана.
Долго стучал в дверь и стену своей камеры Ибо и кричал:
— Иванчо, отзовись же, братец! Живой ли ты, Иванчо? Отзовись же, батюшки-матушки… Ты же хороший паренек, народный паренек, батюшки-матушки!
Камера молчала…
Не сразу, а издалека, как в полусне, донеслись до Ивана крики цыгана. Он попытался встать, но голова его была тяжелой, ноги не подчинялись ему.
Мольбы Ибо не кончались.
— Ты только стукни мне, Иванчо!.. Отзовись, чтобы я знал, живой ли ты там!
Иван собрал силы, нащупал какой-то камешек, попытался ударить, однако сил хватило лишь на то, чтобы царапнуть по стене.
Услышав, Ибо скакал и радовался, как ребенок:
— Живой он, люди! Жив парень! Наш паренек, Иванчо, живой! Эх-ха, живучие мы, горцы!
Иван медленно приходил в себя, словно поднимался на какую-то высоту и вновь проваливался в глубокий липкий мрак. Буйный огонь сжигал его. От этого огня пересохли губы, горело тело. И вместе с тем из этого убийственного пламени непонятным образом возникали тишина и спокойствие. На Ивана наплывали воспоминания. Они воспринимались как живой день, как живой человек, как нечто реальное, что когда-то было в его жизни.
НА ТРЕСКАВЕЦ
…Однажды Иван и его друзья решили подняться на вершину Трескавец. Повел их Иван. День стоял жаркий, воздух был таким раскаленным, что казалось, еще минута — и горы расплавятся.
Те, что послабее, начали часто садиться, чтобы передохнуть, но никто и не думал отступать. Когда дошли до тропинки, которая вилась по краю обрыва, страх сдавил им горло. А Иван шагал впереди и с подкупающей улыбкой подбадривал их:
— Товарищи, еще немного, товарищи! Не останавливайтесь, только ступайте осторожнее.
Иван подбадривал их, но стоило ему самому посмотреть в сторону, как он тут же чувствовал, что волосы встают дыбом.
— Батко[5], а если человек упадет туда, вниз… что от него останется? — спросил какой-то мальчишка.
— Похороны останутся, милый, — отозвался кто-то.
Тропинка становилась все круче, ребята едва дышали, но продолжали взбираться наверх.
— Еще немножко, товарищи… Еще совсем немножко…
Первые, кто достиг вершины, упали как подкошенные. Дышали широко открытым ртом. Ноги дрожали и от усталости, и от пережитого страха. Немного передохнув, ребята приободрились.
Под ними раскинулся город. Отсюда, с высоты, дома казались похожими на игрушечные. Река Вит, которая всегда пугала и в то же время притягивала ребят своими синими омутами, сейчас выглядела маленьким игривым ручейком, а люди возле нее — суетливо спешащими муравьишками. Вершина Червен, ставшая теперь гораздо ближе, выглядела еще красивее и заманчивее.
— Ну что, хотите завтра пойти и на Червен? — спросил худенький, стройный паренек.
Кое-кто согласился, остальные, однако, молчали. Всех мучила жажда. Они взяли с собой две сделанные из тыквы бутыли с водой. Одну выпили еще неподалеку от города, а вторую уронили, и она разбилась. Самый маленький из ребят не выдержал:
— Больше не могу. Пить хочется. Понимаете? Хочу воды! Хоть капельку…
— Давайте возвращаться! На перевале воды нет, — произнес кто-то.
Иван, любовавшийся городком, повернулся к ребятам:
— Подождите! Я слышал от пастухов, что посередине, под этими скалами, есть расщелина, из которой сочится вода. Попробуем, а?
Тут даже храбрецы посмотрели на него с удивлением. Неужели можно спуститься по этим голым, острым как лезвие ножа скалам? Ведь если человек сорвется вниз, даже ухватиться будет не за что!
— Давайте собираться! Отправляемся! Нечего тут больше делать!
Иван не обратил внимания на эти голоса. Он снял льняную рубашку и стал спускаться к расщелине, держась за ветки колючего, сучковатого дерева. Веревку от бутыли он зажал в зубах. Сверху над ним склонился мальчишка. Он следил за Иваном жадными глазами. Горы словно скалили зубы на смелого парня…
Капли воды стекали по влажному склону и собирались в слабую тонкую струйку.
Иван наклонился, чтобы смочить губы, но сверху донесся голос мальчонки:
— Бате Иване, дайте мне первому попить!
Иван подставил бутыль. Вода капала медленно, скупо. Одна нога юноши занемела, но, несмотря на это, он чувствовал, что стоит на остром камне. От боли Иван стискивал зубы. Одно неосторожное движение — и он мог полететь в пропасть.
Ребята ждали затаив дыхание.
Бутыль наконец наполнилась. Медленно, шаг за шагом он начал подниматься. Один из камней откололся и с грохотом полетел вниз. Иван продолжал подъем. Не отводя от него взгляда, ребята следили за каждым его движением. Еще метр, еще…
— Ура-а! — закричали они.
Когда была выпита последняя капля, кто-то заметил:
— А сам Иван-то не пил…
Все молчали, пристыженные.
— Да мне не хочется пить… — проговорил он, а у самого слова застряли в пересохшем горле.
…Иван метался в полубреду в подвале. Вот он снова на гребне скалы. Пытается схватиться за ветку, но она обламывается. Еще немного, еще немного. Последние усилия. Еще немного, еще чуть-чуть, и он схватится за протянутые к нему руки. Выступ скалы, на который он встал, неожиданно откалывается. Сейчас, вот сейчас он свалится вниз. Слышится чей-то крик. Он снова начинает искать, за что можно схватиться, но, как только прикасается к стене, Темница бьет его по голове поленом. Он стоит, склонившись над Иваном, будто огромный черный ворон над перепеленком. И громко смеется. Горло у Ивана пересохло. Потрескавшиеся губы просят воды, хоть капельку воды. Но вот и ручей. Бьет струя воды, сильная, словно молот. Иван пытается зачерпнуть ее ладонью, но Темница хватает лопату и засыпает ручей. Теперь достать воду уже невозможно.
«Воды, воды, только каплю воды», — шепчет Иван.
Ручей снова оказывается возле него, и Иван слышит как в полусне: «Завтра идем на Червен».
Потом внезапно все исчезает. Ночь. Над ним множество звезд. Сам он уже на Трескавце. А где же ребята из его квартала? Ведь он спустился из-за них, чтобы налить воды! Почему они его оставили?
«Воды! Каплю воды…» Тело его тлеет как догорающий уголь.
Он снова в забытьи.
С Колци, его неразлучным другом Колци, они бредут по полянкам недалеко от Тетевена. Идет дождь. Капли воды, словно роса, медленно стекают по листьям деревьев, по траве. Он наклоняется и погружает руки в зеленую пену луга.
«Воды!»
Ему хочется слизнуть каплю воды, но на потрескавшихся губах он ощущает вкус крови и, вздрогнув, приходит в себя.
— Воды!.. — крикнул Иван.
Камера взорвалась эхом.
Стоявший на посту при арестованном полицейский не выдержал. Он наполнил водой пустой солдатский котелок, внес его в камеру:
— Пей, только понемногу…
Дрожа, Иван коснулся воды губами, и ему стало легче. Он откинул голову. Перед ним вновь вздымаются скалы Трескавца, снова он слышит крики ребят, «Нет, они меня не оставили. Я не один!» Они приближаются к городу. Тяжелые громады черных облаков плывут им навстречу. В складках гор клубится туман. Холодные капли дождя мелкими камешками стучат о безмолвную землю…
Он вдруг почувствовал, что его одежда насквозь промокла, и открыл глаза. Рядом с ним стоял полицейский, держа пустое ведро.
— Давай еще воды! — крикнул полицейский охраннику.
Мокрая одежда прилипала к израненному телу. Иван попытался встать, однако выплеснутая из следующего ведра вода снова свалила его на пол.
УРОК ПОЛИТГРАМОТЫ
Он почувствовал себя лучше и даже сел, опершись спиной о стену. В соседней камере Ибо пел цыганские песни.
— Зачем тебе понадобилось красть дрова? Пел бы себе и пел… — сказал кто-то за стеной.
— Да для цыганят, браток. Чтобы им тепло было. А разве это дело, чтобы за одно полено целый месяц вот так тут сидеть?.. Те, сторожа, машинами ведь воруют, и для них тюрьмы нет…
— За воровство машинами не наказывают!
Иван лучше себя чувствовал, когда слышал рядом с собой голоса.
«Если бы не было честных людей, что бы мы значили?! — сказал ему как-то Владо. — Сила наша в наших людях и в братушках».
Сейчас эта мысль возвратила его назад, в лето 1943 года. Дело уже шло к вечеру, когда ему передали, что в ту же ночь вместе с Владо и Йорданом Богдановым он должен отправиться на собрание коммунистов и ремсистов Малка-Желязны и Лесидрена. Прежде всего они должны были встретиться в домике Дико Гаврилова возле Самарджийской. В первый вечер Владо и Йордан Богданов сбились с пути. Запутались в каменных россыпях и наткнулись на пастухов, гнавших скот на ночной выпас. Пастухи подняли крик, собаки разлаялись.
— Не хватало только, чтобы пришла полиция и взяла нас тепленькими, — смеялся Владо, глядя на Йордана.
— Да оно… я вроде и знал дорогу… а заблудились мы! — бормотал тот виновато.
— Теперь проводником у нас будет Иван. А мы можем идти и спать на ходу, — сказал Владо.
— На хваленую ягоду с большой корзинкой не ходят, — улыбнулся Иван. — Всякое бывает.
Вышли втроем.
Ночь была светлой, лунной. Шли молча. Впереди шагал Иван, следом за ним Владо, замыкал шествие Йордан. Ох уж этот Йордан! Нежный, словно девушка, и тихий. Такой, как люди говорят, мухи не обидит. Насколько он был скромен, настолько же и предан. Отец его был человеком бедным, калекой; жили они в крохотной комнатушке, так что и принять своих дорогих друзей Йордану было негде. Принимал он их в сарае. Но даже и в этом положении без гостей он не оставался. Сколько раз Иван бывал у Йордана дома!
Как-то вечером он остался у него ночевать. В полночь коровы забеспокоились, сбились в кучу. Иван вскочил, взвел курок пистолета, взятого у Марина Темелского, и залег у плетня. Он ждал долго, но никто не показывался. Когда совсем захолодало и начало светать, он положил книги за пазуху и поспешил в Тетевен, чтобы не опоздать в гимназию. Всякое опоздание или отсутствие усиливало подозрения местных властей. По этой причине он старался быть аккуратным и прилежным учеником.
Старый Стоян Райков, секретарь партийной организации, встретил их на краю поляны. Из-под бурки у него торчал карабин, с которым он участвовал еще в Сентябрьском восстании 1923 года.
— Ох уж мне эта винтовка! Давненько я на нее глаз положил, — засмеялся Владо, сжимая в рукопожатии ладонь старого Стояна.
— Не-ет, ничего у тебя не выйдет, голубчик! Вот тебе граната, и довольствуйся этим, а карабин пусть остается деду Стояну. Он мне еще послужит…
Пока поджидали ребят, зашел разговор о Советской Армии. Владо заговорил о внутреннем и международном положении. Он подробно рассказал о наступательных операциях Советской Армии, о ее ударах по фашистам. Его слушали затаив дыхание. Старый Стоян время от времени согласно кивал.
— Не можем мы оставаться спокойными, ребята, в то время как какой-то маньяк пытается превратить мир в сплошное пожарище. Ненависть наша растет. Я старик, прошел через все последние войны, и вот я задаю сам себе вопрос: «Когда мы начали ненавидеть? — Он замолчал, поправил карабин. — Во время Сентябрьского восстания я тоже задавал себе этот вопрос. Ненависть к поработителю, ребята, в крови у нас, болгар. И ненависть наша прочна, если у нас есть вера в будущее. Вот за это самое большое спасибо партии.
Ивану крепко запомнилась та незабываемая летняя ночь. От вяза, под которым они расположились, на землю ложилась густая тень. Неподалеку от них внизу журчала река. Стрекотали цикады. Время от времени откуда-то издалека доносился металлический звук колокольчика. Люди сидели, говорили, прислушивались, и каждому хотелось принять участие в разговоре, рассказать о новостях, которые узнал днем.
Старый Стоян приподнялся, оглядел всех по очереди. Задержал взгляд на Владо:
— Хорошо говоришь, товарищ Владо. Светло у меня на душе слушать вас в такой вот вечер. И вот я сижу и думаю себе: вы люди все, как один, грамотные. Но вот хочу я спросить вас… Сколько ступеней от поляны на Шипке до памятника на Шипке?
Все переглянулись, но никто в ответ не сказал ни слова.
Дед Стоян пригладил усы и сам ответил:
— Девятьсот девяносто девять ступеней, ребята. А сейчас мне скажите, где тысячная ступенька?
Снова молчание, переглядывания, неловкость.
Старый коммунист улыбнулся.
— Тысячная ступенька здесь, — указал он на свою грудь. — В моем сердце, в ваших сердцах, в сердцах болгар, которые любят Россию и верят русским…
Расстались поздно ночью. Черньо Йотов, партизан из отряда, остался с ребятами из Малка-Желязны, а Владо и Иван направились обратно в Тетевен.
Шли молча, переходили небольшие речушки, впадины, наконец оказались на тропинке, петлявшей по склонам вершины Червен, но продолжали идти молча. Когда подошли к Тетевену, Иван остановился, обернулся к Владо и схватил его за руку.
— А знаешь, у меня до сих пор перед глазами дед Стоян. Умный и мудрый человек. Вот он, старый коммунист! Я учился у Тодора Златанова, у Симеона Куманова… Учусь и у бай Дико Гаврилова… Перед каждым старым коммунистом шапку снимаю, поклониться до земли готов им за те политические уроки, что они нам дают… И все думаю: «Как же велик капитал партии!»
Они молча постояли, вглядываясь в спящий Тетевен.
— Думаю я и о наших городах, — снова заговорил Иван, — и кажется мне, что каждый из них похож на Шипку, которая уже много лет наполняет наши сердца любовью к братушкам.
Спустились в город. Остановились, огляделись, пожали друг другу руки и разошлись.
«Да-а!.. Эти воспоминания о минувших днях пришли, чтобы ободрить меня, подготовить к новой встрече с Темницей и его подручными, — с благодарностью подумал Иван. — Бессилие всегда прибегает к жестокости, но оно слабо, чтобы сломить меня!..»
Ему захотелось уснуть. Он нашел одеяло, свернулся клубком, но сон от него бежал, а перед глазами вставали родные и близкие люди. Они смотрели на него. Улыбались с теплотой и любовью и твердо шептали: «Ты сильный!.. Не предавай!.. Еще секунда — и победителем будешь ты!»
ДОВЕРИЕ
Малый достаток в семье вынудил Ивана пойти разнорабочим на строительство шоссе Тетевен — Рибарица. Когда он пришел наниматься на работу, прораб недоверчиво посмотрел на него из-под косматых бровей.
— Слишком ты мал да слабоват, кажется. Щебенку бросать — это тебе не мячик гонять…
— Попробуем! — предложил Иван.
— Ну, попробовать-то можно, а только знаешь, сколько здоровых мужиков работы ждут!
— Не подведет! — подали за Ивана голос несколько грубоватых, прокаленных на солнце рабочих, усевшихся неподалеку от прораба.
Иван удивленно посмотрел на них. Они не знали его, а все-таки за него ручались. Когда он уходил, один из них заговорщицки подмигнул ему.
Чудесные люди!
Тодор Златанов, родственник и первый учитель-коммунист Ивана, не раз говорил ему о рабочем классе, его единстве, о сильном чувстве товарищества у людей.
«Когда бросили меня в тюрьму, — вспомнился Ивану рассказ Златанова, — на мне один потрепанный пиджак был да еще более изношенные брюки. А зима стояла суровая. Улегся я в ногах у заключенных, чтобы хоть немного согреться. И неожиданно в один прекрасный день получаю посылку. Открываю ее и глазам своим не верю: теплая шерстяная одежда, еда. Хотел ее вернуть, поскольку был убежден, что произошла явная ошибка. Уже собрался это сделать, но один из товарищей меня остановил.
«Не сомневайся, это для тебя, — сказал он мне. — Это от наших рабочих. Они по крохам собирают средства, чтобы не дать нам умереть как собакам».
Иван свято верил этому человеку, который утверждал: «Только в рабочем классе живет подлинное товарищество. Ты должен искать его. Потому что оно всегда взаимно. Не забывай, что доверие — это самая важная штука. Если ты однажды потеряешь доверие, трудно его потом завоевать. Береги его!»
Тодор Златанов красиво говорить не умел и не любил. Ивану всегда казалось, что он презирает напыщенные слова, и уже одно это нравилось ему. У дяди Тодора, как его называл Иван, было одно слово: «Надо». В него он вкладывал многое: и долг, и преданность, и веру, и любовь. Для Ивана это слово вскоре превратилось в закон.
Однажды вечером Тодор Златанов пришел, падая от усталости, едва передвигая ноги. Он пешком прошел от Червен-Бряга до Тетевена. Продолговатое лицо его, казалось, еще больше вытянулось, щеки ввалились, побледнели. Когда они поздоровались за руку, Иван заметил, что ладонь у него горячая.
— Ты горишь!
— Мир на огне держится, а я что же, исключение? — попытался пошутить Тодор.
— Оставь мир в покое, тебя трясет…
— Да, есть немного, — согласился Тодор.
Иван нашел хинин, взял у своего отца коньяк и принялся лечить Тодора. Они были одни. Печка гудела, и через открытую дверцу из нее вырывались язычки пламени. Тодор привалился спиной к двум подушкам, лежавшим на лавке, а ноги положил на стул.
— Я узнал, — повернулся он к Ивану, — что ты работаешь в бригаде чернорабочих на строительстве шоссе на Рибарицу. Там есть наши товарищи, отправленные в ссылку. Они сами тебя разыщут. Ты не должен проявлять к ним никакого интереса. Будешь поддерживать связь только с тем, кто даст о себе знать. От него будешь получать и задания. И запомни: надо!
Бай Павел закрыл трактир рано, отправился поболтать с гостем. Любил он Тодора за его добрый характер и открытое сердце. Когда он слушал Тодора, душа его наполнялась теплом. Завязался разговор. И в этот вечер о чем только они не говорили!
— Слышь, Тошо, а почему это наше начальство пригнало столько молодежи? А рибаринцы вот говорят, что в горах есть и ученые люди…
— Какие это начальники, Павле? Это вырубщики-браконьеры. Рубят самое лучшее, а сами в жизни деревца не вырастили. Этим-то они и страшны. — Тодор зашелся в остром приступе кашля, потом вытер с лица крупные капли пота. — Лучшие сыновья Болгарии здесь, Павле.
Бай Павел рассказал ему, о чем шушукаются в городе, что он слышал в корчме. На следующее утро Тодор Златанов вновь отправился пешком в Червен-Бряг, а Иван взял котомку и ушел в Рибарицу.
Лишь тот, кто швырял щебенку, может понять положение Ивана. Уставал он до полусмерти, до дрожи в мышцах. Одолевал его кашель, да и ногу одну он поранил.
Прораб каждый день останавливался возле него, смотрел, как сгибается его тонкое тело, и насмешливо спрашивал:
— Ну как? Завтра придешь на работу?
— Буду работать до первого дня занятий, — отвечал Иван.
Прошло дней десять, и все наладилось. Ладони юноши огрубели, на них появились мозоли. Теперь он крепко держал лопату.
Никто к нему не приходил. Каждое утро, идя на работу, Иван думал: «Сегодня получу первое поручение», но с «поручением» не спешили. Все чаще и продолжительнее вглядывался он в лица ссыльных. Многие из этих людей были учителями. Спорили они с офицерами в открытую. Начальник их был человеком злым. Однажды он набросился на одного из «красных», как их называли рибаринцы.
— Вот я прикажу, чтоб тебе три аршина земли отмерили! Подарю тебе пулю и… поминай как звали! — кричал он, брызгая слюной.
«Красный» рассмеялся:
— Ошибаетесь, начальник! Три аршина хватит для покойника, а не для живого человека. Человеку, господин хороший, не три аршина земли требуется. Человеку не хватит и этого огромного ущелья. Человеку нужен мир, весь земной шар, где он может проявить свой талант свободной и умной личности, а не раба. Мы боремся не за то, чтобы нам раздавали по три аршина земли. Нам мир нужен!
Офицер позеленел. Многие из рабочих стояли и внимательно слушали.
— Чего стоите? — разозлился офицер. — А вы, — обернулся он к заключенному, — вечером явитесь ко мне! — Сказав это, он быстро ушел.
Такие «перестрелки» случались часто. Иван впитывал каждое слово.
На объекте в один из обеденных перерывов он услыхал стихи Ботева. Поднявшись на груду камней, молодой человек с высоким лбом и буйной черной шевелюрой декламировал:
Не плачь, моя мать, не сетуй, Что стал я, твой сын, гайдуком, Гайдуком стал, бунтарем я…Рабочие побросали молоты, кирки и лопаты, сгрудились вокруг. А слова чтеца, сильные и мощные, гремели как взрывы гранат.
Один из надзирателей проревел:
— Я вас под арест посажу! Что это за пропаганда?
Перед надзирателем неожиданно вырос крупный мужчина с изрытым оспой лицом:
— В этот день погиб Христо Ботев. И если ты болгарин, то не мешай нам почтить память достойного сына нашего отечества!
— Зачем обижаешь? Болгарин я, — растерянно пробормотал надзиратель.
— В таком случае помолчи! — произнес человек с рябым лицом.
С этого дня Иван всей душой и сердцем полюбил Христо Ботева и его стихи. Ботев стал его любимым поэтом.
В тот же день случилось и другое событие. Рабочий, который настаивал на том, чтобы Ивана приняли на работу, сердечно ему улыбнулся и подал какой-то пакет.
— Вечером тебя найдут. Завтра увидимся! — сказал он коротко и пожал ему руку.
Иван остановился как вкопанный. Рабочие стали расходиться. Кто-то затянул песню. Вокруг колыхалось летнее марево.
«Первое задание», — подумал Иван и неожиданно вспомнил слова Тодора Златанова: «Если ты однажды потеряешь доверие, трудно его потом завоевать. Береги его!»
Потом задания следовали одно за другим, каждый день. Вначале весельчак, с которым Иван встречался чаще всего, напомнил ему некоторые требования конспирации, однако позже стоило ему один раз улыбнуться или подмигнуть — и Иван понимал все.
«Революционер с полуслова должен понимать задачу целиком, — учил его Тодор Златанов, с которым они часто встречались. — У нас нет времени на объяснения».
Каждый вечер под пропитанной потом рубахой переносил Иван письма в Тетевен. Там их забирали незнакомые люди, а утром на условленном месте он находил или письма, или пакеты. Он прятал их в котомку и молча примыкал к группе рабочих.
— Иване, чем ты набил свою торбу, что она раздулась будто волынка? — спросил его как-то утром парень из их квартала. — Может, тебе луканку[6] кладут, да ты прячешь ее от нас, чтобы самому съесть?
— А ну не придирайся к парню, — приструнил его невысокий мужчина средних лет. — Знаешь ведь, что он книги носит. Учится, учится, а только и ученым у нас счастья нет.
— В наше время лишь жулики и преуспевают, — тихо произнес кто-то, кого Иван не мог рассмотреть…
Топот двух пар тяжелых сапог прервал нить воспоминаний, и Иван пошевелился.
— Он здесь, господин старший полицейский!
— Открой!
Иван узнал голос старшего полицейского Цано Стефанова.
Луч электрического фонарика скользнул по стенам и остановился на нем.
— Давай поднимайся, поговорим малость. Думаю, водить нас за нос ты не будешь и скажешь все, что нужно.
ТРЕТИЙ ДОПРОС
— А-а, предводитель взбунтовавшейся тетевенской молодежи! Как отдохнул? Наши гостиные не самые удобные для сна, но уж чем располагаем…
Прищуренные кошачьи глаза Йордана Николова встретили Ивана насмешкой. Он полулежал на кожаном диване. Старший полицейский Цано Стефанов встал в стороне от двери. Комнату наполнял сизый сигаретный дым. На столе стояла недопитая бутылка ракии, лежала тонко нарезанная луканка и бастурма.
Иван остановился у окна. Под ним внизу спал квартал Кузур, позади которого могучей стеной вздымалась громада Балканского хребта.
Сколько собраний было проведено в его ущелье! Там они с Колци опробовали и первые изготовленные ими ручные гранаты. На душе стало тепло от мыслей о походах с друзьями по этим лесам. Пенка, Райна, Милка, Колци… Эти дорогие ему люди сейчас далеко от него. Много раз они стояли на поляне под Трескавцом и с отвращением смотрели на эту покосившуюся от времени «душегубку», как называли они полицейский участок. На этом же самом месте когда-то, в период османского ига, находилась резиденция правителя — конак. Здесь турки пили кофе и били, мучили и истязали непокорных горцев. В это здание входил и Выло Вутов, предавший Бенковского, чтобы получить награду за головы бунтовщиков.
И в 1923, и в 1925 годах…
Ах, если бы камни могли говорить!..
Темница широкими шагами пересек комнату. Остановился, поднял бутылку, и жгучая жидкость шумно заклокотала в его горле. Выпив, он набил рот луканкой. Протянул бутылку со сливовицей и Цано. Затем повернулся и долгим взглядом посмотрел на Ивана. Показал глазами на опустошенную бутылку и произнес:
— От отца твоего. Уважает нас человек, а ты заставляешь нас тут сидеть, как филинов. Нынешней ночью нам надо все закончить! Причем по-человечески. До тебя тут и Кирил, и другие тоже упрямились, но мы им показали, что можем вытягивать слова и без их согласия.
Иван слегка побледнел.
«Сколько же их мучили! Кирчо парень сильный, волевой. Ведь это он дал мне «Что делать?» Чернышевского и часто любил говорить, что считает себя вторым Рахметовым. Наверное, не выдержал. Не дождался той единственной, роковой секунды! Но эти… — Он украдкой взглянул на Темницу, стиснул зубы. — Изверги!..»
Ивану вспомнились напутственные слова, которые часто повторял ему Дико Гаврилов, который побывал во многих фашистских тюрьмах и застенках: «Даже если товарища твоего приведут, если он в глаза тебе скажет, что ты участвовал в нашей работе, все равно отрицай!»
— Ну а сейчас давай рассказывай про это… про все, о чем я тебя уже спрашивал! — вкрадчиво произнес Николов.
— Я ничего не знаю. А придумывать, как, может быть, делают некоторые, ниже моего достоинства, как и всякого честного человека.
«Упорный парень! — Скрипнув зубами, Темница нервно зашагал по комнате. — Глуп он или настолько силен?! Если бы мы были в Плевене, я бы с помощью нашей новой техники еще днем вытянул бы из него все, что мне нужно! А тут, в этом курятнике, кроме полена, ничего нет». Он остановился, посмотрел на Ивана. Взгляды их встретились.
— Жить тебе хочется? — спросил Темница.
— Хочется, — сразу ответил Иван.
— Чтобы получить это право, ты должен мне все рассказать о коммунистической организации в гимназии! Все!
«Затянется допрос», — с тревогой подумал Иван и тут же вспомнил слова Дико Гаврилова: «Схватят ли тебя, попадешь ли в полицию — не будь наивным. Агенты и начальники много наобещают тебе, пока не вытянут из тебя все, что им нужно, а потом… Конец один…»
Иван знал, что Йордан Темница ждет его ответа. Подняв голову, он произнес:
— В гимназии я с этого года, с восьмого класса. До этого учился…
— Знаю, — резко прервал его Темница. — Учился ты в Луковите. — Он отогнул на кулаке один палец. — Тебя исключили оттуда по политическим причинам. — Он отогнул второй палец. — Потом ты учился в Ботевграде, но никогда своих связей с Тетевеном не прерывал. — Он разжал кулак и растопырил пальцы.
— Если вы считаете, что мое общение с моей семьей — это связи…
Скрипнув снова зубами, Темница прикрикнул:
— Не прикидывайся дурачком, Туйков! И не делай из меня ребенка! Хватит злоупотреблять моим терпением! Всему есть предел!
Иван украдкой посмотрел на него. Кровь бросилась в лицо Йордану Темнице. Движения его стали нервными.
Стефанов застыл у дверей как памятник. Когда Темница повысил голос, он лишь вытянулся.
— Так! Сейчас начнем по порядку! — Темница старался оставаться спокойным. — Прежде всего расскажи нам о гимназии!
— Ничего рассказать не могу. Не знаю я ничего…
Николова словно передернуло.
— Да ты что, насмехаешься или упрямствуешь? — Он позеленел. — Если ты решил мне заморочить голову, то не надейся, что у тебя получится! Знаешь ли ты, милый, скольких я обработал коммунистов покрепче, чем ты? — Он весь трясся. — А ты что… выкрутиться у меня вздумал? — Он схватил Ивана за плечи, тряхнул его и ударил о стену.
Старший полицейский Цано Стефанов подошел и обрушил свои тяжелые кулаки на голову, лицо, грудь юноши. Тот осел на пол.
— Заговорит, господин Николов! Заговорит!.. — заорал во все горло старший полицейский.
— Хватит! — произнес Темница. — Облей его водой!
Иван, ощутив прохладу воды, открыл рот и поймал несколько стекающих капель.
«Убьют меня эти палачи!» — тревожно подумал он.
Ненависть его росла. Ему так хотелось вскочить и одним ударом свалить своих мучителей и задушить.
«Только бы подняться на ноги! — подбадривал он себя. — Хоть одного на тот свет отправлю. А это уже будет кое-что!»
— Поставь его! — приказал Темница.
Большие и грубые руки Цано сгребли избитое, обессиленное тело парня и прислонили к стене.
— Теперь будешь отвечать? — приблизился к нему Темница.
Иван молчал.
— Этот молокосос еще не знает, кто мы такие, господин Николов, потому и молчит. Но только не вывернуться ему. Познакомится с нами поближе и еще будет умолять нас выслушать его, — пригрозил старший полицейский.
— Ну, будешь ты говорить? — Николов сжал кулаки и с угрожающим видом пошел на Ивана. — Или мне начать?
Не успел Темница приблизиться, как Иван, собрав последние силы, крепко оперся о стену и ударил его ногой в живот.
Йордан Николов от изумления вытаращил глаза. Скривившись от боли, он скорчился в кресле и истошно закричал:
— Ах ты собака грязная! Ах ты тварь ничтожная!.. На меня посягаешь? Ну все, теперь тебе конец!..
Цано Стефанов свалил парня на пол и начал его бить, пинать, давить ногами. Комната содрогалась от топота тяжелых сапог, от яростных криков и ругани.
— Погоди, оставь его! Для него это пустяк! Для него есть кое-что такое… получше, — цедил слова Николов и снова ругался, что в участке нет орудий для допросов. — Ничего, Йордан Темница человек бывалый! Он обо всем подумал… А ну-ка принесите валики!
Старший затопал сапогами, и немного погодя двое полицейских принесли стол, на котором была укреплена маленькая машина, похожая на ротатор. Там было два валика, приводившихся в движение с помощью зубчатых колес.
Иван лежал распростертый на полу и ждал. Не спешил и Йордан Темница. Сильный удар, который нанес ему юноша, словно выжал весь воздух из его груди, и он согнулся в три погибели, побледневший, с вытаращенными глазами и открытым ртом. Наконец он выпрямился, посмотрел на полицейских и прокаркал:
— Давайте его сюда!
Ивана подняли. Он с трудом держался на ногах.
— Сейчас я посмотрю, чего ты стоишь, — процедил Темница и предусмотрительно остановился поодаль от парня. — Ну-ка скажи ему, что там написано!..
Цано услужливо прочел:
— «Руки, вразумите сами голову, иначе мы раздавим вас!»
Иван почувствовал безнадежность своего положения. Темница решил сделать из него предателя или убить.
«Нет, сволочи, просчитались. Предателем я не стану!»
Он поднял голову и с ненавистью посмотрел на агента.
— Нет, гады, нет! И это меня не испугает! А вы ничтожны и жалки. Режьте меня! — крикнул Иван и протянул вперед обе руки.
Полицейские опешили.
— Вначале одну! — страшно усмехнулся Темница. — У тебя еще есть время… Если не признаешься, дойдет очередь и до другой! Потом ноги! Из всего тебя, миленький, отбивную сделаем! — цедил он слово за словом.
— Было время, — Иван впился в него взглядом, — когда одному горцу отрезали руки и ноги, но он остался болгарином.
— Замолчи, коммунистическая трещотка! — закричал Темница. — Этот номер у тебя не пройдет! Тот горец был болгарином, а ты коммунист, предатель!
— Снова ошиблись, господин Николов, предатели вы, потому что служите немецким и болгарским фашистам. А мы хотим свободы для нашего народа.
Глаза Темницы налились кровью.
— Валики! — крикнул он вне себя.
Заскрипели зубчатые колеса. Цано Стефанов прижал к себе ослабевшее тело Ивана, схватил одну его руку и сунул ее между валиками. Брызнула кровь. Захрустели кости. Невыносимая боль впилась волчьими зубами в руку Ивана, сдавила судорогой. Он хотел закричать, но стиснул зубы, зашатался и упал на руки старшего.
— Крутите! — вскричал Йордан Темница. — До локтей чтоб размозжили!..
Полицейские остановились. Стояли и смотрели на все мертвыми глазами.
Рукав остался пустым. На полу, залитом кровью, лежало обессиленное тело юноши.
— Обливайте его водой! — кричал Темница, трясясь от ярости.
Иван постепенно, медленно приходил в себя.
Зачем к нему возвращаются силы? Валики ждут. Полицейские стоят подле него. Он поднимется, и они вновь начнут крутить колеса, чтобы вырвать признание.
— Говори! Говори! Говори! — кричал над ним Темница.
— Ничего не знаю!.. — Веки Ивана дрогнули, глаза чуть приоткрылись. — Ни о ком говорить не буду! Не знаю… ничего…
— Продолжайте!.. И другую руку… Быстро, немедленно! Слышите, скоты!..
И опять… Снова. И все то же самое…
…Иван был уже полуживой, но они снова и снова обливали его водой. Много тайн держал он в себе, а они были очень нужны палачам. Темница был полон решимости заставить заговорить этого мальчишку, чтобы утром можно было задержать и других. Тогда он, Йордан Николов, сможет с гордостью доложить начальству, что разгромил организацию в Тетевене.
Он нервно потер руки и решил дать себе маленький отдых.
— Перерыв…
Удары полицейского лишили Ивана зубов, но это не заставило его говорить. Ему сломали ногу, но он не произнес ни слова.
— Тащите его в подвал! И принесите ракии! Этой ночью он должен заговорить… — Темница сжал кулаки.
Труп дышал. Труп жил. Труп думал.
«Как ничтожны убийцы. Дух человека — он как столетний дуб с крепкими, жилистыми корнями, глубоко вросшими в каменистую землю. Бессильны, жалки ветры, которые хотят свалить его…»
…Рядом с Иваном Туйковым стояли самые близкие его друзья. Они пристально смотрели ему в глаза. Он понимал смысл взглядов и едва слышно шептал:
— Я не заговорю, товарищи, я не выдам вас!.. Меня уничтожат, я знаю… Но я был всегда и останусь с вами… с вами… Прощайте!
«ПРОЩАЙТЕ!»
«Я должен жить! Я хочу жить! А они хотят убить меня. Почему меня хотят убить сейчас? Мы на пороге нового дня! Надо постараться уцелеть… Я должен выжить… Только бы взглянуть на него… На наш солнечный, чистый завтрашний день… Наша новая жизнь… Но без рук, без ног?.. Кому я буду полезен?»
Он представлял себе, каким будет утро этого желанного дня, о котором они столько мечтали, представлял, как они соберутся все вместе. Как тогда, в Луковите…
Маленькой была та комнатка, а сколько людей в ней собралось! Сидели один подле другого. Иван оказался рядом с печкой. Приглушенным голосом читал «Манифест». Завтра надо было передать книжку другим. Милка, Райна, Борис и другие слушали внимательно, с интересом.
Огонь догорел. Пламя сделалось совсем тоненьким и погасло. Хозяин в пятый раз вышел во двор и предупредительно покашлял. Боялся человек, что дознаются полицейские, придут и сожгут его дом.
Иван закрыл книгу:
— Ну, товарищи, время заканчивать… — Он старался отыскать в темноте их взгляды. — Поздно. Да и хозяин…
Да, да! Они понимали, что пора вставать. Действительно — время… Они были согласны. Однако сидели притихшие, боясь пошевелиться.
Хозяин снова закашлял. Они с сожалением поднялись и тихо вышли. Иван пошел их проводить. Ночь приняла их в свои темные объятия. Шаги затихли в уснувшем городе.
Город Луковит.
Люди ложатся спать рано, потому что каждый день задолго до рассвета им предстоит отправляться на рассохшихся деревянных повозках с тощими коровами далеко за город, на пашни, виноградники… Сонные дети дремлют в повозках, и головы их ударяются о края повозки. Восходит солнце, а скот все течет и течет по улицам. Пастух ждет.
Иван сидел на каменных ступеньках дома и ожидал, когда же наконец выйдет луна, чтобы можно было почитать. Хозяин рано выворачивал пробки, чтобы экономить энергию. Человеком он был добрым, но достатка в семье не было. Он вышел на крыльцо, стал рядом с Иваном.
— Часто собираетесь, Иванчо. Сегодня на рынке встретил меня учитель Ватев и говорит: «Там твои постояльцы ведут себя нехорошо. Тебя они еще не впутали?»
— А ты что ему ответил, хозяин? — быстро спросил Иван.
— «Запутался, — говорю, — запутался я совсем, потому что не знаю, как концы с концами свести. Дергаю, дергаю их, чтобы собрать, а они все равно расходятся». Он на меня подозрительно посмотрел и опять говорит: «Ты эту сказку про концы оставь, а вот мозгами пошевеливай!»
— Правильно ты ему ответил, хозяин! А нас не бойся, мы собираемся вместе, чтобы читать. Мы приспособились по очереди собираться. Сегодня у меня, завтра у другого…
— Это ваше дело, Иванчо, а только смотри, чтоб беды какой не случилось, не то…
— Будь спокоен, хозяин!
Ворча что-то себе под нос, человек зашаркал прохудившимися царвулями к воротам.
Большая и светлая луна выкатилась на середину звездного неба, и вокруг стало светло будто днем.
— Здравствуй, красавица, — встретил ее Иван, подняв в приветствии руку, и вошел в свою комнату. Взяв книгу, он лег грудью на подоконник и читал до тех пор, пока луна не скрылась за хозяйским сараем.
Юноша со вздохом закрыл книгу. Так много хотелось узнать, а времени на все не хватало. Когда он прочел «Мать» Максима Горького, не мог уснуть всю ночь. Ворочался, думал, представлял, волновался. Он жил теперь событиями и судьбой Павла, и все ему казалось, что он идет рядом с ним, готовый защищать его от царских жандармов. И мука, и боль, и вера в будущее наполнили Ивана… После этой книги он начал читать ненасытно. Колци несколько раз привозил ему из Софии очень интересные книги. Часто они сидели вдвоем, делились мыслями о прочитанном, обсуждали, спорили.
«Капитал» Карла Маркса они читали вместе. Иногда в их разговорах участвовала и Пенка Кунчева. В последний вечер, перед тем как Ивана задержали, он и Колци были у Пенки дома. Днем она сделала вкусное печенье и теперь щедро угощала их. Колци, у которого было хорошее настроение, все шутил:
— Не трать, Пене, эти деликатесы на наши сытые желудки! Разве ты не видишь, что на наших животах ремни вот-вот лопнут? Ты их прибереги, эти вкусные печеньица, до того времени, когда мы пойдем тропинками Ботева!
— Ох, опять ты, Колци! Лучше ешь! Все съешьте. А я вам еще испеку.
Когда совсем стемнело и они с Колци собрались уходить, девушка проводила их до калитки. Колци торопился на встречу с руководителем отряда, и Пенка прошептала Ивану чуть слышно:
— До свидания! Ты ведь мне дашь знать, когда будешь уходить, правда?
— Конечно, Пенка! Я непременно сообщу тебе!
Она вышла на улицу, мощенную булыжником, немного проводить его. Мартовский снег предательски скрипел под ногами, а рядом с ним неотрывно бежала его тень. Перед тем как свернуть за угол, он обернулся. Пенка все еще стояла у калитки.
«Неужели я влюблен?»
Ему хотелось обнять ее. Вот он идет к ней, протягивает руки… Руки?.. Рук нет… Они раздавлены. Их уже нет…
Рядом с Пенкой стоит Колци, большой и светлый. Колци распростер руки для братского объятия. Иван хочет подойти, но не может сделать ни шагу: ноги его раздроблены. Их нет. Он стоит в оцепенении.
— Я люблю вас!.. Прощайте!.. Дорогие мои, проща-а-ай-те-е! — содрогнулась от крика камера.
«МОЯ МОЛИТВА»
Одна из улиц, крутая, вымощенная булыжником, вела из центра Луковита к гимназии, находившейся на окраине города. Каждое утро на эту улицу врывался веселый синий поток одетых в ученическую форму юношей и девушек. Галдеж, крики, шутки, смех. Парни и девчата спешили наверх, к гимназии. Рано встающее солнце зажигало искры в их ясных глазах. Вместе с искрами разгоралось в них и неугомонное любопытство.
И вдруг — звонок!
Гимназия широко распахивает двери, классные комнаты наполняются учениками. Через минуту начнется первый час занятии.
Второй звонок. Распахиваются одна за другой двери. Слышатся отрывистые команды дежурных учеников:
— Класс, встать! Класс, смирно!
Затем следует рапорт. Называют фамилии отсутствующих.
Учительница встает перед стройными рядами, строгая и нахмурившаяся.
— Молитву! — резко требует она.
Самый ревностный бранник становится перед классом, молитвенно складывает на груди руки, и его монотонный голос начинает блуждать по комнате:
— «Отче наш, иже еси на небеси…»
Голос с религиозным благоговением и гордостью повторяет механически заученные слова:
— «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Учительница стоит, словно каменная статуя, скрестив на груди длинные руки. Ее близорукие глаза, прячущиеся за толстыми стеклами очков, вглядываются то в одно, то в другое лицо. Она ищет, хочет найти кислую физиономию, ироничную усмешку, насмешливое подмигивание, потому что знает, что молитва не доходит до некоторых. Ее вздернутый нос, кажется, неустанно что-то вынюхивает между рядами.
Неожиданно взгляд ее останавливается на девочке со второй парты в среднем ряду. По лицу учительницы пробегает мрачная тень.
«Я уважаю вас как учительницу, но как человека ненавижу!» — сказала ей как-то эта очаровательная девочка с ясными глазами и полненькими красными губами.
«Я никогда не была такой, как она, — с завистью думает учительница. — А хотела бы я быть и уважаемой, и сильной…»
Она вздыхает и в этот момент замечает, что на нее смотрят маленькие синие глаза с длинными ресницами. Принадлежат они мальчику с приятным лицом в черном костюме из английского шевиота, в белоснежной рубашке.
Учительница сосредоточенно смотрит на него.
«Копия своего отца. Глаза такие же пустые. Ох эти предательские глаза! И легкомыслие у него отцовское».
Вначале она его побаивалась, потому что грешила с его отцом: вдруг парень узнает об этом и скомпрометирует ее. Но нет! Молодой человек гордился поступками своего отца. В сущности, учительница без долгих уговоров отдалась этому человеку. Может, больше даже от скуки… Ну и, разумеется, из-за его общественного положения в городе. Люди скоро узнали о ее «тайне», посудачили, пошушукались… и на том все и кончилось.
Она снова смотрит на мальчика. Он с жадностью следит за красивой девочкой со второй парты в среднем ряду.
«Дурак!» Поджав губы, учительница вновь осматривает ряды.
Взгляд учительницы встречается с горящими глазами Ивана Туйкова. Они не говорят, они полыхают ненавистью.
«Ты умнее, чем это необходимо в твоем возрасте, но закваска у тебя плохая, и ты пропадешь…» — думает она, глядя на него.
«Не беспокойтесь! Мой путь ясен как белый день! Борьба! Борьба до победного конца», — отвечает он взглядом.
«И что ты получишь?»
«Счастье».
«Наивный! Ничего ты не понимаешь. Счастье на стороне сильных. А вы слабы, очень слабы, чтобы быть счастливыми».
«Вам остается только сожалеть о времени, потерянном в университете. Вы ничего не узнали о том, чего стоит сила народа».
«Я знаю ей цену! Вдовы… сироты… нищета. А я хочу жить».
«В обнимку с этим фашистским кровопийцей? Это не жизнь. Люди называют таких женщин, как вы, продажными».
Молитвенный голос произносит:
— Аминь! — И смолкает.
Молчит и учительница. Лицо ее пылает. Руки дрожат, и она без нужды поправляет очки. Поджав губы, она не дает классу разрешения садиться. Ее безмолвный разговор с учеником Иваном Туйковым еще не закончился.
Она разжимает губы:
— Может быть, Туйков хочет сам прочитать молитву, потому что мысленно он не был здесь?
Глаза ее ищут поддержки учеников.
— Он хороший декламатор, госпожице, — быстро произносит юноша в черном костюме из английского материала и белой рубашке.
— Ты за себя отвечай! — отзываются с нескольких парт возмущенные голоса.
Учительница делает вид, что не слышит их.
— Мы слушаем! — поворачивается она к Ивану. Он смотрит ей в глаза.
«Ошибаетесь, я не знаю этой молитвы и не прочту ее».
«Безбожник! Прочтешь! Ты забываешь, что я сильная, и я заставлю тебя!»
Один из учеников нарушает молчание:
— Можно ли нам сесть, госпожице?
Она не отвечает. Смотрит на лица учеников. Девочка со второй парты в среднем ряду встречает ее взгляд без страха, гордо.
— Туйков, начинай! — нервно требует учительница.
— Пусть он выйдет к доске, госпожице! — ехидным тоном произносит широкоплечий детина, один из вожаков легионеров.
— Выйди! — говорит учительница.
Парта скрипит. Спокойным, размеренным шагом Иван выходит к черной доске. Осмотрев класс, поворачивается к учительнице и взглядом говорит ей:
«Мы сильны и горды, потому что нам, непонимаемым и гонимым, принадлежит будущее. Не смотрите на наши суконные домотканые брюки в заплатах! Не обращайте внимания и на мою вылинявшую рубашку! У моих друзей есть сердца, которые бьются в ритме завтрашнего, солнечного, свободного дня. А у нас… у нас найдется своя молитва, которой вы можете только позавидовать».
— Разрешите классу сесть, и я исполню свою молитву, — спокойным голосом произносит он.
Учительница победоносно вздергивает голову.
— Начинай, начинай молитву! — нетерпеливо приказывает она.
Класс оцепенел. Товарищи смотрят на него смущенно. На лицах многих из них страх. Они знают, что за молитву исполнит Туйков. Ничего подобного до сих пор не случалось. Что могло произойти? Ни для кого не секрет, что злоба учительницы беспредельна. Учительница в состоянии сделать все, что пожелает. Она даже сильнее директора.
Класс замирает.
Иван обводит класс взглядом, набирает в легкие воздуха. Его спокойный, мягкий, теплый голос наполняет комнату.
О мой боже, правый боже, Ты не тот — не небожитель, А надежда сердца, боже, Чья в душе моей обитель.Учительница каменеет. Лицо ее делается смертельно бледным. Руки предательски дрожат. Но в какое-то мгновение, сумев совладать с собой, она резко поворачивает голову; волосы ее при этом разлетаются.
Ты не тот, кто, взявши глину, Сотворил жену и мужа, Но сынов земли покинул В рабстве, голоде в стуже.— Остановись! Замолчи! Хватит! — в бешенстве кричит учительница.
Но Иван продолжает, не слушая ее:
В сердце каждому, о боже, Ты вдохни огонь свободы, Чтобы в битву шли без дрожи На душителей народа.Слова стихотворения звучат как удары молота.
— Замолчи! Прекрати! Прикуси язык! Это вражеская пропаганда!.. Это нахальство! — истерично кричит учительница, размахивая длинными руками, похожими на высохшие ветки. — Неужели здесь нет патриотов?..
Несколько бранников и легионеров тут же вскакивают с мест, но пять-шесть крепких, плечистых учеников преграждают им путь. Друг против друга стоят напряженные, молчаливые, ощетинившиеся парни.
Задыхаясь от ярости и бессилия, учительница хватает журнал и выбегает, громко стуча каблуками. Хлопает дверь. Со стены падает несколько крупных кусков штукатурки. В комнате мгновенно наступает мертвая тишина.
Потом кто-то из учеников восклицает:
— Ботев — вот наш бог!
— Иван, повтори «Мою молитву»!
Класс шумит. Мальчик в ученическом костюме из английского материала испуганно озирается, беспомощно вертя головой во все стороны:
— Ну разве так можно?.. Это же коммунистический бунт! Это не останется без последствий.
— Естественно, твой отец пустит кровь оскорбителям своей любовницы и разукрасит их хлыстом…
— Не обижай моего отца! Он патриот… Он…
Перехватив взгляд девочки со второй парты, ученик замолкает, съеживается.
— Он палач! — восклицает она. — А яблочко от яблони недалеко падает!
Классная комната внезапно превращается в растревоженный улей. Девушки и парни — здоровые и сильные, маленькие и слабые — говорят и размахивают кулаками…
Эта схватка не была первой. Фронты давно уже определились. Каждый парень и каждая девушка, как хорошие солдаты, знали свое место в сражении.
Спровоцировавшие драку легионеры и бранники оказались в жалком положении. Крепкие кулаки сельских ребят подсинили несколько откормленных лиц. Драка становилась все ожесточеннее, и неизвестно, чем все это могло закончиться, если бы классная дверь внезапно не распахнулась. Вошел школьный служитель и, остановившись перед классом, громко произнес:
— Ивану Павлову Туйкову явиться к господину директору!
Класс застыл. «Ивана к директору! Значит… значит…»
— Иван пойдет к директору, но не один! Мы с ним! — крикнул кто-то, и сильные голоса подхватили эти слова: — Мы с ним!
— Останьтесь в классе и соблюдайте тишину! Так приказал господин директор!
Но ученики, не обращая внимания на слова служителя, быстро запрудили коридор. Лишь несколько легионеров стояли, озадаченные и испуганные, в стороне.
…Разве забудет он, Иван, этих добрых товарищей, своих одноклассников и одноклассниц?! Запертый в камере, он снова вспомнил разговор с ними, который состоялся на школьном дворе на перемене. Не мог он забыть и сурового взгляда директора Симо Димитрова, и перекошенного злобой лица учительницы.
Разговор у директора был коротким. Брань, обиды, угрозы, и уже на следующий день последовало решение: «Исключить из гимназии».
Неужели это конец учебе? Будь жива его мама, все могло бы уладиться проще. О том, что случилось, он рассказал лишь своей тете. Но что могла она сделать?
Иван не вернулся в свою квартиру. Не пошел и в гостиницу, хотя знал, что там его ждали друзья. Он хотел побыть один, посидеть, подумать, оценить свой поступок.
Он пересек школьный двор, перепрыгнул через низкую ограду. Остановился только на скалах… У ног его лежало озеро. Каждый куст, каждый камень был ему здесь знаком… Сколько встреч было около этих чистых и тихих вод! В сущности, что он оставил после себя? Да и оставил ли что-нибудь? Он оставил сплоченную ремсистскую организацию с сильными боевыми группами. Это немного, но и немало. Он смотрел на воду, и ему стало казаться, что там, в глубине, он видит своих товарищей. Он внимательно приглядывался, задерживая взгляд на каждом ремсисте. И внезапно ему показалось, что среди этих лиц он увидел дорогой ему образ.
СТРАНДЖА
Иван задумался. Что он знал о нем?
Симеон Куманов начал свою революционную деятельность в родном Тетевене. Он закалился в огне борьбы в 1923 году. Обожгли его и события 1925 года. После долгих скитаний и преследований полиции Симеон поселился в Луковите. С первых дней своего пребывания в городе он открыл там пансионат для учащихся гимназии, и таким образом его имя оказалось вписанным в историю гимназии. Сделали это ученики гимназии, поскольку без него они могли оказаться на положении «беззащитных цыплят». Ученики же и окрестили его Странджей, потому что обстановка и романтическая простота его пансионата всем своим укладом походили на другой пансионат, в котором жили герои книги Вазова «Отверженные», и напоминали о его владельце — Страндже. Этот уклад, как и теплота, которой дышали и стены, и окна, и столы со стульями, как и запах, который шел от бобов, супа или фасоли с подливой, были первым впечатлением, которое он, Иван Туйков, получил, когда прибыл в Луковит, а дед его по материнской линии привел его к бай Симеону.
— А-а, вот и еще один скиталец! — рассмеялся бай Симеон. Одернув старенький белый халат, он раскинул свои сильные руки с закатанными до локтей рукавами. — Ну, добро пожаловать ко мне! — поздоровался он с дедом, подал руку и Ивану. — Садитесь, садитесь же! В ногах правды нет, устали, наверное.
Вместе со взрослыми сел и Иван. Мужчины поговорили о том о сем. Потом дед сказал бай Симеону, в чем дело:
— Парень учиться будет, так пусть он питается в пансионате.
Бай Симеон взял блокнот, вписал туда фамилию Ивана.
— Завтра как штык! Что для всех, то и для тебя, Иванчо! — сказал он ему. — У меня все равны. А тебе, — обернулся он к деду, — надо пойти… — Он наклонился к старику и что-то ему прошептал. — Там тебе скажут, где найти квартиру.
На следующий день, когда Иван пришел в пансионат, чтобы пообедать, бай Симеон подсел к его столу, посмотрел на него, помолчал и негромко проговорил:
— Малость бледноват ты и слабоват, как я посмотрю, но ничего, мы тебя в порядок приведем. У меня, правда, не объешься, но и голодным никогда не будешь. Тяжела она, Иванчо, сиротская ноша, да ты не бойся! Мы ее с ног на голову поставим, эту дрянь жизнь, так, чтобы мы ей на горло наступили, а не она нас уморила. — Бай Симеон взглянул на него и легонько похлопал по плечу: — А ну-ка скажи мне сейчас, каким тебе показался первый день?
Иван смотрел на бай Симеона с недоумением. Впервые кто-то так им интересовался. До сих пор Ивана будто никто не замечал. Случалось, встретит он на улице человека, снимет шапку и поздоровается: «Добрый день». Но человек мимо пройдет, словно не заметив его. Дома, правда, было по-другому, но и такое «внимание» совсем не радовало парня. Стоило Ивану войти в дом, как отец встречал его упреком, что он очень задержался, что другие ребята уже давно прошли. И прежде чем он успевал сказать хоть слово, отец перечислял ему множество дел, которые нужно было сделать немедленно. В родном доме Иван чувствовал себя батраком. Однажды летом, когда Иван отправился помогать деду в бакалейной лавке, он, несмотря на свое большое старание и послушание, все же что-то напутал, и дед его невзлюбил.
Как-то вечером дед долго рылся в расчетных книгах, пыхтел и бросал на мальчика злые взгляды. Затем резко встал а сердито запер лавку изнутри. Такого еще не было — обычно они всегда ждали клиентов до тех пор, пока село не засыпало. Дед был очень разозлен. Борода его тряслась, а слова жгли как горячие угли.
— Из тебя торговца не получится! Если еще на месяц оставлю тебя помогать мне — разорюсь!
Иван стоял словно наказанный ученик, не понимая, за что сердится на него дед. Ведь с раннего утра до позднего вечера у мальчика не было свободной минуты — все время находилась какая-то работа. Неожиданно он подошел к деду, заморгал и произнес:
— Я все делал как надо, дедушка!
— В том-то и дело! В торговле, чтобы заработать, не надо ничего делать «как надо». А ты по-другому не можешь, — зло проворчал дед и с шумом захлопнул толстую тетрадь со счетами.
И он, отец его родной матери, на которого Иван смотрел как на спасителя, его бросил. Бросил!.. А сейчас перед Иваном сидел чужой, незнакомый человек, ласково смотрел на него и говорил с ним как с равным, интересовался многим, относился к нему с вниманием и уважением. Этот человек вдруг стал ему очень, очень близок.
Бай Симеон хлопнул его по плечу:
— И… нужно читать, браток! Много читать. Наука без труда — это пустая бочка. — Сказав так, этот добрый человек широко, тепло улыбнулся Ивану.
Прежде чем закончить разговор и подняться, бай Симеон по-дружески сказал ему:
— Если тебе потребуются деньги на книги или тетрадки, обращайся ко мне. Не стесняйся. Люди должны понимать друг друга и уметь друг другу помогать. — Немного помолчав, он заботливо добавил: — А вот в выборе друзей будь повнимательней! Всякие люди есть. Не отрывайся от своего круга, браток!
Слово «браток» тронуло Ивана, а дружеское отношение согрело ему душу. Так непринужденно и просто родилась его дружба с человеком, какого не каждый день можно встретить. Вскоре бай Симеон дал ему несколько потертых, зачитанных книг. После зимних каникул Иван с волнением получил от него и первые небольшие, совсем незначительные на первый взгляд поручения. Вскоре Иван узнал, что Симеон Куманов — секретарь околийского комитета партии.
Пройдут месяцы, годы, жизнь постепенно сделает из Ивана волевую и строгую личность, но поведение Симеона Куманова останется для Ивана образцом. И наверное, он не раз спросит себя: «Как бы поступил бай Симеон, будь он на моем месте?»
В конце первого учебного года Ивана сделали связным между луковитскими и тетевенскими коммунистами. Сейчас нить воспоминаний путается, ускользает. Но одно из них и теперь горит и обжигает сознание…
…Он вышел из Луковита. Холодный северный ветер пронизывал до костей, но Иван продолжал идти. Он нес книги, которые необходимо было доставить в Тетевен. Когда он перевалил через вершину и вошел в село Петревене, погода смягчилась, запорхали снежинки. Вот он, первый снег. Снегопад усилился, и вскоре в двух шагах впереди ничего нельзя было рассмотреть. Вернуться он не мог, а идти вперед было безумием. Что делать? Нужно добраться хотя бы до первого укрытия.
Зимний день короток, быстро опускается темнота. Иван шел из последних сил. Острые ледяные иглы пронизывали его тело. От мокрого снега и ветра брюки заледенели и стали твердыми, как доска. Он почувствовал, что засыпает на ходу. Отяжелевшие, будто свинцовые, веки закрывались сами собой. Вдруг он встрепенулся. Неужели он уснет? Неужели это станет его концом? Он распрямился, стиснул зубы и зашагал. Еще несколько метров — и он доберется до будки путевого сторожа. Сторожка — спасение.
Иван остановился. Хотел перевести дух, собрать остаток сил, чтобы хватило на последние метры. Он оглянулся. Снег успел замести его следы. Казалось, высокие горные вершины качаются, они словно грозили ему, будто смеялись над ним.
«Тебе не вырваться из наших объятий. Не ты первый…»
«Нет, я продолжу свой путь! Я приду туда, куда шел!»
Он тряхнул головой, до боли стиснул зубы. Шевельнул одной ногой, другой… И пошел.
Сторожка выросла перед ним как призрак. Он обрадовался: здесь огонь, здесь тепло. Но есть и люди! Кто они?
Он с трудом переставлял бесчувственные ноги. Они уже не слушались его. Наконец он добрался до двери, налег плечом, и она широко отворилась.
Склонившись к огню, грелись трое полицейских.
— А вот и он! С каких пор его ждем, голубчика! — воскликнул один из них, повернувшись к Ивану.
От страха у Ивана подкосились ноги. Перешагнув порог, он прислонился к стене. Смотрел широко раскрытыми глазами.
— Давай бросай одежду к огню, чтоб сохла, и садись! Перекинемся в картишки. Ночь длинная. Умеешь же, наверное? Давай, давай, время — деньги!
Он тихо вздохнул. Ему стало легче. Они ждали четвертого для игры в каре, а он вообразил, что ждут именно его…
…Дверь камеры протяжно заскрипела, открылась. Кто-то прогромыхал сапогами и выплеснул на него ведро холодной воды. Он вскрикнул от боли: будто штопор вонзился в его тело. Ему хотелось кричать, чтобы целый город услышал его. Сейчас он предельно ясно понимал, как тяжко покидать этот мир, когда тебе только двадцать два. Сколько людей гибнет, замученных этими фашистскими кровопийцами! Почему так устроен этот волчий мир?
«Но мы живем, чтобы бороться! Что бы представляла собой жизнь наша без нашей борьбы?»
Он вспомнил, что бай Симеон задал этот вопрос как-то вечером на одной из встреч с комсомольцами из гимназии. Задал и сам же ответил: «Болото, вонючее болото, которое отвращает даже животных!»
Вся жизнь Симеона Куманова служила ему примером. Он, Иван, не скрывал своей гордости, ведь они были из одного города, и Иван знал про него больше, чем другие гимназисты. Восхищался он и его семьей, участвовавшей в борьбе. Это были настоящие солдаты партии, бессменная стража! Иван очень любил приходить к ним, слушать их тихие волнующие разговоры.
И вот он входит в пансионат: парни и девушки из-за столов приглашают его сесть с ними. Он отвечает им приветливой улыбкой, а сердце его сжимается от боли.
С сегодняшнего дня он уже не ученик. Товарищи его узнают эту весть лишь на следующий день. При выходе из гимназии его встретил один из учителей — коммунист.
— Тебя исключили! — сказал он ему. И, внимательно оглядевшись вокруг, добавил: — Только не раскисай! На, тебя смотрят все настоящие ребята. Держи выше голову, будто ничего не случилось! — Учитель сильно сжал его локоть.
Иван приблизился к раздаточной стойке. Бай Симеон встретил его сердечной улыбкой.
— Ботевцам с сегодняшнего дня и навсегда полагается полтора черпака! — шутливо произнес он.
Иван сосредоточенно смотрел на него. Этот человек не мог не знать о случившемся. Он всегда все знал.
Прежде чем взять доверху наполненную тарелку с фасолью, он еле слышно прошептал:
— Меня исключили…
Словно не слыша его, бай Симеон весело крикнул:
— Если есть голодные, могу добавку дать!
Несколько человек вскочили с мест. Бай Симеон с теплотой посмотрел на них. Он знал, что они живут только этими обедами. Завтракать они не имели привычки, а вечером ложились спать голодными, всегда со спокойной иронией повторяя известную поговорку «…ужин отдай врагу» и с насмешкой посматривая на откормленных, кругленьких, как троянские кувшины, бранников и легионеров. Наполнив повторно мисочки ребят, бай Симеон вышел из-за стойки и прошел мимо Ивана.
— Сегодня вечером приходи ко мне домой! — сказал он ему и принялся сметать со столов крошки.
Вечером говорили мало. На прощанье бай Симеон взял его за плечи, словно старый друг:
— Первый экзамен ты выдержал достойно. Где бы ты ни продолжил учение, куда бы ни попал — оставайся человеком и коммунистом! — Он по-братски обнял его и поцеловал.
Это объятие Странджи много ночей согревало потом промерзшее тело Ивана, помогало справляться с трудностями и гнало прочь подкрадывавшуюся порой слабость.
Вот и сейчас, в этот трудный момент, Странджа появился в дверях камеры.
«Я выдержу, учитель! Верь мне! — произнес Иван мысленно. — Зачем мне будет нужна жизнь, если я стану похожим на болото, если я не найду в себе смелости посмотреть тебе в глаза? Я устою, несмотря ни на что, даже если они захотят размозжить мне голову. Устою!..»
Иван увидел, как Странджа уходит, спокойный и мудрый, добрый и суровый. Исчез так же, как и появился.
И снова Иван остался один.
«И МЫ, НИЖЕСТОЯЩИЕ, МОЖЕМ КОМАНДОВАТЬ…»
Секретарь Тетевенского горкома Дико Гаврилов вызвал Ивана и сказал:
— Вечером нужно провести одного товарища до Гложене. Когда стемнеет, встретиться с ним возле Самарджийской, в моей хижине.
Иван кивнул, и они расстались.
Разговоры с Гавриловым всегда были краткими и ясными. С ремсистами бай Дико держался как с равными, и это их окрыляло.
Иван и Колци спрашивали иногда: «Чего больше у Дико Гаврилова — скромности, смелости или преданности?» И сами себе отвечали: «Всего поровну, сколько и необходимо для коммуниста».
Иван отправился к вершине Самарджийская и растворился в ночи. На сердце у него было легко, а из груди так и рвалась песня. Да, песня! Однако он сейчас шел не на экскурсию. Песня звучала в его душе, а мысли его были о деревьях, о людях, о жизни.
«Каждое дерево, — думал он, — это целая жизнь. Если оно есть, оно радует людей, дарит им тень и прохладу, а потом… Человек должен быть сильным, мощным, как дерево. Человек должен быть личностью, богатой и волевой…»
Так, думая и рассуждая, он незаметно для себя добрался до хижины.
Дико Гаврилов давно уже не заходил в этот домик, который называл хижиной. У него попросту не было времени отдыхать здесь, потому что дни и ночи его были до предела заполнены работой.
Однако при подготовке тетевенских коммунистов к решительной схватке с врагом потребовалось, чтобы у них была какая-то база вне города. Для этого и была построена хижина. Из нее были видны все подступы к дороге.
Партизаны знали к ней тайные тропинки. Там они всегда могли найти «забытые» картошку и хлеб. Поэтому некоторые и называли ее пунктом спасения.
Иван едва успел войти в хижину, как с неба упали первые крупные, тяжелые капли дождя. Он хлынул внезапно, как из засады. В горах всегда так — дождь начинается неожиданно.
«Будто нарочно ждал, пока я заберусь под крышу», — подумал Иван, поглядев на небо.
Облака нависли низко над вершинами и тянулись по небу, словно космы чьей-то лохматой бороды. Дождь мог продолжаться всю ночь.
Неожиданно Ивану вспомнился случай с их соседом, о котором рассказывал весь город.
Этот бедняк был настоящим горцем, очень любил принимать гостей. Однажды к ним пришли родственники его жены, жившие в селе, расположенном в долине. Хозяин, не долго думая, зарезал самого крупного ягненка.
— Вот так мы встречаем гостей! — хвалился бедняк, а гости покручивали усы и с аппетитом ели.
Целый день прошел за трапезой. Ночь напролет никто не сомкнул глаз: вспоминали добрые старые времена, пели старинные задушевные песни, плясали рученицу. Не заметили даже, когда пошел дождь. И вдруг одна из женщин охнула:
— Батюшки-матушки, боже милостивый, какой потоп!..
Мужчины вскочили с мест, женщины засуетились:
— Господи, пора ехать, дети-то одни остались…
— Не торопитесь! В дождь мы гостей не выпроваживаем, — остановил их развеселившийся хозяин. И пиршество продолжалось.
Утром жена выбросила обглоданные кости. Дождь все шел да шел. Сжалось сердце хозяина. Пошел он в хлев, овцы жалобно заблеяли. И там, под навесом, он начал молиться: «Господи, останови этот дождь, разве у тебя гостей никогда не было?»
Вот и сейчас дождь усиливался. Иван поднял воротник гимназической куртки, прислушался. Деревья шумели о своем, шептались на непонятном людям языке. Но знал Иван — хлынет как из ведра, разговорятся деревья, помчатся по склонам потоки к реке, сольются с ней и понесут вниз, в долину, все, что попадется на их пути.
Перед хижиной он громко крикнул:
— Эй, есть тут кто-нибудь?
Никто не ответил. Он вытащил из кармана два камешка и, подойдя поближе, три раза стукнул ими друг о друга. Дверь отворилась, и в нос ему ударил крепкий запах табачного дыма. Встретил его Владо — заместитель командира отряда.
Иван обрадовался:
— А бай Димо не сказал, кого я буду сопровождать!
— И правильно сделал. Так и нужно! Когда ходишь на встречи, не спрашивай, как зовут человека, с которым встречаешься. Никогда не называй своего имени. Ты же понимаешь, что все это — мелочи большой конспирации.
Вошли внутрь. Хижина состояла всего из одной комнаты с деревянными нарами, покрытыми старым солдатским одеялом, да еще стояли здесь два пня, использовавшиеся в качестве стульев. В одном из углов был сложен очаг. Владо попытался разжечь огонь, но сырые дрова только дымили и не давали тепла. Дым начал есть глаза, и Иван стал их тереть.
— Садись, садись! — пригласил его Владо. — Надо подождать. Дождь проливной. А хлеба ты принес?
Иван молчал. Об этом ему не сказали, а сам он не догадался. Две-три картофелины, найденные Владо под нарами, не утолили голода.
Они долго ждали, пока кончится дождь, но ему не было конца. Разговор шел вяло. Иван наклонился подкинуть дров в очаг, и у него из-за пазухи выпала книга. Владо взял ее и положил на колени.
— Учебник, — тихо сказал Иван, будто извиняясь.
В темноте Владо начал листать учебник, с наслаждением поглаживая каждую его страницу. Время от времени свет молний озарял комнату в хижине и лица Владо и Ивана.
— Что за учебник? — тихо спросил Владо.
— По истории. Не знаю, будет ли завтра время заглянуть домой, поэтому и взял его. Между делом сумею почитать…
— Понятно. Солдат нашей революции читает о французской революции.
Владо умолк. Иван знал его привычку говорить медленно, с паузами, поэтому со скрытым нетерпением ожидал услышать, что он скажет еще. Он очень любил слушать этого человека. Каждое его слово было как золотое зерно: имело вес и блестело.
— Мы можем быть голодными и холодными, не успевшими долюбить, а некоторые из нас вообще не знают, что такое любовь, однако, несмотря ни на что, мы счастливые люди. Ты понимаешь? Это же счастье — быть солдатом революции! Быть бойцом революции значит прокладывать путь в будущее, разрушать мешающие этой работе скалы, создавать самого себя, презирая все бренное. Некоторым из нас пришлось оставить отца и мать, жену и детей… Это трудное дело, и заниматься им может только настоящий человек. — Он поворошил угли в очаге, прикурил и продолжал: — Мой товарищ из студенческого союза говорил, что мужчина, женщина, друг могут подождать! И любовь, если она настоящая, может ждать! Но боль родины столь велика, что родина ждать не может! — Обхватив голову руками, Владо долго молчал. — Этого товарища уже нет в живых. Его убили… на улице… Будь уверен, Иван, — придвинулся он ближе к нему, — настанут дни, когда наши сыновья, наши внуки и правнуки будут завидовать нам, завидовать, что мы жили в такое время. Об одном только я думаю: сумеют ли наши наследники понять, что единственным оружием, которым мы располагали, была идея строительства справедливого общества? Она ведь не автомат, не граната, не взрывчатка… Эта идея — сущность нашей революции… — Он встал. Волнение послышалось в его голосе. — Возьмем, к примеру, тебя! Ты отправляешься в неизвестность, в страшную грозовую ночь с голыми руками, но сердце твое пылает огнем. И если будет нужно, ты вырвешь его из груди и осветишь нам путь!
— Да! Да! Я бы все сделал… — словно сам себе сказал Иван.
Перевалило за полночь, когда дождь наконец утих, а затем и совсем прекратился. Они вышли. Впереди шел Иван, за ним шагал Владо. В том месте, где им предстояло перейти реку Вит, Иван остановился. Вода в реке прибыла, мчалась со страшным, оглушительным ревом, неся в мутном потоке деревья и камни.
— Смотри, как разгневалась! Стихия может разнести человека в клочья, — сказал он задумчиво и напряженно стал обшаривать глазами берег в поисках брода.
— Ты прав, стихия неудержима, но человек всегда сильнее стихии. Потому что настоящий человек всегда ищет и находит выход, находит его даже в самые страшные мгновения своей жизни.
Иван лишь кивнул, соглашаясь, и продолжал пристально разглядывать оба берега. Потом повернулся к Владо:
— Вот здесь перейдем. Тут река разлилась широко. Значит, здесь помельче. Садись ко мне на спину, я тебя перенесу!
— Нет, так дело не пойдет! — отрезал Владо. — Возьмемся за руки и перейдем вместе.
— Подожди! — Иван впился взглядом в кусты терновника у реки. — Ложись! Полиция! — резко прошептал он и слился с землей.
Владо тотчас оказался подле него. Вытащил парабеллум, затаил дыхание. Прислушались. Только треск раздробленных камней, грохот ломающихся деревьев да клокотание воды доносились до них.
Иван весь превратился в слух и зрение. Молчание было долгим и тягостным. Потом он резко повернулся к Владо:
— Вставай и не упрямься! Я тебя перенесу!
Мокрые и грязные, они вдвоем погрузились в ревущий лоток. Долго, упорно, из последних сил боролись с рекой. С трудом добрались до противоположного берега. Перевели дух, быстро сняли одежду и с остервенением начали выжимать.
— Полегче, полегче крути! Порвем брюки, а других у меня нет! — шутливо предостерег его Владо.
Снова отправились в путь. Дорога к Гложене была не легче.
— Запомни эти козьи тропы! — сказал Владо, остановившись, чтобы перевести дыхание. — Когда мы завоюем свободу, когда свет перестанет быть нам врагом, пройдемся мы здесь с тобой и запоем наши песни. Просто так, по-нашему запоем, во весь голос. Ничего, что учительница все корила меня, будто я плохо пою…
Иван пошевелился. Боль, причиняемая глубокими ранами, побежала по телу словно огонь, обожгла его, и он застонал сквозь стиснутые зубы. Воспоминания сразу же растаяли, сделались нереальными, как туман, и исчезли. Его охватил ужас, боль начала рвать изуродованное побоями тело. Иван с удивительной ясностью понял, что, кричи он или не кричи, пользы не будет. Каменные стены впитывали в себя любой крик, глушили любой голос, любой стон без остатка. Чего еще он мог ожидать, на что надеяться? Надежда на жизнь мала. Нет, ничтожна! Что еще оставалось у него? Вера в успех дела!
«Нет! Мы будем вместе, мой брат! И если тебе придется пройти нашими тропами, прошу тебя, спой и мою песню. Запой ее, как мы договорились, во весь голос! Главное, что кто-нибудь из нас все-таки пройдет нашей тропой, пройдет и споет…»
Боль постепенно утихла. Он расслабился, лежа на соломе, и снова мысленно отправился в путешествие с Владо. Вместе с Владо, как той памятной ночью!
…К домику Кынчо Милчева в Топилиште они прибыли вовремя, заляпанные грязью с ног до головы.
Жена бай Кынчо открыла входную дверь и приглушенно ахнула:
— Боже праведный, люди, что с вами делается?! Вы посмотрите на себя — ни лица, ни одежды под грязью не видно! Надо же, промокли до костей, бедолаги! Входите, входите быстрее! — суетилась женщина. — Входите, умойтесь, переоденьтесь. Согреетесь, а то ведь закоченели совсем!
— Я… не могу… нельзя мне… некогда… Надо как можно быстрее вернуться… — сказал Иван.
— Куда это ты так торопишься, парень? Разве не видишь, на кого ты похож? Весь в грязи, мокрый. А ну входи! — настойчиво сказала женщина, дверь дома которой всегда была открытой для хороших людей. Как мать, эта женщина заботилась о знакомых и незнакомых ей людях.
В луче света, падавшем сквозь щель приоткрытой двери, Иван увидел морщинистое лицо женщины, ее живые, неспокойные глаза.
«Если бы была жива моя мать, сумела бы она найти в себе столько смелости, столько силы, чтобы стать матерью революции? — неожиданно подумал Иван. — Если бы была жива мама… Да! Она сумела бы… Матери нас рожают, матери нас кормят, матери дрожат над нами, над нашей жизнью. Они сердцем, душой чувствуют и понимают, правильной или неправильной дорогой идут их дети; главная для них дорога — это дорога правды, справедливости, свободы. Они инстинктивно понимают, что свобода — это жизнь. И они идут этой дорогой со своими сыновьями, дочерьми…»
— Ты о чем задумался? Входи же! Обогреешься немного и пойдешь, — похлопал его по спине Владо.
Иван встрепенулся, посмотрел на своего товарища.
— Нет, Владо, — сказал он, — я пойду! Мне надо вовремя быть на занятиях. — Он посмотрел на женщину. — В эти дома должны входить люди и с чистой душой, и в чистой одежде. Эти дома — святыни, а хозяева их — святые.
— Ты прав! — сказал Владо, посмотрев на него долгим взглядом. — Эти дома — путевые знаки нашей истории, нашей революции, ее завтрашние музеи. Входи побыстрее, сменишь одежду, потому что такого грязного никто тебя не пустит даже на порог гимназии.
ПОСЛЕДНИЙ ДОПРОС
В камеру вошли двое полицейских. Они приказали Ивану встать. Он приподнялся, но израненные ноги не держали его, и он опустился на землю.
— Мы что, должны тебя носить? — раздраженно спросил один из них.
— Ничего я не хочу. Оставьте меня!
— Ты не хочешь, а тебя наверху ждут. А их воля для нас закон.
— Что такое их воля? Воля убийц. Важна народная воля. И сколько бы вы ее ни угнетали, она победит.
— На ногах стоять не можешь, а языком не перестаешь молоть. Там, наверху, тебе подремонтируют мозги|.
Полицейские взяли из угла брошенную туда подстилку, положили на нее Ивана, словно мертвеца, и понесли к Йордану Темнице и Цано Стефанову.
Утро вступало в свои права. Привыкшие рано вставать крестьяне шли в поля. Город постепенно оживал.
С наступлением дня заканчивался и срок обещания, данного Йорданом Николовым своему начальству из Плевена: «До утра все будет раскрыто и бунтарская околия будет закована в наручники!» Обещание было дано, а надежды на то, чтобы найти лазейку в нелегальную сеть партийного и ремсистского подполья, до сих пор не было. Не было, но Темница твердо знал, что сейчас все зависит от Ивана Туйкова. Все!
Привыкший к легким победам Йордан Темница не сомкнул глаз целую ночь. Не уходил домой спать и околийский начальник полиции Йордан Гатев. Он беспокойно сновал от своего кабинета до комнаты, где расположился Николов. Цано Стефанов неутомимо угодничал, исполняя капризы рассвирепевшего плевенского «аса», и непрерывно его подбадривал:
— Заговорит, господин начальник! Эх, назначили бы меня… на место главного… я бы… я бы научил их не стыдиться. А это, если по-честному, и от вас зависит, господин Николов… Достаточно одно словечко замолвить там, где нужно, и… и был бы я на ступеньку повыше…
— Да хватит тебе слюни тут распускать! У меня голова кругом идет, а ему «словечко», «ступеньку повыше»… Идиот!
— Господин начальник! — вскочил полицейский, глядя на Николова, как побитая собака на хозяина. — Дайте мне возможность, господин начальник! Для царя и для отечества Цано Стефанов чудеса может совершить!
Темница смотрел на него с ненавистью. Пьяная похвальба, жажда более высокого чина, власти и денег были единственной целью каждого полицейского.
«Дураки. Будто меня оценили по достоинству! — Он скрипнул зубами. — Всякие, что и допроса-то по-человечески провести не могут, давят там фасон в Плевене, а я, Йордан Николов, мотаюсь как собака по разным селам и городам. Но теперь хватит, сыт по горло! Настал момент показать им, чего я стою. Один удар в Тетевене — и они еще меня просить будут о помощи и покровительстве. Они увидят наконец, кто такой Йордан Темница! Прежде всего поеду на пролетке в Обнову. Пусть меня увидят мои однокашники по школе. А учителей, которые говорили мне, что я только в пастухи годен, заставлю кланяться мне до земли. Да! Главное сейчас, чтобы этот большевистский сосунок назвал хоть одно имя. Всего одно имя… А уж потом мы поговорим по-другому… Однако этот мальчишка оказался тверже стали. Не случайно местные агенты отмечали, что кроме твердости Иван Туйков отличается и умом…»
Николов вспомнил свой первый разговор с начальником полиции.
— Нелегкая это будет задача! — сказал ему Гатев.
— Неужели вы и детей боитесь, господин Гатев?
— Не забывайте, господин Николов, что Туйков не ребенок! Он мыслящий, убежденный в идейном отношении коммунистический функционер. Занимается философией, литературой… Много читает, а понятия у него, как у зрелого человека.
— Ну и что? — с пренебрежением посмотрел на него Темница.
— Ничего! Просто я обязан сказать вам, что…
— Не беспокойтесь, господин Гатев! Я в жизни встречался и с более закаленными коммунистами, чем этот малец. А вы вместо того, чтобы уклоняться… должны помочь.
Двери широко распахнулись, и двое полицейских внесли на потрепанной подстилке и положили у ног Йордана Темницы изуродованное тело.
Николов вздрогнул от неожиданности, но тут же разозлился на себя, что допустил такую слабость. Он встал и со злобой наклонился над изувеченным Иваном Туйковым.
Глаза юноши были широко раскрыты, и в них горел огонь ненависти.
— Выйдите! — приказал Темница полицейским, принесшим Ивана.
Пока те закрывали дверь, пока Николов ожидал, когда затихнут их шаги в коридоре, он тер себе виски и никак не мог придумать, как начать решительный допрос. Потом внезапно присел на корточки возле головы Ивана.
— Туйков, я даю тебе последнюю возможность… — сказал он сквозь зубы. — Времени для разговоров больше нет! Сам решай, жить тебе или… — сделал он рукой неопределенное движение к потолку, — там… на небесах пребывать…
Иван понял точный смысл этого движения руки палача. В глазах его блеснуло пламя. Он медленно приоткрыл губы и снова плотно сжал их, не сказав ни слова.
— Ты слышишь, щенок? Человек добра тебе хочет, а ты упираешься! Говори все, что знаешь, иначе… — Темница резким движением рук показал ему, как они его прикончат.
Лицо юноши напряглось, губы шевельнулись.
— Я… уже сказал… Я ничего… не знаю… А что… касается… моей жизни… — он остановился, чтобы перевести дух, — то вы ее уже взяли. Может быть, вам… и награду дадут…
— Ты будешь говорить? — прошипел Темница.
Иван долго молчал, потом медленно, собрав силы, произнес:
— Ничего… не скажу!.. Ни слова…
Темницу била дрожь. На губах его появилась пена. Его припухшие, налитые кровью глаза смотрели в недоумении и словно спрашивали: «Что ты за человек?»
Он удивлялся. Что они только не делали с ним! Они использовали весь свой арсенал психического воздействия, провокаций, лжи, физических мучений. Был бы он деревом, распилили бы его на доски. Был бы камнем — раздробили бы на куски. Был бы сталью — все равно согнули бы. Этот худощавый парень — кожа да кости — не сказал ни слова.
Что, что же ему делать? Все летит к чертям! Он, Йордан Николов, пообещал начальству, что расплетет эту не такую уж и прочную подпольную сеть и одним ударом ликвидирует всю ремсистскую и партийную организации. И вот все рушится. Этот парень умрет, а его, Николова, надежда на личное благополучие рухнет. Так у него уже случалось: именно тогда, когда он бывал уверен в успехе, все летело к чертям. Что он теперь сможет сделать?
— Ты будешь говорить или нет?! — так яростно взревел Темница, что старший полицейский отпрянул в сторону.
Крик дошел до сознания Ивана словно из-под земли. Он едва услышал его, однако понял, каким страшным, роковым был для него этот крик. Отвечать у него не было сил, и он лишь медленно покачал головой.
Старший полицейский стоял словно окаменевший.
Глаза Темницы налились злобой и ненавистью. Руки его давно были обагрены кровью. Разных он видел арестованных, но такого встретил впервые.
— Что ты на него смотришь? Может, пожалеть его хочешь? Он подвел, подвел нас, скотина, понимаешь? — выкрикнул Темница в лицо Цано Стефанову. — Ему не нужен язык. Понимаешь, скотина? Давай сюда нож! — Темница кричал, дергался, бешено вращал глазами. С ним происходило что-то страшное, и старший полицейский не на шутку перепугался.
— Господин начальник, я вас не понял! Господин начальник, зачем вам нужен нож?!
— Идиот! Делай, что тебе велено!..
Темница наклонился над Иваном и схватил его за подбородок.
— Дурак, памятника тебе захотелось? Большого гранитного памятника? Хорошо! Мы со старшим, с Цано Стефановым, тебе поможем… Красивый памятник тебе соорудим!.. — С этими словами он вытащил у Ивана язык и взмахнул ножом.
Иван захлебнулся кровью. Глаза его потеряли блеск, погасли и закрылись, а палач, потирая окровавленные ладони, озверело смеялся:
— Кончилось все, Иванчо! Теперь с моей помощью будешь молчать до скончания века… И захочешь ответить, а не сможешь… Ну и что?.. Я сердиться не буду… Ведь я сам тебе помог, правда?..
На рассвете двое палачей отволокли Ивана в камеру. Завязали ему на шее петлю и повесили на тюремной решетке. Вечером начальник полиции Йордан Гатев направил срочную телеграмму в Плевен:
«Сегодня в четыре часа дня повесился в камере управления содержащийся под арестом Иван Павлов Туйков, 22 лет, из Тетевена, учащийся, подозревавшийся как ответственный организатор по линии РМС и укрыватель нелегальных. Прошу уведомить военного прокурора. Жду дальнейших указаний».
Наступивший рассвет был кровавым. Цыган Ибо стучал в стену камеры, кричал что было сил, звал Ивана, но камера Ивана безмолвствовала.
Партизаны отряда имени Георгия Бенковского ждали Ивана всю ночь. Подавали условные знаки, высылали навстречу патрульных. Напрасно! Лес молчал…
ЖЕСТОКОСТЬ
Бай Павел встретил утро с тревогой на сердце. Всю ночь он не сомкнул глаз: метался в постели, несколько раз вставал, ходил по двору. Он возвращался в дом, ложился, но стоило ему закрыть глаза, как на него наваливались видения, одолевали мысли одна другой страшнее.
Еще не рассвело, а он уже начал хлопотать в корчме и все посматривал на улицу. С нетерпением ждал, когда же заглянет хоть кто-нибудь. Просто так, чтобы можно было переброситься словом. Однако улица молчала, притихшая и безлюдная.
Когда же первые лучи солнца запутались в паутинах окон, бай Павел увидел в начале улицы двоих. Он обрадовался и заторопился к двери. В этих людях он узнал человека из Плевена и старшего полицейского Цано Стефанова. Они шли медленно, устало и молчали. Время от времени приостанавливались, словно для того, чтобы перевести дух, смотрели друг на друга, но не произносили ни слова, и вновь, шли, опустив головы. Бай Павел понял, что они направляются к его корчме, и тотчас засуетился.
— Давайте сюда, сюда! Входите, пожалуйста, пожалуйста! — приглашал он. — Вот ведь как бывает… Только подумал про вас, а вы и сами идете. Входите же, на вас вся моя надежда… сынка освободить, — заторопился он к ним навстречу, вытер стол, пододвинул стулья. — Пожалуйста, господа! Добро пожаловать! Ну а сейчас скажите, что вы любите? Господин начальник прямо с дороги, может быть, винца? У меня и ракийка есть, прекрасный товар… — не переставал суетиться бай Павел.
— Чем угостишь, то и выпьем, — вяло сказал Цано Стефанов, не поднимая глаз от стола.
— Но я… по вашему вкусу, господин старший…
— Ракии дай! Да покрепче… — скорее прокричал, чем сказал, Йордан Николов. — И закуски получше! Можно и сала…
Бай Павел бегом бросился выполнять заказ, принес белое балканское сало, нарезанное тонкими ломтиками и посыпанное красным перцем. Поставил перед гостями и два стакана сливовой ракии.
— Приятного вам аппетита! И на здоровье! — пожелал он. — А-а… о сынке что-нибудь не скажете?.. Глупенький он еще… он… знаете ли… в политике ничего не понимает… Ведь ребенок еще… и ум детский… Где ему понять такие дела?!
Йордан Николов зашевелился, выпятил грудь, в глазах его блеснула злоба, однако он тут же взял себя в руки и хриплым голосом сказал корчмарю:
— Не были мы в участке сегодня ночью. Сейчас пойдем, вот и увидим…
— Посмотрите, посмотрите, господин начальник, не стал бы кто его бить… да не искалечил бы. Ребенок он еще… ребенок… Много ли у него в голове, чтоб разбираться в государственных делах? Наверное, кто-то… оклеветал его… А он сиротка, кому ж его защитить?..
— Хорошо, хорошо! Налей еще по стаканчику, — приказал старший полицейский, лишь бы бай Павел ушел от стола.
И тут в корчму вошел крестьянин из горного села. Он прошел в глубину помещения и сел на одну из скамеек неподалеку от стойки. Согрев застывшие руки, посмотрел в сторону полицейских и заговорил:
— Мы… простой люд… с вечера как натрескаемся, так утром воду пьем. А она… господнее творение… сладкая, как медовуха. А вы вот, граждане, не признаете воду…
Николов стрельнул злым взглядом в сторону посетителя и раздраженно обратился к Стефанову:
— Этот тип что… считает, сколько я выпил? Что ему тут надо?
— Балканджия[7], господин начальник, он балканджия и есть, а уж если начал болтать, его ничем не остановишь…
— Это вы их так распустили! — оборвал его Йордан Николов. — Не знают они силу власти, потому и болтают. Но придет время, и они все поймут. — И повернулся к стойке, где бай Павел наливал в стаканы сливовую ракию.
— Я моментом, господа, — сказал бай Павел и тотчас оказался подле стола. — Вот, пожалуйста… Выпейте, выпейте на здоровье! Я как только вас увидел, прямо скажу вам, успокоился немножко. А можно вас спросить кое о чем? Как там в подвалах… не холодно, а?..
— Мы там не спали, не знаем, — бросил в ответ, слегка вздрогнув, старший полицейский.
— Да так-то оно так… Вы извините меня… Я ведь отец ему… — Бай Павел виновато тер ладони. — Не разрешите ли мне, господин начальник, повидаться с ним? — обратился он к Йордану Николову.
Тот поднял стакан со сливовицей и вылил его содержимое себе в горло. Потом повернулся к корчмарю и просверлил его свирепым взглядом.
— Как вы умеете просить и хныкать, так надо уметь и воспитывать своих детей, чтобы они любили, а не хулили свое отечество!
Сидевший в углу горец кашлянул, подергал себя за усы и медленно, членораздельно произнес:
— Он… сын Павла, парень первого сорта! Мне бы такого…
Старший полицейский резко повернулся к нему:
— Тебе что, поговорить захотелось?
— Точно, — ответил горец. — Захотелось. Да и правая рука у меня чешется. Не к добру это, старшой. По примете, деньги отдавать, да мне их взять неоткуда.
— Ты смотри не распускай язык!
— А ты мне не грози! — твердо сказал горец и встал, распрямив сильное, крупное тело. — Я не крал, не убивал! Поэтому пугать меня не надо. Вот так-то, старшой.
Николов скрипнул зубами, выругался себе под нос, встал и направился к выходу. Старший полицейский повернул голову к горцу, но тот так посмотрел на него, что полицейский съежился.
— Ну, ну, гляди у меня, — пробормотал он и поспешил вслед за Йорданом Темницей. Оба направились к участку.
Горец грубо выругался, плюнул им вслед и тоже ушел.
Корчма опустела, а сердце бай Павла сжалось от муки.
«Каждый куда-то торопится, — подумал он. — Я бросил здесь якорь, среди этих гор, и не смею отсюда никуда уйти. Если бы не та война, жил бы я здесь, как вон те дубы, ничего не видел бы, ничего не слышал… Еле кости свои дотащил сюда. А сколько людей осталось в окопах! Иванчо не похож на меня. Все спешит. Такой парень, не любит засиживаться дома. Вот и попал в участок… Эх, скорее бы живым и здоровым вышел оттуда!.. Не дам ему больше гробить здоровье над этими книгами. Ночи напролет читает. Заставлю работать в корчме. И больше никакой политики! Политика — развлечение для богатых. А для людей нашего положения — подальше от этого огня! Он не знает милости!..»
Бай Павел снова принялся хлопотать по хозяйству.
«И девчонки, и свояченица ходят по адвокатам да по знакомым, как помешанные. Стучат в двери городского начальства. А что толку? Все пожимают плечами, все отвечают одно: мол, не знаем!»
К обеду бай Павел закрыл корчму, набросил на плечи пиджак и зашаркал к участку. Пришел и сел, решив дождаться, когда выйдет начальник полиции Йордан Гатев.
Ровно в половине первого Йордан Гатев показался в дверях. Полицейские, что грелись на солнце, вскочили и замерли. Гатев узнал бай Павла и, слегка скривившись, усмехнулся. Перед тем как сесть в пролетку, бросил:
— Вчера видел твоего парня, так он, знаешь, не пожелал со мной говорить. Упрямый. А я что могу сделать? Им занимаются те, что приехали из Плевена. Понял?.. Я ничего больше не могу сделать…
— Ну хоть увидеть бы его, господин Гатев, — попросил бай Павел.
— И этого не могу сделать, — развел руками Гатев. — Только они и могут разрешить. Ты сам был солдатом и знаешь, как положено у военных. — Гатев махнул рукой и сел в пролетку.
Конь зацокал копытами по вымощенной камнем улице.
Бай Павел остался стоять, глядя вслед Гатеву.
«Не можешь! Скажи, что не хочешь, а то — «не могу». А пить у меня можешь…» — грустно подумал несчастный отец.
Мимо него прошел знакомый полицейский, который каждый вечер заходил в корчму выпить, но никогда не платил. На этот раз и он поспешил удалиться.
Бай Павел остался стоять один-одинешенек. Подождал еще немного, поглядел по сторонам и, придавленный горем, отправился к себе домой. Длинной, очень длинной показалась ему дорога. Почудилось ему, что шел он целую вечность, потому что за это время он и покойной Злате рассказал об аресте Ивана и о Тодоре Златанове вспомнил. И какие только мысли не пронеслись у него в голове, пока он шел до ворот своего дома!
Там уже ждала его одна из дочерей. Она нетерпеливо переступала с ноги на ногу и вопросительно смотрела на отца.
— Не позволяют мне с ним повидаться, — с горечью сказал бай Павел.
— Один из участка проходил и сказал, чтобы после обеда ты пошел туда, — придавленная горем, сказала девочка.
— Больше ничего не сказал? — с надеждой спросил отец.
— А что он скажет?
— Ну, может, одежду, поесть отнести?
— Мы приготовим что-нибудь, папа…
Медленно текло время. Бай Павел не открывал корчму. Ходил по двору и ждал назначенного часа. Все думал, как ему вести себя с Иванчо. Ругать ли его, бить ли, простить ли?
«За что мне его ругать? — думал отец. — Ведь рос-то он сам по себе, одинокий. Никогда не хныкал, не жаловался, как девчонки. Те, когда им хотелось чего-либо, плачем добивались. А он всегда все сам. Однажды вхожу в горницу, а он сам штанишки себе латает. Я спрашиваю: «Ты почему не дашь их сестрам починить, зачем сам латаешь?» «Потому что латки уже не держатся, да и не хотят сестры. Может быть, новые мне сошьешь, папа? Ведь мне в школу скоро идти», — говорит Иван, а я тогда отмахнулся: «И эти хороши, можно еще поносить». Как я был несправедлив к нему!» — вздохнул бай Павел.
— Время еще не пришло? — Он несколько раз входил в дом и спрашивал дочерей, готовивших еду для брата.
Приготовив, девочки сложили все в узелок, завязали и проводили отца до ворот.
Прошедшая ночь и день состарили его, согнули его широкие плечи. Он шел медленно, без сил.
В участок его сразу не пустили, велели ждать.
Бай Павел опустился на ступеньку крыльца. Время в ожидании тянулось медленно, но это не беспокоило его.
Под вечер его ввели к Йордану Николову.
— Я… мне бы его увидеть на минутку, господин начальник… — попросил бай Павел, но Темница смотрел мимо него пьяными, остекленевшими глазами.
— Письмо он тебе оставил… твой сын… — еле ворочая толстым языком, сказал Темница.
— Как… оставил? Ведь он, Иванчо, здесь?.. Ведь я… его увижу? — сдавленным голосом спросил бай Павел.
— Вот так и оставил! — выкрикнул Николов. Он повернулся и нажал кнопку звонка. Мгновенно появился полицейский. — Куртку ученика! — приказал ему Николов. — И немедленно!
Полицейский щелкнул каблуками и выскочил из комнаты. Спустя минуту он вернулся. В руках у него была ученическая куртка Ивана Туйкова.
— Пожалуйста, господин начальник!
— Да не мне, скотина! Отцу его отдай!
Бай Павел дрожащими руками взял измятую, изодранную в клочья, пропитанную кровью одежду сына. Он смотрел на нее полными муки глазами.
— В кармане письмо, — сказал Темница.
Рука бедного корчмаря судорожно шарила по куртке. Наконец он с трудом нашел карман, вытащил конверт, раскрыл… Глаза его расширились от ужаса. Стол, стулья, полицейские, вся земля поплыли перед ним… Колени бай Павла подкосились, и он рухнул на пол, выронив из рук конверт, а из конверта выпал отрезанный язык…
Темница с тупым безразличием посмотрел на неподвижное тело корчмаря, распростертое на полу, и нажал на кнопку… В дверях появился полицейский.
— Унести его! — распорядился Темница. — Он прочел письмо и отказался видеть сына!
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
Весть о смерти Ивана Туйкова быстро облетела город. Первым узнал обо всем цыган Ибо.
Участок потонул в гробовом молчании. Дежурный полицейский боялся прикоснуться к двери камеры, в которой висел труп Ивана Туйкова.
Йордан Николов и старший полицейский Цано Стефанов не отходили друг от друга. Нервная дрожь била Йордана Гатева. Город ощетинился.
— Вы показали свое бессилие, господин Николов! — резко сказал Николову Гатев.
— Нет! Это результат вашего неумения и бездействия…
— А город? А люди?.. Что мы скажем людям? В этом городе совсем другие люди… Балканджии… Они…
— Люди… другие… — скривил губы Темница. — Вы что? Уж не стали ли вы членом красной партии?
Начальник полиции подскочил как ужаленный:
— Послушайте!.. Как вы смеете так говорить… господин Николов? Я не только презираю, я ненавижу это отребье… Однако я хочу… да, да, я хочу спокойствия в городе и в околии!
— Спокойствие будет только тогда, когда мы раздавим голову красной гадюке. Иначе она отравит и воздух, и воду, и все!.. Она уничтожит нас! — яростно выкрикнул Темница.
Оба умолкли. Потянулись мучительные минуты. Первым подал голос Гатев:
— Нервы… Простите, господин Николов! И все же… Что нам теперь делать? Люди возбуждены. Не исключено, может случиться что-нибудь…
— Знаю! Я был на рынке… кое-что услышал…
— Что же мы будем делать? — дрожал Гатев.
— Я свою работу закончил, господин Гатев. Остальное — ваше дело, — произнес Темница с безразличием. — А этого фанатика, скажу вам прямо, я бы вынул из петли и снова бы начал пытать. Вы меня понимаете? Каков характер! Не сказал ни слова… — Он сжал кулаки и нервно заходил по кабинету Гатева. Остановился, посмотрел на околийского начальника полиции. — Вы понимаете? Ни слова! Он меня… он меня из кожи моей вытащил. Меня… человека с опытом… Эх, если б он только был жив, я бы ему…
В дверь постучали. Гатев открыл. Старший полицейский Цано Стефанов откозырял, выпятив грудь:
— Господин Николов, народ узнал об убийстве. Сейчас там, внизу, люди собрались и кричат, негодуют, ропщут… Некоторые угрожают. Когда я проходил по улице, ребятишки швыряли в меня камни. Может произойти нехорошее…
— Замолчи ты, скотина! Какое это убийство? Какое убийство? Произошло самое обыкновенное самоубийство через повешение. Ты что, понять этого не можешь, болван? — взревел Темница.
— Так точно, господин начальник! Я… конечно… понял… — сконфузился старший полицейский. — Это я ведь только здесь, а там…
— И здесь, и там, и везде, и навсегда!.. Слышишь?
— Так точно, господин начальник.
— Пошел вон!
Гатев чувствовал себя неспокойно. Только Темница, привыкший к чужой крови и смерти, спокойно смотрел на происшедшее.
— Труп больше нельзя держать здесь! — медленно проговорил он. — Нам нужен только протокол о самоубийстве. От родителей надо потребовать гроб и зарыть его, но не на кладбище! Он безбожник. На похороны допустить только самих близких родственников! Все ясно?
— Предельно ясно… — выдавил из себя Гатев.
Спустя два часа последняя полицейская акция началась. Прежде всего была объявлена воздушная тревога. Наводящие страх звуки сирены ударили в горные скалы, возвратились назад и наполнили город леденящим ужасом.
Тетевенцы, подгоняемые жутким воем, убегали из домов в горы. Склоны Трескавца, Петрахили, Козницы быстро почернели от народа.
Когда последний человек покинул город, наступила гробовая тишина.
И в этой тишине душераздирающий женский крик взметнулся в небо. Его подхватили другие голоса. Это рыдали идущие за гробом Ивана по мосту через реку Вит немногочисленные родные — несколько мужчин и три женщины.
Крики женщин долетели до слуха убежавших из города людей. Большинство из них остановились и повернули к Тетевену. Они увидели небольшую погребальную процессию. Она остановилась на краю города. И в этот момент послышался мощный мужской голос, словно резкий удар грома:
— Э-эй, люди! Послушайте, лю-у-ди! Хоронят Ивана Туйкова, лю-у-ди!
Крик пролетел от горы к горе и поднял людей на ноги. Дети, юноши, девушки, мужчины, женщины, старики, старухи поднялись и стояли безмолвные, сняв шапки, со сжимающимися от боли сердцами, с полными слез глазами, с рыданиями в горле и бескрайним человеческим состраданием и мукой. Они прощались с Иваном Туйковым. Со своим Иванчо. Стояли до тех пор, пока два гробовщика не опустили гроб и не засыпали его землей. Когда над могилой вырос небольшой холмик, рослый бородатый горец громко сказал:
— Земля тебе пухом, Иванчо! — И затрясся от рыданий.
Эти слова понеслись из уст в уста, от человека к человеку. Так тетевенцы прощались со своим верным сыном.
Перевод В. Н. Гребенникова.
СОЛНЦЕ МЕЖДУ ВУЛКАНАМИ Повесть
Жене моей Латинке и сыновьям Ивану и Стойчо
«Тот, кто не требует от родины даже пяди земли для своей могилы, заслушивает быть услышанным, и не только услышанным — ему можно верить».
Аугусто Сесар Сандино«Победа всегда имеет высокую и печальную цену. Именно поэтому полнота ее радости является достоянием грядущих поколений».
Карлос ФонсекаВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Сейчас, когда сел тебе писать, понял, что вопреки моему желанию в одном письме просто невозможно сказать даже о самом важном, самом интересном, увиденном и пережитом в течение дня. Есть вещи, которые нельзя выразить словами. Их можно только прочувствовать.
Мои письма в хронологическом порядке отражают мои встречи с людьми, соприкосновения с историей, с революцией, огонь которой пылает и, мне кажется, будет пылать всегда. Мои письма не отражают полноты будней, не претендуют на сложный анализ событий в этой стране. Каждое из них — это вздох или крик, штрих или рисунок. Поэтому не будь придирчива. Не требуй от меня большего. Лучше вслушайся в мой голос. Буду рад, если это поможет тебе приблизиться ко мне, к моим мыслям и моей сопричастности с этой страной.
1
ЭТО БЫЛА самая долгая ночь в моей жизни. К девяти часам вечера полумрак окутал Москву. В одиннадцать тридцать пять мы вылетели из Шереметьева, и в течение шестнадцати часов нас окружала темнота — адская и бездонная. В такую ночь достаточно времени и для чтения, и для шуток, и для мысленного путешествия по тропинкам приятных и неприятных воспоминаний.
Рядом со мной в креслах сидели двое незнакомых мужчин. Мы молча огляделись, и, как обычно бывает в таких случаях, каждый ушел в себя. Я раскрыл записки Бориса Шивачева «Письма из Южной Америки». Несколько раз возвращался к первому абзацу:
«Когда произносят слово Америка, все подразумевают Соединенные Штаты Америки. Страну долларов. И еще небоскребов, автомобилей и кино. Страну трестов, индустриальных и финансовых королей: Форда, Моргана, Рокфеллера. И наконец, динамизм и джаз-банд. Сухой закон и вдобавок гангстеров. Протестантских проповедников и преступников. Страну боксеров, кинозвезд и рекордов, страну сенсаций, железобетона и погибших человеческих душ… И над всей этой огромной страной льется золотой дождь из долларов. Доллары, доллары, и ничего больше… Это и есть Америка. Страна холодного эгоизма. Страна расчетливых людей. Страна новых «завоевателей мира». Если бы им удалось завладеть миром полностью, что стало бы с человечеством? Куда делись бы поэты и любовь?.. Но оставим Америку. Пусть судьба никогда не позволит этим людям-автоматам завладеть миром. Пусть…»
Это «пусть» вернуло меня к тем молодым людям с уставшими, странными, бессмысленными глазами, которые встречались мне прошлой весной на сорок второй авеню в Нью-Йорке. Это «пусть» вернуло меня к наркоманам, которые корчились перед огромными и холодными дворцами магнатов, к костлявым старцам с маленькими табличками на груди, молящими о милостыне. Еще я подумал о безработных, которых встречал на биржах труда, за городом, оглушенным невообразимым воем сирен, моторов и человеческими воплями. Не знаю почему, но такие города напоминают мне огромные тонущие корабли. А люди? Люди похожи на преследуемых крыс. Мне вспомнился пестрый людской поток на широких улицах Вашингтона и особенно один случай, который врезался в память.
Было раннее утро. Город еще сонно молчал. На улицах никого не было. Не зная, как убить время, я останавливался то у одной, то у другой витрины. Но и в витринах не было ничего интересного. И тут, когда я уже хотел вернуться в гостиницу, за моей спиной вдруг послышалось постукивание дамских каблучков. Оглянувшись, я увидел женщину среднего возраста, еще очень привлекательную. Ее лицо, походка и высокая прическа излучали властность.
За женщиной с беззаботным видом двигался пожилой негр. Он не спешил, видимо, спешить ему было некуда. Оглядываясь по сторонам, он будто чего-то искал. Когда они прошли мимо, я услышал, как что-то легкое упало на тротуар. И тут же прозвучал негромкий, сипловатый голос негра:
— Леди, леди…
Женщина обернулась. Каким свирепым и злым сделалось ее красивое белое лицо! Никогда прежде мне не приходилось видеть такой холодный взгляд. Губы ее поджались, брови нахмурились. Глаза женщины метали искры. В это время негр медленно наклонился, поднял упавшую золотую серьгу и прошептал:
— Сережка. Пожалуйста, леди…
Женщина резким движением выхватила украшение, вытащила из своей черной сумочки несколько банкнотов, молча сунула их в руки негра и быстро ушла. На какой-то миг он застыл как окаменевший с протянутыми руками, затем посмотрел на доллары, бросил их на землю, словно это были дымящиеся угли, и с усилием сделал большой шаг, чтобы переступить через них, будто страшась чего-то.
Может, я и забыл бы об этом случае, если бы через час не увидел возле гостиницы другого негра, который рылся в мусорном бачке. Он чем-то напомнил мне того негра, который нашел и передал украшение белой красавице.
Потом мне вспомнилась наша бабушка Стойна Кралева из Беленцев, которая каждое утро прогоняла корову мимо полицейского кордона якобы для того, чтобы ее напоить. На самом же деле бабушка давала возможность тяжело раненному партизану, скрывавшемуся в зарослях бузины, прямо из вымени напиться молока. Бабушка Стойна отдавала молоко незнакомому человеку, а своим детям варила кашу на воде.
Как связать между собой эти воспоминания? И почему я вспомнил об этом? Может быть, потому, что справа от меня сидел грузный мужчина, который в промежутках между глотками виски сладко затягивался дымом своей сигары, а слева — никарагуанец лет тридцати, с двумя протезами, на которые он украдкой посматривал и которыми время от времени двигал. Перехватив мой взгляд, он поспешил объяснить:
— Память о революции. Хорошо еще, что остался жив. — И, глянув на человека с сигарой, проговорил: — Для них мы были батраками большой фермы. Вся Никарагуа была фермой США, а Сомоса — ее диким фермером.
Я закрыл «Письма из Южной Америки». На лице никарагуанца не было заметно следов печали. Напротив! Можно было подумать, что вместо протезов у него крылья. Он начал мне рассказывать о прошлом и будущем Никарагуа. И постоянно повторял:
— Каких людей я встретил в Москве! Сколько в них человечности!
Да! Человек больше всего нуждается в человечности. В борьбе за нее этот никарагуанец лишился ног, и я уверен, что он не пожалел бы и своей жизни.
Я слушал его рассказ о борьбе, о погибших товарищах, о детях и женщинах, которые не отставали от своих мужей, и убеждался, что люди больше похожи на время, в котором живут, чем на своих родителей.
Ах эта долгая ночь! Я успел нанести «визиты» почти всем своим близким и друзьям, вспомнил наиболее яркие эпизоды из своей жизни и, уставший, ждал рассвета, а с ним и приземления на острове Свободы.
Самолет не самое удобное место, где можно писать письма, поэтому заканчиваю.
Что ждет меня завтра?
2
ЗАВИДУЮ соседям по самолету, которые спят сладко, как у себя дома. А я всю ночь не смог сомкнуть глаз, зато наблюдал, как наступает рассвет. Черное покрывало ночи начало приоткрываться сначала по краям. Светало неравномерно. Постепенно появлялись облака и возникали их замысловатые скопления.
Зашевелился никарагуанец. Сначала он ощупал свои протезы, потом посмотрел на кресло, где крепко спал американец с погасшей сигарой во рту, и тоже стал наблюдать, как рассветает.
— Сколько рассветов мне приходилось встречать в партизанском отряде, и каждый раз они были разными.
Он замолчал, продолжая рассматривать небо. Никарагуанец был из тех людей, мысли которых можно прочитать по лицу. Сейчас лицо его было строгим, напряженным, мрачным. Видимо, вспоминал минувшие годы.
— Представьте себе колонну бойцов. Впереди Даниэль Ортега… Мы всегда выходили на заре. Ортега любил свет, день, солнечный день… Простите, разболтался…
Один за другим просыпались пассажиры. Солнце поднималось, улыбаясь и приветствуя нас из-за горизонта. Когда все молча наблюдали зарево, которое будто извергалось из глубин океана, самолет неожиданно нырнул в глубину темноты. Огненные стрелы вспыхивали то там, то здесь. Самолет задрожал, двигатели задышали тяжело, как дышит больной астмой. Все это мы больше чувствовали, чем видели. Кто-то с задних кресел хриплым голосом произнес:
— Наверное, надвигается циклон «Ягуар»… Ну что за встреча!
Все сделали вид, что не расслышали. Отвечать не хотелось, но мысли все время вертелись вокруг этого. Никарагуанец снова толкнул меня:
— Мы у самой воды. Смотрите, отражаются огни самолета.
Стюардессы не выходили в салон, и это усиливало напряжение.
Воцарилось мучительное и тяжелое молчание. Никарагуанец с протезами нагнулся и пощупал под креслом спасательный пояс. Заметив, что я слежу за его движениями, он усмехнулся и сказал:
— Всякое бывает. Только бы нам повезло! Это у меня вторая жизнь, и может быть, поэтому мне хочется прожить больше, чем прожито.
Самолет перестало трясти. Снова появился алый горизонт. Океан удалялся. Белые лучистые облака наслаивались, гонимые вздохами океанских волн. Под нами все яснее вырисовывалась роскошная зеленая поляна, в которой кипело сердце острова Свободы — прекрасная Гавана.
Доминго, так звали никарагуанца, усмехнулся. Много любви и тепла было а этой улыбке. Она шла от сердца.
— Для Латинской Америки Куба — яркий пример. Это наш завтрашний день. Мой командир часто повторял, что лучшая помощь революционному движению — это хороший пример…
Перед поездкой я прочитал почти все, что было написано о Никарагуа. Сейчас, слушая Доминго, я вспомнил слова Фиделя Кастро, сказанные им на многотысячном митинге в Манагуа по случаю годовщины победы сандинистской революции:
«Мы пришли сюда не поучать или оказывать влияние; мы пришли поучиться и ощутить ваше влияние; мы уверены, что сандинистская революция окажет огромное влияние на нас; мы уверены также, что пример этой революции будет иметь исключительное значение и для остальной части Латинской Америки».
Вот еще одна мысль, которую я тогда записал:
«Невозможно зажечь другой народ; невозможно внести извне факел революции… Потому что народы как вулканы: никто не может их поджечь, они загораются сами».
Стюардессы очень внимательно проверили, пристегнуты ли наши ремни. Из динамиков раздался звонкий голос, который сообщил нам о том, что сейчас температура в Гаване 36 градусов. Доминго посочувствовал:
— Вам будет здесь трудновато. — Он окинул взглядом мою легкую, но достаточно плотную для такого климата одежду. — Наверное, если я попаду в вашу страну, то буду чувствовать себя как… — Он запнулся, подыскивая подходящее сравнение.
И я поспешил ему подсказать:
— …Как в холодильнике.
Доминго рассмеялся. В его манере держаться было что-то непринужденное, подкупающее. Познакомились мы в самолете, а у меня было чувство, что мы с ним всю жизнь вместе. Мне очень понравился открытый и веселый характер моего первого знакомого из страны, в которую я летел.
Земля под нами цвела красками тысяч цветов. Такой я запомнил Гавану еще с первой встречи с ней — с тех дней, когда представители молодежи всего мира встретились в этом изумительном главном городе острова Свободы, Я запомнил ее танцы, песни, радостные улыбки. Запомнил Суареса, кубинского шофера, который целый месяц колесил с нами по острову, чтобы показать все его волшебство. Только один раз он остановился не по нашей просьбе. В тот день мы ехали на Плая-Хирон. По обеим сторонам дороги возвышались небольшие одинаковые обелиски. На каждом из них заботливой рукой были написаны имена и возраст погибших защитников свободы. Всего пядь земли, а сколько обелисков! Не окаменевшие ли это слезы матери-земли? Или это капли крови из сердца свободы?!
Машина остановилась. Суарес молча, одними глазами извинился, откуда-то достал букетик цветов и подошел к одному из обелисков. Дрожащей от волнения рукой он смахнул пыль с рельефной надписи, склонился и нежно поцеловал буквы. Затем поставил цветы, постоял с опущенной головой и вернулся к машине. Мы молча продолжали путь.
Позже я узнал, что это был памятник его отцу.
Сейчас, когда самолет спешил коснуться земли, а Доминго в нетерпении поглядывал по сторонам, я подумал о том, что именно с территории Никарагуа, из Пуэрто-Кабесаса, отправились интервенты на Плая-Хирон. Говорят, что, провожая их, тиран Сомоса просил привезти ему на память хотя бы один волосок из бороды Фиделя Кастро.
Шасси коснулись земли. Самые нетерпеливые поспешили сразу же расстегнуть ремни. Кубинская земля. Нарядная, свободно дышащая. Пальмы походили на зеленые костры над изумрудным ковром. И хотя стояла поздняя осень, здесь все было зеленым — и земля, и вода, и небо. Встретил нас хороший, светлый день.
Доброе утро, Гавана! Доброе утро, солнце!
3
ОТДЫХ. По чашке кофе в транзитном зале аэропорта Гаваны — и снова в небо. К Никарагуа! К земле и памяти Сандино!
Мое сердце рвалось к этой стране озер, вулканов, солнца и справедливой революции. Поэтому я и во время краткой остановки в Гаване, и в самолете о чем только не расспрашивал Доминго! Он не скупился на слова, рассказывая о своей стране.
— Никарагуа, — говорил он мне, — одна из шести республик Центральной Америки, расположенных между берегами Тихого и Атлантического океанов. На севере граничит с Гондурасом, на юге — с Коста-Рикой. Она занимает площадь равную 130 тысячам квадратных километров. В Никарагуа проживает около трех миллионов человек… — Он замолчал и посмотрел на меня как бы извиняясь. На мой удивленный взгляд ответил: — Это не выглядит как урок географии? Я учитель и сейчас, сам того не желая…
— В моем лице вы имеете такого ученика, который испытывает огромное желание узнать все, даже самые малейшие подробности, о вашей стране.
— У нас, — продолжил Доминго, — большая часть территории покрыта густыми тропическими лесами. Есть места, куда не ступала нога человека. Огромные районы еще не изучены. Мы не лишены природных богатств, однако бедны. Вы, наверное, хотите спросить меня, почему. Потому что более половины народного хозяйства страны, более двух третей обрабатываемой земли и около трехсот торговых объединений были собственностью диктатора. А для него люди были всего лишь дешевой рабочей силой, которую эксплуатировать выгоднее, чем машины и технику.
Нервный тик исказил лицо моего собеседника. На лбу его собрались глубокие морщины. В свои тридцать лет он выглядел пятидесятилетним мужчиной — седые волосы, медленные и уверенные движения. Когда Доминго говорил о людях, об их бедах, было видно, что каждое его слово идет от сердца.
— А знаете, что мы получили в наследство от этого дикого и бешеного диктатора? Пустую государственную казну, вычищенные кассы многочисленных компаний и ко всему еще долги, очень много долгов. И все это — за море выжатого им человеческого пота.
Он замолчал. Похоже, ему было тяжело говорить о нищенском положении своей страны. Я больше не стал ни о чем спрашивать его.
Мы пролетали над самым большим озером — Никарагуа. В этих местах еще в 1522 году (двадцать лет спустя после того, как Колумб во время своего четвертого, и последнего, путешествия в Америку открыл эту страну) испанские золотоискатели, возглавляемые Гонсалесом де Авилой, встретились с индейским племенем чолутеков. Вождем чолутеков был Никарао. Его именем испанцы и назвали озеро (Никарагуа — вода Никарао), а затем и страну.
Когда мой словоохотливый собеседник замолкал, мы с высоты любовались землей и водой, и я думал о полувековом господстве Сомосы и о том жестоком «наследстве», которое он оставил революционному правительству и народу. В годы его правления страна находилась в застывшем состоянии, как вулканическая лава. На этой красивой земле с небывалой силой произрастали не наука и культура, а коррупция и деспотизм. В этом я вскоре убедился, когда знакомился с жизнью народа.
Напомню тебе еще, что триста лет (до 1821 года) Никарагуа находилась под испанским владычеством, после чего вместе с соседними странами вошла в Центральноамериканскую федерацию. Но федерация просуществовала очень недолго. По существу, испанцы были изгнаны американцами, которые давно уже алчно взирали на это важное для них в стратегическом отношении место.
Боль и нищета никарагуанцев поражает каждого, кто посещает страну с открытым и честным сердцем. Здесь долгие годы царил ужас детского голода и массовой нищеты. Кварталы бедняков на окраинах городов и в сельской местности напоминали свалку. Местное население было поголовно неграмотным. Человеческое достоинство чудовищно попиралось. Долгие годы 200 семей латифундистов эксплуатировали более двух миллионов никарагуанцев.
Но и это не все. К сожалению, это только частичка национальной трагедии народа. Трагедии, которую спокойно созерцала «справедливая» Америка. Более того, ее дипломаты вдохновили преуспевающего молодого офицера Анастасио Сомосу Гарсиа на убийство генерала свободного народа Аугусто Сесара Сандино и его соратников, истинных сынов народа. Этот позорный акт положил начало самой продолжительной человекоубийственной ночи, которая известна в Латинской Америке как диктатура сомосовской династии.
Под нами лежала Никарагуа — бескрайние вечнозеленые леса, небесно-синие озера, дымящиеся вулканы, искрящиеся на солнце водопады, высокие вершины гор и обширные болотистые равнины.
Доминго с болью продолжал рассказывать:
— С укреплением диктатуры расширялись и формы эксплуатации, которые духовно и физически разоряли бедных людей. И землю, как последний кусок хлеба, самым бесцеремонным образом захватил диктатор. Он возглавлял всех грабителей. Жители целых сел превращались в безработных пролетариев, ютившихся в лачугах на окраинах городов…
Мы пролетали над Манагуа. Доминго обратил мое внимание на кварталы Эль-Родеито, Эль-Галопе, Лас-Тореас, в которых нет ни воды, ни электричества. И, заканчивая грустное повествование, Доминго сказал:
— Год назад в клещах безработицы находилось более пятидесяти процентов активного населения. Интересы государства Сомоса подчинил своим личным интересам. Хорошо обученная и оснащенная современным оружием армия защищала только интересы сомосовской династии. Всего год назад это была страна, в которой процветала самая коррумпированная, репрессивная и аморальная диктатура в самом сердце Центральной Америки. Можно сказать, что это была диктатура «Made in USA»…
Самолет снизился, и перед нами в бешеном беге затрепетала зелень. Голос стюардессы произнес:
— Добро пожаловать в аэропорт Сандино! Добро пожаловать в свободную Никарагуа!
4
ВСТРЕТИЛ нас, разумеется, неизменный тропический дождь. Никарагуанцы говорят: «Льет как из ведра». Льет час, другой, вымоет зелень, а затем за пару часов солнце вновь ее высушит. И так почти каждый день, особенно в зимний сезон. Но такая погода может показаться необычной только иностранцам.
В аэропорту, который до революции был собственностью Сомосы (что тут только не было его собственностью!), нас встретили молодые ребята с оружием в руках и с подкупающей улыбкой. Когда мы сказали, что прилетели из Болгарии, они спросили:
— С родины Георгия Димитрова?
После нашего ответа дула их винтовок опустились. Самые неприятные минуты в каждом заграничном путешествии ощущаешь, когда пересекаешь таможенный барьер. Пока оформляли документы, хозяева предложили нам кофе. Ты знаешь, я не люблю кофе, но можно ли было отказать этим глазам, этой неподдельной и пленительной любезности?! В их умении держаться было столько естественности и откровенности, что я сразу же забыл, что нахожусь за тысячи километров от своей родины, за океаном, на другом материке.
Я невольно залюбовался этими ребятами, белыми, смуглыми, черными, которые еще вчера были слугами, угнетенными, униженными, а сегодня стали хозяевами — внимательными, заботливыми.
Наверное, именно о таком молодом поколении никарагуанцев мечтал еще в 1918 году революционер-демократ Мануэль Гонсалес Плада, который за несколько месяцев до своей гибели написал на красном полотнище:
«Как можно правильно жить и думать, если продолжаем еще дышать атмосферой средневековья, если наше воспитание топчется вокруг бесплодных католических догм, если не можем ликвидировать смертельный вирус, доставшийся нам в наследство от испанцев, куриную слепоту, с помощью которой Соединенные Штаты хотят скрыть прелесть нашей земли от наших собственных глаз? Мы не хотим революцию, которая только свергает президентов или царей. Мы хотим мировую революцию, которая уничтожает и устраняет национальные барьеры, призывает людей труда владеть и пользоваться всеми благами земли».
Никарагуа — земля-мученица, земля-совесть, не раз сотрясаемая извержениями вулканов, год назад испытала силу самого мощного вулкана — народной революции. Это был не бунт, как писали западные газеты, это было выражение воли и силы народов Центральной Америки, которые показали, что способны бороться и побеждать. Потомки индейцев, негров и испанцев, они унаследовали самую главную черту этих трех рас — смелость. Смелость светится в их глазах, в их каждом движении и походке. Смелость повенчала с революцией этих горячих молодых людей, которые жаром своих сердец поддерживают ее огонь, сознательно защищают ее завоевания. Революция!
Для одних она — десятилетия застенков. Для других — вооруженная партизанская борьба, нелегальная жизнь. Но для всех никарагуанцев сегодня она — воздух, солнце, хлеб. А конкретно — спокойный день, спокойная ночь, свободный труд.
Революция вернула людям этой страны песни, озера, вулканы, острова и солнце. Вернула им право мечтать и творить, так необходимое для самоутверждения…
Дождь хлестал так, как будто били тысячи плетей. Ехать не было возможности, и мы остались в уютном зале аэропорта, пили ароматный кофе и слушали рассказ встретившего нас Пабло о жизни Аугусто Сесара Сандино. Это был не просто рассказ. Это была неповторимая сказка, словно пальцы скульптора, мягкие и теплые, на наших глазах ваяли фигуру титана. И мы видели этого титана, озаренного солнечными лучами, ощущали его необыкновенно большое сердце и невероятную силу.
Не могу не рассказать тебе, хотя бы немного, об этом человеке. Для никарагуанцев он — самое большое национальное богатство, и было бы наивно думать, что на нескольких страницах одного письма я смогу поведать тебе о нем все. Это невозможно, потому что жизнь Сандино — это неповторимая легенда. Вот только некоторые штрихи из нее. Родился он в Никиноомо 18 мая 1895 года в бедной крестьянской семье. Рано познал нищету, увидел слезы матерей. Делил безрадостное детство со своими сверстниками. Вместе с ними полуголодный работал в поле. В отличие от других ребят сам научился писать и читать. «Посланником бога» называли его дети и каждое слово слушали как божье повеленье.
Аугусто Сесар Сандино был худеньким, невысокого роста мальчиком, но обладал сильным духом и огромной жаждой познать мир. Рано уехал из Никарагуа и исколесил все страны Центральной Америки. Был он и в США. В Мексике работал монтером в нефтяной компании. Там же познакомился с революционной деятельностью Эмилиано Сапаты — руководителя мексиканской революции. Но где бы он ни был, трагическая судьба родной страны не давала ему покоя. С родиной в сердце и для нее он жил. В 1926 году после тринадцати лет скитаний на чужбине Сандино вернулся в Никарагуа. Ступив на родную землю, склонился над нею, взял горсть земли, поцеловал ее и поклялся бороться до тех пор, пока не будет освобождена от чужих и собственных варваров ее последняя пылинка. В то время американцы, полностью сломив революционное движение Бенхамина Селедона, попеременно поддерживали борьбу между двумя партиями — либеральной и консервативной. Они помогали зарождению местной буржуазии и увеличивали болото нищеты, которое все больше и больше засасывало народные массы. Любая революционная деятельность и мысль уничтожались в самом зародыше. В стране царствовали бесправие и страх.
Сандино вернулся на родину вечером и долго стоял, всматриваясь в кровавый закат, вслушиваясь в шепот ветра. Может быть, в зареве заката ему виделись уставшие, измученные глаза его товарищей, а в голосе ветра слышалась их боль. Вернувшись на родину, он возглавил вооруженную борьбу за справедливость и национальную независимость. Чтобы добыть оружие, Сандино и его товарищи пешком преодолели тысячекилометровый путь от гор Лас-Сеговиаса до морского порта Пуэрто-Кабесас.
Либеральная партия, которая в то время находилась в оппозиции, вместо того, чтобы поддержать Сандино и его товарищей, угрожала им арестами, мешала вооружаться. С помощью местных жителей патриоты достали 40 винтовок, ушли в горы и начали вооруженную борьбу.
В начале февраля в центре страны ими было проведено несколько боевых операций. Сражаясь с вооруженными до зубов правительственными войсками, они вышли победителями. Народ решил, что воскрес дух Селедона, и начал тянуться к повстанцам, чтобы включиться в армию справедливости. Силы росли. Несмотря на то что североамериканские оккупационные войска контролировали многие стратегические пункты страны и обеспечивали правительственные войска оружием, им не удалось остановить народную армию, в которой уже насчитывалось более 800 человек. Плохо вооруженные, практически с голыми руками и открытой грудью они приступом взяли гору Хинотега и с песнями продолжили путь к Матагальпе.
Миролюбивые никарагуанцы показали завоевателям, что могут бороться за свою свободу. Военный атташе США Блуэр поспешил известить свое правительство о том, что 1600 повстанцев под руководством либеральной партии сошлись лицом к лицу с армией правительства консерваторов, насчитывавшей 3400 человек, и вынудили ее отступить. Свое сообщение он закончил так:
«Последние выстрелы в этой внутренней войне были произведены кавалерией Сандино».
Пристальное внимание США к событиям в Никарагуа объяснялось тем, что эта страна занимает особо важное стратегическое положение в Центральной Америке. Никарагуа является узлом морских сообщений. Она очень близко расположена к Панамскому каналу, к которому можно проложить путь по реке Сан-Хуан.
В 1927 году в порту Коринто высадилось 30 тысяч пехотинцев, 865 моряков и 215 офицеров. Вооруженные самой современной техникой, с нравами сторожевых псов, они принесли с собой современный варваризм. В оккупированном Леоне они разорили школы и соборы, превратив их в казармы. Посол США в Никарагуа Лоренс Дэнис цинично заявил в узком кругу: «Здесь думают, что мы пришли защищать интересы одной партии от другой. Горько ошибаются. Мы отстаиваем только наша собственные интересы».
Специальный посланник президента США Стимсон, прибывший в Никарагуа, встретился с либералом Хосе Мариа Монкадой, бывшим руководителем повстанцев, предавшим интересы народа. Эта встреча в сотый раз подтвердила, что «пять руководителей от консерваторов плюс пять от либералов в сумме дают десять бандитов». Стимсон предложил Монкаде обратиться к повстанцам с предложением заплатить по 10 долларов каждому, кто сдаст оружие. Какое кощунство по отношению к революционным идеалам и благородным порывам народа!
Но повстанцы, возглавляемые верным сыном своей родины Сандино, не сложили оружия. Никарагуанцы никогда не забудут его слова: «4 мая — это день нашего национального праздника. В этот день народ Никарагуа доказал всему миру, что его национальную честь нельзя затоптать, что у него есть достойные сыны, которые своей кровью смоют пятно позора других!» 4 мая Сандино отобрал из нескольких сотен крестьян самых верных соратников, которые поклялись бороться до победного конца. Внимательно осмотрев каждого, Сандино сказал: «Я не сложу оружия, даже если все вы решите это сделать. Скорее погибну с меньшинством, которое предпочтет смерть бойца жизни раба».
Свое слово он не нарушил до конца дней. Тысячи километров отделяют нашу страну от Никарагуа, но сколько общего у Сандино и болгарских революционеров, боровшихся за национальное освобождение!
Своей страстностью и непримиримостью он подобен нашим патриотам, которым приходилось оставлять жен, детей, родителей и годами скитаться, чтобы не дать угаснуть революционному пламени. В городе Сан-Рафаэль Сандино связал свою судьбу с верной помощницей партизан Бланкой Араус. Но он не мог остаться в кругу семьи и сразу же после свадебного обряда ушел в горы, сказав Бланке: «Долг перед родиной превыше всего. Я ухожу по его зову. И помни, если даже вселенная обрушится, все равно мы выполним свой священный долг».
С ним ушли и его товарищи. К патриотам были обращены взоры и надежды обманутых, жаждущих свободы людей, Сандино понимал, чего ждет от него угнетенный народ его родины. Он был неразрывной частицей этого народа, потому что, как он сам говорил своим бойцам, для него огромная честь быть выходцем из угнетенного народа — души нации. Исстрадавшимся никарагуанцам Сандино говорил:
«Буржуи скажут, что я слишком мал для серьезного дела, которое взвалил на свои плечи. Но мой рост компенсируется гордым сердцем патриота, и я клянусь перед родиной и перед историей, что мой меч будет защищать национальную честь, будет защитой угнетенным. Я принимаю вызов борьбы, сам иду ей навстречу, а на вызов подлых наемников и предателей отвечаю боевым кличем: грудью своей и моих товарищей воздвигнем стену, о которую разобьются вражеские легионы. Может случиться так, что погибнет и последний боец нашего отряда, сражающегося за свободу Никарагуа, но перед этим не один батальон наемников будет разбит в наших диких горах.
Я хочу убедить равнодушных никарагуанцев, безразличных жителей Центральной Америки и всю индейско-испанскую расу, что в этой части скалистых гор собралась группа патриотов, которые могут бороться и умирать как подобает мужчинам.
Идите, сброд наркоманов, идите убивать нас на нашей родной земле! Я вас встречу стойко во главе своих бойцов-патриотов, несмотря на ваши превосходящие силы. Но знайте, когда это случится, сокрушение вашего всевластия потрясет Капитолий в Вашингтоне и от нашей крови алым станет глобус на вашем пресловутом Белом доме — берлоге, в которой замышляются и осуществляются преступления».
Я позволил себе привести полностью эти слова Сандино, так как они лучше всего раскрывают сущность и цели его борьбы. Тогда же в награду за предательство Монкада получил президентское кресло. 12 июля 1927 года американский майор Хейтфилд, начальник гарнизона в Окотале, отправил Сандино ультиматум с требованием сдаться. На обороте этого документа, написанного в высокомерном духе, Сандино ответил:
«Получил ваше сообщение вчера, на что отвечаю: я не сдамся, а вас жду здесь. Я хочу завоевать свободу родине или умереть. Вас не боюсь. Рассчитываю не столько на оружие, сколько на патриотический огонь тех, кто вместе со мной вступил в борьбу. Родина и свобода!»
Спустя четыре дня в Окотале 60 сандинистов насмерть схватились с многочисленным врагом, на вооружении которого были даже самолеты. Бой был жестоким и продолжался более пятнадцати часов. Был тяжело ранен начальник штаба патриотических сил полковник Руфо Марио Бельорени. Перед смертью он обратился к бойцам с последними словами: «Скажите генералу Сандино, что я умираю, как и мечтал, в бою против янки!»
Этот бой дал почувствовать интервентам, что против них выступает не малочисленный партизанский отряд, а дух и сила всего народа. Новый президент Монкада предложил Сандино сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Но народный вождь был категоричен:
«Суверенитет народа защищается с оружием в руках».
Народная война приобретала все более широкие масштабы…
Дождь перестал. Хозяева предложили ехать. А мне так хотелось дослушать до конца историю жизни, звучащую как легенда. Но багаж погрузили, машины заурчали, и мы направились к центру Манагуа, столицы свободной Никарагуа. У въезда в город нас встретила большая надпись: «Добро пожаловать в свободную Никарагуа!» А в нескольких метрах за ней — другая, тоже крупными буквами: «Сандино вчера, Сандино сегодня, Сандино навсегда!»
Заканчиваю. Надеюсь, ты простишь меня за длинное письмо. Но оно — лишь малая частица того, что я узнал о генерале свободного народа — Сандино.
5
СЕГОДНЯ познакомился с Хулио Лопесом, Леонелем и Марджин Эспиноса, Фредерико Лопесом и Карлосом Гайо. Все они — члены политической комиссии Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа. Сразу же хочу тебе сказать, что самому старшему из них пошел всего 33 год. А говорят они как ветераны — о сражениях, о погибших друзьях, о предательстве, о победах, о тех неповторимых минутах, в течение которых мальчики становятся мужчинами. Они говорят, а я слушаю. Слушаю, слушаю, слушаю… Слушал бы их целую вечность. Они никогда не повторяются. Как в жизни. И всегда устремлены в неизвестное, смело прокладывают путь для других. И только иногда падают, как звезды ночью. Такая жизнь делает их счастливыми. Слушаю их, смотрю на них и не могу не удивляться — они так молоды, а уже сотворили целую историю. Неповторимую!
Напротив меня села Марджин — смуглая девушка с насмешливыми синими глазами и ямочками на щеках. Движения ее плавные, голос мягкий, ласковый. Весь ее облик излучает красоту и внушает уважение. Впечатление такое, что она рождена играть на пианино, читать стихи, пленять сердца молодых и старых. Но она выбрала трудный путь революционной борьбы.
Эта нежная девушка стойко перенесла в застенках истязания сомосовцев, двадцать восемь дней голодала, а ее слабые девичьи руки носили вместо украшений автомат. Марджин и сейчас не разлучается с двумя пистолетами. От ее друзей я узнал, что у нее было много разных имен.
— Вынуждала борьба. Она меня крестила. Только для себя я всегда была Марджин, — говорит она, поправляя упавшую прядь волос. — Даже болгарскому профессору, которого очень уважала, не назвала своего настоящего имени. А несколько месяцев назад мы случайно встретились с ним. Профессор удивился, когда меня представили ему под другим именем. «Нет, — сказал он. — Если еще пять минут назад я мог допустить, что обознался, то сейчас убежден — это именно ты. Голос и глаза невозможно изменить». «Вы не обознались, — ответила я ему. — И под тем и под другим именем была я, одна и та же».
— А сколько лет ты скрывалась под чужим именем? — спросил я.
— Восемь лет, три месяца и два дня, — ответил вместо нее Леонель, муж Марджин.
Марджин обладала магической способностью преодолевать порог времени, утопая в лучезарном сиянии завтрашнего дня.
— Это наша неисправимая оптимистка. Она не допускала мысли, что может погибнуть, даже когда положение было безвыходным. Не так ли? — обратился к ней Гайо.
— Я верила в счастье и добивалась его, — ответила Марджин.
Я посмотрел в ее глаза. Они блестели как кристаллики, излучая необыкновенную силу.
— Друзья, неужели может быть счастье без свободы? — спросила Марджин и, не ожидая ответа, продолжала: — В нашей тюремной камере было двадцать женщин. Разным путем попали мы в эту берлогу. Моей соседкой по нарам была жена бывшего полицейского. Узнав, что отец ее детей, уподобившись дикой собаке, слепо прислуживает Сомосе, она попыталась его вразумить. Надеялась, что поможет ему. Но однажды вечером, когда он вернулся пьяным и подал ей палец убитой женщины, на котором было обручальное золотое кольцо, она онемела. «Подарок получен от одной негодницы, которая пересекла путь генералу, — сказал муж важно. — Подарок от генерала!» Когда же он прислонился к стенке, ожидая услышать от супруги благодарность, она метнулась к столу, схватила большой кухонный нож и убила его. У этой женщины были и хлеб, и дом, и наряды, и украшения. Были и дети. Но не было у нее самого главного — свободы. Она часто нам повторяла: «Счастье без свободы что человек без головы».
Леонель, который сидел рядом с Марджин, задумчиво кивал. Он тоже пробыл на нелегальном положении шесть лет. Сколько ему пришлось выстрадать!
— Даже сейчас наше счастье неполное. Может ли человек быть счастливым, когда в его доме есть хлеб, когда он озарен свободными солнечными лучами, в то время как другие народы тянут хомут рабства и бесправия? Вспомните, как говорил Сандино: «Не будет странным, если я и моя армия однажды окажемся в одной из стран Латинской Америки, там, где наемники и убийцы распростерли свои кровавые руки». Сандино указал путь к счастью не только Никарагуа, но и всей Латинской Америке. И мы, сандинисты, можем быть полностью счастливы только тогда, когда будут свободны наши братья по борьбе.
— А что скажет твоя жена, если завтра ты уедешь выполнять свой долг сандиниста? — прервал я его.
— Я буду счастлива бороться вместе с ним, — ответила за мужа Марджин.
Беседа продолжалась. Мои новые друзья чем-то сильно походили друг на друга. Фредерико припомнил слова генерала свободного народа: «Придет день, когда янки будут полностью разбиты, а если я не дождусь этого дня, муравьи сообщат мне об этом в могиле».
О чем только не говорили мы в тот вечер! Я не в состоянии передать тебе все — ограничусь только тем, что узнал о Сандино, о последних годах его жизни. Попробую дополнить вчерашнее письмо новыми впечатлениями о нем. Благодаря образному описанию друзей, я его вижу как живого — маленького роста, в широкополой соломенной шляпе, очень энергичный и пламенный, строгий и безмерно добрый. Вижу, как каждый день, даже после тяжелых сражений, когда все отдыхают, сморенные усталостью, он сидит у костра и читает. Это не было позой. В этом была необходимость. Ему хотелось отчетливее увидеть завтрашний день. Он говорил крестьянам: «Наша армия готовится взять власть, чтобы появилась возможность создать большие сельскохозяйственные кооперативы, которые будут использовать народные богатства в пользу семей никарагуанцев». И не случайно еще в 1933 году испанский журналист, посетивший лагерь Сандино, писал в своей хронике, что на свободной пяди земли эти смелые люди каждый вечер у костра поют революционный гимн «Интернационал» и прекрасно понимают, что только организованная сила рабочих и крестьян сможет завоевать победу.
Он описал Сандино так:
«На его лице, омраченном рано появившимися морщинами, лежала тень глубокой задумчивости. Казалось, взгляд его был устремлен не на измученных бойцов, которые, изнуренные лишениями, проходили перед ним, а на что-то далекое и невидимое. Ему не был присущ жестокий вид воина, лицо которого загрубело от войны и у которого опасность и неизбежная жестокость обостряют нервы, придавая взгляду неумолимую твердость. Его лицо отражало состояние человека, рожденного для раздумий и фантазии, человека большой души, вынужденного стать народным вождем ввиду фатальной необходимости…»
В то время в Никарагуа правительство менялось одно за другим. Партизаны непрерывно вели упорное, героическое сопротивление. И, представь себе, мощная североамериканская империя оказалась бессильной сломить крестьянскую армию Сандино, достойную защитницу национального суверенитета Никарагуа. Последняя ставка была сделана на Хуана Батисто Сакасу, на которого была возложена миссия возглавить очередное правительство. Представители интеллигенции Софонияс Сальватиера и Сальвадор Кальдерон Рамирес направили Сандино послание, в котором ставили вопрос о мире и выражали надежду на укрепление национального суверенитета. Народный вождь ответил им резко с критикой в адрес Сакасы, но оставил для переговоров дверь слегка приоткрытой. Политические события в Никарагуа накалялись. Четко вырисовывались классовые расслоения. Открытое недовольство действиями патриотов начали выражать и крупные землевладельцы Севера, которых пугал свободолюбивый дух Сандино. Правительственная пропаганда по всем каналам непрерывно поливала сандинистов клеветой, извращая их идеи. Но народные массы становились более смелыми и более сплоченными.
Сандино согласился на переговоры с правительством, но только при одном условии — оккупанты будут выведены с территории Никарагуа. Он вынудил правительство выполнить его условие. Это была первая реальная победа Сандино. Поддержка патриотических сил Никарагуа прогрессивными слоями населения других стран Латинской Америки вынудила правительство США отказаться от своей политики «добрососедства». Всего месяц спустя после ухода оккупантов в своем обращении к партизанам Сандино сказал:
«Наша армия своей самоотверженной борьбой добилась высокого морального престижа на континенте, и благодаря симпатиям мировой общественности у нас выросла возможность полностью изгнать американских пиратов из Никарагуа».
2 февраля 1934 года Сандино выехал в Манагуа, чтобы обсудить некоторые вопросы с правительством Сакасы. Это был неслыханный и невиданный до того праздник для бедноты столицы. Каждому хотелось увидеть и своими руками прикоснуться к «сыну вулканов». Сандино, этот неподкупный борец за народное счастье, был олицетворением смелости и правды. В этот день в деловой обстановке был подписан договор, который конкретизировал соглашение, достигнутое ранее между делегациями правящих партий и представителями партизан. Когда обсуждались условия, подготовленные правительством, Сандино категорически отверг то, что хотели ему навязать — разоружение его армии. Для него армия была реальной силой, умом, совестью и мечом справедливости. Он настоял, чтобы в соглашение записали: «Поддержание всеми рациональными и юридическими средствами полного расцвета суверенитета, политической и экономической независимости Никарагуа». Сандино справедливо беспокоил тот факт, что в стране оставалась национальная гвардия, которая, по его мнению, состояла из хорошо вооруженных наемников.
«Национальная гвардия, — отмечал он, — является институтом, противным законам и конституции республики. Она создана по соглашению либеральной и консервативной партий, по инструкциям американских специалистов».
Американцы и их послушные никарагуанские слуги начали подлую и хорошо замаскированную игру. Они не могли смириться с тем, что один самозабвенно любящий свой народ человек вынудил их спрятать в кобуру пистолет. В ответ они создавали необходимые реальные предпосылки для организации военно-политической лиги, которая объединила две банды олигархии либеральной и консервативной партий и была возглавлена их послушным ставленником — Анастасио Сомосой Гарсиа, «продолжением Каина», как его называли южнее Рио-Гранде. Артур Блис Лейн, бывший в то время послом США, без обиняков написал государственному секретарю, что предупредил Сомосу быть внимательным к Сандино. Американский империализм готов был убить народного героя, но боялся мести партизан, которые выступили бы против национальной гвардии.
21 февраля 1934 года Артур Блис Лейн дважды встречался с Сомосой. Именно в тот зловещий день вечером при «неизвестных обстоятельствах», как сообщалось тогда в печати, были убиты Аугусто Сесар Сандино и его братья по оружию — Франсиско Эстрада и Умансор, которые сопровождали его в Манагуа. В действительности обстоятельства убийства были таковы. В тот день после обеда проходило заседание военного совета национальной гвардии. К вечеру на заседание прибыл Сомоса. Осмотрел каждого, покашлял и сообщил: «Только что был в американском посольстве, где разговаривал с послом, который заверил меня, что его правительство в Вашингтоне окажет нам поддержку, если мы уберем Аугусто Сесара Сандино. Оно поручает нам исполнить это, так как считает его нарушителем спокойствия в стране». Заседание было кратким. Все присутствующие, шестнадцать человек, подписали документ, который связывал их как непосредственных участников убийства на случай, если кто-то выдаст заговор.
В десять часов вечера, после ужина, состоявшегося в президентском дворце, Сандино, его отец, министр Сальватиера и генералы Эстрада и Умансор покинули дворец, расположенный на возвышенности Лома. В его подножии, которое называется «Марсово поле», перед одним из постов машина Сандино была остановлена. Майор Дельгадильо, переодетый в форму ефрейтора национальной гвардии, подошел и, заявив им, что они арестованы, предложил сдать оружие. Всего через час после того как они покинули дворец, по сообщению некоторых расследователей, одна пуля была выпущена в голову Сандино, в висок, а другая в левую часть груди. Эстрада получил две пули в грудь, а Умансор — пять пуль в голову. Услышав выстрелы, отец Сандино крикнул: «Их убивают! Верно говорит народ: кто решил бороться за свободу, умирает распятым!»
В ту же ночь было совершено еще одно чудовищное преступление. Национальная гвардия окружила Уиуили, где жили солдаты армии Сандино и их семьи, и зверски расправилась со всеми. Некоторые историки пишут, что тогда было убито 300 мужчин, женщин и детей. А Висенте Сейенес утверждает, что погибших во много раз больше, так как необходимо иметь в виду и убитых в Хинотеге, где гвардейцы даже не потрудились закопать трупы и «в течение 24 часов вороны, собаки и свиньи из окрестных мест угощались человеческим мясом».
Никарагуа осиротела. Вся страна была залита слезами.
Время приближалось к полуночи. Карлос Гайо, который мне рассказал обо всем этом, закончил словами:
— Власть, грабеж и преступления слились воедино. В течение четверти века около 25 тысяч сыновей Никарагуа орошали своей кровью родную землю, которую бессовестно и нагло топтал агрессор. И кульминацией этой народной муки была та страшная потеря. Злодейство, предательство и его неизменный спутник коварство сотворили то, что недостижимо ни оружию, ни силе…
Мы молча застыли на несколько минут, потом так же молча встали. Люди разошлись. А я остался один. Нет, неправда, не один, а с памятью о Сандино. Она навсегда вошла в мое сердце, как и память о Левском и Ботеве.
Спокойной ночи тебе, а я, как видно, еще долго буду бодрствовать. После всего, что услышал, трудно заснуть.
6
С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ я едва дождался рассвета. Спать совсем не хотелось. В комнате передо мной сидел Сандино. Оказывается, нет необходимости десятки лет жить вместе с человеком, чтобы он стал тебе близким. Знаю многих, которые прожили всю семейную жизнь вроде бы в согласии, но так и остались друг для друга чужими. Важно почувствовать человека, понять его сердце, чтобы он навсегда остался в тебе. Недавно я где-то прочитал, что дерзновенная мысль и человеческий дух неподвластны времени, они сильнее его. Они вечны. И дух, и человеческая мысль властвуют в неизмеримых просторах времени. Тленное не имеет над ними власти. Тленное не имеет власти над Сандино. Он жив не только в сердцах никарагуанцев, но и в моем сердце, в сердце болгарина.
Мысли о нем не покидали меня. Сегодня выходной день. Не раздумывая, решил пойти к моему другу Доминго. Он много раз приглашал меня в гости, но я все не мог найти времени. Что меня побудило сегодня пойти к нему — захотелось просто встретиться с ним или вновь вернуться с его помощью в близкую историю, в которой, как огромное солнце, светит образ Сандино? Пожалуй, и то, и другое.
Недалеко от квартала, в котором я жил, находился памятник. Обычно я, занятый своими мыслями, проходил мимо, но на этот раз остановился, так как увидел детей, которые вырывали сильно разросшуюся траву, чтобы лучше было видно имена, выбитые на плите. Я замедлил шаги. Этих имен я не знал.
В «Репортаже с петлей на шее» великий сын чешского народа Юлиус Фучик завещал нам:
«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньшие, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!»
Эту простую истину нельзя забывать. Это огонь, который не должен угаснуть. Я не задержался около детей, а, напротив, ускорил шаги, потому что все острее ощущал необходимость повидать человека, с которым мог бы наговориться от души.
Доминго, сидя в кресле-качалке, читал газету. Увидев меня, он придержал обеими руками протезы, чтобы не подвели его, и встал.
— Настоящий друг выбирается по сердцу, а не по глазам и улыбкам, — сказал он.
Мы по-братски обнялись.
Он и его жена засуетились, не зная, куда меня усадить и чем угостить. Приняли как желанного и долгожданного гостя. Я бросил взгляд на газету, которую читал Доминго. Заметил, что в ней он обвел черным карандашом несколько строчек. Захотелось их прочитать, но Доминго меня опередил, объяснив:
— В наш отряд пришел шестнадцатилетний юноша. Был он молчаливым, со злым взглядом и хмурым лицом. Многие товарищи пытались его разговорить, но он упорно отмалчивался, оставался наедине со своими мыслями. Через неделю завязалась перестрелка с сомосовскими бандитами. Схватка была жестокой. Юноша, которого прозвали Молчуном, ни на минуту не прекращал стрельбу. И почти каждый его выстрел достигал цели. К вечеру мы отбили шакалов. Улеглись, поджав усталые руки и ноги. Юноши среди нас не было. Нашли его рядом с одним из погибших наших товарищей. Молчун плакал. Они не были знакомы. Ни разу даже словом не обмолвились, но Молчун его полюбил. Позже мы узнали, что сомосовцы изнасиловали его сестру, утопили в реке брата, а мать его от горя сошла с ума. Может ли такой человек смеяться да болтать о пустяках?! Но сердце его оставалось преисполненным любви к людям, поэтому для каждого из нас он стал настоящим другом.
Слушая Доминго, я думал о том, что у всех людей есть свои бури и солнечные дни. И они принадлежат только ему. Они делают человека веселым или мрачным, разговорчивым или молчаливым. Но сердце всегда одно. Оно бывает или добрым, или злым.
— Молчун и меня вынес из огненного кольца, спас мне жизнь. А сейчас бандиты его убили. Знаешь, какой это был парень!
Слезы сами собой потекли по лицу Доминго. Жена его тоже не выдержала и зарыдала, закрыв лицо руками.
Мне очень хотелось сказать им такие слова, которые могли успокоить их. Но я не нашел таких слов. Однако и молчать я не имел права. Сказал что-то о героической истории Никарагуа, которая еще пишется, потому что революция продолжается, что без жертв не может быть борьбы, что никарагуанский народ никогда не забудет имен своих героев…
— Неужели мир знает правду о Никарагуа? — спросил Доминго.
Я достал из кармана свои записи и прочитал ему:
— «Столица Манагуа расположена на берегу озера, в котором водятся уникальные пресноводные акулы, у подножия вулкана Момотомбо, который постоянно извергается и каждый раз разрушает ее. В течение 45 лет этой страной управляла единственная династия каудильо из семьи Сомосы, причем каждый из диктаторов не уступал Трухильо, Батисте или Дювалье».
— Оставь эту информацию. Позволь учителю познакомить тебя с угнетенным, нищим, но свободолюбивым и мужественным народом.
Его рассказ вернул меня к началу века, когда главной целью США было строительство канала на реке Сан-Хуан и Никарагуа рассматривалась ими только в качестве стратегических позиций. Но время текло, а с ним появились и новые интересы. В 1912 году к империалистической авантюре прибавились еще и интересы банков, стремление использовать природные богатства — кофе, бананы, сахар. И тогда США вынудили правительство страны подписать договор о строительстве канала, вошедший в историю как договор Брайана — Чаморро. На обоих берегах океана началось интенсивное строительство военных баз. Американское вмешательство прервало процесс формирования нации, как это было в других странах Центральной Америки. Воля США определяла здесь и политическую власть. Никарагуа жила под колониальным гнетом. Президентские выборы проводились с помощью штыков. Мог быть избран только тот кандидат, который имел поддержку генерала, командовавшего американскими десантными войсками. После этого такому президенту ничего не оставалось, как покориться, набивать карманы деньгами за счет народа, раздавать родственникам и приближенным посты и источники доходов. Доминго рассказал мне о президенте Чаморро, который специально для одного своего родственника создал невероятный по своей глупости пост — инспектор по звукоглушительным коммуникациям. Рассказал мне и о войне между либералами и консерваторами.
В 1926 году в районе Селаи на берегу Атлантического океана либералы создали свои войска и начали войну против правительства консерваторов, то есть против угнетателя Чаморро, который нарушал конституционные права, лишая их партию мест в правительстве. Либеральная революция, поддержанная мексиканским правительством, быстро распространилась по всей стране, вынуждая армию консерваторов отступать и угрожая свергнуть американских любимцев. США, обеспокоенные тем, что гражданская война может спутать их планы стабилизации, и опасаясь, что революция, поддержанная мексиканским правительством, может распространиться и на другие страны, приняли решение ввести в Никарагуа войска.
Оккупационные власти вынудили армию либералов пойти на позорный мир. Они гарантировали им проведение выборов в 1928 году. Предварительно американцы предложили Чаморро выйти из правительства, а на его место поставили Адольфо Диаса, того самого, который возглавлял правительство в 1912 году, во время первой интервенции. Но один человек, верный интересам своего народа, не принял этих темных сделок. Им был Аугусто Сесар Сандино, названный Анри Барбюсом генералом свободного народа. Сандино с оружием выступил против генерала Монкады и подписания пакта с американцами в Эспино. В горах северной части страны он организовал мощное партизанское движение. Американцы пытались с помощью авиации разгромить повстанцев, но это им не удалось.
Наемные журналисты, стараясь умалить значение движения, сравнивали борьбу повстанцев с «укусами комаров и ничем более». Однако в кругу своих друзей генерал Фело заявлял: «Мне необходимо не менее 50 тысяч человек, чтобы расправиться с Сандино».
Таким образом, в самый трудный момент для родины в Никарагуа появляется имя — Сандино, вера — Сандино, знамя — Сандино. Только сейчас я глубоко осознал смысл лозунга, который всюду сиял в освобожденной стране: «Сандино вчера, Сандино сегодня, Сандино навсегда!» Это не просто выражение любви к человеку, это дань беспредельной привязанности к родной земле.
С убийством Сандино над Никарагуа нависла долгая черная ночь. Человеком, который «погасил» свет, был Анастасио Сомоса, весельчак Тачо, командующий национальной гвардией.
О нем Доминго говорил с отвращением, словно это имя отдавало горечью, но вспоминал любопытные факты, которые невозможно забыть.
Сомоса обучался коммерческому делу в США. Там он научился хорошо говорить по-английски, а также усвоил необходимые манеры поведения, чем понравился жене американского посла. Ей удалось убедить стареющего супруга сделать Тачо, торговца автомобилями, командующим национальной гвардией. На его плечах появились генеральские погоны. Через подставных лиц генерал управлял страной до 1936 года. А затем без особых затруднений о согласия США организовал себе выборы в президенты как представитель либеральной партии. И потом правил страной целых двадцать лет. Об этом периоде журналист Жан Лартеги писал:
«Старый Сомоса любил землю и, используя все средства, присвоил себе одну треть обрабатываемых угодий Никарагуа. Его старые друзья, богатые собственники, которые заплатили за организацию убийства Сандино, и те «жалели» о гибели партизан. Сандино ведь говорил о распределении земли, а генерал Сомоса их обкрадывал. Тачо любил шахты. Он захватил и их, но сделал это более изощренным способом — приобрел акции через вторых лиц, после чего уступил право эксплуатации шахт крупным американским и канадским монополиям. Сам же он получал солидные отчисления, которые вносились на его счет в нью-йоркский банк «Чейз». Большие прибыли Сомосе приносили леса. Здесь он тоже не мог устоять и стал их полновластным хозяином. Интерес к авиации сделал его собственником главных авиационных линий. У него был собственный порт — Пуэрто-Сомоса. Налоги он не платил».
С ростом капитала в стране усиливалась пролетаризация масс. В городах и селах увеличивалась безработица. Одна треть крестьян вообще не имела земли, а другая треть владела мизерными клочками, которые не могли обеспечить прожиточного минимума. Поощряемая диктатурой коррупция постоянно росла. Между диктатором и народом образовалась страшная бездна. Для своей безопасности Тачо создал «батальон Сомосы» из 1200 человек. Но, как сказал Шекспир, «власть, основанная на страхе, непрочна. Со временем страх превращается в ненависть». Эти слова получили классическое подтверждение в Никарагуа.
Пока Доминго знакомил меня с историей страны, его жена приготовила свое фирменное блюдо, которое очень напоминало наш шашлык. На столе появилась бутылка «Столичной».
— Это мне подарили друзья из Белоруссии, когда я был в Хатыни, — сказал Доминго, разглядывая бутылку. — Там я услышал звон колоколов, грустный напев которых до сих пор звучит в моих ушах. Думаю, что этот колокольный звон должно услышать все человечество.
Мы выпили за самое дорогое — за свободу. После шашлыка последовали соки. Наверное, я тебе не писал еще, что эта земля славится соками. Гостеприимные хозяева настояли, чтобы я попробовал все… Меня не покидала мысль о маленьком памятнике и о детях, которые заботливо ухаживали за ним. Попросив у хозяев букет цветов из их садика, я начал собираться, чтобы успеть засветло принести цветы к памятнику…
На плите было высечено три имени. Рядом с именами стояли даты рождения. Удивительно! Одному из погибших было всего десять лет. Но вот что интересно: оказывается, зрелость времени и зрелость человека относительны. Знаешь, в нашем Луковитском крае есть поговорка: «Бывают взрослые в три года, а есть дети и в сто лет».
Вспомнил о наших ребятах из Ястребино — Цветанке Димитровой, Ценке Димитровой, Надежде Калайджийской, Иване Калайджийском, Стойне Калайджийском и Димитринке Стоичковой. В ушах моих зазвучал голосок Стойне: «Дядя, не убивайте меня, я еще маленький». И сиплый, пьяный голос подпоручика: «Чего глаза вылупили? Цельтесь как следует!» Много раз мы говорили с тобой, что у героев нет возраста. Герои всегда герои. Можно повторить слова Юлиуса Фучика:
«Каждый, кто жил верой в будущее и погиб за его красоту, подобен изваянию, высеченному из камня».
На этом заканчиваю.
Поцелуй детей… Когда заснут, погладь их за меня.
7
ДЕНЬ НАЧАЛСЯ сильным проливным дождем. Буйство стихии невозможно описать словами. Передо мной бушевала вода, а я стоял в комнате, прижавшись лбом к стеклу, и казалось, что нахожусь в огромном скафандре в глубине океана. Земля, люди, побережье — все сливалось. Если бы такой дождь лил у нас всего несколько минут, нам показалось бы, что случился потоп. А здесь люди и внимания на дождь не обращают.
Машина пришла вовремя, как и договаривались. Шофер посигналил, но сигнал утонул в громовых раскатах. Я стоял в дверях и жестами пытался объяснить водителю, что надо подождать, пока дождь хоть немного стихнет. В то же время не хотелось терять ни минуты, потому что я с нетерпением ждал знакомства с Леоном — вторым по величине и значению городом страны. Знал, что Леон несколько столетий был центром испанской колониальной администрации, что он основан в 1524 году у подножия вулкана Момотомбо. В 1609 году извержение вулкана превратило этот город в пепелище, а новый Леон был построен в двадцати километрах от старого. Неподалеку отсюда находится Сьюдад-Дарио, так называется теперь селение, где родился Рубен Дарио (1867—1916), самый крупный представитель не только никарагуанской, но и всей латиноамериканской поэзии. Один из наиболее известных его преемников, чилийский поэт Пабло Неруда, писал, что «без Дарио латиноамериканцы вообще не могли бы говорить».
До 1952 года Леон был официальной столицей страны. Это университетский город, сохранивший колониальный стиль — узкие улицы, дома, липнущие один к другому, с внутренними двориками, со старинными церквами в центре города и маленькой зеленой площадью. Город ничем не отличается от других старых городов, оставшихся в наследство от испанцев. Все эти города — частица памяти этой страны. Памяти проклятого антивремени, как говорят никарагуанцы.
21 сентября 1956 года в этом городе произошло памятное событие — молодой поэт Ригоберто Лопес Перес убил диктатора Сомосу.
Ригоберто был представителем плеяды молодых людей, которые за свои революционные убеждения платили собственной жизнью. Своим безумно смелым поступком он показал стране и миру, что тиран, вскормленный империализмом и избалованный им, может быть побежден. Я вспомнил, что незадолго до своей смерти Рузвельт говорил: «Разумеется, Сомоса сукин сын. Но все же он наш сукин сын». Всем было известно, что Сомоса управлял страной как своей собственной фермой. Покушение на него Ригоберто организовал с тремя своими друзьями после того, как в печати появилось сообщение, что тиран посетит Леон — традиционное место сбора лидеров либеральной партии — для выдвижения своей кандидатуры на президентский пост.
Элегантный, в синих брюках и белой рубашке, Ригоберто ничем не отличался от других и не привлекал к себе внимания. Во дворец он пришел вместе со всеми гостями. Среди них он встретил много знакомых, с которыми любезно здоровался и перебрасывался фразами. На улице неподалеку от здания его поджидали товарищи Эдуин, Корнелио и Аусберто. Их план был довольно прост. Эдуин и Корнелио в определенное время выключат свет в помещении. В этот момент Ригоберто должен выстрелить в Сомосу и тут же покинуть здание. Во дворе его будет ждать в машине Аусберто. Все было рассчитано с хронометрической точностью. Но, как часто бывает, и здесь неожиданно случилось непредвиденное.
Тиран, довольный самоизбранием в президенты, важный и разряженный, повертелся в зале, а затем объявил, что вскоре должен «покинуть эту милую и приятную компанию», так как его ждут государственные дела. Это не предусматривалось планом Ригоберто. Но он был полон решимости довести дело до конца. Он приблизился к президенту, и звон бокалов за будущие успехи главы государства слился с выстрелом, который потряс зал. Далее события развивались с молниеносной быстротой. Ригоберто и его товарищи были схвачены и закованы в цепи. Молодой Сомоса превратился в демона. Было арестовано более трех тысяч человек. Начались садистские пытки… Ночная тишина наполнилась воплями, выстрелами, криками раненых и расстреливаемых ни в чем не повинных людей.
Посол США Томас Уилен моментально сообщил в Белый дом лично Эйзенхауэру, что президент Никарагуа Анастасио Сомоса получил четыре пулевых ранения и находится в тяжелом состоянии. По указанию Эйзенхауэра в зону Панамского канала вылетела специальная бригада врачей для оказания необходимой помощи Сомосе. Их старания оказались напрасными. Через четыре дня тиран скончался.
Допускаю, что некоторые могут сказать: такое геройство никому не нужно! Зачем Ригоберто поступил так?
Сейчас можно задавать тысячи вопросов, можно даже упрекать Ригоберто, потому что мы далеки от того времени и событий. Но если бы в ту минуту мы были с ним, мы вряд ли колебались бы. Ригоберто хорошо понимал, что смерть тирана не могла быть началом революции. Но ему важно было доказать, что садисты тоже уязвимы.
В Никарагуа начался новый этап борьбы. Поступок Ригоберто всколыхнул застоявшееся болото. В своем письме к матери Ригоберто с ясной проницательностью оценил риск, на который шел. Его поступок был продиктован не малодушием, а убежденностью истинного патриота. Он прекрасно знал, что со смертью не шутят, И встретил опасность как герой.
Для Никарагуа Ригоберто Лопес Перес — незабываемый герой.
Не качай головой, моя дорогая. Я не влюбленный романтик. Не забывай, что в каждой стране процесс революционной борьбы рождается, растет и побеждает согласно специфическим особенностям ее развития. Среди народа есть много людей, призвание которых — стать катализаторами революционного процесса. Иногда в силу недостаточной подготовки к борьбе и культурного уровня своего народа они остаются неизвестными, а их действия — неосознанными. И хотя очень дорога цена жертв, такие герои необходимы революции.
Ригоберто своим самопожертвованием развенчал миф, сознательно насаждаемый и распространяемый сомосовцами. Те, кто этого не понимает, не воспринимают социальных и политических идей, выразителем которых был этот молодой человек. Своей матери он писал:
«Дорогая моя мама, Вы даже не догадывались о том, что я вступил в борьбу против мрачного режима в нашей стране. Учитывая то, что все предпринимаемые до этого усилия сделать Никарагуа свободной страной, освободить ее от издевательств и насилия были безрезультатны, я решил (хотя мои товарищи и не поддержали меня в этом) попытаться стать тем человеком, который положит конец власти тирании… Надеюсь, Вы примете все спокойно, с пониманием того, что все сделанное мною является долгом, который каждый никарагуанец, по-настоящему любящий свою родину, должен был давно исполнить. Мой поступок не бессмысленное самопожертвование — это долг, который я надеюсь исполнить достойно. Если Вы это примете так, как мне бы хотелось, уверяю Вас, я буду считать себя счастливым человеком, потому что подвиг, совершенный во имя родины, может принести наибольшее удовлетворение. Так должен поступить каждый честный человек. Если Вы все воспримете спокойно и с убеждением, что я выполнил свой наивысший долг никарагуанца, я буду Вам очень благодарен.
Ваш сын, который всегда Вас очень любил, Ригоберто».В одной из своих поэм он сказал: «Я страдаю, я сердцем чувствую боль моей родины». Это слова не только поэта, выражающего свои чувства, но и патриота, человека, осознавшего свой исторический долг. Потому что поэт может заставить читателя плакать от волнения, и не больше. Другое — личный пример. Его могут дать только патриоты. Не наш ли это Ботев, воплотивший слова в дела? Так же как Ботев, Ригоберто не только поэт. Он и политик, и патриот, и сознательный рабочий, и борец, который преданность и любовь к своему народу ставит выше поэзии.
Ригоберто, достойный наследник Сандино, обогащенный великим учением марксизма-ленинизма, прекрасно понимал, что исторические перемены не может совершить один человек, их можно осуществить усилиями всего народа во главе с рабочим классом. Анализируя объективные условия в стране, он хорошо знал, что после убийства Сомосы тирания не падет, что сыновья тирана или другие представители буржуазии встанут на место диктатора. Он хорошо знал обстановку в стране и понимал, что в Никарагуа пока нет революционного руководства, способного возглавить народные массы и повести их на организованную борьбу.
Талантливый поэт-революционер положил начало битве. Для ликвидации тирании необходима борьба, которая не обойдется без жертв.
И еще одна большая заслуга этого исключительно красивого человека заключается в том, что он положил начало боевой революционной поэзии, которая глубоко в себе несет марксистский заряд. По проложенному им пути пошли Рикардо Моралес, Леонель Ругама, Фернандо Гордильо, которые встретили смерть на баррикадах, где одинаково хорошо умели и автомат держать, и читать свои пламенные стихи.
Я пишу тебе все это не для того, чтобы воздать хвалу одному бойцу, одному поэту, одному человеку, приписывая ему необыкновенные качества героя. Нет, я хочу осознать его роль и его место в историческом процессе революционной борьбы никарагуанского народа. Не случайно в память о Ригоберто в университетах Буэнос-Айреса был проведен митинг. Выступающий на нем историк-публицист Грегорио Селсер закончил свою речь словами:
«Сомоса убит. Да здравствует Сандино! Умер тиран. Да здравствует освободитель!»
Целый день пробыл я в этом старинном, но обновленном Леоне. Кое-кто называет его «маленьким Ленинградом». Может быть, для этого есть основание. Каждый народ лучше других знает свою историю и оценивает заслуги. Этот город обогатил меня. Радостно, что у никарагуанцев есть Ригоберто.
Люблю я этих бедных людей, у которых и сейчас дома может и не быть куска хлеба. Но я знаю — будет у них и хлеб, и радость, потому что они свободны!
8
С ПОЛНЫМ ПРАВОМ мои друзья-никарагуанцы, Мария и Пабло, называют Леон «маленьким Ленинградом». Я убедился, что здесь каждая пядь земли — история. Революция не обошла ни одной улицы, ни одного дома. Воспоминания о жестоких битвах народа с национальной гвардией еще обжигают сердце. Штукатурка на домах потрескалась, на дверях осталось множество следов от пуль и осколков, везде видны разрушенные здания. Есть в этой картине и большая трагедия, и огромное величие. Впечатление такое, будто идешь по следам армии, которая только что прошла здесь. Слышу предсмертные стоны умирающих бойцов. Не могу себе представить 1609 год, когда огненная лава вулкана Момотомбо залила старый город, но следы второго «вулкана» в новом Леоне еще живы. Более того, почти каждый вечер свист пуль напоминает о том, что этот «вулкан» еще не успокоился.
В центре города находится священный храм, построенный в начале XVII века по испанскому образцу. И его не пощадили события. Он разрушен, изрешечен пулями, почернел от дыма. Чувствуется почерк верных охранников диктатора. Перед церковью зияет несколько воронок. Мне говорили, что некогда здесь стояли самые красивые здания города.
— На этом месте была больница, — рассказала мне Мария. — Сомосовцы выбросили из нее больных, чтобы разместить здесь свой штаб. Многие больные умерли на улице. Такой бесчеловечности наша земля не помнит со времен колониализма.
Извини, забыл представить тебе Марию.
Мария одна из главных руководителей революции в Леоне. На баррикады она пришла прямо со студенческой скамьи. Свое двадцатидвухлетие отмечала вместе с победой восставшего народа. Маленькая, улыбчивая, с ясными, как росинки, глазами. Леонцам она запомнилась своим бесстрашием, хладнокровием и сообразительностью. Где было труднее всего, там сейчас же появлялась Мария — любимый команданте повстанческой армии.
— Кого по-настоящему любит народ? — спросил я ее во время нашей прогулки по городу.
— Того, — ответила она мне, — кто отдает обществу самое сокровенное, ничего не требуя взамен.
— А что такое, по-вашему, ответственность? — продолжил я свои вопросы.
— Наверное, каждое время имеет свои критерии и свое содержание этого понятия. Но для меня это единство свободы и доверия. Во время восстания я видела, как ответственность выливалась в самопожертвование во имя свободы.
Ее не назовешь разговорчивой. Она умеет слушать других и меньше говорит сама. Но зато каждое ее слово к месту. Такой мне представили ее друзья еще до нашего знакомства. Поэтому говорю больше я. На некоторые мои вопросы она отвечает кивком, утвердительным взглядом или только одним словом. Но когда речь заходит о ее боевых товарищах, она начинает рассказывать с такими подробностями, что образы ее товарищей оживают передо мной.
От Марии я узнал о Педро Миранесе, одном из руководителей рабочих Леона. Он не имел образования, но был человеком большой природной культуры. Миранес сам научился писать и читать, а затем начал обучать своих неграмотных друзей. В редко выпадавшие ему свободные минуты он даже писал стихи. Честный и смелый, Педро был совестью угнетенных. Когда Сандинистский фронт призвал к всеобщей стачке и борьбе с Сомосой, Педро первым ушел с фабрики, а следом за ним фабрику покинули и остальные рабочие. Всего за несколько часов весь Леон восстал. Улицы покрылись баррикадами.
Началась битва, которая готовилась долго. Здесь не было нейтральных. Мужчины и женщины, дети и старики — все нашли свое место в бою. Все ждали команды от своего «учителя» Педро. Он перебегал с улицы на улицу, останавливался около людей и каждому находил что сказать. К Педро с одинаковым уважением относились и рабочие, и студенты. Они знали его по совместной борьбе во время выборов президента, когда в «мирной» схватке между манифестантами и национальной гвардией погибло 200 человек.
Несколько слов о выборах. Как сообщал один из журналистов, очевидцев этих событий, когда проводились выборы, вооруженные солдаты находились во всех помещениях, где проходило голосование; были сделаны прозрачные кабинки, чтобы можно было узнать, кто голосует против Сомосы; использовались бронированные машины патрулей «избирательной» полиции, заполненные еще до голосования урны. Когда выборы заканчивались, Луис Сомоса отдал распоряжение все урны привезти к нему домой и закрылся с ними на целую неделю. Ему необходимо было выяснить, какой процент голосов даст оппозиция.
После таких выборов Педро Миранес заявил рабочим и студентам, собравшимся вокруг него:
— Против Сомосы у нас осталось только одно средство, последнее, — винтовки и автоматы.
Когда Педро обходил баррикады, он дольше всего задерживался около детей. По-отечески трепал им волосы, каждому говорил что-нибудь ласковое. А детей было много. Какой-то офицер из сомосовской гвардии цинично заявил однажды, что ему достаточно двух-трех пулеметов и одной пушки, чтобы напугать мальчишек и успокоить Леон. Но он ошибался. Дети никарагуанцев давно уже стали настоящими бойцами. Они выходили на баррикады целыми классами вместе со своими учителями. Во время первых стычек в Леоне был тяжело ранен один из лучших учеников. Как раз в это время гвардейцы прекратили стрельбу. Учитель подумал, что они отошли, поднял мальчика на руки и побежал с ним через улицу искать врача. Сомосовцы, как гиены, окружили учителя. Офицер заставил его положить раненого на землю и сказал:
— Возьми пистолет и застрели его. Он предатель родины.
Учитель спросил офицера:
— Откуда вы знаете, что такое родина, если никогда ее не имели?
— Если убьешь мальчишку, спасешь себе жизнь, — продолжал офицер.
— Мое «я» в его сердце, в его голове. Все мы, которые по ту сторону баррикады, имеем одно «я», и оно является синонимом родины и народа! — ответил ему учитель.
— Стреляй, сукин сын, или…
— Недостойно мне разговаривать с вами. Вы духовно бедный человек, и ваша душа давно уже превратилась в угасший уголь.
По разные стороны баррикады стояли, слушали и смотрели друг на друга смертельные враги.
Учитель поднял пистолет и мгновенно приблизил его к своим близоруким глазам. Раздался приглушенный выстрел, и рядом с раненым мальчиком упал его учитель, который преподал ученику свой последний урок — урок патриотизма.
Педро не выдержал. Вскочив на баррикаду, он крикнул гвардейцам:
— Кого вы слушаете, солдаты? Тех, кто убивает ваших учителей, отцов и братьев, ваших детей? Идите к нам, к тем, кто сражается за хлеб и равноправие для всех!
Пуля гвардейца сразила старого революционера.
— Я видела, как Педро прильнул к земле, будто ребенок к своей матери, — закончила Мария.
Эта ночь была самой страшной в истории города. Гвардейцы бесчинствовали. Они сжигали детей в люльках, подвешивали за ноги людей.
Но мужественные никарагуанцы достойно отвечали своим мучителям. На смену замученным патриотам родины вставали новые бойцы, готовые умереть за свободу.
Здесь, в Леоне, на каждом шагу погибали герои. Некоторым еще не исполнилось пятнадцати… Они умирали не только как воины на поле боя, не только как верные своему долгу граждане Никарагуа, но и как командиры, поднявшие на борьбу народ. Вслушиваюсь в голос Марии.
— Каждая улица была баррикадой. Каждый человек — бомбой. — Она остановилась на углу двух улиц. — Здесь погиб Фредерико. У него было двое детей и больная жена. Я упрашивала его не ходить на баррикады, остаться в тылу, но Фредерико был непреклонен. И погиб. Не могу забыть, как он, уже мертвый, не выпускал винтовку. — В двух шагах от угла Мария указала мне на разбитое окно: — Отсюда Торес метнул бомбу и заткнул глотку пулемету. Затем бросился в огонь спасать перепуганных сомосовцев. «Зачем тебе эти изверги? — крикнули мы ему. — Пусть сгорят!» А он ответил: «Они необходимы для эпилога революции».
И так шаг за шагом. Вспоминая о погибших, Мария плакала. А мы делали вид, что не замечаем этого. Молча шли мы по этому городу-музею, который уже за двадцать дней до победы революции был свободной зоной. Но какими тяжелыми были жертвы!
А жизнь продолжается. Что стало с детьми Фредерико? Поправилась ли его жена? Но как спросить об этом? Ведь сотни детей остались без родителей. Не хотелось тревожить кровоточащую рану.
Молча шли мы по тихим улицам Леона. Мария оживилась, в глазах ее вспыхнули искорки.
— А это дом Рубена Дарио, нашего великого поэта и художника, — сказала она.
— И дипломата, — дополнил я.
— Он словно факел и сейчас пылает во всей Центральной Америке, голос его не иссякает, — сказала Мария.
9
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН тем, что мне удалось посетить эту страну. Меня это путешествие сделало необыкновенно богатым. Здесь я не только увидел экзотику тропиков. Здесь я узнал и полюбил героический народ, познакомился со страной, которая начала отсчет своей новой истории.
Сейчас у меня есть время ответить на некоторые вопросы. Сегодня на баррикадах спокойно. Одни бойцы спят, другие читают, большинство, расположившись прямо на зеленом ковре травы, ведут беседу. А я спрашиваю себя, что движет этими людьми, что заставляет их круглосуточно находиться на баррикадах?
Никарагуа — страна ужасающей нищеты. Половина детей умирает, не дожив до пяти лет. Основная причина столь ранней смертности — повсеместное распространение малярии и туберкулеза. Туберкулезом болен каждый пятый житель страны. А это — следствие голода, плохих жилищных условий, антисанитарии. Но Никарагуа — всего лишь маленькая частица Латинской Америки. Здесь я узнал, что сегодня 142 миллиона латиноамериканцев страдают от хронического недоедания, в результате которого в некоторых странах этого региона из тысячи новорожденных умирают цвести.
В 1976 году в капиталистических странах более сорока миллионов людей умерло от голода. Это тоже потрясающе.
Я вижу, с каким отвращением относятся в Никарагуа к Соединенным Штатам и их лакею Сомосе. И поверь мне, подобным отвращением дышит весь Латиноамериканский континент. Еще в 1962 году крупный мексиканский писатель Карлос Фуэнтес обратился к американцам с такими словами:
«Прошу вас, посмотрите шире, оторвитесь от интеллектуального провинциализма голодной войны! Посмотрите, куда хотим направить свое развитие мы, жители отсталых стран, голодные, но революционно настроенные. Мы отличаемся от вас. Не думайте только о себе. Попытайтесь понять разнообразие мира… Мы хотим жить с вами как равные, а не как истязаемые, полуголодные и невежественные рабы… Хотим освободить вас от участи, которая хуже участи раба, — участи господина.
Поймите меня правильно: Латинская Америка не желает быть прихожей вашей страны. Мы сами выйдем на мировую арену… Первый акт сотрудничества, который вы должны проявить, — с уважением отнестись к революционным изменениям, совершенным нашим народом. Латинская Америка знает, каким должен стать ее путь развития. Знайте, друзья мои из Северной Америки, ничто не остановит нас, 200 миллионов человек».
Обращение не было услышано. И тогда народ Никарагуа заговорил языком баррикад. Победоносное восстание положило конец кровавой диктатуре Сомосы.
И еще такая подробность: днем они все на работе, ночью — на баррикадах. Сегодня я разговаривал с ними, и в голову мне пришла притча Джанни Родари:
«По пути, в ожидании — огромная толпа.
— Кого ждете? — спросил мудрец.
— Нам сказали, что здесь должна проходить свобода!
— Глупцы! Если вы сами не пойдете ей навстречу, никогда ее не увидите…»
И они неустанно идут днем и ночью, жертвуют всем, чтобы свобода навсегда осталась с ними.
А сейчас послушай, какая интересная встреча состоялась у меня.
Сайда Гонсалес — первая летчица в Никарагуа. Встретились мы случайно в комитете женщин. В дверь кабинета Гладис Гомес она постучала в тог момент, когда мы как раз говорили о ней.
— Что за чудеса?! — удивилась Гомес, когда в двери показалась Сайда, озарив нас своей щедрой, подкупающей улыбкой. — Мы говорили о голубе, и он приземлился. Входи! Входи!
Смуглая невысокая девушка (здесь большинство женщин маленького роста), с задорным взглядом, мелкими белыми зубами и короткой стрижкой, остановилась перед нами. Военная форма зеленого цвета сидела на ее стройной фигурке как влитая.
— С нашим болгарским другом мы говорим об ответственности женщины, — сказала Сайде Гладис Гомес и предложила ей сесть. — Об ответственности во время революции…
— А все это, — подхватила ее мысль Сайда, — является ответственностью за будущее нации. Потому что будущее каждой нации несет в себе образ женщины-матери.
В разговор Сайда включилась спокойно, уверенно. Подсели к нам и две другие женщины из комитета, которые до этого готовили кофе. Женщины остаются верны себе. Простые ответы ищут не в цитатах из прочитанных книг, а в жизни. Иногда ответы их очень кратки. В другой раз — это истинная поэзия, солнечная и теплая. Это звучал голос огромной армии женщин, принявших активное участие в революции. Они, как орлицы, охраняли раненых бойцов, они провожали мужей и сыновей на смертельную схватку с сомосовцами. Мы вели сердечный разговор, а перед моими глазами стояла маленькая женщина с большими, глубоко ввалившимися глазами. В ее присутствии сомосовцы одного за другим зверски истязали, а затем обезглавили всех ее семерых детей.
После каждого удара ее спрашивали:
— Где сандинисты?
Она молчала. Следующая голова катилась к ее ногам, и снова следовал тот же вопрос:
— Где сандинисты?
И так было семь раз. Когда был убит последний ее ребенок, она разорвала свою блузку и выкрикнула:
— Здесь они, в моем сердце! Вырвите его и увидите!
Обезумевшая от горя мать собрала семь головок своих детей и запела революционную песню… Когда я смотрел на нее, она была как тень — слабая, с широко открытыми глазами. Я склонился и поцеловал ее руку. А она молча погладила меня по голове.
— Борьба, — говорила между тем Гладис, — научила нас жить. Революция нас разбудила и прогнала кошмарный сон, который мучил нас десятилетиями. Выросли мы сразу. Пойми простую истину — чтобы бороться за свои права, надо бороться против угнетения, за демократию. Истинной мерой свободы женщины является степень ее освобождения. Женщина заняла достойное место в авангарде СФНО, потому что воюет наравне с мужчинами.
Легкая улыбка тронула губы Сайды. Есть такой древнеиндийский афоризм: «Украшением человека является мудрость, украшением мудрости — спокойствие, украшением спокойствия — бесстрашие, украшением бесстрашия — надежность». Это можно сказать о Сайде. В ее улыбке так много очарования. Она сразу привлекает взгляд и внимание всех. Улыбка зажглась и в глазах женщины, затем послышался ее мягкий голос:
— У меня была соседка, у которой было одиннадцать детей. Жила она в бедности. Ее муж был одним из сподвижников Карлоса Фонсеки Амадора. Он редко бывал дома. Она сама воспитывала детей. Я и сейчас не могу себе объяснить, откуда она брала силы преодолевать тысячи трудностей. Научила и детей своих не ныть, стойко переносить невзгоды. Мы даже не узнали, когда и где погиб их отец. Это истинная никарагуанка, которая дает жизнь будущему с оружием в руках и защищает это будущее… А вы видели, как выглядит Никарагуа с высоты? — спросила Сайда. — Это самая красивая земля, какую я знаю. Когда лечу над ней, на месте разрушенных сомосовцами домов представляю себе новые, красивые дома, потонувшие в цветах. Мы очень любим цветы. Строим школы, детские сады, спортивные площадки… И всюду много, много детей.
— Кем бы вы хотели видеть ваших детей?
— У каждого человека в жизни свой путь. Важно пройти его достойно, честно. И гордо! Презираю пресмыкающихся. Люблю орлов. Но думаю, что в предстоящие годы наша страна больше всего будет нуждаться в учителях, архитекторах, врачах, инженерах. Нужды страны определят и профессии наших детей.
Гладис Гомес вмешалась:
— В этом году в нашей стране рекордное число учащихся — около 800 тысяч человек. Это более одной трети всего населения. И столько же взрослых учится на курсах в кварталах и на предприятиях!
— Никарагуа подобна большой шумной школе. Это хороший пример для всей Латинской Америки, — заключила Сайда. — Что может быть лучше этого, если она твоя?!
Сайда права. Страна превратилась в огромную школу. Школу борьбы, жизни, будущего…
10
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ не писал тебе. Не было свободного времени. Уезжал рано утром, возвращался поздно вечером. Письма отложил на сегодня. Сегодня воскресенье. Если бы был в Болгарии, то, наверное, солнце уже согревало бы меня в Петревене, а здесь долго вертелся в кровати, затем перебрался в качалку на террасе и стал наблюдать, как дышит вулкан Момотомбо, ежеминутно меняя свой облик. То обовьется, как чалмой, сверху донизу собственным дымом и скроется подобно упавшему в озеро облаку, то оголится и от солнечных лучей станет розовым, то нацепит набекрень шапку и утопит ноги в водах озера. Столько перевоплощений, и всего за несколько минут! Можно смотреть так не только часами, а целыми днями и каждый миг открывать что-то новое, интересное. Влево и вправо от вулкана выстроились большие и маленькие возвышения. У каждого из них свое имя и своя история, богатая мифами и легендами, повествующими о разгневавшейся земле. Неповторимая по красоте картина, вероятно, опьянила и Ригоберто Лопеса, побудив его сказать:
«Я считаю, что за эту землю человек и сто раз должен погибнуть, но не позволить затоптать ее грязными сапогами чужеземных пришельцев и пиратов».
Любуясь Момотомбо, я и не заметил, как на террасе появилась Росальба. Очнулся я от ее звонкого смеха.
— О Болгарии думаете? — спросила она меня.
— Нет! О вулканах! Вчера был на вулкане Масая, а отсюда каждое утро и вечер любуюсь Момотомбо. Экскурсовод мне сказал, что в XVIII веке вулкан извергал огнедышащую лаву. Испанцы прозвали эту огненную гору Адом и верили, что в ней кипит расплавленное золото. Узнал, что после 1772 года извержения уменьшились и ослабли, а последнее было в 1941 году. Когда смотришь на вулкан, одна мысль непрерывно сверлит голову — насколько мы беззащитны перед матерью-природой.
— Как муравьи перед людьми, — дополнила она меня.
— Да! Представь себе, что будет с нами, если этот вулкан всего лишь чихнет? Что значит человек перед этим могуществом?!
— Человек — это дорогое детище природы, милый друг. Самое красивое и самое умное ее творение. А сейчас, я надеюсь, ты не откажешься от приглашения женщины прогуляться? Воскресенье богом дано нам для отдыха в прогулок.
Я знаю, как занята Росальба — она работает заместителем заведующего организационным отделом Сандинистского фронта национального освобождения, и эти часы, которые она дарит мне, ей придется наверстывать ночью. Но разве ей откажешь?
— Росальба, — начал я, — знаешь, именно сейчас мысленно я гулял в окрестностях Момотомбо и долго стоял на берегу озера, которое, как я слышал, называют серебряной чашей вулкана. Может быть, лучше я сам продолжу свою прогулку? У тебя так много работы! Мне вполне достаточно твоего внимания. Благодарю тебя!
Однако она и слушать меня не захотела, и я понял, что упорствовать бесполезно. Время и наши беседы с ней о работе давали мне возможность еще лучше узнать характер этой женщины. Ей присуща твердость индианки и женственность испанки, которые придают никарагуанкам неповторимое очарование. Я поражался ее выносливости, когда мы падали от усталости, а она, хлопнув в ладоши, начинала петь национальные песни. Голос ее пробуждал, как звоночек, как весенний ветер, разгонял накопившуюся тяжесть, и на сердце становилось легче. Она все делала очень естественно и незаметно. Обычно в Латинской Америке любят переносить сегодняшние дела на завтра. Наиболее часто встречающееся здесь слово — маняна (завтра). Но Росальба другая. Революционная борьба научила ее, что каждое промедление является поражением, а от этого выигрывают только враги.
И сегодня у нее был хорошо продуман предварительно составленный план. Как только она, Педро и я сели в машину, она сказала шоферу:
— Поезжай к Акагуалинке. — И повернулась ко мне: — Вы же не были там?
— А что такое Акагуалинка? — вместо ответа спросил я.
Росальба уселась поудобнее, сдвинула пистолет, чтобы не мешал, и начала рассказывать. Акагуалинка — это квартал Манагуа. Самый бедный и самый несчастный. Тех, кто жил в Акагуалинке, Сомоса не считал людьми. Там царствовала жуткая нищета. Но именно каменотесы, которые добывали в этом квартале строительный материал, 47 лет назад раскопали несколько земляных пластов и открыли уникальные следы людей в животных, дав возможность исследователям окунуться во времена пятитысячелетней давности.
— Предлагаю посмотреть эти раскопки, а не нищету, которая пока еще не покинула наши кварталы, — сказала Росальба.
— И то, и другое является историей, — сказал я.
— Да, это так, — с печалью заметила Росальба, — но застывшая лава не имеет души и молчит, а с этими людьми мы связаны кровью. Я и десятки сотен таких, как я, детей этих кварталов жизнь свою начинали здесь.
Ее слова напомнили мне о нерадостном детстве моих сверстников и моих родителей. Вспомнил я нашу соседку — красивую женщину с гордой осанкой и большими строгими глазами. Бабушка мне не раз рассказывала о ней: с семи лет она сама стала зарабатывать себе на хлеб. Была прислугой и пастушкой. Страшная болезнь рано унесла ее мать и отца. Сирота, так и не познавшая радости детства, она рано вышла замуж. Но и после замужества несчастья продолжали идти с нею рука об руку. Новый дом не приласкал ее, а встретил руганью и побоями. Пьяный муж часто выгонял ее на улицу. Но она терпела, потому что ждала ребенка. Родился сын. С ним с утра до вечера она работала в поле. Пока она трудилась, малыш спал в люльке, привязанной к ветке раскидистого дерева. Когда ему было четыре года, его укусила гадюка и он умер на руках матери. Угасла ее последняя надежда.
Я рассказал Росальбе о жизни моей соседки, о ее страданиях, о человеческой трагедии, как запомнил из рассказов моей бабушки.
— Да, такой же была судьба и женщин этого квартала, тружениц капиталистического мира, — грустно вздохнула она.
Росальба рассказала мне о том, что во многих капиталистических странах были проведены исследования, которые показали, что зарплата женщин в этих странах едва достигает 50—80 процентов от зарплаты мужчин, работающих столько же времени. Это напомнило мне об одном любопытном факте. Некая американская газета однажды сообщила:
«Если бы все женщины США могли внезапно превратиться в мужчин, предприниматели вынуждены были бы заплатить за их труд на 10 миллиардов долларов больше, чем платят сейчас».
Когда мы подошли к кварталу, Росальба замолчала. Я заметил, как она напряглась. Глаза ее увлажнились. Позже я понял, как мало ее знаю. Росальба никогда ни слова не говорила о себе. Я и не подозревал, что эта веселая и нежная женщина была надежной защитой бедных и одно только упоминание ее имени вселяло в сомосовцев ужас. Несколько дней назад я спросил ее, знает ли она героиню, о которой люди рассказывают легенды. В кварталах Манагуа женщины не спорят об эмансипации, а просто опрашивают мужчин: «Кто из вас смелее Росальбы?»
Тогда она покраснела, но, быстро овладев собой, попыталась мне внушить:
— Это собирательный образ никарагуанской женщины-героини. Это все мои боевые подруги. А их так много!
Позже я понял, что женщина-легенда, которая в одиночку выходила против вооруженной до зубов сомосовской роты, которая в течение одного дня могла преображаться и в мужчину, и в ребенка, и в обездоленную женщину, и в красивую светскую даму, которая и мысли не допускала, что можно не выполнить поручения, и была Росальба. Сомосовцы ее искали в каждой женщине. И многих они убили только за то, что те носили такое имя.
Эта Росальба сидела рядом со мной в машине, медленно прокладывавшей путь между стайками детей, и через открытое окошко ласкала их стриженые головы. А они хором кричали:
— Росальба, Росальба!..
— Вы из этого квартала? — тихо спросил я.
— Нет, я из Леона.
— А откуда вас знают даже дети?
— Это не просто дети. Это мои боевые друзья. Присмотритесь к ним. С этими бойцами мы воевали против врага.
Машина остановилась. Ребята бросились к нам, окружили. Каждый из них хотел приблизиться к Росальбе. А я, нахмурившись, рассматривал бараки, окружавшие нас. Она заметила это.
— Каждый из этих бараков во время революции был нашей крепостью.
Росальба привлекла к себе черненького мальчика лет восьми. Глаза его радостно засияли. Она погладила его по кудрявым волосам.
— Фредерико стоял на посту, когда мы обсуждали план боевых действий.
Ребенок гордо выпятил грудь.
— Я был не один. Вместе со своей собакой стоял и охранял вас от сомосовцев, — сказал он.
— А если бы они тебя схватили и стали пытать, что бы ты делал? — спросил я его.
— Молчал бы, как Росальба. — И он по-детски прижался к ней.
Прежде чем научиться читать, эти дети узнали цену жизни. И никто не может их запугать.
Вместе с большой и шумной ватагой ребят мы пересекли канал — памятник глупости Сомосы, — отводящий нечистоты всего города в озеро Манагуа. Одно из красивейших озер из-за этого канала превратилось в вонючую городскую клоаку.
До самого канала шли следы пятивековой давности. Следы детей, взрослых и животных отпечатались в застывшей лаве вулкана. В них отразились страх, быстрые движения и ужас, который испытывали бегущие люди и животные. Но куда они бежали? Где могли найти спасение от огня? Кто они были?
— Что говорят об этом ученые? — спросил я у Педро, который одновременно был и охранником и экскурсоводом.
— Сразу же после революции ученые занялись этим. Пока ничего конкретно не известно. Из преданий знаю, что в этих местах жило несколько племен. Самое большое называлось никарус. Люди были маленькие, слабые, но выносливые. Жили еще и уанчесы, мискитосы, москосы, самбосы, рамосы. Предполагается, что в этих местах жили и акагуалинки. Поэтому квартал и носит их имя.
— А из какого вулкана эта лава?
— Каждое озеро является кратером бывшего вулкана. А здесь озер, как видите, не так уж мало.
Долго я стоял, всматриваясь в следы, которые переплелись между собою, и невольно время от времени бросал свой взгляд на Момотомбо, потонувший в молочной вуали.
— А сейчас попробуем расплескать воду в чаше! — предложила Росальба.
Машина понесла нас к одной из горловин, из которой, может быть, вышла огненная лава, запечатлевшая следы наших предшественников.
11
МАСАЯ. Город расположен недалеко от Манагуа и насчитывает около 34 тысяч жителей. Это центр района, густо населенного индейцами. В обычаях местных жителей сильно заметно влияние индейской культуры. Вблизи города находится живописное озеро Масая, которое лежит у подножия вулканов Сантьяго и Масая. Кроме широко известного базара город славится плантациями кофе и табака.
В окружном комитете СФНО нас встретили Мигель Бальдумоа и Хавиер Монкада, молодые, энергичные люди, жаждущие все познать как можно быстрее. Поэтому вместо того чтобы начать рассказывать мне о городе и своих проблемах, они стали расспрашивать меня о жизни Болгарии в первые дни, месяцы и годы непосредственно после социалистической революции 9 сентября 1944 года.
На одном из диванов, стоящих перед комнатой, в которой мы разговаривали, я заметил дремлющего вооруженного юношу. Во сне он улыбался. Губы его слегка шевелились, усы тоже. Наверное, я долго на него смотрел, потому что Мигель наклонился ко мне и прошептал:
— Дома неделями не бываем. Здесь едим, здесь и спим. А вот уже несколько дней и ночей враг не дает нам покоя — появляется там, где мы его не ожидаем. Мы постоянно в боевой готовности. Такие дела, брат! Революция…
Говорил он об этом без сожаления, это было видно по его улыбке. В ней даже читалась гордость. Я с интересом посмотрел на него — крепкий, здоровый. Его жилистые рабочие руки тяжело лежали на столе. За всю свою короткую жизнь они держали только молот и ружье. Для них непривычны ручка и белые листы бумаги. Поэтому на стенке кроме портрета Че Гевары висят кузнечный молот и винтовка. Видимо, их ему подарили заводские друзья, которых связывает с ним общая борьба за созидание нового общества.
Зазвонил телефон. Мигель поднял трубку и, услышав голос, встал.
— Кто тебя не пускает? Я не музейный экспонат, на который люди могут смотреть в определенные бюрократами часы. Заходи!.. Как?.. Передай им, что я тебя жду… — Повесив трубку, он объяснил: — Представьте себе, моему боевому другу, который не раз спасал мне жизнь, вынося из огня, сказали, что он не может войти, потому что у меня сейчас деловой разговор. Мы же ни о каких секретах не говорим. Перед революцией все равны…
— Но революция сильна тогда, когда есть дисциплина, — прервал я его. — Она побеждает дисциплиной. Иначе будет анархия.
— Да, вы правы, — согласился Мигель.
Он рассказал мне о своем самом близком друге Гуи Рурге из Матагальпы. Если бы Гуи был жив, ему исполнилось бы девятнадцать лет. Это был человек исключительной любознательности, отзывчивости и честности. И естественно, он сразу же оказался в рядах СФНО. Работал в бедных кварталах Матагальпы. Заботился не только о политическом росте людей, но и о пропитании, о здоровье детей. Всюду был желанным гостем, советником и другом. В 1978 году он стал одним из главных руководителей сандинистского движения в городе. Его бедный дом превратился в типографию и боевой штаб. Несколько месяцев сомосовская полиция выслеживала его. Для нее Гуи был самым опасным врагом. Неоднократно его пытались арестовать, но не удавалось. Народ был его верным хранителем. Ночью 30 марта 1979 года, когда Гуи нес партизанам медикаменты, полицейские окружили его и схватили. В полицейских застенках его подвергли нечеловеческим пыткам, на какие только были способны изверги. Но узнали они от него только то, что он член СФНО и гордится этим.
Жестоким палачам не удалось сломить Гуи. Его мать продала все, что имела, одолжила денег и предложила полицейским за его освобождение огромную сумму. Но они были категоричны: «Он стоит столько, сколько вся Матагальпа».
После неудачных попыток вырвать у него признание, ему предложили стать офицером национальной гвардии, то есть предателем своей мечты и святой идеи. Но ответ Гуи Рурга был краток:
— Никакой ценой вам не удастся сделать меня предателем родины! Я по-настоящему ее люблю!
В конце мая он получил разрешение на двухминутное свидание с матерью. В эти минуты они молча смотрели друг на друга и глазами сказали все.
В начале июня под усиленной охраной Гуи вывезли в окрестности родного города. Приказали самому себе выкопать могилу. Такими были его последние минуты…
Мигель, который находился неподалеку в рощице, видел все это и хотел броситься на полицейских, но патриоты остановили его. Такой поступок был бы сумасшествием.
— Может, и меня убили бы и закопали бы вместе с Гуи, но мне хотелось сделать все, чтобы его спасти.
Слушая его, я думал о том, что он и Аугусто Сесар Сандино — братья, ибо кроме общих моральных качеств у них общая законная гордость: самой большой честью для них было то, что оба вышли из среды угнетенных — души и нерва нации.
В нашу беседу включился боевой товарищ Мигеля, который вошел в кабинет, и тот юноша, который спал в коридоре. Оказывается, он был учителем и отвечал за обучение населения в округе. Борьба с безграмотностью была вторым крупным шагом Национального руководства СФНО после победоносного марша 19 июля 1979 года. В нее включился весь народ — от мала до велика.
Мигель восторженно сообщил нам:
— Более шести тысяч человек заняты обучением. Только в городе Масая число грамотных увеличилось почти на восемь тысяч человек. Это большое богатство и огромная сила революции. Это то, чего Сомоса боялся больше всего. Сейчас все понимают, что и руки становятся сильнее, если им помогают глаза…
Немного отклонюсь и расскажу тебе о бойцах культурного фронта и об их организации. Все они делятся на три группы. Первую составляют подразделения, структура которых подобна армейской — они имеют отделения, взводы и роты. Объединенные в такие боевые единицы, они уходили в самые отдаленные районы страны воевать с безграмотностью — вековым наследием эксплуататоров. Бойцами этих подразделений являются в основном студенты и учащиеся. Если бы ты могла видеть, как горели их глаза! Я наблюдал за ними, когда они уходили.
Вторая группа — это рабочая милиция по борьбе с безграмотностью. В нее входят в основном рабочие и служащие, которые занимаются с населением на своих предприятиях. Они избираются профсоюзными организациями. Мне не раз приходилось видеть, как они, уставшие от работы, умывшись и переодевшись, садились рядом со своими товарищами и терпеливо учили их выводить крючочки и буковки. И так каждый вечер…
И третья группа — народные просветители. Они занимаются с людьми по месту жительства. Обычно это пожилые люди.
Это бесценное, огромное революционное дело уже дает прекрасные плоды. Прежде всего оно еще прочнее связывает никарагуанцев с идеями сандинизма, помогает им быть более смелыми и самоотверженными борцами за новое общество. Вчера только видел, как один крестьянин, остановившийся в центре своего поля, вслух читал жене и детям свежую газету «Баррикада». По слогам произнося слова, он был подобен младенцу, делающему первые шаги.
Но вернемся в Масаю, одну из крепостей революционного движения. Когда в июне 1979 года первый удар восставшего под руководством СФНО народа не смог свергнуть сомосовцев, революционная повстанческая армия отступила в Манагуа, а затем вновь пошла штурмом на Масаю. Девяносто процентов населения этого города не только приветствовали повстанцев, но и с оружием в руках приняли участие в революции.
Масая — город мелких крестьян, пролетариев и хронической безработицы. Для бедных и средних крестьян, которые составляют 85 процентов сельского населения этой области, и будни и праздники были изнурительным трудом. Скот работал по сменам, а люди — до упаду. Те, кто своими руками выращивал хлеб, умирали от голода. Парадокс? Нет! Это страшная истина. Крестьян, взывающих о помощи, бросали в застенки Сомосы, а голос их глушился маршами его гвардии.
И только после революции эти тихие и скромные люди нашли свое место в трудовых объединениях. Они начинают чувствовать свою силу, осознают себе цену. В Масае мне рассказали о Рене Махае и его брате. Обыкновенные, трудолюбивые, честные ребята, они хорошо знали положение своего народа и жили его болью. Оба с ранних лет вступили в ряды СФНО и получили задание служить в национальной гвардии. Задача была трудной, ответственной и опасной. Они подчинились приказу и работали успешно. Но в 1974 году сомосовцы их разоблачили. Сомоса не мог поверить, что в его армии есть сандинисты. Их подвергли жестоким пыткам. Пытали с садистской изощренностью. Младшему брату выкололи глаза, а затем вскрыли череп, чтобы увидеть, «как вертятся колесики» в его голове. А Рене, старшего брата, они сбросили в дымящийся кратер Момотомбо.
В этом городе я встретился с десятками революционеров. Их отличало то качество борцов-патриотов, борцов-интернационалистов, которое очень верно определил Че Гевара:
«Чувствовать глубоко в себе борца против какой бы ни было несправедливости, от кого бы она ни исходила, в какой бы части света она ни вершилась, — это и является самым прекрасным качеством революционера».
Эти открытые, честные и беспокойные души хорошо усвоили урок жизни, поняли, что истина может победить только тогда, когда ей помогают бороться. И они помогают ей в этом самым ценным и самым дорогим, что у них есть, — своей жизнью.
Перед такими борцами человек может только склонить голову и поблагодарить судьбу за то, что она свела его с ними.
12
ЖАРА И ДУХОТА здесь приходят, едва занимается утренняя заря.
Сегодня у меня была встреча с сандинистским руководством города Манагуа. Сопровождала меня Каталина — невысокая, худенькая, с роскошными волосами. Ее смех заражал и меня. Вглядываясь незаметно в ее плавные, изысканные движения, в ее небольшие искрящиеся глаза, я не мог поверить, что это не дама из аристократического рода, которая полдня заботится о своем туалете и внешности, а другую половину находится в забытьи романтической мечты. Упрекаю себя за эти мысли. Знаю ведь, что эта стройная, как пальма, сочная, как апельсин, нежная и белая, как наш подснежник, женщина — одна из героев революции в Никарагуа, солдат передовой боевой линии. Она не раз смотрела смерти в глаза и хорошо знает цену свободе. На руках Каталины умерла самая близкая ее подруга, раненная сомосовцами.
Для Каталины свобода — нечто великое, прекрасное.
Это сама жизнь. И потому каждое утро Каталина встречает своим переливчатым заразительным смехом, прижимая к себе слабенькие, теплые, как солнечный луч, ручонки маленького Альварито.
Мы спешим на встречу с руководителями, а под нами, над нами, вокруг нас — тропическая жара. И очень влажно. Шире открываю рот, чтобы глотнуть больше воздуха, но чувствую, что задыхаюсь. Влага давит как свинец.
Городское руководство фронта Сандино разместилось в красивом здании на самом оживленном перекрестке улиц квартала Сан-Хуан. Нас встретили два вооруженных автоматами паренька и попросили сдать оружие. Каталина вынула из дамской сумочки пистолет и передала его им. Они положили его на стол.
— А ваше оружие? — спросил один парень меня.
Прежде чем Каталина успела объяснить им, кто я такой, я вытащил из внутреннего кармана свою ручку и положил ее рядом с пистолетом на стол. На вопросительный взгляд охраны ответил:
— Это оружие журналиста.
Паренек открыл ручку, посмотрел, усмехнулся и вернул мне. Понял шутку.
— И это оружие стреляет…
А теперь я отвлекусь немного, чтобы раскрыть перед тобой истинный облик диктатора — наглого и алчного, злого и дикого, надменного и примитивного, безжалостного и жестокого. А чтобы ты более четко представила эту жестокую семейку, вернемся немного в историю. Когда Ригоберто Лопес застрелил Сомосу, его сыновья Луис и Анастасио получили в наследство более 500 миллионов долларов и, разумеется, власть. Тогда при непосредственной поддержке США, прежде всего Пентагона и ЦРУ, место убитого Сомосы занял его старший сын Луис. Он властвовал шесть лет. И если народ, боясь расправы, молчал, то мировая печать не скрывала трагедию этой страны. США были вынуждены посоветовать диктаторам сделать демократичный жест. Была принята новая конституция, которая запрещала членам семьи Сомосы избираться подряд на несколько сроков. Неохотно, но братья вынуждены были согласиться на это. Президентом стал Рене Шик, подставное лицо.
Диктатор умер, но диктатура осталась. Жизнь в государстве текла в русле «введенного порядка». Президентский срок Шика истекал. За месяц до его окончания Шик решил бежать за границу. Свой замысел он надеялся осуществить с помощью оппозиции, перед которой хотел публично разоблачить планы семьи Сомосы. Подготовка к побегу была в разгаре. В одну из гостиниц Манагуа Шик отправил свой чемодан с 200 тысячами долларов и двумя билетами на самолет. Но внезапно у него начался сердечный приступ. Врачу запретили оказывать Шику помощь. Не пустила к нему ни его жену, ни даже священника. Только домашний врач семьи Сомосы мог входить к нему. Он и отравил Шика.
Анастасио Сомоса выдвинул свою кандидатуру на пост президента. А чтобы с ним не повторилось то же, что и с его отцом, он создал преданную себе гвардию «батальон Сомосы» из 1200 человек, вооруженных по последнему слову техники. С помощью этой гвардии за короткий период исчезло большинство членов оппозиции. Резиденция Сомосы находилась на Ломе — это была крепость в центре города, которую народ назвал «бункером».
Страх преследовал Анастасио Сомосу днем и ночью, несмотря на то, что были приняты меры безопасности. Каждое окно его резиденции было превращено в наблюдательный пункт. В «бункере» располагались рота танков, оснащенный современным оружием батальон пехоты, отряд специально подобранных солдат; там же находились телефонный и радиоцентр армии, главные продовольственные склады, органы разведки, управление государственной безопасности, арсеналы и государственная казна. В «бункере» размещалась тюрьма для политических и военных «преступников», которая для безопасности была построена над складами с боеприпасами…
В дверях кабинета меня ждала Дора Мария Телес. О ней, героине революции, написано много. Писали а наши газеты. Наверное, ты читала. Но сейчас я сам смотрел на женщину, руководителя столицы страны. Под глазами ее были заметны темные круги. От бессонных ночей, наверное. Движения быстрые, резкие. Она все делала по велению сердца. Потому и боль, и радость проходили через ее сердце. В ней было что-то мальчишеское, торопливое. Дора представила нас Надине Лакайо, Дармириле Корослая и Агусто Лосо — всему политическому руководству Манагуа. Самым старшим среди них был Агусто — ему исполнилось 25 лет. Этих людей можно назвать ветеранами борьбы, потому что с их именами связана крупная операция революционных сил — захват парламента; они осуществляли руководство восстанием в Леоне и столице, участвовали в партизанских схватках. Сейчас на их плечи была возложена ответственная задача утверждать новые порядки, строить новый город, восстанавливать экономику, заботиться о хлебе, воде, отдыхе и быте жителей столицы. А это совсем не легко, потому что Манагуа занимает территорию 778 квадратных километров, а Сомоса, как зверь в предсмертной агонии, в июне 1979 года распорядился бомбить не только кварталы патриотов, но и фабрики, школы, больницы. Говорят, что разрушения, причиненные войсками Сомосы, гораздо крупнее разрушений, которые произошли в результате землетрясения в 1972 году.
С Дорой мы быстро сблизились. Разговор зашел о положении женщины и о революции.
— Каким образом участие в борьбе с сомосизмом отразилось на роли женщины в общественных процессах? — спросил я Дору.
Она сжала губы, нахмурила лоб, а потом сказала:
— Личное участие женщины в борьбе с диктатором придало ей большую уверенность в своих силах. Я могу судить по себе и моим боевым подругам. И знаете ли, участие в борьбе помогает поверить в свои силы, а такая вера лежит в основе любого большого дела. Там, где решается вопрос жизни или смерти, женщина обретает уверенность и силы благодаря своей способности выполнять разнообразные и срочные задачи даже в неимоверно трудных условиях. Не знаю, полностью ли я права, но сегодня никарагуанка живет с чувством завоеванного права, потому что эту революцию она ощутила сердцем. И это служит для нее опорой, придает ей уверенность…
— Некоторые говорят, что участие женщины в борьбе своеобразно отражается на ее семье. Что вы об этом думаете?
— Да! Отражается! Но как? Ведь отражение имеет две стороны — отрицательную и положительную. Если семья живет заботами только своей крепости, оторванно от общества, естественно, участие в борьбе отразится на ней отрицательно. Но если семья чувствует пульс времени, живет общими заботами дня, отражение будет положительным. Политическая сознательность женщины самым лучшим образом может быть передана ее детям. Ведь дети — ее частица. Только женщина может дать им революционное воспитание, которое характеризует новое отношение к жизни, к проблемам борьбы. К сожалению, есть еще семьи, в которых мужчины так не думают, живут старыми моральными понятиями. По их мнению, женщина должна только готовить, стирать и гладить. Но может ли такая женщина чувствовать себя полноценной? Участвуя в революции, никарагуанка узнала много таких вещей, которые раньше были ей чужды и непонятны. Сейчас она имеет больше возможностей для личного участия в общественно-политической жизни. Я считаю, что политическое сознание обогащает женщину. Мать, у которой развито политическое сознание, обогащает и своих детей, потому что быть матерью не означает только родить детей, вырастить их. Прежде всего их надо воспитать. Невозможно воспитывать детей для нового общества, если мать не имеет революционного сознания. В данном случае я определенно считаю, что участие женщины в борьбе отражается на семье положительно.
Потом Дору вызвали куда-то по срочному делу, и Надине Лакайо продолжила разговор с нами. Ее игривые черные глаза смеялись, на щеках появлялись ямочки. Короткая стрижка и смуглое лицо делали женщину похожей на озорного ребенка, особенно когда она начинала говорить. Пока Надине знакомила нас с политической обстановкой в городе, я рассматривал ее рабочее место. Старый, тяжелый письменный стол, тяжелые стулья и старые кожаные кресла. На письменном столе лежало несколько книг В. И. Ленина, пистолет. Успел прочитать заглавия «Что делать?» и «Две тактики…». Мое любопытство не укрылось от ее взгляда.
— Вечером какой-нибудь нерешенный вопрос прогоняет сон и превращает ночь в рабочий день. Обыкновенно и вопросы бывают простыми, а ответ найти трудно. И тогда я ищу его у Ленина. Он мой постоянный советчик.
Агусто Лосо продолжил мысль Надине:
— Наша теоретическая подготовка явно недостаточна. Во время партизанской борьбы марксистско-ленинское учение согревало и воодушевляло нас. И мы воевали смелее. Но сейчас, когда Сомоса изгнан и сомосизм уничтожен, мы понимаем, что знаем очень мало. Говорят, что для детей, начинающих ходить, первый шаг является решающим. Но первый шаг революции нельзя сравнивать с первым шагом ребенка. Для нее особое значение имеет второй шаг — удержание власти, укрепление экономики, активное привлечение широких народных масс к управлению страной. Мы, сандинистские кадры, должны хорошо знать марксизм-ленинизм, изучить его глубоко и всесторонне.
Эти люди в своей обновленности необыкновенны. Надине очень похожа на нашу Веску — откровенная, полная неисчерпаемого оптимизма и жажды знаний. Помнишь, когда арестовали Веску, она в одежде спрятала «Как закалялась сталь», потому что и в тюремной камере должна была читать. И прежде чем ее расстреляли, на вопрос, чего бы она желала больше всего, Веска ответила, что больше всего она желала бы свободы и свободного времени, чтобы прочесть все самое лучшее, что создано в мировой литературе. Палач не стал дожидаться конца ее слов…
Голос Агусто вернул меня в сегодняшний день. Агусто говорил:
— Задачей задач для каждого никарагуанца сейчас является скорейшее решение экономических проблем. Нам хорошо известно, что, когда захватывали казармы или укрепленные пункты, нужны были смелость и высокий моральный дух. Но, чтобы накормить народ, необходимо умение руководить экономикой. Сюда часто приходят мои боевые товарищи и говорят, что настолько ушли в экономические вопросы, что боятся, как бы курок автомата не заржавел. Полностью их понимаю. И мне нелегко, но кто позволит нам оставить революцию на полпути?! Довести ее до конца — так мы понимаем свой неотъемлемый интернациональный долг.
В комнату вошел еще один вооруженный юноша. Поставил автомат, придвинул стул и развернул на нем свернутый в рулон лист. Это был портрет Карлоса Фонсеки. Все встали. Фонсека был титаном, который вынуждал тирана Сомосу трястись от страха даже во сне. Своим горячим сердцем Фонсека согревал тысячи революционеров и свой измученный народ.
Чем больше я узнаю о его жизни, тем больше восхищаюсь. Он, как яркая путеводная звезда, служил ориентиром в борьбе каждому революционеру.
— Карлос был моим близким другом, — сказал Агусто. — Скорее учителем, добрым и строгим учителем. Узнав о его гибели, я почувствовал острую боль, но не отчаяние. Тогда погибли и другие товарищи из нашего руководства. Мы хорошо понимали, что никто из нас не может их заменить. Каждый из погибших был неповторимой личностью, человеком необыкновенного обаяния и силы. Но имели ли мы право хныкать? Мы пошли по единственно правильному пути — стали укреплять наши ряды, еще теснее сблизились с народом и ни на миг не оставляли переданный нам огромный багаж, зовущийся революцией. Для меня революция — это борьба за коренное изменение общества, за усовершенствование каждого человека, за создание гармонии между людьми и народами. Она не может быть событием одноактного действия, это процесс долгий, мучительный, который несет в себе прежде всего талант и дух созидания. Катализатором этого процесса является любовь к народу…
Не удивляйся, что почти в каждом письме пишу тебе о революции. Это содержание каждого дня, всей жизни этих людей. И ты бы меня хорошо поняла, если бы хоть один день провела здесь, на баррикаде, около кратера «вулкана», потрясшего Латинскую Америку.
Люди в этой стране ищут и находят себя. А это, в конце концов, самое важное в жизни каждого человека.
13
СРЕДИ НОЧИ раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Оказалось, это Леонель.
— Случилось что-нибудь неприятное? — спрашиваю его.
— Убили Мартинеса.
— Кто его убил?
— Кто еще кроме врагов?
Мы сели в холле под лампой. Леонель прикрыл глаза, а я, с пересохшими от волнения губами, сидел и вспоминал свою встречу с Мартинесом. Он был из тех деятелей Сандинистского фронта, которые правильно воспринимали события и находили на них ответы. Друзья его часто спрашивали: «И любовь к женщине прежде пропустишь через голову, а уж потом аккумулируешь в сердце?» Он им отвечал: «Настоящая любовь — кровная сестра и разума, и сердца».
С первой же встречи Мартинес поразил меня своим умом и глубоким познанием марксизма-ленинизма. Он был полон ненависти и презрения к империализму. За активную политическую деятельность сомосовцы осудили его на пятнадцать лет тюремного заключения. Там через своих людей он продолжал получать марксистскую литературу и углублял свои знания. Друзьям удалось освободить его вместе с Томасом Борхе и отправить за границу.
— Где бы я ни был, — говорил мне Мартинес, — в какие бы тяжелые ситуации ни попадал, никогда не расставался с книгой. Хорошая книга — это память человечества, наше общечеловеческое богатство.
Мартинес обладал необыкновенной памятью, знал наизусть целые произведения марксизма-ленинизма. Силу теории, опыт других стран, народов и партий он принимал так, как земля принимает семена. Абстрактное мышление ему было чуждо. Он жил болью и радостью дня, интересами людей, проблемами революции. Понимал разносторонние увлечения молодежи, радовался каждому их предложению, даже если оно было наивным, необдуманным. Когда некоторые работники отдела отвергали такие предложения, он усмехался и часто говорил: «Не бойтесь ошибок энтузиазма, будьте внимательны к молодежи».
Мартинес хорошо знал Че Гевару и Карлоса Фонсеку. Любовь к этим пламенным революционерам он носил глубоко в сердце. Я часто просил его рассказать мне о встречах с ними, об общей работе, а он всегда отвечал, что еще есть время, что о таких людях нельзя рассказывать коротко, они не вмещаются в рамки обычных понятий. Эти люди, подчеркивал он, превратили традиционное в необыкновенное, в неожиданное.
После попытки нескольких сомосовских агентов убить его товарища из Национального руководства Мартинес очень расстроился. Пришел ко мне и предложил прогуляться с ним. Мы шли молча. Мне была знакома его привычка — он мог километры проходить молча. Больше часа бродили мы по длинным улицам Манагуа. Остановились у разрушенного дома. Мартинес провел ладонью по лицу и посмотрел на меня погрустневшим взглядом.
— Здесь я родился. Мое родное гнездо превращено в пепелище. Со дня победы не был здесь. Но сегодня решил прийти.
Я промолчал. Не мог себе представить, сумел ли бы я найти силы держаться, если бы наш маленький дом в селе был сожжен? Ведь в душе я храню о родном доме самые чистые, детские воспоминания. Что будет с нами, если кто-то посягнет на то, что свято для нас?
— Здесь, наверное, расстреляли моих мать и отца. В наследство мне не осталось даже их фотографий. Все сожжено. Сейчас жив мой брат, сомосовский офицер. Он и его друзья пытались убить моего боевого товарища. Понимаешь мои страдания?
Я понимал его состояние. Душевные муки человека что огонь. Они не могут легко погаснуть. Но я знал, что Мартинес не любит, когда его жалеют, так же как и когда хвалят. Своей простотой в отношениях, мужеством и справедливостью он покорял каждого, кто имел счастье сблизиться с ним и работать вместе.
Если бы у этого внешне сурового, но такого доброго человека было время сесть и написать книгу, в ней он показал бы драматизм и поэзию людей, с которыми вместе работал. И наверняка меньше всего написал бы о себе…
Леонель потряс головой. Нарушил мертвую тишину:
— Мартинес был моим командиром. С ним я участвовал не в одном сражении. У него учились мы смелости, взыскательности и точности, умению доводить начатое дело до конца. Он не останавливался ни перед какой опасностью. Суровый и нежный человек… И его убили… на рассвете…
Он опять замолчал и закрыл глаза. Я вспомнил о Че Геваре, о последних часах его жизни. Только сегодня я дочитал книгу И. Лаврецкого о Че Геваре, и в моей памяти ожил его образ, его последние слова.
«С рассветом начинают приземляться в Игере вертолеты с важными персонами. Первыми появляются полковник Андрес Селич и полковник разведки Мигель Аноро, затем полковник Сентено… «доктор» Гонсалес и другие агенты ЦРУ. Все они входят в комнату к Че, пытаются разговаривать с ним…
«Доктор» Гонсалес пытался его допрашивать, но Че молчал.
— О чем же вы думаете? — спросил его враг.
— Я думаю о бессмертии революции».
Это были его последние слова. Я убежден, что и Мартинес ответил бы точно так же. Он жил будущим всей Америки. Много раз по разным поводам он повторял мне мысль Хосе Марти:
«Я сын Америки, ей я должен за все. Америка моя родина, ее развитию, обновлению и укреплению я посвящаю свою жизнь. Не для нежных уст горькая чаша. И гадюке не ужалить грудь храбреца».
— Убили его, — промолвил, будто вернувшись из забытья, Леонель, — когда он больше всего необходим революции.
По его лицу скатились две слезинки. Он встал и начал медленно ходить по комнате, делая широкие шаги. Похоже было, что ему не хватало сил преодолеть муку, которая сжимала его сердце.
— 19 июля, когда наше сандинистское знамя поднялось над всей страной, он вызвал меня к себе. Хотел что-то сказать, но медлил. Впервые я видел его смущенным, даже каким-то неловким. «Жду ваших указаний!» — напомнил я ему о себе. Он выпрямился и, глядя в разбитое окошко, тихо начал: «У меня к тебе просьба. Почти пять лет я не видел сына, который остался со своей матерью. Ты можешь сходить и узнать, жив ли он?» Я немедленно отправился по адресу, который Мартинес написал на маленьком листочке. Так я оказался в квартале Ласколино. Здесь жила буржуазия. Напрасно я стучал кулаком в запертые двери. Никто не открывал. Но я решил не возвращаться без ответа и сел, готовый дожидаться хоть до рассвета. И не ошибся. На рассвете двери открылись, показалась маленькая старая женщина. Увидев меня, она испугалась и выронила ведро с мусором. Я спросил ее о ребенке. «Месяц назад вся семья уехала в Нью-Йорк. А я их домработница, — ответила она и пошла. Обернувшись, спросила: — Жив ли Мартинес?» — «Жив. Хотел увидеть своего сына». — «Скажи ему, что сын будет таким же, как он. Я ему часто рассказывала, какой у него отец». Докладывать об этом Мартинесу я не стал. И он меня не вызывал. Встретив меня через неделю, кивнул приветственно и тихо поблагодарил…
— А где он убит? — спросил я Леонеля.
— Около дома, у аллеи с цветами…
Мы снова замолчали. И снова мне вспомнилась последняя встреча, последний разговор.
Эх, брат Мартинес, мы никогда больше не встретимся! А как ты хотел приехать в мою Болгарию!
14
КАТАЛИНА сегодня молчалива. Мысли одолевают ее. Молчу и я. Смотрю в окно. Слева и справа кукурузные поля. Кое-где кукуруза уже созрела и ждет уборки, в других местах початки только начинают набирать силу. Здесь обычно в сезон снимают по два-три урожая. Мимо нас проносится еще одна машина, и я задумываюсь об этом непрерывном беге и его неподкупном судье — времени. Недавно один мой никарагуанский друг говорил, что время в их стране до революции сидело на якоре долгие десятилетия. С якоря его снял революционный прилив. А сейчас подул и попутный ветер, вот поэтому все и спешат.
Каталина посмотрела на меня и указала на горы слева от дороги.
— В этих местах я воевала. Мои боевые товарищи остались здесь навсегда. О них я сейчас думаю. Очень часто, когда я ищу ответы на трудные вопросы, я советуюсь с ними, А это значит, что они живут во мне.
— Кажется ли тебе сейчас пройденный путь, когда ты смотришь на него с высоты достигнутого, страшным?
— Нет! — твердо ответила Каталина. — Если бы пришлось, я снова прошла бы его. Ведь наше счастье в борьбе. А мы делаем все во имя счастья.
И сейчас не могу объяснить себе, откуда у этой нежной женщины столько мужества.
— В вашей борьбе кто был самым смелым? — продолжал я спрашивать.
Каталина усмехнулась и без колебания ответила:
— Народ. Та вулканическая сила, которую в США до сих пор еще не могут понять. Я не поэтесса, не могу думать образно, но силу народа всегда воспринимала как тропический дождь, который приходит, чтобы унести накопившуюся грязь, промыть глаза и совесть земли. Думаю, что наш народ заслуживает того, чтобы ему поставили памятник, который по своей значимости был бы больше вулкана Момотомбо. Он того заслуживает.
Недавно в одной из бесед Карлос Нуньес, председатель Государственного совета, сказал мне, что памятник Свободы, может быть, будет воплощен в высоко поднятом народном мачете. Наверное, потому, что мачете по форме напоминает меч. В связи с этим я вспомнил, как однажды Евгения Викторовича Вучетича спросили: «Скажите, пожалуйста, почему вас так привлекают мечи? Может быть, по природе вы завоеватель?» Ответ Вучетича прозвучал как притча, которую он не случайно назвал «Три меча»:
«Первый меч поднимает к небу на берегу Волги, на Мамаевом кургане, Мать-Родина, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топтавших в то время ее землю. Второй меч в берлинском Трептов-парке острием вниз держит наш солдат-победитель. Этот меч рассек свастику и освободил народы Европы. Третий меч человек переплавил на орало, выражая этим стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на нашей планете».
Я рассказал притчу Вучетича Нуньесу, и он воскликнул:
— Сколько гуманности в социалистическом искусстве!
Машина несла нас к Матагальпе, родному городу Карлоса Фонсеки Амадора. Если бы он был жив, ему сейчас исполнилось бы 44 года. А он ушел из жизни, когда ему не было сорока. Имя и образ Карлоса Фонсеки никарагуанцы всегда сопоставляют с именем и образом Аугусто Сесара Сандино. Фонсека и Сандино — две великие личности, которые навсегда вошли в историю Никарагуа. Народ этой страны сегодня живет и побеждает с их именами.
Каталина рассказывала мне о Карлосе, а я мысленно вернулся к вчерашнему дню. Вечером, когда жара немного спала, я с букетом цветов пошел к памятнику Фонсеке. Памятник открыт недавно. Он стоит в центре площади Революции, окруженной зданиями народного театра «Рубен Дарио», парламента и полуразрушенного кафедрального собора. У каждого элемента этого архитектурного комплекса своя история. Я постоял у Вечного огня, озаряющего лица солдат, замерших в почетном карауле. На плите написано:
«Вся Никарагуа тебе говорит — ты навеки с нами».
Рассказ Каталины насыщен датами, годами, событиями. Карлос Фонсека родился 23 июля 1936 года, погиб 7 ноября 1975 года. Каталина рассказывала мне о добром характере его матери Густины Фонсека, о твердости и любви к науке его отца Фаусто Амадора. А я слушал и представлял себе непоседливого мальчика, который еще в начальных классах удивлял учителей широтой своих знаний, постоянным поиском нового, какой-то обостренной чувствительностью к общественным явлениям. Политические интересы привели его в марксистские кружки еще в юном возрасте, что сделало его более устремленным и решительным в действиях. В восемнадцать лет Карлос основал журнал «Сеговия», чтобы активнее распространять прогрессивные идеи. Еще в первый год учебы на юридическом факультете университета он становится членом Никарагуанской социалистической партии. Жил он на бедной окраине Манагуа. Широкий круг его интересов привлекал к нему прогрессивных студентов. На факультете он организовал марксистский кружок и участвовал в издании газеты «Университет».
В сентябре 1956 года, когда Ригоберто Лопес Перес убил Анастасио Сомосу, одним из первых брошенных в застенки диктатора был Карлос Фонсека. Можно сказать, что с этого момента начался его трудный путь профессионального революционера. Своим товарищам он говорил: «Победа всегда имеет высокую и печальную цену. Именно поэтому полнота ее радости является достоянием грядущих поколений». Карлос Фонсека посвятил свою жизнь освобождению родины. Жажда видеть свой народ свободным еще больше усилилась после того, как он принял участие в Международном фестивале молодежи в Москве в 1957 году. Социалистический мир и жизнь советских людей произвели на него огромное впечатление. Всем этим он поделился в своей книге «Один никарагуанец в Москве».
Его жена мне говорила, что Карлос часами рассказывал детям и ей о Москве, но больше всего о Владимире Ильиче Ленине. Для него Ленин был совестью всего самого прогрессивного, а его учение — уроком для истинных патриотов. Когда фестиваль закончился и пришла пора возвращаться домой, Карлос встал рано утром, пришел на Красную площадь и постоял у Мавзолея В. И. Ленина. Жене он сказал: «Для меня Ленин не просто создатель большевистской партии, большой деятель международного коммунистического и рабочего движения, идеолог и стратег. Ленин — это синоним моих идей, моей веры в победу».
В лице Фонсеки студенческое революционное движение нашло своего организатора. Один за другим прошли крупные политические митинги за освобождение Томаса Борхе, поднялась волна протеста против приезда Эйзенхауэра в Никарагуа. В 1958 году за активную политическую деятельность правительство Сомосы выдворило Карлоса из страны. Во время политической эмиграции он находился в Гватемале, на Кубе, в Коста-Рике и других странах.
В 1960 году Карлос Фонсека нелегально возвратился в Никарагуа и вместе с другими политическими лидерами, членами Никарагуанской социалистической партии, создал движение «Новая Никарагуа». Он ясно понимал, что стране нужна такая политическая сила, которая в борьбе с диктатурой могла бы объединить все прогрессивное, патриотическое население. Преследуя именно такую цель, уже в следующем году Карлос предложил объединить движение «Новая Никарагуа» с сандинистскими ветеранами и Национальным единым фронтом в новую организацию — Сандинистский фронт национального освобождения. Создание СФНО состоялось 23 июля 1961 года. По предложению Карлоса Фонсеки в уставе СФНО было записано, что фронт является «военно-политической организацией, стратегическая цель которой — завоевание власти в Никарагуа путем разрушения военного и административного аппарата диктатуры и установления власти революционного правительства, основанной на союзе рабочих и крестьян, с участием всех патриотических, антиимпериалистических и антиолигархических сил. Это будет народная власть, которая построит новую Никарагуа без эксплуатации, угнетения и отсталости, свободное, демократическое и истинно независимое государство».
На первом конгрессе Сандинистского фронта национального освобождения Карлос Фонсека Амадор был избран генеральным секретарем. Это было заслуженное политическое доверие человеку, посвятившему всю свою жизнь делу революции.
Наряду с организационной и политической работой по укреплению рядов СФНО под руководством Карлоса Фонсеки началось формирование военно-политического отряда, который проходил подготовку в Латуке, а позже действовал в Рио-Коко, Райти и Букае. Тогда же в Никарагуа было положено начало нелегальной работе в сельских районах и городах.
Тропические ливни создавали много трудностей — реки сносили мосты, заливали села, уничтожали посевы. Однажды такой дождь вынудил Карлоса остаться на целую неделю в одном северном селе, расположенном высоко в горах. Благодаря общительному характеру Фонсека быстро сошелся с людьми. Крестьяне ему доверяли и допоздна слушали его рассказы. Однажды, когда все разошлись, хозяйка спросила его, пойдет ли он завтра со всеми в церковь. Фонсека ответил: «Нет! Я не верю в бога. У меня свой бог, которого я ношу здесь, в сердце, и называется он коммунизмом». Услышав его слова, женщина сначала онемела, потом завизжала и убежала. «Что случилось?» — спросил ее муж. Она ответила: «Он из тех, которые носят бога с собой и с ним убивают».
Антикоммунизм для крестьян был страшной заразой, и Карлосу больше нельзя было оставаться в этом селе. Ночью необходимо было уйти, потому что крестьяне, впавшие в религиозные заблуждения, ни перед чем не остановились бы.
Характерной в этом отношении является статья-фельетон Че Гевары, опубликованная в повстанческой газете. Я тебе ее процитирую:
«События из далеких стран долетают к нам через вершины Сьерра-Маэстры по радио и в газетах, которые сообщают о том, что происходит там, так как не могут рассказать о повседневно совершаемых преступлениях здесь.
Итак, мы читаем и слушаем о волнениях и убийствах на Кипре, в Алжире, Малой Азии. У всех этих событий общие черты:
а) власти «нанесли много потерь восставшим»;
б) пленных нет;
в) у правительства нет намерения изменить свою политику;
г) все революционеры, независимо в какой стране или регионе они действуют, получают «помощь» от коммунистов.
Как весь мир похож на Кубу! Всюду происходит одно и то же. Патриотов убивают, противник еще раз «побеждает после продолжительной перестрелки». Убиты все свидетели, потому что нет пленных.
Правительственные силы никогда не терпят потерь, и это почти всегда соответствует действительности, потому что не очень опасно убивать беззащитных людей. Но часто это чистая ложь. Неопровержимым доказательством того является Сьерра-Маэстра. И наконец, устарело постоянное обвинение в «коммунизме» кого бы то ни было.
Коммунистами оказываются все, кто борется за свои права с оружием, потому что люди устали от нищеты… А демократами называют себя все те, кто убивает обыкновенных людей: мужчин, женщин, детей. Как весь мир похож на Кубу!
Но всюду, как и на Кубе, народу принадлежит последнее слово против злой силы — несправедливости. И народы победят!»
Эту статью-фельетон Карлос Фонсека размножил и разослал всем своим боевым товарищам. Радио и телевидение Сомосы постоянно внушали людям, что все революционеры являются «московскими агентами». И за эту пропагандистскую деятельность диктатор получал не только похвалу, но и деньги.
«Наша цель — вылечить народ. Сказать ему истину, научить отличать истинное зло от фальшивого. Это одна из основных задач сандинистов», — непрестанно внушал Карлос Фонсека Амадор…
Каталина прервала свой рассказ о Карлосе. Мы прибыли в его родной город Матагальпу. Он, как и наш прелестный город Тырново, расположен амфитеатром, сверкает белизной и покоряет своим горным спокойствием.
15
НАЧАТЫЙ Каталиной рассказ о жизни и деятельности Карлоса Фонсеки мы не дослушали до конца. В Матагальпе другие события захватили наше внимание. А когда мы возвращались ночью, Каталина, сморенная усталостью, сразу заснула. Я же мысленно вновь вернулся к услышанному и прочитанному о Фонсеке. Хотя и частично, передо мной раскрылась жизнь человека, подобная бурной высокогорной реке. А голос Карлоса Фонсеки напоминал шум водопада, заглушить который ничто не может. Несколько дней назад во время встречи с членом Национального руководства СФНО Виктором Тирадо речь снова зашла о Фонсеке. Мне было известно, что их связывала долгая и крепкая дружба, что в 1964 году они вместе были арестованы на нелегальной квартире в квартале Сан-Луис, вместе были осуждены сомосовским судом.
— С Карлосом и в тюрьме было интересно, — рассказывал Виктор Тирадо. — Это необыкновенный сын Никарагуа и один из достойнейших продолжателей патриотического дела Сандино. Карлос открыл для меня Сандино. Его идеи завладели мной, и это значительно ускорило мое обучение. Еще во время нашей партизанской жизни, а потом уже после победы революции я часто спрашивал себя; какое качество Карлоса кажется мне самым значительным? И если я думал о верности, то тут же всплывала самоотверженность; думал о смелости, то понимал, что забываю о преданности. Пожалуй, вернее всего будет сказать, что он жил и работал по зову своего сердца, а его сердце всецело было отдано народу. Карлос был частицей народа, ведущего суровую борьбу за более справедливый мир. Я всегда восхищался его аналитическим умом. Он не терпел громких и бесцельных слов. Любил точность. Всегда безошибочно оценивал политическую обстановку в стране, хорошо знал кадры, заботился об их становлении и росте.
Зная волчий нрав Сомосы, патриоты были обеспокоены тем, что он может посягнуть на жизнь Карлоса Фонсеки. Сообщение об аресте Карлоса тревожно прокатилось по всей стране. Повсюду организовывались митинги протеста в защиту своего вождя. Тогда в мрачной камере Карлос написал историческое письмо «Я обвиняю диктатора». В каждой строке этого письма раскрывается жестокая антинародная политика сомосизма, осуждаются систематические убийства патриотов и честных людей, вскрываются корни социального и политического зла — империализма.
— Когда мы вышли из тюрьмы, — вспоминает Тирадо, — на первой нашей нелегальной встрече Карлос, после того как изложил свои взгляды о партизанском движении, предложил нам принять сандинистскую клятву. И сейчас вижу его стоящим смирно, с поднятой головой, и мягким голосом произносящим дорогие для каждого из нас слова: «Перед образом Аугусто Сесара Сандино и Эрнесто Че Гевары, перед памятью погибших героев Никарагуа, Латинской Америки, всего человечества и перед историей кладу руку на красно-черное знамя, которое символизирует «свободу родине или смерть», и клянусь с оружием в руках защищать национальную честь и бороться за освобождение угнетенных и эксплуатируемых в Никарагуа и во всем мире. Если я сдержу эту клятву, наградой мне будет освобождение Никарагуа и всех народов, а если изменю этой клятве, то наказанием мне будет позорная смерть».
Виктор Тирадо тихо, слово в слово повторил клятву. Затем подошел к портрету Карлоса Фонсеки и, обращаясь к нему, как к живому, сказал:
— Это смысл всей нашей жизни, брат, так было вчера, так есть сегодня, так будет и завтра. Мы этому никогда не изменим.
Срочный вызов Тирадо к Национальному руководству СФНО не дал нам закончить начатый разговор. Мы расстались, пообещав друг другу встретиться снова.
Когда выходили, Виктор Тирадо остановил меня и сказал:
— Знаешь, всегда, когда иду на заседание Национального руководства, думаю, что встречу там Карлоса. Так и сейчас. — И быстро ушел.
Домой я отправился пешком, чтобы было больше времени осмыслить все сказанное в этом незаконченном разговоре. Особое впечатление на меня произвело то, что Карлос Фонсека считал, что настоящий революционер должен быть скромным и бескорыстным. Он и людям, с которыми работал, постоянно втолковывал, что истинный боец СФНО никогда не должен соблазняться славой и богатством. Непреходящие слава и богатство заключаются в бескорыстном служении народу. И самое важное, чтобы слова никогда не расходились с делами, потому что крестьяне учатся и воспринимают истину на примере, а не на словах. Поповские проповеди следовать благим пожеланиям, а не делам сидят у них в печенках. С первых дней создания СФНО главной силой сандинистов является их моральное превосходство над противником. Основы его были заложены Сандино, а в новых условиях революционной борьбы обогащались Карлосом Фонсекой.
Сегодняшний день был как бы продолжением проведенных до сих пор бесед с разными людьми о жизни и деятельности Карлоса Фонсеки Амадора. Четыре года прошло со дня его гибели. Для Никарагуа эти четыре года озарены его идеями и стали целой эпохой. По инициативе Национального руководства СФНО организована фотовыставка, которая посвящена жизни Фонсеки.
Я видел, с каким волнением люди входили в выставочный зал и выходили из него. Обратил внимание на пожилого человека, который тихо, как сказку, рассказывал своему внуку о Фонсеке. Оказалось, что этот человек с морщинистым лицом и глубоко запавшими глазами был одним из друзей и соратников Карлоса Фонсеки.
— Эта фотография, — говорил старик мальчику, — была сделана в Коста-Рике во время нашего расставания, когда я должен был уехать в Ривас, чтобы связаться с нашими подпольщиками и проверить их нелегальную деятельность. Этот день я не могу забыть. Проснувшись, увидел, что на стуле вместо моих старых брюк лежат новые брюки Карлоса, на полу вместо моих изношенных ботинок стоят его новые. И оставленная им рубашка тоже была новой. Сначала я подумал, что произошло какое-то недоразумение, и начал шарить в поисках своих вещей. И тогда заметил записку, оставленную мне на столе. Карлос писал: «Хорошо, что мы с тобой одного роста и можем поменяться вещами. В этом же нет ничего плохого, не так ли? Две сроднившиеся души имеют право носить одну и ту же одежду. Сейчас тебе необходимо изменить внешний вид. Будь здоров! Жду твоего возвращения!»
— А сам остался в рваной одежде, дедушка? — спросил ребенок.
— В поношенной, сынок. Карлос всегда больше заботился о других, чем о себе.
— А потом? — поднял курносый носик малыш.
Задумавшись, старик не обратил внимания на вопрос внука и перешел к следующим фотографиям.
В тот же день Фонсека был арестован и обвинен в нападении на банк. Ничего другого, кроме этого нелепого обвинения, сомосовцы выдумать не могли. И он был осужден.
В конце декабря 1969 года сандинисты организовали нападение на тюрьму. Им удалось освободить своего генерального секретаря, но всего только на несколько часов. Его снова схватили и теперь уже поместили в тюрьму с усиленной охраной.
Национальное руководство приняло решение освободить Карлоса Фонсеку из тюрьмы как можно быстрее. 22 октября 1970 года сандинисты угнали пассажирский самолет и выдвинули одно-единственное условие — освободить из заключения Карлоса Фонсеку Амадора и отправить его на Кубу.
После трудных переговоров сандинистам удалось это сделать. Генеральный секретарь СФНО был освобожден. Основная задача, которой занялся Фонсека на свободе, заключалась в том, чтобы проанализировать революционную борьбу в Никарагуа и укрепить позиции СФНО в народных массах.
— С Кубы я получила письмо, — сказала мне Мария Айде, вдова Карлоса, с которой я познакомился на фотовыставке. — Узнав почерк Карлоса, поняла, что он жив, и от радости расплакалась. Успокоившись, стала читать. Как всегда, о себе он ничего не сообщил, кроме того, что снова засел за «Капитал». Мне же он писал, что главная ноль в подготовке народа к революционной борьбе должна быть направлена на то, чтобы как можно быстрее помочь ему преодолеть антикоммунистические и антисоциалистические предрассудки, насаждаемые сомосовскими журналами, газетами и радио. В письме он восхищался речью Фиделя Кастро, произнесенной в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина…
Снимки на фотовыставке рассказывали об исключительной жизни человека-легенды, который в свои неполные сорок лет сделал столько, сколько не сделали целые поколения, вместе взятые. Об этом очень убедительно сказал Омар Кабесас, открывший выставку:
— Наш брат Карлос был смелым, невидимым и неуловимым бойцом. — В голосе ученика и соратника Фонсеки слышалось волнение. — Он всегда умел находить самый короткий путь к сердцу человека. Он был всюду, где его присутствие было необходимо. Я не преувеличу, если скажу, что, когда на нас сваливалась беда, нашей единственной утехой был Карлос. Он был символом силы, с которой мы побеждали всякое зло. Он был нашим оптимизмом, нашим критерием честности, преданности, самоотверженности.
Десятки слушателей взглядами подтверждали каждое сказанное слово, а Омар Кабесас продолжал:
— Карлос не был обыкновенным революционером. Он был революционером высокого интеллекта, который осмыслил сандинизм в новых условиях борьбы и умело применял его в жизни. Он был нашим идеологом, который создал СФНО и направлял его борьбу по компасу, имя которому «марксизм-ленинизм». Карлос был нашим непревзойденным учителем, который терпеливо, как опытный педагог, учил нас постигать азы революции. Карлос был сердцем Сандинистского фронта национального освобождения…
Выставку, которая была первым шагом к созданию музея революции, открыла Мария Айде. Во время осмотра выставочного зала я незаметно сравнивал ее с фотографиями, на которых они были запечатлены вместе. Как сильно она изменилась, постарела… Я наблюдал и за ее детьми — сыном и дочерью. Они не только приняли из рук отца его знания, но и облик его переняли. Такая большая схожесть в лицах, в профиле, в движениях — полное повторение.
Мы подошли к последним снимкам. Мария Айде извинилась и вернулась назад, не могла видеть убийство. Дети взяли ее под руки.
Эти снимки были сделаны сомосовцами. С каким старанием они с разных ракурсов снимали еще неостывшее тело, чтобы порадовать палача! Недавно я прочел мемуары бывшего офицера национальной гвардии Хосе Антонио Роблето Сипеса «Я дезертировал из национальной гвардии Никарагуа». В них он повествует и об убийстве Фонсеки.
«Я находился в охране тюрьмы Модело, когда в горах на севере Никарагуа был убит основатель СФНО Карлос Фонсека Амадор. Его смерть вызвала большое недоумение в генеральном штабе гвардии, потому что, по имеющейся информации, он находился за пределами Никарагуа. Карлос Фонсека случайно напоролся ночью на засаду. Служба безопасности пришла к выводу, что Карлос Фонсека появился в стране недавно с целью изучения партизанского движения. У него было обнаружено много корреспонденции. Это помогло сделать вывод, что Карлос курсировал по всей стране».
Каратели, на которых наткнулся Фонсека, дежурили в районе несколько суток. По поступившим к ним сведениям, в этом месте часто проходили партизаны. Смеркалось, когда послышался шум. Каратели открыли огонь. На помощь им сразу же подошли другие. Но ночью у них не хватило смелости войти в лес. На рассвете каратели обнаружили труп крестьянина и ружье. Неподалеку услышали стон человека. Офицер с солдатами направился туда, откуда слышался стон. Человек лежал на животе, лица его не было видно. Офицер приказал солдату подойти ближе и посмотреть, кто это. Солдат подошел и застыл как вкопанный. Он смотрел и не верил, что этот раненый — тот самый человек, фото которого лежало в его кармане и эа голову которого Сомоса обещал огромную сумму денег. Страх одолел его, и он закричал:
— Карлос Фонсека!.. Карлос Фонсека!..
Местность тут же оцепили. Они увидели, что Карлос держит две гранаты, но не заметили его перебитых ног. Офицер предложил ему сдаться.
— Как? Живым или мертвым? — спросил Карлос и бросил одну гранату.
— Мы хотим все сделать чисто, без грязи! — закричал офицер.
— Вам ли говорить о чистоте?! Вы принесли столько грязи, что ее невозможно смыть даже святой водой. Только кровью можно смыть это большое пятно, чтобы пришел чистый и светлый день победившей правды, которого мы страстно жаждем! — ответил Фонсека и бросил вторую гранату.
Солдаты осторожно приближались к нему.
— Любое сопротивление бессмысленно! — крикнул офицер.
Вместо ответа команданте открыл огонь. Солдаты отступили и залегли в высокой траве. Но скоро услышали глухой выстрел. Когда подошли, он был уже мертв. И только тогда заметили, что обе ноги у него перебиты.
Последний его выстрел был точен — в самое сердце.
— Лучше будет, — предложил офицер, — если вместо телеграммы мы принесем генералу голову Фонсеки.
Каратели отрезали голову и специальным самолетом доставили диктатору в Манагуа. Пир хищников продолжался целую неделю. А народ орошал землю горючими слезами.
Я посмотрел на притихших людей. Большинство из них были в военной форме, с пистолетами на боку. Может быть, мне показалось, но их руки в этот момент лежали на пистолетах. А в моих ушах звучали последние слова Омара Кабесаса: «Вся Никарагуа тебе говорит — ты навеки с нами».
Помощница Карлоса Фонсеки по революционной борьбе Теодора Руби вытирала слезы и непрерывно повторяла: «Такие люди не умирают».
Этот день был у меня самым насыщенным. Когда вернусь, много еще расскажу тебе. И сыновьям. Они должны знать все подробности о жизни таких людей, как Карлос Фонсека!
Прощаясь, сын Карлоса выразил желание переписываться с моим сыном Иваном, и я дал ему наш адрес.
Желаю вам здоровья!
16
ГРАНАДА. Самый старый город в Никарагуа. По пути в него узнал, что это город акул, башен и островов. А когда въехали в притихшие улочки, нас встретила своеобразная колониальная архитектура…
В 1527 году на берегу огромного озера Никарагуа остановился испанский мореплаватель Франсиско Эрнандес де Кордова. Перед ним простиралась огромная котловина, покрытая ярко-зеленым ковром, а над ней стелился дым вулкана Момбачо. В озере расположились 360 маленьких островков, которые сегодня, с самолета, кажутся похожими на зеленые грибки. Франсиско воткнул в рыхлую землю свою шпагу и отошел в тень пальмы. «Здесь построим наше пристанище», — сказал он.
Так родился город Гранада, который позже много раз привлекал внимание чужеземных захватчиков. В XVII и XVIII веках его трижды грабили английские пираты, в 1856 году он был сожжен наемниками американского авантюриста Уокера. И каждый раз город восстанавливали в его старинном стиле. Сегодня в Гранаде живет более 60 тысяч человек, и он славится своей богатой культурой.
Плодородная земля, сказочная природа, волшебство очарования, которое придают ему островки в озере, превратили город в центр обитания крупной буржуазии. 97,8 процента земли этого края были собственностью нескольких латифундистов. Местная буржуазия, чтобы ее жизнь была спокойной, втиралась не только в семьи бедняков, но и в каждую политическую организацию. Здесь собственники никогда не противопоставляли себя новому, а как бы захватывали его изнутри, чтобы оно не мешало их благоденствию. Так, например, до революции молодежная и женская организации возглавлялись сыновьями и дочерьми самых крупных капиталистов. И в руководстве профсоюзов стояли крупные собственники. Сама понимаешь, что всякое революционное движение здесь губилось в зародыше. Вот наглядный пример, который подтверждает этот вывод. Полтора года назад умер один из крупнейших собственников земли и индустриального производства. По неписаным законам здешней буржуазии он как «родственник» проник в две трети рабочих семей города. И прошу тебя не удивляться тому, что в день похорон рабочие объявили его «почетным рабочим».
С Хавиером Лопесом и Евой Марией Телер, политическими секретарями Окружного руководства СФНО, сидим за чашкой кофе. Сидим в приемной самого богатого человека города. Переливаются струи водяных фонтанчиков в центре холла, и приятная прохлада овевает нас. Здесь необыкновенно тихо.
Хавиер Лопес — молодой человек с темной шевелюрой и пышными усами. Говорит он медленно и тихо. Мысль его точна и логична, притом очень образна. Он производит впечатление человека широких интересов. С одинаковым увлечением он говорит о латиноамериканской культуре, космической науке и политической экономии. Хавиер окончил архитектурный факультет. Революция, как он выразился, взяла его с четвертого курса и направила в партизанский отряд. Я в шутку сказал ему, что сейчас он может хорошо себя проявить как архитектор новой жизни. А Хавиер усмехнулся, слегка подергал кончик уса и отрицательно покачал головой.
— Сейчас все мы не архитекторы, а хирурги. Поневоле, разумеется. Сначала необходимо удалить раковую опухоль, которая и в голове, и в желудке нашей консервативной буржуазии. А уж потом займемся изящными науками — архитектурой, искусством.
— У меня другое мнение, — прервала Хавиера Ева Мария, его заместитель. — Кроме хирургов мы должны быть и архитекторами, и художниками, и социологами, и всеми. Потому что время летит быстро. Оно не будет нас ждать.
Этот разговор напомнил мне слова Владимира Маяковского, сказанные им в 1929 году, когда он приезжал в Мексику: «Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад». Произнес я эти слова вслух, и Хавиер покачал головой.
— Чудо в другом: как мы смогли уцелеть, когда каждый, кто проезжал здесь, грабил, жег и убивал, — сказал он и протянул руку к полке с книгами, где рядом с трудами В. И. Ленина стояло несколько книг никарагуанских авторов. Вытащил одну из них, открыл заложенную страничку и прочел:
— «Интервенты, руководствуясь принципом: «Все, кто нам не подчиняется, есть бандиты», применяли тактику террора, сея смерть среди жителей сел, долин и поместий. Убивали безжалостно бедных беззащитных крестьян. Иногда из пулеметов обстреливали целые села. Арестовывали крестьян, а затем расстреливали их «при попытке к бегству» или заставляли влезать на деревья, а потом стряхивали их оттуда, забавляясь падением. Время от времени людей обезглавливали, очень часто уничтожали животных и сжигали дома. Полковник Стимсон в одной из книг, опубликованной сразу же после подписания 4 мая договора о мире, писал: «Испания, не уничтожив всех индейцев, допустила ошибку». — Хавиер закрыл книгу и поставил ее на место. — Так пишет Софониас Сальватиера, и не несколько веков назад, а всего тридцать лет, — сказал он.
Безрадостная картина. Не тебе ли напоминал я как-то рассказ моей бабушки об османских поработителях? И сейчас вижу, как слезы текут по ее морщинистому лицу. Сидели мы на берегу Златной Панеги, ветки верб ласкали нас, а она мне рассказала о страшных днях рабства: «Младенцы от страха не плакали. Молоко у кормящих матерей исчезло. Арнауты секли живых и убегали, потому что их нагоняли братушки. Османы вырезали всю соседнюю семью — отца, мать и троих детей. Остался четвертый, который спал в люльке, привязанной в саду к груше. День и ночь плакал ребенок, но его никто не слышал. Все живые убежали в лес. Единственный пес, жалобно воя, вертелся около люльки, охранял ребенка…»
Я вспомнил и о более позднем периоде нашей истории — монархо-фашистской власти, о которой Антон Страшимиров писал:
«Вырезали народ так, как и турки не резали его».
У ровесников Хавиера Лопеса и Евы Марии Телер нет времени, чтобы ждать. Действительно, они с космической скоростью должны обогнать столетия и войти в ритм эпохи, в которой живут высокоразвитые нации. Потому-то они должны быть и хирургами, и архитекторами, и военными стратегами, и экономистами, и всеми, в ком нуждается сегодняшний день. Им некогда терять время. Жизнь заставляет их спешить. И они должны это сделать.
— Полностью осознаю наш долг и нашу историческую ответственность, — продолжал Хавиер. — Знаю, что мы не скоро сможем преодолеть отставание. Мы рассчитываем на истинных, бескорыстных друзей. Если человек остается один без близких и друзей, он превращается в жалкого раба.
Разговор перешел к повседневным делам, которые отнимают у них много сил. Хавиер и Ева рассказали нам о сопротивлении буржуазии, которое на первый взгляд выглядит тихим и безоблачным. Буржуазия сейчас не призывает к стачкам, не поднимает оружия. Для этого ей не хватает смелости. Но она ни на миг не перестает думать, как замедлить ход экономического развития республики.
— Вчера был в имении Сан-Хуан-де-Момбачо. Хорошее имение. Его хозяин Хоакин Мендоса встретил меня любезно. Даже выразил свое восхищение патриотизмом нашего народного генерала Сандино и большим умом Карлоса Фонсеки. Не упустил подчеркнуть, что они — истинное богатство Никарагуа. Угостил меня кофе. Но вот в чем беда: ему принадлежат 180 гектаров самой плодородной земли, однако он не засеял ни пяди. Амбары у него забиты. Хватит на многие годы. Так что о себе он побеспокоился, а о государстве нет. Оно ему чуждо. И что стоят его добрые слова и кофе? А всего год назад с этой земли он собирал по два-три урожая. Вот он какой, сегодняшний наш враг, — тихий, любезный. И с этой любезностью он вместо хлеба вонзает в горло народа острый нож.
— Хватит ли сил справиться с этим тормозом?
— Они не тормоз, а разбойники, — ответила Ева. — Но зачем много говорить? Самое хорошее слово — это дело.
Веснушки на лице Евы задвигались, даже покраснели. Как трудно этой девушке, которой еще не исполнилось и двадцати лет, иметь дело с такими, как богач Хоакин Мендоса! Придет день, когда сегодняшние мгновения превратятся в воспоминания, молодежь будет завидовать этому героическому поколению. И едва ли они поймут, сколько сил, нервов, духа и веры им было надо, чтобы победить. В том, что они победят, я уверен. Победа всегда там, где молодые. Даже дети участвуют в этом этапе революции. Вот, например, что произошло со мной.
С представителем сандинистских профсоюзов мы решили посетить один кооператив в районе Леона. Если вернуться к началу 40-х годов, то можно вспомнить, что мы ничего не имели, а главное — у нас не было транспорта. То же самое и здесь сегодня. В первый день нашего пребывания товарищи получили во временное пользование от религиозной организации легковую машину. Они тут же предоставили ее нам. Мы так спешили, что даже не обратили внимания на эмблемы, нарисованные на бортах машины. Чтобы не плутать напрасно, заехали в село спросить, где работают сегодня крестьяне. Взрослых в селе не было, поэтому мы остановились около ребятишек, которые играли на поляне. Они долго рассматривали нас, машину, а затем показали, где найти руководителя хозяйства. На машине дальше проехать было невозможно, и мы оставили ее на краю села. Пока закрывали машину, один русый босоногий мальчишка скрылся в зарослях. Когда мы подходили к крестьянам, он уже был среди них и бросал на нас злые взгляды. Все это тогда не произвело на нас никакого впечатления. Ребенок как ребенок. Но когда крестьяне попросили нас предъявить удостоверения личности, мы догадались, что тут что-то не так. Разобравшись, кто мы такие и зачем приехали, руководитель подал нам скомканную записку, в которой детским почерком было написано:
«Берегитесь! Вас ищут религиозные разбойники, разрушители революции».
Все мы долго смеялись и восхищались маленькими защитниками революции. Но когда вернулись и нашли свою машину с разрезанными баллонами, опустившейся на обода колес, мы чуть не потеряли сознание.
Как видишь, здесь революция зорко охраняется всеми.
Все могу забыть, но этот день и этих детей — едва ли. От всего сердца радуюсь завтрашним хозяевам свободной и красивой Никарагуа.
17
МОЕ ПЕРВОЕ знакомство с Томасом Борхе состоялось заочно. О нем я читал, когда каждый день искал во внешнеполитических колонках газет сообщения о событиях в Никарагуа. Затем, после победы сандинистской революции, видел его на экране, когда он в составе Национального руководства СФНО посетил Болгарию. Если помнишь, ты воскликнула тогда: «Посмотри, какие они молодые!»
Самым старшим (если 49 лет — это возраст) среди них был Борхе. В то время за его спиной уже было более двадцати лет профессиональной революционной деятельности. Не однажды сомосовцы осуждали его, но он выходил на свободу. Ему известны изгнание, нелегальная жизнь, партизанские сражения, но ничто не могло сломить его веру в победу.
Я близко видел его на митинге в Манагуа — невысокого роста, с большими глазами, скрытыми за очками, смуглый, очень подвижный, с резкими движениями. И ко всему этому — заразительная эмоциональность. Типичный латиноамериканец. На этом митинге, когда я не только видел его вблизи, но и слушал его пламенную речь, я почувствовал искренность и страстность, которые исходили от него. Год назад, в день победы народной революции, Томас Борхе заявил:
— Непосредственное наше будущее — это самоотверженность, лишения и пот, тогда только взошедшее над нами солнце превратится в неугасаемый свет. Мы должны преодолевать трудности с тем же духом самопожертвования и любви, с каким наши замученные товарищи — сандинисты сделали возможной нашу радость.
Его голос, усиленный громкоговорителем, разносился над огромной площадью. Он звучал как клятва:
— Мы заявляем, что хотим быть непреклонно верными главным целям и непосредственным задачам нашей революции. Будем верны делу социального, политического и экономического освобождения Никарагуа!
Впервые на этом митинге я увидел почти всю страну, собравшуюся на одной площади, чтобы открыто решать самые важные проблемы общественного развития.
Оратор спрашивал:
— Обязуемся ли мы отдать лучшее, что в нас есть, и все свои силы для решения задач, которые ставит революция?
Все до одного, подняв сжатые в кулак руки, громко отвечали:
— Да!
— Обязуемся ли сеять семена сегодняшних усилий, лишений и труда, с тем чтобы следующие поколения пользовались реками молока и меда, которые обещали нам наши герои и мученики?
— Да!
— Обязуемся ли свято хранить народную свободу, глубоко уважать достоинство человека, быть непреклонными в осуществлении революционного правосудия?
— Да!
Вопросы ставились один за другим, а народ принимал их. Я не смог записать все вопросы, так как народные массы шумели, как бурно разволновавшееся море. А между волнами вновь накатывался голос:
— Обязуемся ли защищать нашу родину, нашу политическую, экономическую и социальную независимость, защищать нашу революцию?
— Да!
В вопросах чувствовалась сила и уверенность руководства, в ответах — пламенный патриотизм людей.
И вот мы в кабинете министра внутренних дел команданте Томаса Борхе. Говорим о революции, о вчерашнем и сегодняшнем дне, о будущем Никарагуа. Вспоминаем Болгарию, которая пленила моего собеседника. На его столе лежит томик стихов Эрнесто Карденаля. Удивляюсь способности Борхе находить время для всего — и для поэзии (читать и писать), и для постоянного общения с людьми. Рассказал ему о вчерашнем случае, невольным свидетелем которого стал.
В одном селе недалеко от Манагуа в нашей машине лопнул баллон. И именно на том месте, где только что начался скандал между двумя соседками. «Ты взяла мою курицу!» — кричала одна. «У меня свои куры!» — отвечала ей другая. «Признайся, — продолжала настаивать первая, — потому что если будешь врать, то я пойду к нашему Томасу Борхе и пожалуюсь ему. Он не любит лгунов».
Томас громко рассмеялся:
— Может, кто-то из моих однофамильцев работает в селе?
Нет! Речь шла именно о нем, которого в народе любовно называли «наш Томас».
Пользуясь случаем, я спросил у Борхе, на каких идейных позициях они стояли и какие ставили перед собой цели, когда были всего лишь горсткой энтузиастов.
— Возвращаешь меня к молодости! — Мой собеседник встал, облокотился на подоконник, глубоко затянулся сигарой. — Сандинистский фронт национального освобождения был создан в 1961 году. Его идейные позиции базируются на идеях генерала Аугусто Сесара Сандино. Идеи Сандино, рабочего, отдавшего свою жизнь в борьбе против сомосовской диктатуры, с большой глубиной анализируют политические и социальные проблемы Никарагуа. Основная и непосредственная цель, во-первых, полное восстановление национального суверенитета, нарушаемого в течение многих лет в связи с разгорающимся аппетитом империалистов, и во-вторых, установление народного правительства, которое приведет к коренному преобразованию политической и социальной структуры нашей страны.
Томас Борхе говорил медленно и спокойно.
— Особого внимания заслуживает то, что Сандинистский фронт национального освобождения, восприняв идеи Сандино, поставил перед собой задачу облечь их в философские и научные принципы революционного социализма, который целые десятилетия дает свои плоды во многих странах мира, и применить его в конкретных условиях никарагуанской действительности.
Зазвонил телефон. Красная лампочка на одном из аппаратов настоятельно замигала. Я посмотрел на нее с неприязнью: неужели у меня отберут собеседника? И поэтому поспешил с вопросами:
— А какова роль команданте Карлоса Фонсеки Амадора в создании Сандинистского фронта национального освобождения?
Томас Борхе заходил по кабинету. Лицо его сделалось задумчивым, сосредоточенным. Затем он долго смотрел на меня. Снял очки, и я заметил, что глаза его увлажнились. Я вспомнил, что в своих записках Хосе Антонио Роблетто Силес пишет: «Когда я сообщил Томасу в тюрьме, что Фонсека убит, он не смог сдержать слез. Этот мужественный человек заплакал». В этой короткой паузе я почувствовал его огромную печаль по близкому человеку, незабвенному товарищу и брату. Голос Борхе слегка задрожал.
— Ответ может быть кратким: Карлос Фонсека — основатель СФНО. Он объединил в стальной кулак все ячейки и отряды, ставшие затем основой военно-политической структуры широкого антидиктаторского движения. Его поначалу маленькая группа своей бескорыстной борьбой увлекла за собой весь народ, смогла завоевать место авангарда в исторической борьбе за свободу и независимость. Он навсегда останется нашим ориентиром, примером патриотизма, самопожертвования, человеком непревзойденных организаторских способностей, глубоким теоретиком и умным стратегом.
— Когда он был избрав генеральным секретарем фронта?
— В те годы у нас не было условий и возможностей проводить съезды. В 1969 году Национальное руководство СФНО назначило его генеральным секретарем. Тогда с его непосредственным участием были подготовлены и опубликованы программа и устав нашей организации.
— Наверное, вы все до сих пор скорбите?
— Еще бы!.. Весь народ скорбит…
В дверях появился молодой солдат. Томас посмотрел на него вопросительно.
— До заседания осталось двадцать минут, — напомнил тот.
— Знаю! Но до начала мы еще успеем выпить по чашечке кофе? — обратился ко мне Томас.
— Пока будем пить, я продолжу вопросы. Каждому, будь он разумным человеком, предельно ясно: как никто не может отделить Никарагуа от Латинской Америки, так никто не может отделить вашу революцию от мирового революционного процесса. Так?
— На данном этапе развития сандинистскую революцию можно определить как режим смешанной экономики, непосредственные цели которой — национальная реконструкция и создание основ для прогрессивного развития. Главная предстоящая задача — увеличение сельскохозяйственного и промышленного производства, которое укрепит нашу экономику, повысит благосостояние народа.
Наряду с этим сандинистская революция ведет борьбу против культурной и социальной отсталости, доставшимися нам в наследство от свергнутой тирании. Необходимо повышать уровень политического сознания народа, умножать и укреплять массовые организации, готовить условия для истинно народной демократии, навсегда ликвидировать эксплуатацию человека человеком.
И главное — движущей силой сандинистской революции был и будет союз рабочих и крестьян с участием широких слоев мелкой буржуазии, прогрессивных христианских масс в рамках сандинистской политической платформы.
— Не является тайной, что многие западные политики боятся заразительного примера Кубы и Никарагуа. Как думаете, действительно ли вашему примеру могут последовать другие народы Латинской Америки или причина их страха в другом?
— Страх некоторых западных политиков, вызванный примером Кубы и Никарагуа, не что иное, как крик их собственного сознания. Они видят, как рушатся вокруг них старые образцы эксплуатации и несправедливости, а, естественно, боятся примера других народов.
Речь идет не о том, что революция может быть предметом экспорта. Об этом мы заявляли много раз. Но то, что подобный пример может пересекать границы, причем без таможенных формальностей, абсолютно неопровержимо.
— Какие формы используют враги революции для нарушения мирной созидательной жизни страны и кто является их моральным и материальным вдохновителем?
— Здесь, в Никарагуа, враги революции не придумали ничего нового в своем стремлении дестабилизировать ее развитие. Свергнутые сомосовские преступники с помощью империализма и его средств массовой пропаганды распространяют всякую ложь, чтобы затушевать и умалить прогрессивные достижения нашей революции.
Было зафиксировано несколько случаев, когда небольшие вооруженные группы сомосовцев совершали нападения на отряды сандинистской полиции и народной армии.
Некоторые из этих банд, которые рассчитывают на поддержку оставшихся элементов бывшей сомосовской гвардии, совершают нападения с баз, расположенных в соседней стране. Но характерно, что их дух, политический уровень и степень боевой подготовки очень низкие, а главное — они не находят какой-либо поддержки в стране.
В результате этого все усилия контрреволюции терпят крах. Вместе с тем крепнет наша обороноспособность, которая опирается на армию, добровольные сандинистские отряды и постоянную бдительность народа…
Солдат снова открыл дверь и доложил, что заседание начинается.
18
ПРЕЖДЕ ЧЕМ отправиться в Матагальпу, Евгения несколько раз напоминала нам, что необходимо взять с собой теплые вещи. Можешь ли представить себе, что на земле рядом с экватором будет холодно?! Восприняв слова Евгении как шутку, мы пренебрегли ее советами и жестоко поплатились, когда поднялись в горы. Здесь оправдалась и наша поговорка: «Зимой не отправляйся в путь без запаса еды, а летом без теплой одежды».
Матагальпа встретила нас дождем. Кто-то из спутников, дрожа от холода, с надеждой спросил:
— Он же не может перейти в снег?
Мы пытались хоть как-то согреться, но из этого ничего не получалось. И только во время встречи в Окружном руководстве фронта Сандино секретари Мария Вольт, Эскарлет Луго и Матали Киншал немного согрели нас своей сердечностью и гостеприимством.
Наша беседа проходила очень непринужденно. Вопросы перескакивали с одного события на другое. Нам хотелось узнать как можно больше об этом районе страны, где много раз скрещивались шпаги исторических событий. И сейчас два мира вели беспощадную борьбу. Прошлое перемешалось с будущим. Я вспомнил, что еще в 1965 году известный американский писатель Тед Шульц писал в книге «Ветры революции. Латинская Америка сегодня и завтра»:
«Революционная тема, которая в некоторых странах звучит как призывная труба, а в других едва слышна, приглушена и почти неосознанна, в это решающее десятилетие является доминирующим мотивом в среде беспокойных, страдающих от нищеты, стремящихся к прогрессу и быстро растущих масс Латинской Америки».
А сегодня революционные силы властвуют в сердце Никарагуа. Поэтому и наш оживленный разговор шел вокруг революции, вокруг того, что сейчас происходит в Матагальпе.
С улицы доносилась нестройная песня, слышались радостные восклицания и скандирование: «Сандино вчера, Сандино сегодня, Сандино навсегда!» Хозяева заметили наше любопытство.
— Возвращаются те, кто обучал народ грамоте, — с гордостью объяснила нам Мария.
Мы выглянули через открытые окна на улицу. Увидели колонну без начала и конца. У всех светящиеся лица и поднятые вверх кулаки. Неописуемый энтузиазм. Дети, отцы и матери ликуют вместе.
— Наше оружие — знание! — скандируют учащиеся и их учителя.
— Мы исполнили свой долг! — поднимают руки народные просветители.
— В Матагальпе неграмотность побеждена!
Из общины Матагальпа более двух с половиной тысяч человек — бойцы второго этапа революции — ушли в горные села, хутора и хижины обучать людей грамоте. Насколько внушительная по своей силе и красоте картина! В глазах этих людей мы читали гордость победителей.
Мария обратилась ко мне:
— Вы спрашивали меня о движущей силе. Вот это и является движущей силой сегодня. Она объединила страдания прошлого и радость будущего.
Мы ликовали вместе со всеми, зачарованные величием этого народа.
Ты, пожалуй, подумаешь, что я стал слишком эмоциональным. Нет. Я прежний. Но здесь сама обстановка насыщена эмоциями!
Район Матагальпы — один из крупнейших производителей кофе. Горные луга или, как их здесь называют, «великие рудники» открывают огромные возможности для развития животноводства, потому что здесь трава не высыхает, как в других районах. В городе есть несколько маленьких фабрик, хорошо развиты ремесленничество, деревообработка, то есть имеются предпосылки для благополучной жизни. Но все, чем природа наградила этот край, было собственностью только нескольких богатых семей. Отсталый и жестоко эксплуатируемый народ корчился в закоснелых патриархальных отношениях. Все новое чаще воспринималось по интуиции, без понимания его социальной и классовой сущности. Неграмотность была поголовной.
Мария рассказала:
— Мы каждый день разъясняем людям, что власть теперь принадлежит им, что они сами — простые крестьяне, ремесленники и рабочие — будут определять характер завтрашнего дня. Однако есть и такие, кто, используя щедрость Национального руководства к середняку, извращает истинное положение и настраивает их против государства.
Не все мне было понятно. Мария заметила мое недоумение и терпеливо объяснила, что первая забота Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения — дать возможность бедным и средним крестьянам дышать спокойно и пользоваться беспроцентными займами в банках. Крестьяне охотно воспользовались предоставленным им правом. Но вместо того чтобы вложить полученные средства в производство, они, поддавшись агитации контрреволюционеров, начали благоустраиваться, и не как-нибудь, а покупая самые современные вещи. «Государству и отцу долги не возвращаются. Ведь власть-то наша», — говорили они.
Производителям кофе государство тоже выделяло средства. Для облегчения этой процедуры займы были предоставлены приемщикам кофе, которые являются посредниками государства. Но и они под влиянием крупных владельцев говорили крестьянам, что эти займы они получают от собственников, за что, разумеется, получали вознаграждение от обеих сторон. Другими словами, с чужой лепешкой поминки справляют.
— И не только это, — продолжала Мария. — Чтобы помешать революционному процессу, крупные владельцы стараются приблизить к себе мелких крестьян, закупающих продукцию по ценам более высоким, чем государственные.
Обычные житейские беды. И каждый день рождаются новые. Как правило, они появляются там, где труднее всего. Опытное око руководства должно быть бдительным всегда и везде. Представь себе, какая ответственная роль возложена на этих нежных, слабых девушек. Как они справляются?
С другого конца улицы доносилась песня. Это пели те, кто обучал население грамоте. Тут каждый пел от всей души и сердца. В песне выливалась сила людей, их щедрость. Эти счастливые люди близки мне по идее, по дерзновенности. Нам хорошо известно, что путь революции — это не асфальтированная дорога. Он проходит через ухабы, ликвидирует межи, рушит скалы. Но может ли кто-нибудь остановить песню? Может ли кто-нибудь остановить извержение вулкана, восход солнца?
Люди скандировали имена Хеорхино Андраре, Марта Лорена и Хуанита де Обандо — трех народных просветителей, погибших от подлой руки контрреволюционеров. Старшим из погибших был Хеорхино. Вижу его на огромном плакате, поднятом над колонной, — выразительные глаза, приветливое лицо, высокий лоб, теплая, трогательная улыбка. Мария рассказала мне о нем. Он был сыном бедного крестьянина из Чинандеги. С детства сроднился с землей.
— С землей разговаривал, как с живым человеком. Любил землю, и она щедро ему за это платила.
Земля в этих краях богатая. Каждое зерно, каждый саженец здесь плодоносит очень обильно. Долгими вечерами Хеорхино просиживал над книгами. В селе он был одним из немногих грамотных крестьян. Поэтому не случайно, что после победы революции Хеорхино Андраре был одним из активнейших деятелей — организаторов всенародного похода по борьбе с неграмотностью. В селе он был избран руководителем комитета по защите революции. Под непосредственным руководством Хеорхино в самых отсталых хуторах в людях пробудился интерес к знаниям. Энтузиасты по борьбе с неграмотностью не только учили людей писать и читать, но и становились их политическими учителями. Деятели, подобные Хеорхино, всем сердцем ненавидели контрреволюцию. 18 мая 1980 года враги с присущей им жестокостью расправились с Хеорхино Андраре. Садисты отрубили ему руки и выкололи глаза, осиротив пятерых его малолетних детей.
Мне показали детей Хеорхино. Они шли в колонне за портретом своего отца.
Колонне не было конца. Скандирование не стихало. Люди шли непрерывно. Песни звучали одна за другой. Смотрел я на все это и думал: «Это идет свободная Никарагуа, это взлет возрожденного народа!» А на поляну вблизи города вертолеты доставляли все новых и новых активистов по борьбе с неграмотностью. Они прибывали из самых отдаленных районов, куда невозможно добраться обычным транспортом. Безгранично благодарные ученики одарили своих учителей ягнятами, поросятами, курами — всем тем, что можно найти в сельском доме.
Действительно, и второй шаг революции сделан успешно. Ничто не сможет теперь помешать этому сильному народу идти вперед. У него есть свое знамя — Сандино, своя заветная идея — Карлос Фонсека и свой руководитель — Сандинистский фронт национального освобождения.
Мы больше не могли оставаться в кабинете. Волны разлившейся реки увлекали, и мы отправились на площадь. Со всех сторон в нее вливались широкие потоки. По пути Мария познакомила меня со смуглым кудрявым мальчиком. Ему едва ли было десять лет, но держался он солидно, как взрослый.
— Это наш замечательный сандинистский помощник, — похвалила его Мария.
— Что-нибудь можешь рассказать о себе? — спросил я паренька.
Он серьезно посмотрел на меня и еще серьезнее ответил:
— Мы, революционеры, не разглагольствуем. — И, обогнав нас, ушел вперед.
Мне хотелось пойти за ним, пожать ему руку и извиниться за свой не слишком тактичный вопрос. Как я мог спросить его об этом?! Ведь этот мальчик — нераздельная часть этого монолитного сплава, который и передо мной, и за мной, и во всем городе скандирует: «Сандино не продается и не предается! Сандино наше знамя!»
В знак благодарности своим учителям рабочие, крестьяне и ремесленники на свой средства поставили им на площади памятник. Цемент еще влажный, не во всем выдержаны требования архитектора, но сделан памятник от сердца.
Люди притихли. Начался отчет народной армии просветителей. Все выступления укладывались в три предложения: «Мы выполнили возложенное на нас поручение. Благодарим за доверие. Готовы к выполнению новых задач». И вновь зазвучал гимн народных просветителей. Пела вся площадь. Лучи заходящего солнца причудливо осветили венец из холмов, окружавших город. Было ли где-либо в мире другое место, которое собрало столько радости и красоты?!
После митинга мы вновь вернулись в кабинет Марии. Гостеприимная хозяйка предложила нам кофе. На стене я прочел надпись:
«На этом месте работай в полную силу! Забудь об унынии, безверии, некомпетентности, лености, раздражительности, страхе, горечи! Будь любезен, не распускай нервы!»
— Сегодняшний день походил на прекрасную сказку. Такое не забудешь никогда, — сказал я Марии.
19
СЕГОДНЯ несколько раз перечитал единственную страничку из дневника неизвестного сандиниста, погибшего на баррикаде в Манагуа. Строчки написаны не чернилами, а кровью:
«Умираю с верой в будущее. Оно прекрасно! Вижу его свет и слышу его песню. Это не мечта. Это наш завтрашний день. Завещаю его вам, дорогие мои братья!»
Это было все, что осталось от бойца. Небольшая реликвия, всего несколько строк. И вместо подписи — кровавые пятна. Как мне хотелось бы представить его живым! Это почти невозможно, потому что я ничего о нем не знаю. Но я уверен — он похож на всех тех, с кем мне приходится каждый день встречаться и разговаривать.
Перед ужином мы с Фредерико лежали на траве во дворе его дома. Говорили обо всем и любовались бесчисленными светлячками, которые вспыхивали вокруг нас, с наслаждением слушали неумолчный концерт кузнечиков. Память невольно вернула меня в детство, к моим друзьям из нашего села. Вот так же лежа на траве, мы допоздна пасли скот и под звездным куполом рассказывали истории одна страшнее другой… Такие вечера не забываются.
Вдруг тишину разорвали выстрелы и полицейские свистки. Стреляли совсем близко, около дома Фредерико. Он молча лежал на спине, подложив руки под голову, и не отрывал взгляда от изрешеченного светлячками полумрака.
— О чем задумался? — нарушил я молчание.
— Вспомнил ночи в горах и подумал о товарищах из Сальвадора, Гвинеи… — Он приподнялся и посмотрел на меня. Сколько решимости было в его глазах! Какую волю они излучали! — У нас многие считают, что наше счастье не будет полным, истинным только с победой революции в Никарагуа. Ведь наша победа была возможна только благодаря той помощи, которую мы получаем от боевых товарищей из Мексики, Сальвадора, Коста-Рики, Чили. Общее дело еще не завершено. Латинская Америка нуждается в нашей помощи… Будучи солдатом, — продолжал Фредерико, — я читал Паскаля. Мне запомнились его слова: «Настоящее никогда не было нашей конечной целью; прошлое и настоящее являются для нас средством достижения будущего — нашей конечной цели». Хорошо сказал этот мудрец, правда? И самое главное, верно. Очень хорошо понимаю, что не мы первые ступили на путь борьбы. Другие народы сделали это раньше нас, и мы сейчас их догоняем. И тем не менее наша задача вовсе не легка.
Фредерико сел, поджав жилистые ноги. Перед нами лежало озеро, а над ним — вечно недремлющий Момотомбо.
— Столетиями буржуазия и диктатор насаждали на этой земле только невежество, покорность. Столетиями, день за днем, из поколения в поколение, это убивало человеческое достоинство. Наши люди не видели ни другого неба, ни других звезд. Они боялись даже самих себя. Здесь нам предстоит много поработать. В завтрашний день мы должны прийти с другим сознанием, с чувствами хозяина, а не слуги. Это требует не только смелости, любви, но и неслыханной до сих пор самоотверженности.
— Разве революция еще не сделала такими ваши сердца и души?
— Ты меня не понял. Для меня быть самоотверженным значит не просто воевать и сгорать в огне революции, но и, победив в ней, после революции работать так, чтобы в завтрашнем дне воплотить свои мечты.
Снова раздались выстрелы. Пока продолжалась перестрелка, я думал о том, что в каждом никарагуанце живет тот неизвестный боец, который своей кровью написал несколько строк. Он завещал свой завтрашний день всем ныне живущим.
Мне очень хотелось, чтоб мой приятель рассказал о каком-нибудь интересном случае.
— Наверное, захват парламента — это одно из главных событий в твоей жизни? — начал я.
— Это событие действительно занимает историческое место в нашем революционном процессе. Политическое положение Никарагуа в 1978 году было сложным. Убийство доктора Педро Хоакина Чаморро дало новый толчок народному возмущению. Сомосовцы не только не успокоились, а, напротив, еще больше ожесточились. Участились случаи убийств женщин, детей, учителей. Кроме того, империализм планировал приостановить революционный процесс путем переворота, организованного крупным капиталом и реакционными кругами сомосовской гвардии. В ход была пущена идея — «сомосизм без Сомосы».
В создавшейся политической ситуации не оставалось ничего другого, как дать решительный и смелый отпор и одновременно с этим подготавливать условия для будущих революционных действий.
Так возникла идея напасть на парламент. Некоторые называли ее тогда безумной. И может, они имели на то право. Но после успешного проведения операции все поняли, что эта «безумная идея» была необходима. Почему? Нападение и захват парламента были тяжким ударом по сомосизму. Никогда еще ни один правящий режим не был так скомпрометирован. И сейчас, по истечении достаточного времени, стало ясно, что политические успехи гораздо важнее военных. В стране усилилось антисомосовское движение. Освобождение сандинистских политических заключенных усилило революционный оптимизм. Нападение на парламент еще выше подняло авторитет сандинистского движения. Оно окрепло и организационно, и идейно. Укрепились связи сандинистов с массами. Все это было смертельным ударом для диктатуры. Сомоса не предполагал, что в условиях репрессий может получить удар.
— Эти выводы крайне интересны. И я понимаю, что эта операция явилась катализатором революционного процесса. Но прошу тебя, расскажи мне подробнее, пока нас не прервали…
— Не скрою, всякое воспоминание о ней мне доставляет приятное переживание. Даже и сейчас, когда я встречаюсь с ее участниками, у меня поднимается настроение. Тогда 24 человека захватили парламент, в котором заседали депутаты. Среди депутатов были министры и другие лакеи Сомосы. Более двух тысяч сомосовцев оказалось в наших руках…
Он рассказывал, а я вспомнил, как несколько раз специально ходил в здание парламента, чтобы самому увидеть, где произошло это событие. И сейчас, слушая его, я не мог не удивляться дерзости их операции. Догадавшись, о чем я думаю, он усмехнулся и сказал:
— Кажется невероятным, что небольшая группа молодых людей успешно справилась с этим. Если подходить к этому только с военной меркой, действия сандинистов можно охарактеризовать как невероятные. Нам нечего было противопоставить современному оружию. Все прошло удачно благодаря уму, хитрости и высокому уровню революционной сознательности…
Бойцы отряда имени Ригоберто Лопеса Переса, укомплектованного лучшими силами сандинистов, разместились в одном из селений, отрекомендовавшись местным жителям семинаристами. Началась подготовка к операции, но уже с первых дней возникли непредвиденные осложнения. В то время сомосовцы регулярно проводили проверки домов, проверяли транспортные средства. Доставлять оружие оказалось делом невозможным, и это вынудило их на какое-то время остаться в селении. Не обошлось без курьезов. Какая-то женщина из обслуживающего персонала попросила «духовных» лиц окрестить ее ребенка.
— Пришлось заняться нам и этим, — рассмеялся рассказчик.
На следующий день после «крещения» должно было состояться заседание парламента, а бойцы не были еще достаточно подготовлены. Не была налажена и координация их действий. Возникло множество непредусмотренных планом проблем. А поскольку какой бы то ни было дополнительный риск был категорически запрещен, день начала операции перенесли. Наконец точное число было назначено — 22 августа 1978 года. В этот день на заседании должен был обсуждаться государственный бюджет. Обычно при обсуждении этого вопроса присутствуют все депутаты парламента.
Наступил решающий час. Бойцы разместились на нелегальных квартирах в столице. По заранее подготовленным сотрудниками Сандинистского фронта чертежам участники операции тщательно изучили расположение всех помещений парламента. Под видом курсантов училища национальной гвардии сандинисты должны были пройти мимо охраны. Но вот наконец все подготовлено — необходимая форма, автомашины, выкрашенные в зеленый цвет. Проведена последняя репетиция. Рассчитан каждый шаг, учтено все до мелочей — расстояния между помещениями, расположение окон, даже физические возможности каждого охранника.
Заседание парламента началось. Машины подъехали к определенному планом месту. Переодетые сандинисты быстро вышли из машин. Первым шел руководитель операции. Подражая сомосовским военачальникам, он с важным и самонадеянным видом направился к восточному входу в парламент, строго покрикивая на гвардейцев:
— Расступитесь! Шеф идет!
Гвардейцы послушно уступали дорогу «курсантам» из групп Доры Марии Телес и Уго Тореса.
В парламенте сандинисты стали хозяевами положения всего за несколько минут. Сомосовская охрана была разоружена и заменена их бойцами. Депутаты шепотом один другому стали передавать, что гвардейцы совершили государственный переворот.
Когда руководитель операции дал поверх голов автоматную очередь, государственные мужи попадали на пол, самые трусливые заползли под кресла. Один из гвардейцев успел спрятаться и при первом же удобном случае открыл огонь, но тут же был сражен пулей патриотов. Чей-то громкий голос выкрикнул: «Да здравствует Монимбо!» Это был пароль, который оповещал сандинистов об успешном захвате парламента.
В здание пытались прорваться гвардейцы. Были подняты в воздух вертолеты, однако сомосовцы ничего не могли добиться. Сомоса был вынужден согласиться на переговоры, хотя сначала не верил, что сандинистам удалось захватить парламент, и в бешенстве кричал: «Никаких переговоров! Все должны погибнуть!»
Однако присутствие среди задержанных Хосе Сомосы и Поляиса Дебайле вынудило его пойти на переговоры.
Итак, операция завершилась полным успехом. Молва об этом быстро облетела весь город. На улицы вышли и стар и млад.
Сомоса потерпел тогда позорное политическое поражение. От самого парламента до аэродрома патриотов сердечно приветствовали толпы мужчин, женщин и детей…
— В результате сандинисты получили полмиллиона долларов, а политические заключенные свободу. Соотношение сил внутри страны явно изменилось в пользу освободительного движения. И еще эта операция стала прелюдией славного Сентябрьского восстания 1978 года. И мы, члены СФНО, убедились, что единственно правильным путем к заветной цели является вооруженная борьба… Вот вкратце об операции по захвату парламента. Если ты устал, слушая меня, давай выпьем еще по чашечке кофе.
Я отказался. После такой беседы хотелось побыть одному, пойти к зданию парламента и еще раз рассмотреть его.
20
ПО ПУТИ из аэропорта Сандино шофер тормозил через каждые триста метров. Он останавливался, чтобы пропустить детей, которые с веселым шумом пересекали шоссе.
— Это наши любимцы, — пояснила гостеприимная хозяйка, облаченная в зеленую военную форму, с двумя пистолетами. — За счастье детей воевали мы с диктатором, который отнял у них кусок хлеба и солнце. Во имя их будущего работаем сегодня. — Она испытующе посмотрела на меня, наверное, хотела понять, ясен ли мне смысл ее слов, и поспешила дополнить: — Победа революции — это не только конец ужасной диктатуры и начало новой, мирной жизни. Это прежде всего выражение любви к детям, залог строительства нового мира и воспитания новых людей.
В течение всех последующих дней я не раз убедился, что это не просто слова матери-революционерки, а суть политики Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа.
В первые дни победы восставшего народа 19 июля 1979 года, когда бойцы еще находились на баррикадах, когда тропические дожди еще не смыли кровь погибших героев, Национальное руководство приняло первое решение. Детям было передано самое большое здание в Манагуа — бывшая собственность сомосовца Чато Ланга. Через месяц новым декретом в центре города была выделена огромная площадь для детского парка. А 7 сентября 1979 года на стотысячном митинге команданте Карлос Нуньес огласил решение Национального руководства о создании Союза сандинистских детей «Луис Альфонсо Веласкес».
Рассказать о Луисе Веласкесе — задача трудная. Его жизнь — легенда. Подобно метеориту он озарил революцию. Пока еще его жизнь не описана в очерках и книгах. Луис Веласкес живет в памяти и сердцах своих сверстников, боевых товарищей.
Я решил пойти по пути, пройденному Веласкесом. Хотелось познакомиться с его жизнью, понять, откуда берутся такие люди. Начал с его родного дома в самом бедном квартале — маленького, перекошенного, будто надломленного тяжестью нищеты. Вокруг, на стенах соседних домов, еще не стерты дореволюционные лозунги, призывающие к борьбе. Напротив, в сотне метров, находится школа, в которой учился Луис. В дверях умолкшего дома меня встретила женщина средних лет, худая, с большими синими глазами и смуглым лицом. Это была Валентина Флорес, мать Веласкеса.
— Принимаете незваных гостей? — спросил я.
— У нас каждый гость желанный, — ответила хозяйка и приветливо пригласила меня в дом.
В доме было всего две комнаты. В одной на маленьком деревянном столе у книг стояла фотография Луиса, а перед ней ваза с цветами. Несколько цветов лежало вокруг вазы. Женщина стала их собирать и извинилась:
— Сейчас только пришла с работы. Дети из нашего квартала каждое утро приносят свежие цветы. Луис очень любил цветы. Он часто мне говорил: «Когда победим, каждый день буду приносить тебе букет цветов».
Я молча стоял и смотрел на мальчика с ершистыми волосами и большими, как у матери, глазами. В комнате стояли широкая деревянная кровать и стол. Это было гнездышко, из которого вылетел орленок. Несмотря на бедность, здесь было уютно и тепло. Валентина Флорес пригласила меня сесть, и я сел на стул, на котором когда-то сидел, делая домашние уроки, а затем сочиняя нелегальные призывы, Луис Веласкес. Сел и стал слушать рассказ его матери.
Валентина Флорес не скрывала волнения. Глаза ее расширились и увлажнились, голос звучал приглушенно.
— Из пяти сыновей я потеряла двоих. Первым Энрике, старшего. С ним мы добывали хлеб для других. Энрике выступал на похоронах Педро Чаморро, а спустя два дня и его самого привезли мертвым. Мы не могли узнать, при каких обстоятельствах он погиб. Не смели и спрашивать, потому что боялись. Днем на работе все-таки легче проходит время, но ночью было жутко… — Женщина вытерла выступившие слезы.
Я попросил ее подробнее рассказать о Луисе. Взгляд матери надолго остановился на фотографии.
— Для каждой матери ее дети всегда самые хорошие и самые умные. Но из пятерых он казался мне умнее всех. Соседи относились к нему как к взрослому и часто советовались с ним.
На улице зашумел грузовик, послышались радостные крики детей. Валентина на минуту прервала воспоминания, потом продолжала:
— Луис был очень чувствительным ребенком. Переживал несчастья каждого своего товарища как свои собственные. Часто брал у меня деньги якобы для разных покупок, но в конце концов я узнала, что он раздавал их нищим ребятишкам. И еду отдавал им. А однажды я послала его в аптеку за лекарством для брата, который лежал с высокой температурой. Он тут же ушел, но задержался. «Твой брат умирает, а ты где-то ходишь», — отругала я его, когда он вернулся. А Луис виновато посмотрел на меня и сказал, что зашел к своему товарищу, у которого тоже высокая температура, но у родителей нет денег на лекарство, и оставил половину купленного лекарства больному мальчику. Дети нашего квартала его любили и постоянно спрашивали: «Где Луис?»
— А в школе как он учился?
— Был отличником. Умел организовать свое время, поэтому все успевал сделать. За год до убийства меня встретил его учитель. Он покачал головой и сказал, что Луис еще создаст для меня трудности. «Озорной немного», — сказала я, чтобы несколько смягчить его слова. Но учитель ответил: «Не озорной, госпожа, а бунтарь, политический бунтарь. Не знаю, чем это закончится». Сердце мое сжалось.
— А вы не знали о его подпольной деятельности?
Она опять посмотрела на фотографию. Взгляд ее был печален. Душевная рана еще не зажила, и даже легкое прикосновение к ней вызывало боль.
— Мать всегда все знает и ничего не видит. Работать мне приходилось по двенадцать часов ежедневно. Домой приходила усталая и сразу ложилась спать. Так было изо дня в день. А Луис всегда что-то писал и ложился позже меня. После разговора с учителем я стала видеть страшные сны. Однажды встала ночью — Луис писал. Он сидел на этом стуле, а сбоку на столике лежала пачка листов. Я подошла и присмотрелась к исписанным страницам. Это были призывы, листовки, лозунги. Прочитав первый лозунг, я онемела — такую муку и огонь источали строки. Он вытащил один листок из середины пачки, обнял меня и прочитал: «Благословение та мать, которая родила и воспитала сандинистского сына!» «Знаешь ли ты, что от этого огня и наш дом, и все мы сгорим?» — сквозь слезы спросила я его. «Все знаю, мама. Но для меня нет другого пути. А ты должна понять, что каждый дом должен стать баррикадой в борьбе против диктатуры».
Озлобленная, бросилась я к этим опасным листкам. Хотела их порвать, но он вскочил и схватил меня за руки. «Бороться — это и твой долг, мама», — нежно, как бы упрашивая меня, сказал он. «Но ты ведь еще ребенок! Пусть борются мужчины». — «Сегодня нет детей. Все должны быть бойцами И ты, и мои братья, и все…»
От нервного ли напряжения, от страха ли я не могла выдержать и ничком упала на кровать. Он не пошевелился. Даже не попытался меня утешить. Я плакала: «Тебя убьют, Луис…» «Всех не могут убить», — спокойно ответил он мне и продолжил писать призывы.
После той ночи я много раз пыталась не выпускать его из дому. Прятала одежду, но товарищи ему приносили другую, и он уходил. Брала его с собой, но и рабочие ему помогали. И тогда я поняла, что он рано возмужал и мешать ему бесполезно. Наш дом стал превращаться в оружейный склад…
В комнату ввалилась шумная мальчишеская ватага. Валентина представила мне Роберто, своего сына, и его друзей. Воспользовавшись случаем, я спросил Роберто о Луисе, и юноша рассказал:
— Луис умел хранить тайну, хорошо знал принципы конспиративной работы. Я никогда ни о чем его не спрашивал. Но так случилось, что на одну нелегальную встречу я опоздал и, когда вошел в комнату, увидел Луиса. Не стерпев, подошел и спросил, что он здесь делает. «То же, что и ты», — усмехнулся он. После встречи возвращались вместе и решили больше не таиться друг от друга. Когда мы уходили вместе, мама была спокойнее. Тогда перед нами была поставлена задача: сделать как можно больше контактных бомб.
Никогда не забуду, как мама заболела и за ту неделю ничего не получила. Нам нечего было есть. А ребята передали Луису значительную сумму денег для покупки материалов для бомб. Сколько мы его ни упрашивали взять из этой суммы всего несколько кордоб, чтобы купить еды, а потом их вернуть, он был непреклонен.
«Те люди, которые дали эти деньги, тоже голодают. С каким сердцем ты возьмешь деньги?» — спросил он.
Затем меня направили в партизанский отряд, а Луис остался здесь. Я часто слышал о нем, о его пламенных речах на митингах. А однажды меня вызвал командир, отвел в сторону. Я подумал, что он хочет дать мне особое поручение, а командир обнял меня и вполголоса сказал: «Убили Луиса, изверги…»
Удалось мне услышать и воспоминания Хулио Лопеса, члена национального секретариата и заведующего отделом международных связей Сандинистского фронта национального освобождения. Я пришел к нему в рабочий кабинет. Встретил меня молодой человек. Черные волосы, очки с толстыми стеклами, внушительные черные усы. Я сказал, что хотел бы услышать его воспоминания о Луисе Альфонсо Веласкесе. Он придвинул стул к столику, выпрямился, снял очки и долго тер уставшие глаза. Молчали мы более минуты. Затем он посмотрел на меня и спросил:
— С чего начать?
Я сказал ему, что уже встречался с матерью и братом героя.
Хулио начал свой рассказ медленно, напевно, и в голосе его слышалась нескрываемая боль.
— Умным и бесстрашным был Луис. Это я открыл в нем с нашей первой встречи. А впечатления от первой встречи всегда самые сильные. Первая наша встреча произошла 21 февраля 1979 года на митинге в университете в Манагуа. Тогда я получил записку, что слова просит руководитель детского движения. Я не обратил особого внимания на эту просьбу и сунул записку в карман. Получил вторую. После этого, обращаясь ко всем, сказал: «Товарищи, среди нас находится один маленький сын Сандино, который хочет выступить. Дадим ему слово?» Тысячи собравшихся проскандировали: «Сандино жив! Сандино жив!» И тут я увидел, как мальчик в красных брюках пробирается сквозь толпу. Когда он подошел к трибуне, я успел сказать ему, что время нам дорого и потому он должен быть кратким. Луис улыбнулся и взял микрофон.
Хулио замолчал. Наверное, вспомнил то суровое время, мысленно встретившись взглядом с Луисом и услышав его искренние и сильные слова.
— Он был необыкновенным бойцом, мужественным и беспокойным. Это живая легенда, у которой есть начало, но нет конца. После первой встречи с ним я узнал, что Луис общепризнанный руководитель детворы, хотя ему всего восемь лет. Он бросил школу и выбрал трудный путь революционера. Был у него и псевдоним — Сверчок. Была и боевая биография: распространял листовки, укрывал членов боевых групп, участвовал в нескольких сандинистских операциях. Однажды сомосовцы обыскивали его дом. А у него в шкафу было полно бомб. Ночью их не успели передать товарищам. Луис быстро нашел выход из положения. Несколькими штрихами нарисовал на дверцах шкафа портрет диктатора и под ним написал: «Да здравствует Сомоса!» Тайные агенты вошли, вытянулись перед портретом своего шефа, откозыряли ему и быстро покинули дом.
Много раз я встречался с Луисом и всегда разговаривал не с ребенком, а с закаленным и верным сыном революции…
Жители бедного квартала никогда не забудут душный, наполненный зноем день 27 апреля 1979 года. С утра военная машина патрулировала по улицам квартала. Валентина Флорес вспоминала, что всю ночь ее что-то беспокоило и она никак не могла уснуть. С утра попросила Луиса сходить к врачу и показать руку, которая болела у него уже несколько дней. Но он ответил, что пойдет вечером. А сам вечером отправился на нелегальную встречу в дальний квартал. Но там его уже поджидала засада. В наступающей ночи раздалось несколько выстрелов. Сверчок был ранен и упал, а военная машина проехала по нему. Люди бросились к Луису, но полицейские забрали его и отвезли в больницу.
Он жил еще шесть дней, и эти дни были для него полны нечеловеческих страданий, без какой бы то ни было медицинской помощи. Даже матери не разрешали прийти к нему.
2 мая 1979 года, когда до победы революции оставалось всего полтора месяца, Луис Веласкес скончался…
Я посетил Дворец пионеров. Дети сновали вверх-вниз по этажам, по большим и просторным помещениям. Из одного зала доносилось пение пионерского хора, из другого — художественное чтение. Через открытую дверь было видно, как рисуют будущие художники. Во дворе стоял шум. Это дети играли в подвижные игры. Во всем мире дети одинаковы, хотя и немного различны. Это я понял после беседы с Селенией Карендол — председателем Совета Союза сандинистских детей «Луис Альфонсо Веласкес» и секретарем Союза сандинистской молодежи. После осмотра Дворца пионеров мы расположились в одной из комнат. По всему было видно, что ее только что покинула детвора.
— У нас всегда очень оживленно. Наш дом — самый богатый в этой стране. Мы даже богаче банка, потому что детей и за золото невозможно купить.
Селения Карендол — веселая женщина, с игривыми маленькими глазами и ученической прической. Невозможно даже представить, что эта совсем молодая женщина командовала партизанским отрядом, сражалась с хорошо обученными наемниками. Будучи тяжело раненной, она, истекая кровью, несколько дней ползла, добираясь к своим. Только чудом осталась жива.
— Дети сыграли значительную роль в создании сегодняшнего дня. В большом походе за поголовную грамотность они были своеобразным «тылом обучения грамоте». Более 126 тысяч детей участвовали в организованных культурных программах и посетили самые отдаленные уголки страны. Впервые в жизни нашего народа сейчас уделяется внимание фольклорному богатству. Дети записали тысячи песен и народных обычаев. Крестьяне умеют рассказывать и увлекать других.
Постепенно комнату заполняли дети. Они непринужденно рассаживались вокруг нас на полу и охотно дополняли рассказ Селении. Особенно они оживились, когда речь зашла о подготовке выставки самоделок маленьких сандинистов. За несколько минут на столе, диване, на полу заблестело целое богатство из цветов и даров природы. Фантазия маленьких мастеров была удивительна. Они показывали нам свои произведения и по-детски наивно спрашивали:
— Вам нравится?
Услышав нашу похвалу, радостно сияли и щедро предлагали:
— Возьмите на память, мы еще сделаем. — И спешили добавить: — Получится еще лучше.
Несколько часов я рассматривал это сказочное богатство и ни в одной самоделке не заметил и капли пережитого горя. Напротив, каждый предмет нес в себе оптимизм, радость и детское представление о завтрашнем дне. Эти маленькие патриоты ненавидели войну.
Когда мы вместе с детьми уселись пить лимонный сок, Селения рассказала еще об одной интересной инициативе сандинистских ребят.
— Она не такая уж большая по масштабу, но очень важная по содержанию. Более тысячи ребятишек продают на улицах газеты, хотя сами не могут читать. Пусть это не покажется вам парадоксальным, но до революции это явление у нас было закономерным. Всего за несколько месяцев маленькие продавцы газет и чистильщики обуви из Манагуа и других крупных городов были организованы в группы по обучению чтению и письму. А сейчас они ходят в школу и там продолжают свое образование.
Дети зашевелились, потом взгляды всех устремились к одному смуглому мальчику.
— Он был главным команданте в Манагуа, — сказал кто-то из детей.
А мальчик скромно опустил голову и отвел глаза. Напрасно мы просили его рассказать о том, как ему удалось организовать эту огромную армию мальчишек.
— Это было легко, — ответил он. — Мы делали это для себя и ничем не рисковали. Важнее рассказать о тех, кого сегодня нет с нами.
Все замолчали. Я знал, что в этой стране тысячи детей участвовали в революции. Некоторые иностранные журналисты не в шутку отмечали, что диктатора Сомосу свергли дети и молодежь. И сейчас я почувствовал огромное уважение к этим детям — героям.
— О Пелоне расскажи! — попросили ребята Рене Гарсиа, одного из руководителей Дворца пионеров. — Он же был в вашем отряде!
— Был, — тихо начал Рене. — Я так и не узнал, что привело Пелона к нам. Помню только, что были мы в квартале Дукоалик. Сами понимаете, что во время сражения некогда объясняться. Да и какое это имеет значение! Я и сейчас вижу, как он прыгнул к нам, где мы забаррикадировались, и веселым, беззаботным голосом закричал: «Запишите еще одного бойца!» Кто-то из товарищей спросил его имя, но другой шутник поспешил ответить вместо него: «Пелон».
Так он и остался без имени. Кличка, которую ему дали, очень подходила этому коротко остриженному, будто действительно плешивому парню. Этот день был самым тяжелым. Три раза атаковали мы полицейский участок, и три раза нас отбрасывали. А этот рубеж был очень важным. Его надо было взять до наступления темноты. И когда мы уже решили, что задача практически невыполнима, Пелон попросил, чтобы его подняли на руках и помогли взобраться на ограду, чтобы он мог с нее атаковать полицейское укрепление. Все молчали, а он собирал наши гранаты и засовывал их себе за пояс. «Как лимоны, им подброшу!» — кричал он, подтягивая пояс, который сползал под тяжестью гранат. «Попробуем!» — предложил кто-то из группы. «Команданте, поддержи! Мы, продавцы газет, люди закаленные», — сказал Пелон.
Все ждали решения командира. Время быстро бежало, и темнота сгущалась, а она была на руку сомосовцам. «Попробуем!» — согласился командир. Несколько бойцов сплели руки. На них стали двое других, что полегче, а на их руки взобрался Пелон. Он ловко влез на ограду, и, прежде чем его заметили из укрытия, гранаты, которые бросал Пелон, начали рваться одна за другой. «Скорее слезай!» — закричали ему сандинисты. Внизу ребята растянули брезент, чтобы Пелон мог спрыгнуть, но он продолжал бросать гранаты и не собирался прыгать, пока не разрушил до основания укрепление врага. «А это мой последний привет вам, бандиты!» — услышали все его возглас.
Но тут раздалась автоматная очередь. Пелон вскрикнул и упал на брезент. «Убили меня… убили…» — тихо сказал он и умер.
Громкое «ура» огласило все вокруг. Гибель безымянного юного героя придала новые силы уставшим бойцам. Штурм завершился успешно. Прежде чем наступила ночь, участок был взят, а с ним захвачен и весь квартал.
Бойцы похоронили маленького продавца газет, а на табличке написали только данную ему бойцами кличку. В наших сердцах он остался синонимом безымянного героя…
Потом я прощался с моими маленькими друзьями. Они протягивали мне руки и просили передать привет болгарским пионерам. Я обещал выполнить их просьбу.
21
Я ПОСЕТИЛ ЧИНАНДЕГУ, промышленный центр Никарагуа. Это царство хлопка, сахара и бананов. В городе работают два завода по переработке сахарного тростника. Один из них, на котором работает более 10 тысяч человек, самый большой в Центральной Америке и выпускает 48 процентов всего сахара в стране.
На этой земле, расположенной по побережью океана, американский капитал окопался как спрут. Напомню только, что 14 банановых плантаций являются собственностью американцев. Для никарагуанских крестьян земля, на которой они родились, давно стала мачехой.
Кусок хлеба или щепотку риса они добывали неимоверным трудом на банановых плантациях или на фабриках, принадлежащих американцам. Изгнанные с земель крестьяне пытались найти приют в крупнейшем порту Никарагуа — Коринто.
Город занимает большую площадь. Дома скрываются в зелени, и нам, иностранцам, в нем трудно ориентироваться. Пока мы нашли нужное здание, пришлось обойти почти весь город. Несколько раз наш путь пересекали рвы и воронки от авиационных бомб. На пути встречались торчащие остовы обгоревших и разрушенных зданий. Эта продолжительная экскурсия по городу раскрыла перед нами быт рабочих. Всюду мы видели много детей и большую бедность. Почти все дома стояли без дверей и окон, и все внутри просматривалось. Картина в каждом доме одна и та же: большие нары, заваленные тряпками, несколько грубо сколоченных стульев и развешенная по стенам одежда, Все здесь дышало бедностью. Дети стыдливо протягивали ручонки, уставшие и робкие женщины опускали глаза, стыдясь нищеты. И только буйная зелень, которая пробивалась всюду, говорила о жизни.
Самое дешевое, что можно найти в этой стране, — это рабочая сила. Плантаторы не покупали технику, чтобы не удорожать производство. Все здесь примитивно. А заботы о здоровье человека вообще никакой не было. От химических препаратов и укусов различных ядовитых насекомых люди ежедневно умирали десятками.
В Чинандеге речь зашла о Робело, покровителе крупных хлопкопроизводителей. Их немного, потому что 70 процентов производства хлопка в этом крае — собственность десятка богатых семей. Но речь идет о Робело, владельце огромных плантаций земляных орехов, завода по производству растительного масла и многих участков земли в различных районах страны. Речь идет о том Робело, который был членом хунты, а затем демонстративно покинул ее, чем создал дополнительные трудности для Сандинистского фронта. Мнение о нем Паоло, закаленного в борьбе профсоюзного лидера, было категорично:
— Робело чужая и мерзкая кровь. Он не может жить в теле революции. Она его выбросит как инородное вещество, или, если он останется, он будет постоянно вызывать воспалительный процесс.
— Разве он не патриот? — спросил я у Паоло.
— Грабитель и бесстыдник! — Лицо Паоло вытянулось. Он с большим усилием сохранял спокойствие. — Каким патриотом может быть человек, который поджигал дома крестьян, чтобы оформить на себя плантацию? Какой он патриот? Когда наши дети умирали от голода, он сыто и безразлично смотрел на них как на червей! Я, старый рабочий, сердцем и душой распознаю патриота. Для нас, простых людей, не речи, какими бы они хорошими ни были, а дела раскрывают истинных патриотов.
Сколько же гнева скопилось в душе этого человека! И сколько муки!
— Мы не птицы, чтобы жить в воздухе, мы не рыбы, чтобы жить в воде. Мы люди и живем на земле. И хорошо знаем, что происходит на этой грешной кормилице. Никарагуанские крестьяне и рабочие накопили огромный жизненный опыт. Нас не обманешь, — заключил Педро.
Из бесед с Магдой Энрикес, членом Окружного руководства СФНО, я узнал о некоторых проблемах женского движения.
— После революции резко повысились общественное сознание и социальная ответственность никарагуанки, — сказала она.
Этот разговор вернул меня к воспоминаниям о прежних встречах с женщинами из разных уголков страны. Меня всегда интересовало, что нового дала им революция. Обычно ответы женщин были краткими и точными:
— Сандинистской революции мы обязаны прежде всего нашим спокойствием, уверенностью в завтрашнем дне.
Другие добавляли:
— Революция открыла нам глаза. Раньше все сельские женщины были неграмотными.
— Любовь к жизни нам вернула революция!
Сейчас понимаю, что революция для них — это не только свобода, но и жизнь — осмысленная, самостоятельная. Впервые и только сейчас женщины стали получать образование. Еще один факт, который резко бросается в глаза иностранцу, — почти каждая встречная женщина в этой стране беременна. В Никарагуа пожилых людей мало. Это страна вулканов, красивых озер, островов и прежде всего молодых людей. Средний возраст населения — 29 лет…
— Остановись! — сказала Магда шоферу. — Это дом Германа Помареса.
Машина свернула на обочину и остановилась. Мы вышли. Посетить отчий дом этого титана, с любовью воспетого народом, для меня честь. Домик маленький, бедный, перекошенный, как и все дома в этом квартале.
— Спасибо тебе, Магда, за приятную неожиданность! — сказал я. — Жаль, что не знал о твоей идее и не взял букет цветов.
— Герман мой идейный наставник, — с гордостью сказала Магда. — Он мне на многое открыл глаза, дал мне силу для борьбы…
Магда рассказывала мне о нем, а я видел, как рос и мужал этот революционер, один из самых крупных деятелей сандинистского движения. Герман родился в августе 1936 года, наверное, здесь, в этой маленькой комнатке, потому что в другой, побольше, жили его старшие братья и сестры. Он рос, не зная материнской ласки. Каждый его день был заполнен одной заботой — достать кусок хлеба. И очень часто ложился спать, поужинав бананом. Учиться в детстве ему не удалось. Никто в их доме не мог ни писать, ни читать. Только в партизанском отряде товарищи научили его читать. Тогда ему исполнился 21 год. После этого он часто повторял: «Человек, который не может читать, подобен заключенному в темнице».
Герман Помарес — один из основателей СФНО. Бедный крестьянин с живым умом и талантом организатора стал профессиональным революционером, верным помощником Карлоса Фонсеки. В борьбе для него не было маленьких и больших задач. Он считал все задачи очень важными, какими бы незначительными они ни казались. Помарес — признанный всеми революционер-педагог. Когда команданте Хорхе Наварро спросил, как ему удается подбирать задачи по плечу каждому, Помарес воспринял вопрос как комплимент и ответил, что этот дар достался ему от матери — понимать людей не по словам, а по делам. И добавил: «О людях судят не только по большим делам, но и по мелким. Когда в горы приходит новые товарищи, я с первого взгляда вижу, кто из них готов к суровой жизни, а кто нет. Тот, кто не может жить в горах, получает другое задание. Для меня важны все задания революции».
Его дом такой маленький, а какого орла вырастил и воспитал! Я осмотрел жилище со всех сторон. Двери были открыты настежь. Из маленькой комнатки с фотографии над кроватью на меня смотрели глаза Германа Помареса. Живые, умные глаза. Его боевые товарищи часто вспоминали, что самым важным качеством революционера Помарес считал честность. Он был уверен, что только честный человек может понять тех, кто страдает, кто угнетен и измучен. Только честный человек шел на «кровавую свадьбу» не ради личной выгоды, а из любви и уважения к своему порабощенному народу. Он считал, например, что истинный революционер — это тот, кто может признать свои ошибки и уважает советы своих товарищей. Не страшно, если такой человек ошибется. Он всегда поймет, где истина, и пойдет верным путем. По мнению Помареса, человек должен постоянно чувствовать ответственность за свои действия.
Все крупные инициативы СФНО связаны с именем Германа Помареса. Его знали в селах и городах. Хорошо знакомый с условиями гор, он подбирал новых бойцов для фронта Сандино. Боевые товарищи говорили, что он энергичен, решителен и смел в бою. Он всегда был в первых рядах и на самых трудных участках. Герман Помарес был одним из руководителей эпопеи «Панкасан» — битвы, которая еще раз показала, что единственный путь борьбы против диктатора — вооруженный, что только сплоченный народ под руководством своего авангарда может взять власть и построить новую жизнь.
Помарес погиб в последние дни революции 21 мая 1979 года при взятии Чинандеги. Никарагуанцы и сейчас не могут поверить в его смерть; и часто в селах рассказывают легенды: что встречали его в горах, что он постарел, что он, наверное, в других странах организует порабощенных на борьбу за освобождение.
— Герман был не только талантливым организатором, — сказала Магда, когда я выходил из дома. — Он был и увлекательным собеседником, внимательным товарищем, смелым бойцом, большим патриотом, любящим отцом…
— Помарес был достойным человеком! — подхватил я.
— Да! Действительно, он был человеком новой формации.
Мы простились с домом, с Помаресом и поехали дальше. Посетили сахарный завод, который носит его имя. С 19 июля 1979 года этот завод является собственностью народа. На заводе работает около трех тысяч человек, в основном молодые люди.
— Что изменилось с тех пор, как вы стали хозяевами завода? — спросил я окруживших меня парней.
Они посмотрели на самого маленького, но, как видно, опытного, крепкого юношу с синими глазами и смуглым лицом. Он откашлялся, провел ладонью по лицу и ответил:
— Раньше, после того как заканчивалась переработка сахара, две с половиной тысячи человек оставались без работы, а сейчас работаем круглый год. Это для нас самое главное.
Рабочие одобрительно закивали.
— А почему так — сейчас есть работа, а раньше не было?
— Очень просто, — объяснил парень. — При заводе мы организовали вспомогательное производство — выращиваем овощи.
— И другое преимущество имеем, — дополнил пожилой рабочий. — Прибыль, которая раньше тратилась детьми собственника в барах, сейчас поступает в столовую. Обеды теперь не только очень дешевые, но и вкусные. Работаем у себя и для себя. Без надзирателей, без кнутов. Сами себе мы контролеры.
Я видел, что завод старый, с примитивным оборудованием. Но энтузиазм рабочих беспределен. Они взяли повышенные обязательства и поэтому задерживаются допоздна. Для них тростник — «белое золото», ни одна веточка не должна пропасть. А вечером неудержимая сила влечет их в клуб. Там они обсуждают заводские дела, коллективно решают все производственные проблемы, с интересом ловят каждое слово своего товарища, побывавшего в Советском Союзе. На одну из таких встреч попал и я.
Выступал юноша, почти мальчик. Он сказал, что в Советском Союзе на заводе имени Лихачева каждые пять минут с конвейера сходит автомобиль. Услышав это, рабочие удивленно зашумели.
— А в субботу и воскресенье, — продолжал юноша, — каждый рабочий с семьей выезжает отдыхать в Подмосковье. Там у них свой заводской дом отдыха. Все оборудовано и обставлено великолепно, как в самых лучших отелях…
— А ты не спросил их, за сколько лет они достигли такой жизни? — прервал его какой-то нетерпеливый рабочий.
На этот вопрос юноша ответить не мог. Забыл спросить у советских товарищей.
Юноша долго рассказывал о стране Владимира Ильича Ленина, о людях, о заводах, обо всем, что успел увидеть. Такие беседы рабочие называют «московскими вечерами». В них рабочие черпают силы, которые помогают им преодолевать тысячи трудностей, создаваемых старой техникой и малым опытом организации труда.
Любознательность, жажда знаний и общения с миром присуща каждому гражданину этой возрождающейся страны.
На пороге деревянного дома сидел старик. Увидев, что мы приближаемся, он встал. Наш сопровождающий, наверное его старый знакомый, вместо приветствия спросил:
— Как дела?
— Читаю, — ответил старик и показал нам маленькую детскую книгу с крупными буквами.
За домом под столетним манговым деревом мальчонка с жадностью читал книгу Карлоса Фонсеки «Один никарагуанец в Москве». То, что я увидел здесь, в рабочем квартале Чинандеги, — это капля, в которой отражается жизнь всей страны. Повсюду независимо от возраста идет широкое наступление на неграмотность. Думаю, что в эти месяцы страна переживает особый подъем.
В Чинандеге мои представления о стране и людях дополнились новыми фактами. В памяти этот город останется связанным с именем достойного сына никарагуанского народа Германа Помареса, с рабочими, с их прилежанием в труде и учении, с их самопожертвованием. Покидаю Чинандегу, а чувство такое, будто покидаю Луковит сороковых годов. Остаются за спиной приземистые дома, мастерские ремесленников и тысячи вопросительных взглядов, так напоминающие взгляды луковитчан.
Не надоели ли тебе мои длинные письма? Это мои беседы не только с тобой, но и с моим родным краем, с моими друзьями.
Сердечный привет всем!
22
ОПИСАТЬ ТЕБЕ Монику Бальтодано трудно. Мы встречаемся почти каждый день, спорим, разговариваем, а я все никак не могу понять, что делает ее постоянно разной. До такой степени я уже свыкся с присутствием Моники, что принимаю ее как близкого человека, но потому-то и не могу уловить ее характерные человеческие качества. И все же есть что-то, что меняет ее постоянно. Возвращаясь к этой мысли, спрашиваю, что именно. Ее нежность, изысканность, ее кристально чистый взгляд или звонкий голос? Или ее отзывчивое сердце? Или ее баснословная работоспособность? Или неповторимая грация в танцах? Трудно это объяснить. Удивляюсь, как она уцелела в пожарище революции. На это Моника мне ответила:
— Революция меня согревала, окрыляла, хранила. Революция — это не только бои, нелегальные явки, это а жизнь, наполненная большой теплотой, истинным товариществом и братством в отношениях между людьми.
Моника — одна из тысяч никарагуанских женщин, участниц революции, которые с первого и до последнего дня боролись рядом с мужчинами, чтобы сделать свою родную страну свободной и счастливой. Сейчас, после победного триумфа, Моника является членом Национального руководства и заведует отделом массовых организаций СФНО. Чтобы ты имела более полное представление о ней как о человеке и революционере, скажу тебе, что не бедность привела Монику в ряды СФНО, а идея, что все должны быть счастливы. Моника из зажиточной семьи. Училась на медицинском факультете. Любит музыку, поэзию. Для нее были открыты двери в высшее общество. Но она решительно от всего отказалась и пошла по революционному пути.
Мы были в гостях у Дуси Марии, сотрудницы отдела, которым заведует Моника. Пришло много их общих друзей. Разговаривали громко, за некоторыми столами пели. Шестилетняя дочь Дуси Марии помогала накрывать на стол. Всем своим видом она стремилась показать, что уже достаточно взрослая. Какая милая девочка! Моника наклонилась и поцеловала ее. Девочка тут же повернулась и продолжила свое занятие.
— Больше всего на свете люблю свободу и детей, — сказала мне Моника. — И связь между этими понятиями совершенно естественна. Во время студенческой практики к нам в больницу приводили много детей со вздутыми от голода животами. По нескольку дней я не разлучалась с ними, чтобы как можно больше помочь им. И была самой счастливой, когда она начинала поправляться, ходить и шалить. Дети без шалостей — это не дети. Но когда через месяц они вновь попадали к нам, я приходила в ужас. Тогда я, как человек и врач, поняла главное — не дети, а общество нуждается в серьезном лечении. И навсегда связала свою судьбу с сандинистами. Я теперь знала — моя любовь к детям будет полной только тогда, когда в нашу страну придет свобода. Это было началом. К этому я пришла не так легко, не без колебаний и внутренних противоречий. Пришла, ведомая любовью к людям.
В тот вечер мы начали разговор, к которому я тщательно готовился и который пытался начать много раз, но все не получалось. В стаканах искрилось красное вино, настроение постепенно повышалось, мы говорили о насущном и будущем. Затронули важную тему — кто истинный герой в борьбе.
— Истинный герой, — сказала Моника, — это товарищ, который умеет побеждать в тысячах боев, как в военных, так и политических, и который, кроме того, может преодолевать личные слабости, мелкобуржуазные предрассудки, укоренившиеся в нас с рождения, потому что росли а воспитывались мы в алчном, эгоистическом обществе, в котором основной принцип — индивидуализм.
Герой — это товарищ, который отличается скромностью, усердием и самоотверженностью при исполнении всех поставленных СФНО задач, от самых маленьких до самых рискованных. Для такого человека каждое поручение является важным, он никогда не пренебрегает выполнением маленьких задач. Такой человек должен быть приветливым со своими братьями по борьбе даже тогда, когда обстановка вынуждает нас быть резкими и твердыми.
Это товарищ, который использует каждую свободную минуту, чтобы что-то сделать. Товарищ, который становится общепризнанным руководителем благодаря своей самоотверженности и любви к труду.
Это тот, кто находит в себе силы преодолевать трудности в ежедневных боях, кто может побороть сон, усталость, голод.
Многие из этих героев сегодня смотрят на нас с пьедестала революции. Их улыбчивые лица остались вечно молодыми. У них мы учимся, с ними постоянно советуемся, носим их образы глубоко в сердце. Они наши учителя и бескомпромиссные судьи. В них, как в фокусе, собран истинный и бессмертный образ народа.
— Каковы роль и место никарагуанской женщины в борьбе против сомосизма?
— Наши женщины — важная составная сила, которая способствовала революции. Они участвовали во всех этапах борьбы и выполняли ответственные задачи. Вы возвращаете меня в прошлое, и я вижу своих сестер и матерей, которые организовывали тайные явки СФНО, налаживали связи, делали нужное и опасное дело.
Никарагуанская женщина была надежным нелегальным курьером — доставляла почту, документы, оружие, одежду, была заботливой медицинской сестрой. Она была бойцом и в поле, и в горах. Стойко выносила тяжести партизанской жизни, пересекала реки и глубокие пропасти, совершала долгие, неимоверно трудные переходы в холод и жару.
Она была нелегальным журналистом. При неярком свете свечи писала пламенные призывы и статьи, замечательные стихи.
Юные девушки состояли в боевых группах и совершали нападения на банки, захватывали радиостанции и тюрьмы, устраивали засады на верных слуг диктатора, приводили в исполнение народные приговоры.
Никарагуанская женщина руководила бунтами и боевыми операциями, побеждала и терпела поражения. И не однажды, когда кончались боеприпасы, из ее уст летела песня, которая придавала бойцам новые силы. Слабая и нежная, женщина всегда была на передовой позиции революции.
Она родилась в неслыханной нищете, на свалке жизни, но воспитывалась в борьбе и до конца принадлежит ей. Она не просто здоровая основа народного корня, а его сердце, продолжатель его жизни, его будущего. И поэтому народ верит в нее, поручает ей руководство районами и округами. А за ее преданность и неиссякаемое мужество враги преследовали ее, уничтожали, мучили, убивали. А теперь судите сами о ее роли и месте в борьбе.
— Что, по-вашему, является счастьем и как вы его понимаете?
— Счастье!.. Это слово не было знакомо нашему народу. Оно было скрыто под огромными пластами муки и скорби. В стране властвовали голод, болезни и смерть. До такого положения нас довел своим пятидесятилетним господством диктатор. Думаю, что сегодня для нас счастье (а каждый народ и каждый человек на различных этапах своего развития имеет различные представления о нем) связано с надеждой и верой, что в ближайшее время мы будем иметь самые необходимые условия для жизни и что все мы будем добрее.
Лично я испытываю счастье в борьбе. Только тогда человек действительно живет и может быть по-настоящему счастлив.
Дочь Дуси Марии грациозно поднесла нам десерт и, боясь поднять глаза на Монику, спросила:
— Тетя, а ты убивала плохих людей?
Моника прижала ее к себе и поцеловала.
— Убивала! Плохие люди не имеют права на жизнь и не должны поганить эту хорошую землю.
— Расскажи мне, как это было?
— Это произошло между Манагуа и Масаей. Мы отходили к Масае. Нас преследовали сомосовские гвардейцы. Одна их рота пересекла путь нашему отряду. Смеркалось. Завязалась перестрелка. В первую же минуту пуля ранила мою боевую подругу. Она лежала рядом со мной, истекая кровью, но продолжала стрелять. Я предложила ей отойти и перевязать рану, но она мне ответила: «Нет времени! Держись! Сейчас каждая секунда дорога!»
Смерть витала над нашими головами. Меня тоже ранило, но я продолжала стрелять и стреляла на удивление точно. Врагов было много. Для себя я решила: если надо будет, погибну, но они дорого заплатят за мою смерть.
Враги напирали. Кто-то из наших раненых не выдержал и предложил сдаться. Другой зажал ему рот и крикнул сомосовцам: «Идите! Вас встретят не трусы, а герои армии Сандино!» Появились самолеты. Нелегко нам пришлось, но мы не отступили, а, напротив, разгромили роту врага. Тогда я убила не одного, а много плохих людей, дорогая малышка.
Девочка подошла к матери, и мы услышали, как она ей сказала:
— И тетя Моника герой, как ты и папа.
Над праздничным столом снова полились песни. После рассказа Моники гости еще более оживились. Каждый из них в своей жизни вел не один такой бой и не однажды был ранен. Глаза моей собеседницы увлажнились, но она смотрела на меня весело. Я спросил Монику:
— А если бы пришлось заново начинать жизнь, по какому пути вы пошли бы?
— По тому же, по которому иду и сейчас. Только начала бы я его гораздо раньше, когда смельчаков была всего горстка, а утро победы было далекой мечтой. Думаю, что тогда я могла бы сделать гораздо больше. Пройденный человеком путь — это его послание наследникам. Это его гордость и его долг. Я постоянно чувствую какую-то неудовлетворенность.
— А какие человеческие качества вы цените больше всего?
— Человечность, откровенность и смелость.
К концу вечера я как бы заново узнал Монику, истинную Монику, с ее огромной любовью к людям, с ее откровенностью, с ее безрассудной смелостью.
Этот вечер и девочка были необходимы для того, чтобы я лучше узнал эту прекрасную женщину с кристально чистой детской душой.
На память она посылает тебе свою фотографию.
23
ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, что много дней и вечеров, до предела насыщенных работой, мы провели вместе с Карлосом Чаморро, главным редактором газеты «Баррикада». Карлос — сын талантливого никарагуанского публициста и общественного деятеля доктора Хоакина Педро Чаморро, убитого Сомосой подлейшим образом. Но диктатор и не предполагал, что убийство известного журналиста еще больше усилит революционную волну масс, над которой витал дух Хоакина Педро Чаморро. Когда Сомосе сообщили о политических митингах и вооруженных столкновениях населения с гвардейцами, диктатор, обезумев, заорал: «Я наполню человеческими трупами один из кратеров вулкана, но хоть одну ночь проведу спокойно!»
По всей стране сеяли смерть палачи Сомосы. Но возможно ли даже неслыханными репрессиями остановить извергающийся вулкан народного гнева? Вставали новые борцы. Дом каждого честного человека превращался в крепость. Анализируя события тех дней, Карлос сказал:
— Борьба против диктатора объединила народные массы в единый фронт, и под руководством СФНО стальной кулак революции разбил в пух и прах всю сомосовскую систему. — Он лукаво посмотрел на меня, и его маленькие усики дрогнули в легкой, загадочной усмешке. — Димитровская позиция о едином фронте нам очень помогла, — сказал Карлос. — Мы и сейчас, после победы, перечитываем положения Георгия Димитрова о едином фронте и стараемся применить их к нашим условиям.
Мне было приятно слышать это от Карлоса. Опыт нашей революции сандинисты восприняли не только как идею, но и как проверенную и доказанную жизнью практику.
Я с гордостью воспринимал тот факт, что наша страна вошла в сознание обыкновенных никарагуанцев как синоним искреннего друга, бескорыстного партнера.
Карлос говорил об обычных вещах, но так увлекательно, так убедительно, что они превращались в необыкновенные. Его речь, умная, выразительная, была неповторимо образной. Не будет преувеличением сказать, что Карлос олицетворял собой заповедь Сандино: «Быть всегда подобным зажженному факелу!» И сейчас, когда пишу тебе эти строки, я вижу его в маленькой редакционной комнатке. Вот он сидит, высокий, худой, деликатно небрежный в одежде, вытянув длинные ноги, не помещавшиеся под столом, и по привычке подергивает усы.
Под аккомпанемент пишущих машинок и вентиляторов он рассказывал мне об истории создания газеты «Баррикада».
— Родилась газета 26 июля 1979 года, неделю спустя после революции, как бедный ребенок — слабенькая, без предварительно заготовленных пеленок. В то время в Манагуа почти на каждой улице были баррикады, круглосуточно шла перестрелка. Невозможно было понять, кто с нами, а кто против нас. Революция… В такое утро, наполненное порохом и дымом, вызвал нас команданте Боярдо Арсе. У него не было времени для пространных объяснений, и он еще в дверях встретил меня словами: «Завтра у нас должна быть своя газета. Мы решили, что ей больше всего подходит название «Баррикада». Главный редактор — Карлос Карион. Думаю, что все ясно».
Он обнял нас по-братски и тут же занялся другими делами. Несколько минут мы стояли, ошеломленные услышанным. Возникло множество вопросов, на которые мы сами должны были находить ответы. Посмотрели на Карлоса Кариона. «Будем действовать, — сказал он. — Нам сейчас дорога каждая минута».
Обязанности он распределял по пути. Надо было достать бумагу, печатный станок, материалы, найти специалистов. Карлос пробыл главным редактором всего несколько месяцев, но они равны годам. За это время мы организовали охрану всех складов, где находилась бумага. Конфисковали печатный станок Сомосы, а типографские работники пришли к нам сами, и работа пошла. На следующий день маленькие разносчики газет несли первый номер нашей красной «Баррикады».
— А как обеспечивали газету материалами?
— Мальчишки и девчонки ухитрялись писать нам заметки в минуты между перестрелками. Не могу забыть один случай, — сказал Карлос Чаморро. — Наш молодой поэт должен был написать о Монимбо, героическом квартале Масаи. И конкретно об одном смелом парне. Пришел поэт на баррикаду, а тут как раз враг атакует. В перестрелке парень погиб, и наш поэт занял его место. Никто не шел к нему на замену, а материал надо было передавать. Поблизости от него оказался ребенок. Наш поэт передал нам через него свою статью, а сам остался на месте погибшего героя. Напрасно мы ждали нашего сотрудника. Он не вернулся. Оба героя навсегда остались вместе…
Я слушал воспоминания Карлоса, и мне казалось, что все это было десятки лет назад, а не пятнадцать месяцев, что он мне рассказывает легенды, а не свои личные переживания. В этой стране все развивается с головокружительной скоростью. С такой же скоростью мужала и газета. Ее сутью был революционный заряд, беззаветная и неукротимая отвага тех, кто днем и ночью твердо стоял на своем посту. Газета и сейчас их верный товарищ и мудрый советчик.
Главный редактор отпил глоток кофе, сдвинул в сторону стопку газет и журналов и снова заговорил:
— Ты уже нас узнал и с историей нашей познакомился. То, что я тебе скажу, может быть, прозвучит банально, но именно это является предысторией появления нашей газеты. В нашей стране все решалось силой оружия, политические союзы отсутствовали. Взамен аргументов неслись оскорбления, ругань, угрозы. На голос народа отвечали стрельбой. Когда диктатура и ее приспешники стали невыносимы, люди шепотом повторяли имя Сандино как упование, как надежду. И несмотря ни на какие усилия Сомосы, имя генерала свободного народа ни на день не было предано забвению. Он жил в памяти народной. Сандинизм был здоровым плодоносным семенем, упавшим на благодатную почву. С годами оно набирало силу, готовясь прорасти и дать буйные всходы.
Убийством Сомосы-старшего талантливый поэт и революционер Ригоберто Лопес Перес весьма красноречиво напомнил, что пришло время заполнить вакуум, образовавшийся после гибели Сандино. Начали возрождаться идеи сандинизма. У истоков нового движения стояли Карлос Фонсека и его единомышленники. Они показали всем, что идеи Сандино живы, что они актуальны и необходимы для Никарагуа. Фонсека многократно подчеркивал:
«Сандино — это не просто одна жизнь, это целое событие. Сандино — вот наша дорога в руководство к действию».
Карлос Фонсека, хорошо подготовленный теоретик и критик, умело использовал живую память народа. На основе опыта международного революционного движения и разработанной Аугусто Сандино стратегии революционной народной войны с целью свержения диктатуры Сомосы он выдвинул идею, что вооруженная борьба — единственный способ освобождения Никарагуа. Только наступательная тактика может привести страну к коренным революционным изменениям. При этом Фонсека предупреждал, что революции делают не одними только жертвами и кровью. Они совершаются умом, талантом и воображением. Говорю это, чтобы было ясно: сандинизм — это не совокупность безрассудно смелых действий. Сандинизм — это глубокое политическое течение с классовой сущностью, а его голос и есть наша газета «Баррикада». В ней стучит сердце Сандино, в ней живут идеи Фонсеки. Сегодня она — пропагандист и деятельный организатор нового общества. В этом и состоит истинная роль нашей «Баррикады». Она детище великого, исторического для Никарагуа события.
В кабинет вошел дежурный редактор. Он принес несколько экземпляров нового номера, сильно пахнущих типографской краской. Этот запах заворожил меня, Карлос заскользил взглядом от заглавия к заглавию, от страницы к странице. Сегодняшний рабочий день журналиста закончился, хотя завтрашний начался несколько часов назад.
— Любовь бывает истинной, если она выстрадана, говорят поэты, — оторвав взгляд от газеты, сказал Карлос. — Наша любовь к каждому номеру выстрадана. И как я буду рад, если люди всегда будут понимать нас.
В то время когда Карлос Чаморро страдал вместе со своим народом и бурно радовался пока еще небольшим успехам родины, его брат — главный редактор газеты «Пренса» со страниц своей газеты воевал против всего святого.
Это революция. Два брата оказались по разные стороны баррикады. Но за Карлосом стояла его родина Никарагуа, а за его братом — ненависть к ней американского империализма.
Прощаясь, я от всего сердца пожелал Карлосу Чаморро:
— Доброго пути!
Вот и еще с одним замечательным человеком я познакомил тебя.
24
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Жаркий тропический день. Манагуа в праздничном убранстве. Столица встречает гостей со всей страны. Некоторые добирались сюда целую неделю. Кажется, что к этому дню вся страна готовилась не полгода, а столетие. Шесть месяцев продолжался волнующий эпилог, написанный 120 тысячами активистов по борьбе с безграмотностью, организованных в колонны, в армию, поднявшихся как партизаны, только без винтовок, чтобы победить отсталость.
Сандинистский фронт национального освобождения объявил 1980 год годом обучения. Революция была в пути, причем в стремительном. В новой битве, не менее тяжелой, чем борьба с диктатором, на помощь никарагуанцам пришли верные друзья из многих стран. Сегодня они здесь, вместе с ликующим населением. О прошлых мучительных днях остались только воспоминания. А как тяжел был вчерашний день, ставший уже историей! И это не высокопарные слова. Неграмотность и невежество, сознательно насаждаемые сомосовцами, глубоко укоренились в этой стране. Это трудно представить, но я встречал десятки семей, в которых несколько поколений не было человека, умеющего читать. Они были орудием труда и верным источником доходов для горстки крупных землевладельцев. Неграмотность была здесь таким же обычным явлением, как восход и заход солнца.
Пришел необыкновенный день, и жизнь простых людей переменилась. Они пошли по новому пути, в корне отличном от прежнего. Революция дала страждущим волшебное лекарство, которое исцелило слепцов, наградив их способностью видеть солнце. Вертолеты доставляли молодых учителей в горные хижины, солнечный луч просвещения вошел в каждый дом, осветил 500 тысяч душ. Это действительно настоящее чудо.
Сегодня на площадь Революции с самого восхода солнца прибывали люди разного возраста. Вместе с колоннами своих учителей шли 500 тысяч жителей страны, научившихся писать и читать. Четверть населения Никарагуа была здесь. Их привело сюда глубокое человеческое чувство благодарности к тем, кто помог им почувствовать себя людьми, равноправными и мыслящими.
На трибуне женщина среднего возраста. Она начинает робко, смущенно. Голос ее дрожит. Она говорит о том, как благодарна революции и тем, кто научил ее читать и писать.
— Прощай, неграмотность! — говорит женщина, и голос ее звенит. — Расстаемся с невежеством. Столько времени мы были с ним вместе, потому-то ничего и не достигли. Сейчас от всего сердца говорю тебе: невежество, прощай! Сто раз прощай!
По щекам женщины сбегают слезы. В этих слезах мука многих поколений и радость тех тысяч, которые стоят и скандируют:
— Сандино, благодарим тебя! Мы готовы к новым задачам!
И вдруг наступает тишина. Такая тишина, что слышно дыхание рядом стоящего соседа. Это минута молчания. Минута памяти павших. Из 56 погибших просветителей семеро были зверски замучены врагами революции. Два знамени — государственное и Сандинистского фронта национального освобождения — притягивают взгляды притихших людей.
Каждая история пишется жертвами. А история Никарагуа переполнена ими. Здесь столетиями властвовало насилие. Здесь невозможно перечислить все жертвы. Весь путь к сегодняшнему светлому и солнечному дню залит кровью погибших патриотов.
Народ заполнил площадь. Никто не стесняется выражать радость по-своему — возгласом, смехом, сжатой в кулак рукой. Белые, смуглые, черные, молодые и пожилые никарагуанцы полны энергии. Над ними развевается алое знамя, их озаряет свет революции, свет Сандино. Сбылась мечта Аугусто Сесара Сандино, Карлоса Фонсеки, многих тысяч их соратников и последователей. Цель достигнута. На трибуне руководители Сандинистского фронта: девять молодых мужчин, самому старшему 49 лет, младшему — 27. Молоды и люди, собравшиеся на площади. В этой стране все молоды. Когда самолет снижался в аэропорту Сандино, передо мной открылись зеленый ковер и озера, похожие на большие, умные глаза. Зеленый цвет был для меня символом этой страны, которая, несмотря на свою трудную историю, осталась молодой и жизнерадостной.
Слушая отчет комиссии по борьбе с неграмотностью, я радуюсь вместе с никарагуанцами. Это их законная радость, потому что благодаря сандинистской революции уже сейчас в процентном отношении по грамотности Никарагуа сравнялась с США. Никарагуанцы скромно называют это первым шагом, а мы радуемся чуду, которое они сотворили. Никто не в состоянии повернуть историю вспять. Революция рушит любые преграды на своем пути, разрывает цепи деспотизма.
Все, что я скажу тебе сейчас, может напоминать слова из доклада на торжественном собрании. Но мне необходимо их сказать. Вспомни нашу страну, какой она была 36 лет назад. Только тогда сможешь понять романтику и энтузиазм, которые заполняют и будни, и праздники каждого никарагуанца. Мы не привыкли видеть вооруженным каждого второго, а здесь люди в краткие минуты тишины докладывают о выполнении задания…
Митинг продолжался около пяти часов. Впрочем, это не митинг, а скорее огромное общее собрание всего никарагуанского народа. И это собрание решило, что выборы правительства будут проводиться не сейчас, как настаивает буржуазия, а в 1985 году.
— Наша задача сейчас восстановить и реконструировать экономику, укрепить дисциплину, добиться большой экономии материалов, сырья и топлива. Каждый из нас, как боец в строю, должен знать свое место и защищать его с честью, — заявил на митинге Умберто Ортега.
Вопрос чести и совести никарагуанского народа — в кратчайшие сроки преодолеть зловещую экономическую отсталость. В стране начался период экономической реконструкции. На митинге шла речь о конкретных, будничных делах. Нет, сандинисты не испытывают головокружения от успехов, они не устраивают ненужных торжеств, они просто совершают и второе чудо — создают свое будущее.
Ортега закончил свою речь, в народ загремел как мощный вулкан:
— Сандино вчера, Сандино сегодня, Сандино навсегда!
Сандино в сердцах этих людей. Я смотрел на них и думал: поэзия есть во всем, она в жизни как искра в кремне.
Возвращаясь с митинга, я встретил министра народного просвещения Карлоса Тунермана. Лицо его сияло.
— Если не спешите, давайте зайдем ко мне, — предложил он.
Впервые за много времени я увидел улыбку на лице этого обычно спокойного и серьезного человека.
Дома у него никого не было, еще не вернулись с митинга. Карлос сам накрыл стол. От волнения он выронил стакан.
— Это на счастье, — сказал я ему.
— За этот великий день я готов уронить хоть целый сервиз.
Разговор зашел о том, что Никарагуа была удостоена одного из самых высоких отличий ЮНЕСКО — премии имени Н. К. Крупской. В связи с этим Тунерман мне рассказал:
— На XIV общей конференции ЮНЕСКО, проведенной в 1966 году, 8 октября было объявлено Международным днем по борьбе с неграмотностью, а международная премия была учреждена Советским правительством в 1969 году в честь видного советского педагога Крупской, соратницы и супруги Ленина. Эта премия вручается ежегодно. В 1980 году премия имени Крупской была вручена Никарагуа. Мы — первая латиноамериканская страна, которой вручена такая высокая награда ЮНЕСКО!
Знаменательным является тот факт, что спустя всего год после победы вооруженного восстания революционное правительство, организовав одну из первых кампаний по борьбе с безграмотностью, вывело наиболее отсталую страну Латинской Америки в передовые.
Таким образом, на родине Сандино, Фонсеки и Дарио начато новое восстание, но в этот раз — против невежества.
Врученная Никарагуа премия завоевана всем народом. Все было подчинено этой великой задаче, и победа над неграмотностью была одержана благодаря вере и упорству, присущими никарагуанцам.
Когда победила революция, страна находилась в полной разрухе. Перед народом стояла задача поднять из пепла и разрушений новую демократическую республику, разработать новую программу для образования народных масс и, естественно, создать новые школы.
Подготовить проект школьной программы по воспитанию нового человека было трудной задачей. Ведь речь шла прежде всего об изменении идейной жизни школы. Таким образом, первые шаги министерство просвещения сделало по двум основным путям: во-первых, надо было восстановить и оборудовать школьные помещения, во-вторых, подготовить и создать новую образовательную систему.
— Победа никарагуанского народа под руководством Сандинистского фронта национального освобождения привела к осуществлению большой мечты и надежды многих народов, попавших под иго диктатуры, ставших жертвой политической, экономической, образовательной и культурной отсталости. Неграмотность всегда была атрибутом диктаторских режимов в Америке и других частях света.
Я и не заметил, как пролетела ночь, как прошло воскресенье и наступил понедельник, первый рабочий день новой недели.
25
БЫЛ ГОСТЕМ Ассоциации сельскохозяйственных работников. И совершенно случайно встретил там Аугусто Миранеса, одного из сподвижников Сандино, которых мало уже осталось в живых. Тяжелый груз прожитых лет мучительно отразился на нем. Голова опущена, руки дрожат, ноги подкашиваются. На рассказы скуп. На мою просьбу поделиться воспоминаниями о Сандино он ответил категорично:
— Сандино невозможно ни описать, ни обрисовать. Он неповторим.
Жена Аугусто Миранеса моложе его и более разговорчива.
— Больше всего я любила Сандино за то, что он уважал людей, — вступила она в разговор. — На нашей свадьбе с Аугусто мы сказали Сандино, что любим друг друга, на что Сандино мне ответил: «Жена борца за народное счастье должна знать, что ее ждут большие муки и мало радости». «Знаю!» — ответила я. «Она должна помогать ему всем, чем может, и даже жизнью своей». «На все готова», — сказала я по-военному. «Она должна родить ему много детей и воспитать их настоящими патриотами». «Тут и Аугусто должен сказать свое слово», — ответила я ему, немного смутившись. «Поздравляю!» — сказал Сандино и обнял меня. Такой была наша свадьба — без церкви, без веселья, но забыть ее я не могу.
Аугусто оживился, глаза его блеснули.
— С ним было легко. Четыре года я провел в его армии, но готов был служить всю жизнь.
Мимо нас прошла влюбленная пара, и я смотрел на них, пока они не свернули в ближайший переулок.
Потом я встретился с Сильвией Торес, заведующей отделом пропаганды Ассоциации сельскохозяйственных работников. Она рассказала мне, что за один год ассоциация сильно разрослась. Сообщила мне и другие факты, затем неожиданно замолчала. Наверное, что-то вспомнила.
— Я подумала: как смешны мы со своими миниатюрными цифрами, — сказала она после продолжительного молчания.
— Но вы ведь только сейчас начинаете новую жизнь, — поспешил я ее успокоить.
— Я видела ваши села, ваши аграрно-промышленные комплексы и еще там, в Толбухине, говорила товарищам, что, если бы при вашей организации и технике иметь нашу землю, вы были бы самыми богатыми людьми в мире. Вы могли бы обеспечить продовольствием население десяти Болгарии!
— А с чего вы начинали? — попытался я вернуть ее к начатому разговору.
— Сейчас в 1200 кооперативах трудится 48 тысяч крестьян. Первые кооперативы мы начинали создавать с бедняками. Середняк пока еще сторонится. Выжидает, все до грамма взвешивает, но со временем и он согласится. Вы ведь тоже прошли этот путь?
Их начало — это наши почти забытые воспоминания. Бедняки, которые на клочок земли смотрели как на единственное средство существования, сейчас удивляются сами себе. Коротка человеческая жизнь, а как много в ней всего собрано! С Педро, средним землевладельцем, мы разговорились о человеке и земле.
— Земля — это я. Отдам землю в кооператив — сам погибну.
Мне понятна его тревога. Он был настолько искренен, что мне и в голову не пришло иронизировать над ним. Он напомнил мне моего соседа, который при создании кооператива со слезами упрашивал: «Возьмите жену, но оставьте землю! Земля — это моя жизнь!» А через пять-шесть лет, когда сосед стал бригадиром, мы его спрашивали: «Как жизнь?» «И земли много, и женщин много, да поздно до меня дошло, — смеялся он. — Как я не додумался создать кооператив, когда был моложе?!»
Я рассказывал Педро о борьбе, которая шла в душах наших крестьян, о минувших трудностях, об их сегодняшней жизни, а он смотрел на меня подавленно.
— У вас другое… А здесь человек без земли все равно что без рук и ног.
Середняк любит землю. Эта любовь может стать хорошим стержнем кооперативов. Земледелие, как каждая работа, требует умения и любви. И можно ли не любить землю, которая дает по три урожая в год? Здесь всего в изобилии — и солнца, и воды.
Педро присел, взял горсть рыхлой земли и пересыпал ее из руки в руку.
— И у этой горстки земли, — сказал он мне, — есть душа. Она способна и любить, и ненавидеть.
Да, любовь — великая сила. Она преображает людей, она дает жизнь. В блокнот я записал три цифры. Они раскрывают всю структуру собственности на землю. Я тебе их назову: 43 процента обрабатываемой земли когда-то были собственностью Сомосы. Сейчас она стала народной собственностью. Средним и бедным крестьянам принадлежат 34 процента, 23 процентами земли владеют богачи. Последних меньше, чем пальцев на руках. Некоторые из них только на снимках видели свои банановые плантации.
Сегодняшние хозяева, подобные Педро, по-настоящему любят землю. Они чувствуют ее душу, разговаривают с нею, отдают ей свою жизнь.
Каким будет наш разговор с Педро лет через восемь? Поймет ли он истинную радость того, к чему сегодня призывает его революция?
— До свидания, Педро.
Он задумчиво пересыпал из ладони в ладонь горстку земли и молчал.
Его боль напомнила мне об одной встрече с крестьянином из нашего края. Марином его звали. Встретился я с ним на пшеничном поле, и он поделился своей болью: «Здесь был и мой клочок земли. И груша стояла вон там. Плоды у нее были мелкие, но сладкие и очень душистые».
Как сейчас, вижу его побелевшие обвислые брови, его слезящиеся глаза, уставшие от многолетнего труда. Так бывает с пожилыми — и скорбь, и радость вызывают слезы.
«Когда создавали кооператив, — продолжал рассказывать мне Марин, — председателем избрали моего брата. Плохо мне было, болел за землю, но, чтобы не позорить брата, записался в кооператив. Работал, как и раньше, с утра до вечера. На следующий год избрали меня бригадиром. Я ведь неграмотный, говорю я им, а они настаивают: неграмотный, зато трудолюбивый и честный, земля это любит. Такие хозяева нужны земле. Если бы сказали, что люди так хотят, так бы не радовался, как тому, что земля меня хочет. Знаю, земля не каждого любит. А там, рядом с делянкой брата, была земля попа. Набожный был человек, а земля его не любила. Если засеет пшеницей, так сорняки ее задушат. Если засеет кукурузой, так съест ее пырей. И земля выбирает себе товарищей. Но не о том мой рассказ, а о груше. Каждый вечер бригадиры собирались в правлении и отчитывались. Брат отдавал новые распоряжения. В тот вечер я докладывал, что мы сделали за день, а брат вдруг и говорит: «Пошли завтра кого-нибудь, пусть срубят грушу». «Что? — вскочил я. — Только посмей тронуть дерево, кровь прольется!»
Спокойным человеком был брат. На удар ударом никогда не отвечал. Я понял, что и ему трудно. И мне стало плохо. Но легко ли расстаться с тем, что выросло в твоем сердце? Груши были мелкие, с черными точечками, но ничего слаще не найдешь на всей земле. Ночью мне снились и нива, и груша, и брат, сердито смотревший на меня. До этого случая мы друг другу грубого слова не сказали… До утра я не мог выдержать и поделился своей болью с женой.
«И как тебе не стыдно! — закричала на меня жена. — Ты землю отдал, чтобы не позорить брата, а сейчас из-за одной груши скандал устраиваешь! Бери топор, иди и сам ее сруби! А уж раз она тебе дорога, выкопай ее отростки и посади в саду за домом».
Жена нашла выход. Взвалил я на плечи кирку, топор и пошел. Выкопал с корнями молодые побеги и решил возвращаться. В это время увидел сельского сторожа, одногодки мы, и попросил его срубить дерево. Когда он срубил грушу, я не выдержал и заплакал. В тот нее вечер сторож все рассказал брату.
Осенью погибло много деревьев. Новые заботы и радости тревожили мое сердце, и я забыл о груше. Спустя лет пять заболел мой брат и начал чахнуть. Врачи сказали, что он уже не жилец на этом свете. Пошел я попрощаться с ним. Брат попросил остаться только наших сыновей. Их было у нас по два. Он так сильно ослаб, что едва мог поднять голову и шепотом в присутствии детей попросил у меня прощения за срубленную грушу.
«Она мешала новому, брат», — сказал он и замолк. В его глазах блеснули слезы. Я наклонился, вытер их и поцеловал ему руку. Она горела, как солнце в петров день. — Марин надолго замолчал, не отводя взгляда от того места, где когда-то росла груша. Сделал несколько шагов и тихо, словно боясь разбудить тишину над почерневшим полем, сказал мне: — С тех пор всегда, когда косим здесь, думаю о брате…»
— До свидания, Педро, — снова сказал я.
Он подал мне руку:
— Приезжайте еще. Всегда найдете меня здесь, на этой земле.
Понимаешь, какой человек Педро? Хочу забыть его и Марина, а не могу. Наверное, таких людей трудно забыть.
А когда поедешь в село, не забудь полить молодые деревца. Подвяжи их к колышкам, чтобы не согнулись. Дерево хорошее, когда оно стройное.
26
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, проведенный в этой стране, приносит что-то новое и интересное. Здесь нет выставочных залов, нет театральных премьер. Здесь революция и буйная природа…
До обеда с друзьями ездили посмотреть, как дышит вулкан Сантьяго. Он расположен между Манагуа и Масаей. На дорогу ушло минут 40. Серпантин, который начинается сразу же от центральной магистрали, поднял нас на высоту 570 метров над уровнем моря. Буквально под нами зияла раскрытая пасть вулкана. Диаметр кратера около полукилометра. От вида огненной лавы бросает в дрожь. Отсюда открывается вид на гряду вулканов. В огненном кольце хорошо видны еще семь кратеров давно заснувших вулканов. Под нами из кратера Сантьяго излучается огненное сияние. Месяца три-четыре спустя начнет пробиваться и пламя. Предполагается, что этот вулкан вновь пробудится. Последнее извержение вулкана Сантьяго было в 1965 году. Специалисты говорят, что в последнее время наблюдается разрушение и расширение стенок горловины Сантьяго.
Какие только мысли не лезли мне в голову в ту минуту! Глядя на кратер, я чувствовал, как дышит земля. В окрестностях вулкана растительность скудная. А там, где земля чаще всего продувается дымом из кратера, она похожа на опаленную кожу.
Со страхом смотрел я на это зеленое чудовище и задавал себе вопрос: «А если вулкан начнет извергаться? Вряд ли успею даже сказать тебе «прощай». Зальет нас огненным дождем и…»
Только попугаи ничего не боятся. Парами носятся над кратером и непрерывно повторяют свой попугайский речитатив. Интересно! Они не задыхаются и от сероводородных паров, которые вызывают удушье у людей.
Вблизи вулкана нет ничего красивого. Жутко и страшно. И только смех попугаев напоминает о жизни. Здесь человек понимает, как он мал в сравнении с величием и силой природы. В Никарагуа об этом напоминают не только вулканы, но и землетрясения. Страна словно выросла над сердцем земли, и ее сердцебиение наиболее ощутимо именно здесь. Последнее землетрясение в Манагуа было в 1972 году. Оно нанесло страшный ущерб. Его следы до сих пор остались. Но не об этом хочу тебе написать.
Недавно я встретился с Софией, журналисткой из газеты «Баррикада». Девушка взяла от своих бабушек индианок и испанок все самое лучшее. Смуглое, одухотворенное, милое лицо, энергичные движения, быстрый говор. Каждое слово сопровождается выразительной жестикуляцией и грациозными движениями. Тогда у нас зашла речь о последнем землетрясении. София, так живо воспроизвела весь тот ужас, что у меня мурашки побежали по телу.
— Это невозможно забыть. Страшная духота началась еще днем. Я лежала голая и едва дышала. И вдруг тишину разорвал дикий шум — рев находящихся в зоопарке львов, вой собак, кудахтанье кур. И почти сразу же раздался первый удар… — Она инстинктивно схватилась за голову. Замолчала. Затем поспешила извиниться. — Вы не представляете, сколько лет еще потом я переживала этот кошмар… Помню, как задвигалась моя кровать, как я закричала и выскочила на улицу. В этот момент раздался треск разрушаемого здания, я почувствовала головокружение и…
Случилось это в полночь. Многие старики и дети не успели даже проснуться. Потом были слышны стоны и крики из-под земли. Но никто не осмеливался приблизиться к руинам. Четырнадцать толчков следовали один за другим. Мы беспомощно ждали.
Мой старший брат повел меня к озеру, где не было построек. Там я еще больше обезумела от страха, когда увидела огромное скопище змей, ползущих к озеру, услышала вой собак, тоже ищущих там спасения. Люди, собаки и змеи бесстрашно жались друг к другу, надеясь на спасение… Тогда всего за несколько минут погибло более 20 тысяч человек…
Я слушал Софию, боясь пошевелиться.
— Три дня стояли мы голые и голодные на берегу озера, — продолжала она. — Три дня, и никакого смущения от наготы. Потом нам предложили поселиться в палатках вблизи Леона, потому что в городе стоял смрад от разлагающихся трупов. Эпидемия быстро распространялась. Но никто из нас не хотел даже шевельнуться. Перед городом, как перед гробом, стояли мы, онемевшие и озабоченные. Тогда вмешались войска, и мы ушли. Когда вернулись через три месяца, то увидели, что в городе осталось только три здания — театр, гостиница «Интерконтиненталь» и банк. Они, как вы видите, и сейчас стоят…
Один любопытный факт. Землетрясение началось именно тогда, когда группа сандинистов во главе с Эденом Пасторой захватывала парламент. Да, именно тогда. Землетрясение, разумеется, не было запланировано, но сыграло роль психологической поддержки. Сейчас некоторые из участников говорят, что тогда они ничего не почувствовали.
Вечером я долго сидел на террасе перед домом. Вечера здесь магические, тихие и настраивают на размышления. Наверное, сидел бы так допоздна, рассматривая низкое небо, крупные звезды и тысячи светлячков, если бы не пришли Мария и Пабло.
— Немедленно в Леон! — заявили они безапелляционно, разрушив все, чем жил я в этот тихий вечер.
Отказать им было невозможно. Поехали. По пути в Леон они объяснили, что традиционный праздник, на который мы едем, посвящен деве Марии. Проводится он два раза в год: 7 декабря и 14 августа. Народ по-своему назвал этот праздник — «большой галдеж» и «маленький галдеж». Мы ехали на «маленький галдеж». Еще не въехав в город, я понял, что название полностью соответствует содержанию. Мы утонули в потоке людей. Шум улиц закрутил нас, увлек за собой. Что же бывает во время «большого галдежа»? Дети и взрослые — все танцевали и пели. Огромные толпы людей текли, как волны, по улицам Леона, разливались перед домами. Люди приветствовали хозяев, заходили в дома полюбоваться выставленной в центр комнаты иконой девы Марии, украшенной и окруженной горящими свечками. Хозяева угощали пришедших сладостями. А гости пели и высказывали им свои добрые пожелания здоровья и успехов в жизни. Это чем-то напоминает наше празднование рождества. Помнишь, как оно проходило у нас? Это веселье в Леоне вернуло меня в родное село.
И так от дома к дому двигался весь город вместе с гостями, приехавшими из самых отдаленных уголков страны. Обнимались и целовались знакомые и незнакомые. Не скрою, больше всего поцелуев досталось нам, иностранцам.
Ночью началась стрельба. Фейерверк не утихал до рассвета. На улице можно было задохнуться от запаха пороха и дыма. На рассвете все успокоились, и почти сразу город затих. Все замерло, будто ничего и не было. Праздник кончился. У будней иные требования и законы. Особое впечатление производит на меня то, что во время праздников никарагуанцы забывают обо всех заботах и искренне веселятся от души.
27
ОТ МАТАГАЛЬПЫ до Хинотеги с таким шофером, как Орландо, мы доехали всего за 30 минут. Для него не существует далеких расстояний. Нажимает на газ и начинает петь, а стрелка спидометра, как прикованная, замирает на цифре 120.
— С песнями этого парня мы можем очутиться в кювете, — сказал кто-то.
Орландо, будто догадавшись о нашем страхе, посигналил, обернулся и сказал:
— Приедем вовремя, не волнуйтесь!
— Мы не спешим! — Все стали убеждать его и словами, и жестами, чтобы он лучше нас понял, но он был непоколебим.
— Партизан должен приходить на встречу вовремя, ни раньше, ни позже! — И снова нажал сигнал, который запел, как кларнет.
Лучше всего было не смотреть на стрелку. Окружающая нас природа заслуживала большего внимания. Перед нами возникла гостиница «Дикие джунгли». Птичий гомон и буйная зелень действительно напоминали джунгли.
Пока мы оглядывались по сторонам и ахали от восхищения, Орландо сообщил нам:
— Внизу перед нами Хинотега. Город напоминает улитку, верно?
Отсюда, сверху, город действительно казался похожим на улитку. На одну из тех больших улиток, какие можно встретить только в этой стране.
Не успели мы ничего рассмотреть, как наш водитель, протиснувшись по узким городским улочкам, подвез нас к зданию, где расположился сандинистский комитет. Встретил нас Энрико Моралес, один из членов Окружного руководства фронта Сандино. Лучезарный парень. Он больше походил на влюбленного художника, чем на пламенного революционера. Энрико рассказал нам о городе и округе. В Хинотеге проживает 20 тысяч жителей, а в округе — 180 тысяч.
— Во время революции город оставался в тени, — сообщил нам Моралес. — А сейчас он превратился в скрытое пристанище контрреволюционеров. Более 30 банд, численностью до 40 человек каждая, скрывается в горах. Невежество, которое накапливалось здесь десятилетиями, служит хорошей основой для дьявольских замыслов контрас. И еще один факт — большая часть территории округа граничит с Гондурасом. Гондурасское радио изо дня в день ведет против сандинистов пропаганду. Все это угнетает людей, делает их недоверчивыми.
Энрико замолчал. На улице пронзительно завыла машина «скорой помощи». Когда в комнате наступила тишина, он печально сказал:
— Ко многим селам ведут только горные тропы. Там люди рождаются, живут и умирают, так и не увидев врача. Живут и умирают как животные. Страшное невежество!
Такая социальная характеристика давала ясное представление об этом городе. Но есть и другой аспект — экономический. Господа хорошо изучили природные условия этого района и не упускали случая их использовать. Сошлюсь на слова нашего собеседника: «Здесь производится 50 процентов кофе, причем самого качественного в стране. Район занимает первое место по производству овощей. Вообще эта земля очень богата, чем варварски пользовались Сомоса и его приспешники, набивая себе карманы золотом».
Но в состоянии ли кто-либо остановить революцию? Она шествует, делая и в этом крае свой второй шаг — повышение образования людей. С холма на холм вертолеты перебрасывают бойцов народной армии просветителей, которые снова идут по знакомым им со времен революционной борьбы тропинкам. Из засад в них стреляют, но этим их не остановить. Они не просто агитаторы нового, они — первый луч солнца, который пробивает путь в джунглях болезней, эпидемий, отсталости. Их оружие — доброта, самоотверженность, уважение к человеку. И горец, который никогда не встречался ни с кем, кроме эксплуататоров, начинает прозревать. Страх, вселяемый бандами из остатков сомосовской гвардии, постепенно рассеивается. Рабское молчание перерастает в твердый голос. Бандиты, воры и политические враги революции уходят за границу и оттуда совершают свои бандитские набеги.
Вечером нас разместили в маленьком домике на краю города. Вокруг были настоящие джунгли. В доме было две комнаты. Одну отвели мне с переводчиком, а другую Евгении, представителю Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения. Евгения была беременна, но это не помешало ей поехать с нами.
Уставшие от дороги, мы быстро уснули. Ночью нас разбудили автоматные очереди и рев зверей. Страх сжал наши сердца. Когда выстрелы приблизились и участились, мы вскочили. Не было никакого сомнения — это бандиты. А вой зверей, попавших под огонь, раздирал ночь. Выстрелы разрывали темноту. А мы, скованные леденящим страхом, стояли безмолвно. У дверей послышались шаги. Ошибки быть не могло — по террасе шел человек. Выстрелы приближались.
Вспомнилось, как вчера наш шофер Орландо, который привез нас сюда, сказал:
— Пронюхают контрас, что вы здесь, спасения не будет. И бог не сможет вам помочь. — Он вытащил пистолет и предложил нам: — Возьмите. Может быть, понадобится.
Евгения тогда сделала замечание, что шутки его неуместны, что сейчас не то время, враг не такой наглый, присмирел.
— И наглый, и хитрый, — возразил Орландо и, обернувшись к нам, спросил: — Помните, что произошло неделю назад, когда состоялся митинг?
А произошло вот что… Митинг давно закончился, а Орландо с машиной не было в условленном месте. И только когда прекратилась вся толкотня, когда рассеялось скопление машин, появился расстроенный Орландо. Извинился за опоздание и спросил, можно ли ехать. На одном из перекрестков, пока машина стояла, Орландо воскликнул:
— Почему у меня нет рентгеновских глаз, чтобы проникнуть в души людей и увидеть, не червивые ли они, не сомосовские ли, а если так, то не пропускал бы их, а раздавил как червей!
— Ты жесток, Орландо. Человек не камень. Его можно воспитать, — сказал я ему.
— Крокодил всегда останется крокодилом! — возразил он. — Знаете, почему я опоздал? Какие-то негодяи насыпали в масло молотое стекло. Выродки! Трое ребятишек поранили горло. Надо было срочно отвезти их в больницу. На детей посягают, ох… — Гнев Орландо не утихал. Войти с нами в дом он отказался. — Съезжу в больницу к ребятам. Может быть, надо найти их родителей, — сказал он.
…И вот теперь мы стояли, замерев от страха, и каждый шаг, доносившийся снаружи, ударял по голове и сердцу. Тихо приблизившись к окну, отодвинули занавеску и увидели — перед дверью в нашу комнату с пистолетом в руках ходила Евгения.
— Что ты делаешь? — в один голос воскликнули мы.
— Охраняю вас, — спокойно ответила она.
— Пожалуйста, уходи! Мы сами защитимся и позаботимся о тебе!
— Нет! У каждого свои обязанности. Я отвечаю за вас, а не вы за меня. Любые споры здесь излишни.
В лесу что-то зашумело. Евгения мгновенно повернулась к лесу и насторожилась. К счастью, никто не появился. Через полчаса разразился буйный тропический ливень. Стрельба прекратилась. Стих и рев животных.
Приехавший утром Орландо рассказал нам, что группа бандитов преследовала народных просветителей, спускавшихся с гор на митинг в Матагальпу. Но после первых выстрелов поднялись крестьяне. Они окружили бандитов и выловили их до единого. Орландо показал нам и тех юношей, просветителей, которые шли в первых рядах колонны. У некоторых из них на плечах были подарки крестьян — ягнята, поросята, куры. А в руках — автоматы, отобранные у бандитов. Этих молодых и сильных людей выстрелы контрреволюционеров не могут остановить.
Стоя в стороне от колонны, мы с восхищением смотрели на них. А когда заиграли гимн народных просветителей, забыли и о ночных переживаниях.
— Больше нет времени. Надо ехать, — сказала наша защитница.
Солнце осветило крыши домов.
До свидания, Хиротега! Ждет тебя большой день. Будь счастлива!
28
У КАЖДОГО ДНЯ своя прелесть и свое неповторимое содержание. И дни как люди. Одни измученные, суровые, другие — радостные, поющие. На что похож сегодняшний день? Трудно ответить одним словом — может быть, на море, штормящее море со скалистым берегом. Не удивляйся сравнению. Если бы ты была вместе со мной в Национальном театре на I съезде Союза сандинистской молодежи, может быть, ты нашла бы другое определение. Несколько слов об обстановке и делегатах съезда. Когда я вошел и занял свое место гостя, театр, украшенный революционными лозунгами, кипел как живой вулкан. Тысячи молодых людей, в основном учащиеся и студенты, все до единого — участники похода народных просветителей, несущие в сердце образ революции, — были частицей освобожденного народа. Ты не увидишь модных платьев и костюмов. Здесь выброшенные вверх сжатые в кулак руки. Здесь звучит решительный лозунг-призыв: «Победили в восстании, победили в просвещении народа, победим и в будущих битвах!»
Это звучит голос всей молодежи Никарагуа, голос тех, кто в отрядах милиции добивает бандитские шайки в северных районах страны, кто охраняет границу и свободное небо родины, кто круглосуточно выполняет поручения революции — восстанавливает экономику, кто, например, в Селае, в своих хижинах среди диких джунглей, каждый вечер штудирует букварь, принесенный народными просветителями, кто впервые и с огромным старанием выводит свое имя… Это голос нового поколения, которое революция подняла из бездны нищеты и бесправия.
Передо мной стоял черный юноша в шапке и непрерывно повторял: «Да здравствует революция!» Он с любопытством смотрел на людей, лозунги, ловил голоса а взгляды. Посмотрел на меня, на значок с портретом Георгия Димитрова.
— Кто это? — спросил он, не отрывая глаз от значка.
— Георгий Димитров.
— Он как Сандино и Фонсека, да?
Я рассказал ему подробнее о Георгии Димитрове и подарил значок.
— А имею ли я право носить значок с портретом такого большого героя? — спросил юноша.
— Не всем дано быть такими, как Георгий Димитров, как Сандино… Но каждый честный человек имеет право носить такой значок и следовать по пути, намеченному этими людьми.
Он прикрепил значок на свою куртку и долго рассматривал его. Затем снова повернулся ко мне:
— Я впервые в Манагуа. Революция привела меня сюда. И если бы революция меня спросила, куда я бы хотел поехать, ответил бы: в Советскую Россию и в Болгарию.
Голос его потонул в новом всплеске радостного волнения. В президиум неторопливо поднялась женщина с крупными чертами лица. На вид ей было лет пятьдесят. Делегаты стоя приветствовали ее.
— Команданте Педро Паласиос присутствует сегодня здесь. Он всегда с нами!
Юноша из международного отдела Союза молодежи, сидевший рядом, шепотом сказал мне:
— Это мать Педро Паласиоса.
Да, это была она. Одухотворенное лицо, строгие, выразительные черты, острый взгляд, как у ее сына, который смотрит с портрета над президиумом.
Здесь есть одна особенность, о которой спешу тебе сообщить. У каждого форума свое знамя. Знаменем I съезда молодых сандинистов был избран Педро Араус Паласиос, видный деятель студенческого движения, а позже один из руководителей СФНО.
Когда я встретился с Боярдо Арсе, членом Национального руководства СФНО (в то время он работал координатором сандинистской партии), и спросил его о Паласиосе, он задумался и ответил:
— Паласиос был истинным патриотом, одним из главных организаторов СФНО.
Лицо Боярдо омрачилось.
— Его мягкий и теплый голос пленял всех деятелей фронта. Сегодня он на встрече в Леоне, завтра — в Чинандеге, Эстели, Матагальпе, Масае, Гранаде, Ривасе… Нет города в нашей стране, который не согрел бы своим присутствием этот несгибаемый революционер. Педро рос вместе с Сандинистским фронтом национального освобождения. Он был его сыном и руководителем, который сеял семена революции.
Боярдо погладил коротко стриженную бородку и сказал:
— Его суровость и щедрость, зрелость и самопожертвование, человеческие добродетели многому нас научили…
Я смотрел на портрет Педро, на его мать, сидящую в президиуме, и вспоминал все, что я прочитал недавно о жизни этого талантливого деятеля Сандинистского фронта. Педро погиб в 27 лет. Но за свои 27 лет он успел завершить среднее образование в городе Гранада и высшее техническое в университете города Манагуа, зарекомендовал себя наиболее видным руководителем революционного студенческого фронта и, осознав необходимость союза студенческого движения с рабочими массами, встал на путь революционной борьбы. С 1969 года, после гибели Хулио Буитраго, одного из основных руководителей СФНО, Национальное руководство поручило Педро Паласиосу (подпольное имя — Фредерико) ответственное задание: создавать нелегальные боевые группы, организовывать конспиративную сеть, перебрасывать революционеров по тайным каналам из города в город. В водоворот революционной борьбы он окунулся, когда ему не было еще и двадцати. Тогда же Педро выполнил и другое поручение — угнал самолет никарагуанской авиакомпании и посадил его на Кубе.
За годы политической эмиграции, которые он провел на Кубе, во Франции, в Швейцарии, на Среднем Востоке, Педро вырос не только как революционер-практик, но и как революционер-теоретик. И когда в 1970 году диктатор нанес СФНО тяжелый удар — по всей стране были арестованы основные кадры фронта, — Фредерико срочно был вызван в страну. Ему поручили возглавить городскую организацию Леона, где находился оперативный и революционный центр СФНО. Здесь Педро раскрыл свою деловитость, умение работать с людьми, критически анализировать события, улавливать зарождающиеся процессы и явления, быстро принимать решения.
В 1973 году в связи со сложившимися обстоятельствами многие руководящие кадры СФНО вынуждены были эмигрировать. Руководство деятельностью СФНО было поручено Фредерико. Благодаря своему богатому революционному опыту и способностям он быстро утвердился в этой роли. Педро принадлежит заслуга обогащения внутриорганизационной жизни фронта. Были укреплены связи СФНО с другими антисомосовскими организациями. И самым главным результатом этой деятельности было то, что сандинисты поняли: для окончательного успеха необходима вооруженная борьба. По инициативе Фредерико в стране начала создаваться база для организации партизанского движения.
В 1974 году Педро Паласиос выступил главным организатором вооруженной акции, в результате которой из сомосовских застенков были освобождены и переброшены за границу многие деятели Сандинистского фронта…
Боевой товарищ Фредерико команданте Боярдо Арсе продолжал говорить:
— Фредерико был человеком действия, но не бессмысленного риска. Он обладал даром быстро раскрывать возможности каждого человека и направлять их в нужное русло. Его самопожертвование в работе и чистота в отношениях с товарищами были поразительны. Указания Фредерико отличались краткостью, точностью и предельной ясностью. Был он требовательным к себе и ко всем, с кем работал. Был суров и беспощаден к предателям и трусам. На врагов смотрел с презрением. Душа у него была нежная. Всего себя он посвятил революции. Его конспиративное чутье и исключительный организаторский талант были настолько велики, что даже и ближайшие его соратники, которые работали с ним долгие годы, до конца своей жизни так и не узнали, что их руководителем был именно он, Педро, что у этого человека было 45 подпольных имен.
И самое черствое сердце не могло не дрогнуть, когда мать Педро Паласиоса встала и вместо длинной речи искренне сказала:
— Утрата Педро для меня как матери особенно тяжела. Но я счастлива, что он оставил мне столько верных сыновей и дочерей. Люблю вас всех, как родных.
В зале съездов сидели достойные наследники Педро, закаленные в революционном пламени пятнадцатилетние ребята, за спиной которых были сражения на баррикадах, борьба с неграмотностью, схватки с бандитами. Это были молодые люди с большим житейским опытом, которые после революции превратили свою страну в огромную школу и гордо следовали девизу: «Учение и труд!»
Съезд по-деловому обсудил и наметил конкретные пути на будущее. Он не искал легких путей, не увлекался парадностью, а конкретно, по-человечески, ответственно определял задачи. Этим людям надо было добиться того, чтобы в кратчайшие сроки в стране была преодолена высокая детская смертность, которая достигает сегодня 220 человек на тысячу новорожденных, подготовить недостающих две с половиной тысячи врачей, пять тысяч учителей, засадить и засеять 50 процентов брошенной плодородной земли, построить школы для 20 тысяч детей, которые пока еще нигде не учатся.
Черный юноша в шапке сказал мне:
— Раньше мы двумя руками держали винтовку, сейчас должны держать ее в одной руке, а другой созидать наше будущее. У вас так же было после революции?
— Так же, — успокоил я его. — У созидательной революции общие пути и общие законы…
Что такое, в сущности, для них революция? Порог между двумя эпохами, двумя мирами. Дождь, который смывает всякую нечисть. Чистый, солнечный день. Радость, смех, игры. Знания.
Что дала революция молодым людям, заселявшим окраины городов, окраины нищеты?
Такой вопрос я задал рабочему сахарного завода в Чинандеге по имени Боярдо. У него десять детей, больная мать и две жилистых руки. Мой вопрос не удивил его. Наверное, он и сам не раз задавал его себе.
— На это одним словом не ответишь. Но уже сейчас революция вселила в меня уверенность в будущем, а главное — дала мне работу. Теперь в моем доме слышатся смех и песни. Впервые в нашем доме побывал врач. А это уже немало, верно?
— Безусловно! От одной уверенности в завтрашнем дне человек приобретает крылья; теперь он знает, что этот мир принадлежит и ему, а не только горстке избранных…
Гордость, ответственность, долг и самопожертвование — вот что характерно сегодня для никарагуанской молодежи.
Неповторимый день! Никогда его не забуду! Очень хочу, чтобы наши сыновья походили на тех сандинистов, которые меня окружают!
29
КОСТА-АТЛАНТИКА. Об этой части Никарагуа еще в первый день нашего приезда все говорили как о чем-то очень далеком, расположенном едва ли не на краю света. Может быть, потому, что туда нет прямого пути. Не менее семи часов надо добираться на машине до города Рама, затем столько же времени по реке на моторной лодке до Блуфилдса. Район этот малонаселенный, и только там можно увидеть девственную красоту природы и морей. Там живут племена сумо и москито, занимающиеся охотой и рыбной ловлей. Земледелие им незнакомо. Их оружием и в XX веке остаются лук и стрела. Смешение между неграми и индейцами привело к возникновению другой расовой группы — самбо. Говорят они на своеобразном наречии, что является плодом их длительного общения с английскими пиратами.
Несколько раз мы собирались отправиться в Коста-Атлантику, но безуспешно. По реке плыть было нельзя, так как она вышла из берегов. Но как вернуться домой, не увидев истинные джунгли, которые занимают две трети территории страны?! Чем больше мы думали об этом уголке Никарагуа, тем сильнее разгорался наш интерес. Однажды вечером в гости к нам пришла группа болгарских врачей. Один из них бывал в тех местах и сейчас рассказал нам:
— Мои самые сильные впечатления о Никарагуа связаны с Коста-Атлантикой, с Атлантическим океаном и разбросанными в нем островками. — И замолчал. Он вообще был очень неразговорчив. На все вопросы отвечал кратко: — Это надо видеть. Это невозможно описать.
Надо видеть! Но как? Больше месяца мы мучились. Но вот однажды в пятницу вечером Леонель Эспиноса и его жена Марджин сообщили нам:
— Завтра едем в Коста-Атлантику.
Мы окончательно потеряли покой. Неужели увидим то, что волновало нас столько дней?
Тебе хорошо известно: когда ждешь, время течет очень медленно. Мы были готовы с раннего утра. На каждый шум вскакивали и подбегали к окну. Не знаю, как мы дождались назначенного часа.
Рикардо Лопес, наш водитель, попросил нас поторапливаться. Машина доставила нас в аэропорт, не обозначенный на карте. Маленькие самолеты, словно жуки, были рассыпаны по зеленой поляне.
— Полетим на «букашке», — сказал Рикардо и куда-то исчез.
Через несколько минут он вернулся с худеньким улыбчивым юношей.
— Это наш пилот Марио Окон. Уже женат и заботится о воспитании трех детей. — И, дружески похлопав его по плечу, добавил: — Самый лучший пилот среди любителей…
Оба смеялись и шутили, но нам было не до шуток. Пристально рассматривали мы «букашку», которая от легкого дуновения ветерка трепетала, как детская игрушка. Мы молчали, потому что испытывали страх. Вопросов никто не задавал. Двинулись за пилотом и втиснулись в маленькую кабинку, рассчитанную на пятерых. Заурчали моторы. Марио посмотрел на нас, и в его больших глазах мы прочитали не только спокойствие, но и укор за наш страх.
— Полетим над озером Манагуа, вдоль озера Никарагуа, пересечем часть джунглей и приземлимся в Блуфилдсе.
Более часа летели мы над джунглями, пока под нами не показался искрящийся Атлантический океан, а потом белые и красные домики Блуфилдса. Посадочной полосой была простая полоска земли, раскисшей после недавно прошедшего дождя. Самолетик приземлился, и мы с облегчением вышли.
Встретив первых жителей Блуфилдса, мы спросили о достопримечательностях этого города. Они удивленно посмотрели на нас и, наверное, только из вежливости не задали нам вопрос: «Вы, случайно, не сумасшедшие?»
Отсталость, нищета, грязь и множество детей — вот достопримечательности и характерные особенности этого почти 20-тысячного города. Большая часть домов перекошена, потому что вода быстро разъедает фундамент. Мужчины толпятся у пристани, женщины с накрученными на бигуди волосами, как будто все готовятся к какому-то торжеству, слоняются около домов, а дети собираются стайками, как воробушки, и, увидев незнакомых людей, протягивают руки за милостыней. Чуть не забыл тебе написать, что здесь, в этом заброшенном на берегу океана городе, можно встретить любых людей — белых, желтых, черных. Видно, моряки всего мира оставляли здесь частицу своего сердца…
Несколько раз мы обошли город, пообедали лангустами, и снова наша «букашка» понеслась над океаном. Километрах в восьмидесяти от Блуфилдса расположен остров Исла-дель-Моис-Гранде.
— Остров Спокойствия, — пояснил Марио.
— А посадочная полоса есть? — спросили мы.
— На песчаном берегу, — рассмеялся он. — Но если его зальет водой, придется искать колею.
— А почему его называют островом Спокойствия?
Марио хитро посмотрел на Рикардо и, убедившись, что тот остался безучастным к нашему вопросу, пояснил:
— Потому что там каждый живет по своим неписаным законам. Знаю несколько человек, которым уже по 80 лет, а остров ни разу в жизни не покидали. Для них остров — весь мир…
Среди огромной синевы океана остров напоминал муравейник. Самолет пошел на снижение. И вот мы на острове. Он занимает не более восьмисот гектаров. Население — около трех тысяч человек. Позже мы узнали, что здесь никогда не было переписи населения.
Мы на машине объехали весь остров. Основным и, пожалуй, единственным промыслом островитян является лов и переработка рыбы. На острове есть все — красиво оформленные магазины, рестораны с оркестрами, бар. По главной улице вечерами прохаживаются молодые люди. Марио был прав, когда назвал его островом Спокойствия. Здесь никто никуда не торопится. Люди движутся медленно и спокойно, с песнями.
Поздно вечером, после того как мы более часа наслаждались ласками океана, нас приветствовал смешанный оркестр птиц, кузнечиков и диких животных.
Утром в сопровождении двух местных жителей мы поднялись на холм, откуда весь остров был виден как на ладони. Небольшое, как нам показалось на первый взгляд, возвышение выгнало из нас пот, словно мы побывали в сауне. Когда поднялись и сели отдохнуть, старший из проводников, Рене, объяснил нам, что мы находимся на Приятной вершине, а тропинка, по которой поднимались, называется тропой Верности.
Рене говорил на местном наречии, которое было чем-то средним между английским и испанским языками. Но историю, которую он нам поведал, мы поняли хорошо.
— От прадедов это нам осталось, а откуда к ним пришел этот обычай, не знаю. Каждый молодой человек, который решил жениться, должен на руках с берега океана до самого верха этого холма донести свою избранницу и отсюда громко крикнуть: «Люблю тебя, моя жена!» И если он это скажет не переводя духа, она будет верна ему до гроба. Затем невеста берет жениха за руку и ведет его за собой по тропе Верности к океану. Они ополаскиваются в воде океана и идут в дом юноши.
Кто-то из нас тут же спросил:
— А все ли юноши выдерживают это испытание?
— До сих пор еще никто не выдержал, поэтому никто и не обижается на свою жену, если она свернет с тропы Верности. — Рене засмеялся и поспешил пояснить, что здесь мораль на высоте.
Он прежде был матросом, много странствовал и хорошо знал правы и обычаи многих народов. Тяжелая матросская жизнь сделала его суровым и беззаботным. Рене умел веселиться, умел и работать. На острове он был самым авторитетным человеком. Дети, завидев его издалека, снимали шапки, а взрослые спешили поздороваться с ним.
— И женщины у нас особенные, — продолжал шутя Рене. — Изменчивы, как океан. Посмотрите, сколько раз за один только час он меняет свои краски!
С высоты холма мы обозревали безбрежный океан, И поверь, Рене был прав. Вода в заливе постоянно меняла свой цвет — от ярко-синего, с десятком разных оттенков, до темно-зеленого.
Не скрою, здесь, на этой пяди земли, чудом уцелевшей в огромном океане, я встретил самых красивых женщин Никарагуа. Стройные, высокие, с неповторимой грацией, с матовыми лицами и синими глазами. Голоса их как колокольчики оглашали остров и тонули в шуме прибоя.
Наверное, все, кто приезжает сюда, не спешат уехать, вот почему наши хозяева были удивлены, когда мы сказали им, что пора уезжать.
— Не обидел ли вас кто? — спросил Рене.
— Нет! Но если мы останемся здесь еще на несколько часов, то не знаем, сможем ли вообще отсюда уехать. У вас здесь столько волшебства!..
— У нас все естественно. Даже любовь свободна от предрассудков. И в отличие от других у нас нет ревности. Люди живут в любви и согласии…
На обратном пути мы рассуждали о необычных нравах островитян — о тропе Верности, об уважительном отношении и согласии, в котором живут здесь люди, о красивых женщинах. И каждый из нас тайно хранил в душе вопросительный взгляд синеокой девушки.
Не останавливаясь в Блуфилдсе, мы пролетели джунгли и приземлились на аэродроме в окрестностях величественного Момотомбо.
30
КАРЛОС ГАЙО и сейчас пришел не один. С ним были Томас, Магда и Ольга — все из журнала «Подер сандиниста». Карлос — главный редактор журнала. Еще с первой встречи я запомнил его по сигаре в зубах, которая непрерывно перемещалась из одного угла рта в другой, и по кепке на голове. Журналисты вошли все вместе, продолжая свой спор, который начали, как я понял, еще в редакции.
— Ну почему вы не хотите согласиться, — горячился Карлос, — что пропаганда — это мысль и сердце, без которых революция будет незаконченной?! Друг, — обратился он ко мне, — скажи им ты, пусть поймут, что сегодня главный боец тот, кто умно и тактично вдохновляет и мобилизует людей, кто беспристрастно, с чувством ответственности, с классовых позиций объясняет явления, которые возникают, кто своими действиями и делами зажигает других…
— Но для всего этого, — прервал его Томас, — необходимо основное, без чего каждый пропагандист превратится в болтуна, и это основное — марксизм-ленинизм!
— Ну конечно! Я об этом и говорю!
Карлос смугл, с сутулыми плечами, с небрежно прижатым кепкой чубом, с подчеркнуто индейским темпераментом — горячий как огонь. Томас медлителен, улыбчив, сосредоточен. Магда и Ольга непрерывно смеются над бесконечно спорящими Карлосом и Томасом, которые доказывают друг другу одно и то же.
Прежде чем сесть, Карлос вытащил пистолет и отложил его в сторону.
— Не могу сесть по-человечески из-за этого железа…
— Сейчас посмотрим, что хозяин предложит гостям, — сказала, хитро посмотрев на меня, Ольга.
— Прежде всего он предложит нам сесть, — улыбнулся я. — Слушая ваш спор, я невольно вспомнил один случай, который произошел у нас… Несколько лет назад я со своим другом, офицером, который до 9 сентября 1944 года был политзаключенным, а потом партизанил, пошел в одно учреждение, где работал наш общий знакомый. Там нас приветливо встретили, выписали пропуск, и мы направились к лифту. Дежурный офицер проверил наши документы, пропуска и спросил: «Оружие есть?» Мой друг ответил: «Да, есть». «Прошу его оставить. Получите, когда будете уходить», — вежливо предложил нам дежурный. «Сожалею, но это невозможно», — резко ответил мой друг, и по лицу его пошел нервный тик. «Извините, но нарушать установленный порядок никому не позволено», — сказал дежурный офицер. Мой друг начал нервничать, задавать ненужные вопросы. Его поведение удивило меня. Передо мной стоял совершенно незнакомый человек. «Что ты устраиваешь? — зло спросил я его. — Ничего не могу понять!» А он уже немного успокоился и сказал: «Прошу извинить меня, что вынужден спорить с должностным лицом, но свое оружие я не могу оставить. С ним я сидел в тюрьме. Там обучался использовать его еще лучше. Оно было со мной и в отряде. И никогда, ни при каких обстоятельствах я не оставлял его, не оставлю и сейчас». Дежурный преградил нам путь. «А какое у вас оружие?» — поинтересовался он. «Марксизм-ленинизм. После смерти оставлю его своим внукам», — ответил мой друг…
— Карлос, ты понял, в чем сила революционера? — спросил Томас.
Они вспомнили погибших товарищей, вспомнили Франсиско Меса, погибшего за восемь дней до победы. Если бы он был жив, сейчас ему было бы 27 лет, столько же, сколько моим друзьям.
— Он был лучше всех нас. Был достойным сыном своей родины, — сказал Карлос и снял кепку.
Память о дорогих им людях навсегда осталась в сердцах патриотов. Сильные голоса погибших товарищей сегодня звучат в песнях и в памяти живых.
— Орландо упал мне на руки, сжался в комок, потом страшно посмотрел на меня своими большими глазами, — вспоминал Томас, — и сказал: «Я уже не дождусь восхода. Но я его вижу». И умер.
— А Нуньес, — вспомнил Карлос, — снял свой окровавленный платок, отдал мне и с перекошенным от боли лицом сказал: «Своей кровью хочу омыть всю порабощенную империализмом Никарагуа, всю Латинскую Америку».
— А помните черненькую, коротко стриженную студентку Дейзи? Перед атакой она вышла вперед и крикнула: «Хочу, чтобы у наших детей всегда были веселые глаза, чтобы никогда из них не текли горькие слезы!» И пошла на крепость. Сомосовцы скосили ее первой очередью. Смертью своей Дейзи подняла нас на решающую атаку.
— К нам в отряд пришел музыкант, звали его Фредерико. Когда его тяжело ранили, мы целую неделю носили его за собой. Когда он понял, что умирает, он сказал нам: «Я хотел, чтобы наша песня стала свободной. Не оставляйте ее в оковах, братья!»
Тысячи голосов сгорели в пламени борьбы. Они напоминают живым о вчерашнем, еще не отшумевшем дне, о баррикадах, залитых кровью улицах, безжизненных трупах. И все они — живые и мертвые — являются образцом верности, патриотизма, щедрости и бескорыстия.
— Революция научила меня тому, — сказал Карлос, — что у жизни два цвета — красный и белый. Красный — это кровь истинных сыновей и дочерей народа, Сандино, а белый — это цвет трусов, предателей и палачей.
— А может ли белый цвет окраситься в красный? — спросила Ольга.
Карлос задумался, не спешил отвечать, и Томас не вытерпел:
— В университете еще в первые дни борьбы нам симпатизировала одна студентка. Умная девушка, с чувством справедливости и человеческого достоинства. Но мы ее сторонились. Боялись, потому что знали: ее брат — один из приближенных Сомосы. Думали, что она хочет войти к нам в доверие, чтобы быстрее раскрыть нас. Потом революционная буря разбросала нас в разные концы. Весной 1979 года меня направили на южный фронт. И там я снова встретил ее. Она была одной из самых смелых девушек. Более того, я узнал, что она убила своего брата и ушла на фронт. Она вовремя дала оценку своему окружению и выбрала истинный путь в завтрашний день — путь революции. Сейчас она одна из талантливейших журналистов. Искренне сожалею, что ей пришлось так долго определять свой путь. Это мы вынудили ее. Я вновь начинаю спор с моим другом — новый мир мы должны строить с людьми разного цвета.
В этот раз Карлос не подскочил. Промолчал…
Тогда я напомнил им слова В. И. Ленина, который после победы пролетарской революции в России говорил, что социализм в России будет строиться людьми, которые воспитаны капитализмом, которые разложены, развращены им, но им же и закалены в борьбе…
Разговор продолжался допоздна. Какие это прекрасные люди! Став на исторический путь, они готовы жизнью своей оправдать доверие народа. Красный цвет — их непреходящая и нестареющая красота.
31
ДО НАЧАЛА третьей общей конференции активистов Сандинистского фронта национального освобождения я сел в зале и начал внимательно рассматривать лица делегатов. Это были различные люди — рабочие и крестьяне, творческие работники и политики, молодые и взрослые. Каждый из них прошел трудный путь вместе с революцией, участвовал в ней и сейчас остается ее преданным бойцом. Их имена известны всей стране. О многих из них я уже рассказал тебе в своих письмах.
Зал быстро заполнялся. Собралось 268 делегатов. Я счастлив, что могу послушать, что они скажут о будущих шагах революции. Горжусь и тем, что буду немым свидетелем самого главного в этой конференции — превращения СФНО в авангард борьбы, в авангард построения нового общества, что не менее трудно, чем свергнуть диктатуру. Речь идет о структурном и идеологическом усовершенствовании, о создании партии, которая возьмет на себя новую историческую ответственность. Но не думай, что это означает разрыв с прошлым. Напротив! Это диалектическое продолжение славной истории СФНО. Потому что именно борьба и самопожертвование тысяч мучеников превратили фронт в авангард, обеспечили ему победу, дали возможность ставить сегодня новые задачи.
Вполне прав Карлос Нуньес, который вчера во время нашей беседы по поводу создания сандинистской партия говорил:
— Партия создается в революционной повседневной борьбе. Партия растет в делах, в решении огромных революционных задач.
Один за другим выходили на трибуну ораторы, пламенные, целеустремленные. Они анализировали происшедшие события, намечали новые задачи. Каждый понимал, что основными проблемами сандинистской революции на длительную перспективу будут проблемы экономические. Решая их, можно будет преодолеть страшные последствия отсталости, экономической зависимости и нищеты. Все это требует неиссякаемой энергии, ума и решительности всего народа и его авангарда. У них уже есть программа эффективности и экономии, которой они следуют неотступно.
Первый год после революции был относительно спокойным, нарушаемым только налетами небольших контрреволюционных банд. Однако в целом атмосфера в Центральной Америке оставалась сложной. Состояние и военное положение в Сальвадоре и Гватемале, агрессивность правительств этих стран, опасность вооруженной интервенции, практически безнаказанные действия тысяч сомосовских эмигрантов в Гондурасе, возрождение «холодной войны» показывают, что ни на миг нельзя ослаблять свою оборонную мощь.
Первый послереволюционный год подтвердил, что политика неприсоединения, которой Никарагуа следует в международных отношениях, правильная и полностью отвечает условиям и возможностям страны.
— Нашими самыми бескорыстными друзьями, — делится своими мыслями руководитель СФНО, — являются страны социалистического содружества, которые уважают нашу независимость и внутреннее самоуправление.
Сегодня самой важной задачей является образование сильного блока для нейтрализации интервенционистской политики империализма.
Национальное единство — это верная политика народной сандинистской революции и незаменимое средство для строительства новой Никарагуа в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями.
Идеологическая борьба превратилась в основную форму классовой борьбы. Враги, у которых больше опыта в этой области, используют отсталость, незнание людей, чтобы внести смуту и стимулировать любую оппозицию или течение, направленные против революционного процесса.
Превосходство СФНО состоит в том, что он защищает интересы народа.
Главным героем революции являются массы, истинные создатели революции. Организация, воспитание и мобилизация масс на решение больших задач революции — это первостепенная цель каждого революционного авангарда.
— Нам в наследство досталась огромная отсталость в области культуры, — говорит Генри Руис, член Национального руководства СФНО. — Почти 60 процентов населения было неграмотно (а всего за один год народной власти неграмотных осталось 12 процентов), нет квалифицированных кадров, нет специалистов с высшим образованием.
Я слушал и думал о том, что народ Никарагуа действительно стал теперь законным хозяином своей родины. Что нового? В стране сохраняется порядок и спокойствие. Чья власть? Народная. Она вышла из недр народа и пустила корни в его сердце. Каждый день, каждую минуту она крепнет и совершенствуется. Она завоевывает все больше друзей и за пределами Никарагуа.
Я убежден твердо: СФНО — это единство рабочих и крестьян, антиимпериалистических сил, интернационалистов, всех честных мужчин и женщин, которые никогда не станут на колени и которые готовы умереть за свою родину, за свой народ и за свою революцию.
Не это ли самая важная предпосылка для создания революционной партии? Не это ли еще один, важный шаг, который сегодня делают сандинисты? Наверное, это так. Решимость их направлена на создание организованной революционной партии, руководствующейся научными принципами, осознающей свою роль руководителя; партии с ясной политической позицией и стратегией, которая не ограничивается частичными преобразованиями, а стоит за полную ликвидацию эксплуатации и экономической зависимости, за революционный переход к новому обществу; партии, которая умеет чувствовать пульс народа, непоколебимо верна своим принципам, способна умело руководить; партии, которая следует принципам интернационализма, которая свято будет хранить патриотические традиции, будет достойным защитником национальных интересов.
Я видел членов партии — мужчин и женщин в зеленой форме, самых последовательных и самоотверженных сыновей и дочерей Сандино, бескорыстных братьев и сестер Карлоса Фонсеки.
Раздумья мои были прерваны вопросом, который задал с трибуны Томас Борхе. Он спросил делегатов, каким, по их мнению, должен быть сандинист. И сам ответил: личные качества настоящего сандиниста должны быть в гармонии с общественными, а общественные должны влиять на личные.
Сандинистом может быть тот, кто считает труд наградой, а не наказанием; кто сознает, что дисциплина это честь, а не бремя; кто хорошо понимает, что членство в партии не привилегия, а ответственность. Красота сандиниста должна быть в его беззаветной преданности интересам народа. Истинным сандинистом может быть тот, у кого нет ничего общего с подлостью, завистью, эгоизмом, мещанством, кто является олицетворением единства, личной чистоты и полного самоотречения…
Зал притих, лица сосредоточенны, слух напряженно ловил каждое слово, звучащее как клятва. А сильный голос Борхе продолжал:
— Сандинистом может быть тот, кто способен всегда говорить только правду, критиковать открыто, указывать своим братьям на недостатки и ошибки, не думая о превосходстве, зазнайстве и злом умысле. Сандинист должен знать, что решения принимаются большинством, даже если он придерживается своего мнения, должен подчиняться партийной дисциплине и никогда не забывать об обязанности быть постоянно в массах, знать стремления и желания народа, чувствовать потребность общения с трудящимися.
Сандинист должен быть сильным, постоянно бороться с собственными недостатками, иметь богатую душу; быть честным и порядочным критиком — давать возможность каждому, кто ошибся, исправиться; уметь страдать, терпеть боль, выступать против врага, каким бы сильным он ни был…
Томас Борхе закончил свою речь. Зал какое-то мгновение затаенно молчал. И вдруг разразились бурные аплодисменты. Люди выражали полное согласие с Томасом Борхе.
Ликовал и я вместе со всеми. После собрания меня догнал Карлос Чаморро и спросил:
— О чем сейчас думаете?
— Мне бы хотелось одного — быть членом вашей сандинистской партии! — ответил я и по его лицу понял, как приятно ему это слышать.
Когда прощались, я от всего сердца пожелал им:
— Доброго пути вам, друзья и братья!
32
МАРИЯ ворвалась в комнату, бросилась к нам, расцеловала всех и громко выкрикнула:
— Убит Сомоса!.. Конец Сомосе!.. Ура!
Было утро 17 сентября 1980 года, лазурное, чистое утро.
Я попросил ее рассказать, когда и как это произошло, но она схватила транзисторный приемник и выставила его на окно. На улице отовсюду слышалось:
— Убит Сомоса!.. Убит Сомоса!..
Наспех одевшись, я вышел на улицу, заполненную народом. Вокруг меня были смеющиеся лица и много, много радостных взглядов. Каждый по-своему переживал радость по поводу убийства тирана. Но никто не мог сказать ничего больше того, что мы уже знали: Сомоса убит. Поэтому, не теряя ни минуты, я пошел к друзьям в редакцию «Баррикады». Там сейчас было так же шумно, как в растревоженном улье. В дверях я встретился с заместителем главного редактора, и он обнял меня и с неописуемой радостью сообщил:
— Анастасио Сомоса сдох, как собака за углом!
Заметив, что мне не терпится его расспросить, он отвел меня в комнату дежурного редактора и дал почитать сообщение о смерти Сомосы, а сам пошел дальше делиться радостью с другими. Агентство Франс Пресс сообщало:
«Бывший никарагуанский президент Анастасио Сомоса убит сегодня утром, как подтвердила парагвайская полиция. Покушение, которое отняло жизнь диктатора, было совершено в Асунсьоне, когда в окружении своей верной стражи Сомоса проезжал в автомобиле «мерседес-бенц».
На столе лежал оттиск набранного заголовка: «Выстрел, который останется в истории». И небольшой, еще недописанный текст:
«Убийца ста тысяч никарагуанцев, семья которого господствовала в Никарагуа около 50 лет, грабя народное богатство, получил заслуженное возмездие. Вместе с тираном убиты его шофер-телохранитель никарагуанец Хулио Сесар Гальярдо и американец Жозеф Байнистин, экономический советник бывшего диктатора».
Там же лежал еще не набранный текст официального коммюнике Национального руководства СФНО.
«От Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения героическому народу Никарагуа и миру.
Национальное руководство Сандинистского фронта национального освобождения, подтверждая смерть человекоубийцы Анастасио Сомосы, присоединяется к радости народа Сандино, который видит в этой героической акции свой долг и свое отмщение тому, кто был причиной смерти ста тысяч никарагуанцев, топил нашу страну в нищете и позоре; убийце Пабло Леала, Баеса Боне, Эдвина Кастро, Аякса Дельгадо, Касимиро Сотеля, Педро Хоакииа Чаморро и еще многих и многих патриотов своей родины; тому, кто приказывал совершать кровопролития в Уаспане, Софане, Эстели, Леоне, Монимбо, Чинандеге, Матагальпе, Манагуа, Карасо и других городах Никарагуа.
Боевой дух, преданность и смелость героической группы, которая расправилась с тираном, воплощают неумолимую волю народа Сандино. С этим духом мы будем продолжать строительство родины Сандино.
Ровно через четырнадцать месяцев после бегства тирана от революционного возмездия и через восемь лет после его приказа об убийстве наших дорогих братьев Оскара Турсиоса и Рикардо Морале Сомоса заплатил за свои преступления…»
Заканчивалось коммюнике Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения боевым лозунгом: «Сандино вчера, Сандино сегодня, Сандино навсегда!»
Радостное возбуждение не стихало и ночью. Это была не просто радость оттого, что возмездие настигло Сомосу, это было, скорее, ликование по поводу уничтожения тирании, которая десятилетиями пила кровь своего народа.
Самый старший Сомоса, бандит и конокрад, был повешен на вековом дереве у обочины дороги. Его сын, родоначальник диктатуры на этой земле, погиб от пули Ригоберто Лопеса Переса. Тогда народ не мог публично выразить свою радость, потому что сын убитого Сомосы, начальник национальной гвардии, за несколько часов бросил лучших сыновей и дочерей Никарагуа в тюрьмы и над страной опустилась ночь.
Но вот наконец сбылась мечта никарагуанцев — ненавистной династии больше нет. Радость людей беспредельна. Она льется по улицам и городам, извергается как лава вулкана и заливает всю страну.
Передо мной на улице, прислонившись к дереву, сидит старуха и плачет. Она плачет от радости. Эта женщина одинока. Мужа ее убили палачи Сомосы десять лет назад, а пять сыновей и две дочери погибли в боях. Двое ребят из сандинистской детской организации помогли женщине подняться и проводили ее домой. По пути она все повторяла: «Дети, мои дорогие дети!»
На улице меня обнял незнакомый человек.
— Тирану нет места под солнцем! — сказал он мне и пошел дальше, подгоняемый радостью.
Прости меня за откровение, но человек, который не настрадался в нужде, который не горел от любви и который не пережил ужаса и коварства иноземного угнетения, не сможет понять, почему так велика эта радость. Если бы здесь были мой или твой отец, они наверняка плакали бы от радости вместе с этими людьми, ставшими мне такими дорогими и близкими. Как я хочу, чтобы над этими людьми всегда сияло солнце свободы! Они этою заслуживают.
До моего возвращения остаются считанные дни.
33
ПИШУ ТЕБЕ последнее письмо из Никарагуа.
Вчера повидался с Доминго, с которым летел сюда. Он пришел меня проводить и задержался до поздней ночи. Был грустный. Рассказал мне историю, которая терзала его. Несколько месяцев болел его отец. Доминго не шел к нему, да и отец не хотел его видеть. Неделю назад Доминго сообщили, что отец при смерти, и он поехал попрощаться с ним. Когда вошел во двор, увидел отца, лежащего у бананового дерева, на котором когда-то висела люлька Доминго. Отец и сын не виделись несколько лет. Отец очень изменился. От крупного, здорового крестьянина осталась тень.
— Добрый день, — поздоровался Доминго.
Отец жадно смотрел на сына красными, повлажневшими глазами.
— Мне сказали, что все прошло удачно. В Москве тебе вернули ноги?
— Ведь это твои друзья, сомосовцы, отняли у меня ноги! А сколько жизней они загубили!
— Сын, ты ошибаешься…
— Может быть, я должен гордиться тобой? — спросил Доминго.
— Кто знает. Может быть, и так… — ответил старик.
Перед домом остановилась машина. Из нее вышел Томас Борхе, подошел к отцу Доминго, сказал:
— Старик, почему сдаешься? Ты выдержал самое трудное, а сейчас…
— Скажи это моему сыну…
— Эх, отцы наши, отцы, если бы не вы, настоящие революционеры, победа все еще была бы у нас за спиной.
Старик опустил веки. Из глаз его выкатились две слезы.
— Что это значит? — воскликнул пораженный Доминго. — Отец, неужели ты…
Отец открыл глаза и прошептал:
— Рад, что ты жив, сын. Будь счастлив… — Голова старика безжизненно упала.
Так они все выяснили в последнюю минуту жизни отца. Доминго тяжело переживал, что не знал своего отца и считал его врагом. И сейчас тоска по отцу мучила его. Он молчал, а я думал об истинном герое никарагуанской революции — народе, об обыкновенных, незаметных людях, которые были гранитной основой справедливой и беспощадной борьбы…
Пришла машина. Надо ехать.
До свидания, Никарагуа, до свидания, дорогие мои друзья!
В добрый путь, сияющее солнце между вулканами жизни!
Август — ноябрь 1980 года
Манагуа — София
Перевод В. И. Кияшко.
Примечания
1
Ятак — помощник партизан. — Прим. ред.
(обратно)2
Комита — так в период турецкого владычества называли борцов за освобождение Болгарии. — Прим. ред.
(обратно)3
Воевода — руководитель гайдуков, народных мстителей, боровшихся с турками за освобождение Болгарии. — Прим. ред.
(обратно)4
Легионеры и бранники — члены существовавших в монархо-фашистской Болгарии фашистских молодежных организаций. — Прим. ред.
(обратно)5
Батко, бате — обращение к старшему брату. — Прим. ред.
(обратно)6
Луканка — сорт твердой колбасы. — Прим. ред.
(обратно)7
Балканджия — горец. — Прим. ред.
(обратно)
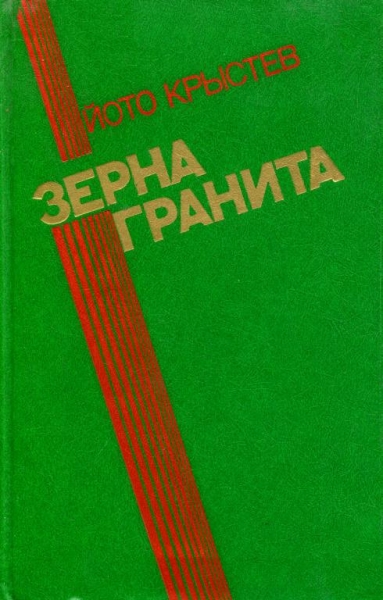
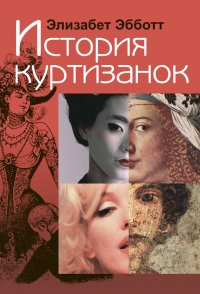






Комментарии к книге «Зерна гранита», Йото Крыстев
Всего 0 комментариев