Маргалит Фокс КОНАН ДОЙЛЬ НА СТОРОНЕ ЗАЩИТЫ Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов
© Margalit Fox, 2018
All Rights Reserved.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2020
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2020
* * *
В память о Дональде Брукнере — рационалисте, гуманисте, мастере слова
Примечание от автора
В огромном массиве опубликованных трудов о сэре Артуре Конан Дойле его фамилия указывается по-разному: «Дойль» и «Конан Дойль». Я следую биографу писателя Расселу Миллеру, отмечавшему, что тот «носил составную фамилию Конан Дойль». (То же делает сын Конан Дойля Адриан в своей небольшой книге мемуаров об отце «Подлинный Конан Дойль», изданной в 1946 году.)
Ради языковой экономии я предпочла не использовать в книге обозначения «доктор», «мистер», «миссис» и пр. Исключение лишь одно — Марион Гилкрист, 82-летняя жительница Глазго, убийство которой легло в основу повествования. В предыдущих описаниях дела, в том числе принадлежащих перу Конан Дойля, ее всегда называют «мисс Гилкрист», и из уважения к ее эпохе, стране и почтенному возрасту я решила не нарушать эту традицию.
Сноски с пересчетом денежных единиц из фунтов стерлингов начала ХХ века в современные фунты стерлингов и доллары США отражают исторический уровень инфляции и курс на начало 2018 года.
В конце книги приводятся перечень действующих лиц и глоссарий.
Предисловие
То было одно из самых знаменитых убийств своей эпохи. В начале ХХ века оно взбудоражило Великобританию, а вскоре и весь мир: жертва-аристократка, похищенные бриллианты, преследование беглеца, скрывшегося на другом континенте, и хитрая горничная, которая знала гораздо больше, чем рассказала… Как писал в 1912 году сэр Артур Конан Дойль, это было «самое жестокое и бездушное преступление из всех, занесенных в мрачные анналы, из которых криминолог черпает материал для исследований».
Но, несмотря на весь его драматизм и многие сотни страниц, исписанные Конан Дойлем в связи с делом, рассказы об этом убийстве отнюдь не плод художественного воображения. Они описывают подлинные события: невинного человека преследовали, допрашивали, затем признали виновным в убийстве и едва не повесили. Эта судебная ошибка осталась в истории, по словам Конан Дойля, «бессмертным злодеянием, примером исключительной некомпетентности и упрямства должностных лиц». Сам он — как частный сыщик, вдохновитель общественной кампании и ревностный документалист — посвятил раскрытию этого преступления последние 20 лет своей жизни.
В основу дела, которое называли «шотландским делом Дрейфуса», легло убийство состоятельной дамы, произошедшее в Глазго в предрождественские дни 1908 года. Весной преступника, казалось, нашли: Оскара Слейтера, недавно приехавшего в город немецкого еврея, искателя приключений, подвергли допросам и признали виновным. Его имя получило такую известность, что в Глазго местный сленг, в котором слово заменяется несхожим по смыслу, но рифмующимся, даже годы спустя сохранил фразу «увидимся, Оскар» (see you Oscar), которую произносили вместо «увидимся позже» (see you later): именем в данном случае заменялось слово «позже» (later), рифмующееся с фамилией «Слейтер».
Однако расследование, проведенное немногочисленными сторонниками Слейтера, показало, что в деле присутствовали серьезные нарушения: халатность суда и стороны обвинения, подтасовка свидетельских показаний, сокрытие оправдывающих фактов, подстрекание к лжесвидетельству. Конан Дойль объявил происходящее «постыдной фальсификацией, где в равной мере сошлись глупость и лживость». Добросовестный полисмен, высказавшийся насчет сомнительности следствия и судебного процесса, поплатился за это карьерой.
В мае 1909 года после совещания присяжных, длившегося всего лишь около часа, Оскара Слейтера признали виновным и приговорили к смерти. Однако широкая публика осталась недовольна вердиктом, и всего за 48 часов до того, как жертве предстояло взойти на эшафот, казнь заменили пожизненным лишением свободы. Следующие 18 с половиной лет Слейтер, почти забытый, провел в заключении на голом и каменистом, продуваемом всеми ветрами клочке суши на севере Великобритании — в Питерхедской тюрьме.
День за днем, в пронизывающем до костей холоде или в беспощадном зное, Слейтер вырубал из породы огромные глыбы гранита, по-диккенсовски питался только хлебом, бульоном и жидкой овсянкой и значительную часть времени изнывал в одиночном заключении. Он как-то признался: если бы срок перевалил за 20 лет, он покончил бы с собой.
В 1927 году Слейтера вдруг освободили, а в следующем году сняли с него обвинение. Толчком к такому развитию событий послужило тайное послание, которое ему удалось передать из тюрьмы в 1925 году, — страстный призыв о помощи, адресованный Конан Дойлю.
Писатель, врач, мировая знаменитость и защитник притесняемых, сэр Артур Конан Дойль верил в невиновность Слейтера с самого начала. Еще в 1912 году он попытался употребить свои выдающиеся таланты на то, чтобы освободить Оскара; действия полиции и обвинителей он видел насквозь с холмсовской проницательностью. Однако при всем его влиянии и усилиях ему, как он позже писал, «противостоял целый круг политических законников, которые не могли разоблачить полицию, не разоблачив самих себя». В итоге приговор, вынесенный на основе улик столь шатких, что, по словам одного из комментаторов, их не хватило бы, чтобы «наказать кота за пропажу сметаны», продержался в силе почти 20 лет и остался в истории как один из самых трагических судебных фарсов своего времени.
То, что Слейтер не просидел в тюрьме до самой смерти, — по большей части заслуга Конан Дойля. Расследователь, писатель и издатель, вхожий тайным посредником в коридоры высшей власти, он стал главным защитником Слейтера и сделал больше других для его освобождения, когда многие уже считали дело безнадежным. «Дело Слейтера, — отмечал один из биографов писателя, — позволило Конан Дойлю сыграть в Англии такую же роль, какая во Франции выпала Эмилю Золя, вмешавшемуся в дело Дрейфуса»[1].
В наши дни Конан Дойль, почитаемый как автор детективов, гораздо меньше известен как общественный деятель — «рыцарь безнадежных дел», по выражению одного из английских криминологов. Он умер в 1930-м, прожив 71 год, и к этому времени на его счету было две попытки пройти в парламент (безуспешные); публичное отстаивание ряда требующих решения вопросов, включая бракоразводную реформу; раскрытие злодеяний Бельгии в Конго, а также смягчение наказания Роджеру Кейсменту — другу Конан Дойля, обвиненному в государственной измене. В поздние годы, как ни странно это может показаться в человеке столь острого ума, Конан Дойль активно высказывался в пользу существования мира духов и жизни после смерти. К нему как создателю Шерлока Холмса, едва ли не самого знаменитого персонажа западной литературы, публика часто обращалась с просьбами расследовать реальные случаи загадочных смертей, исчезновений и тому подобного, и Конан Дойль не раз успешно применял для этого свои навыки детектива-любителя.
Прежде чем присоединиться к кампании по освобождению Слейтера, он помог восстановить законность еще в одном знаменитом случае несправедливого обвинения — когда юрист Джордж Эдалджи, англичанин индийского происхождения, попал в тюрьму за убийство домашнего скота. Собственное расследование, проведенное Конан Дойлем, стало темой множества документальных книг и послужило толчком к созданию в 2005 году романа Джулиана Барнса «Артур и Джордж».
История Слейтера, несмотря на лежащее в ее основе убийство, остается менее известной — возможно, из-за того, что дело оказалось более сложным, чем другие случаи, которыми занимался Конан Дойль. Помимо прочего здесь не было кристально чистого обвиняемого с безупречными моральными качествами, как в случае с Эдалджи. Джордж Эдалджи — человек образованный, с безупречной репутацией, Оскар Слейтер мало того что иностранец, еще и общительный пройдоха, завсегдатай варьете и игорных домов, а также, по слухам (так и не подтвержденным), сутенер. Даже сам Конан Дойль считал Слейтера личностью недостойной: «не человек, а презренное перекати-поле» — в этих скупых словах писателя отчетливо отражаются бессознательные культурные предубеждения той эпохи. Вдобавок Конан Дойль, создатель Холмса, обладавшего крайне рациональным умом, в последние десятилетия жизни стал предметом насмешек из-за тяги к спиритизму, и в итоге пресса и общественность встречали любое его новое дело, включая дело Слейтера, если не с презрением, то как минимум со скептицизмом.
И все же оно стало последним деянием Конан Дойля как расследователя реальных преступлений, причем деянием героическим. История долгой борьбы за освобождение Слейтера ярко демонстрирует уникальные свойства личности Конан Дойля как выдающегося человека своего времени: готовность вступить в схватку, чувство чести, которая превыше личных антипатий, и талант к рациональному расследованию, превосходящий способности полиции. В наше время многие несправедливые приговоры опровергаются экспертизами на основе анализа ДНК, но Конан Дойль сумел освободить Слейтера почти единственно благодаря наблюдательности и четкой логике — именно тому, что принесло всемирную славу герою его рассказов.
Книга «Конан Дойль, на стороне защиты» объединяет в себе рассказ о приговоренном к казни, чью невиновность удалось доказать без современных методов судебной экспертизы, и рассмотрение уникального метода расследования, который Конан Дойль использовал в рассказах о Шерлоке Холмсе и затем применил к реальному убийству. Человек, спасший Слейтера, неслучайно был одновременно и врачом, и автором детективов: расследование, как и врачевание, основано на искусстве диагностики. Искусство это, неразрывно связанное с умением выявить, распознать и истолковать едва заметные подсказки и с их помощью реконструировать невидимое прошлое (навык, который Холмс описал как способность к «ретроспективным рассуждениям»[2]), ощутимо присутствует в подходе Конан Дойля ко всем аспектам дела Слейтера.
Талант диагноста, который Конан Дойль привнес в расследование, он воспринял от своего преподавателя из медицинского колледжа, Джозефа Белла — живого прототипа Шерлока Холмса. В череде невыдуманных головоломок, медицинских и уголовных, полученная от Белла выучка пришлась Конан Дойлю как нельзя кстати. «У меня есть наклонности к наблюдению — и к анализу, — говорит Холмс при первой встрече с Ватсоном. — Благодаря давней привычке цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не замечая промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки»[3].
Так же обстояло дело и в случае со Слейтером. Опубликованные материалы Конан Дойля и архивные письма по теме обнаруживают именно холмсовскую манеру: поиск мелких зацепок, важность которых недооценили другие расследователи, обнаружение логических нестыковок в действиях полиции и обвинителей, внимание к опровергающим доказательствам и глубокое понимание их ценности, а также — как сказал бы Холмс — способность наблюдать, а не просто видеть. И все это для того, чтобы шаг за шагом распутывать цепь косвенных улик, затянутую на шее Слейтера.
Кроме того, «Конан Дойль, свидетель защиты» рисует портрет самого Слейтера, отсутствующий в немногочисленных прошлых повествованиях о деле, из-за чего этот герой стал чем-то вроде главной загадки в своей же собственной истории. Книга пытается восполнить этот пробел с помощью трогательных писем, которыми в течение почти 20 лет обменивались сидящий в тюрьме Слейтер — во многих отношениях типичный иммигрант — и три поколения его любящей семьи в Германии.
Переписка эта, в которой печаль соседствует с радостью, позволяет многое узнать. Мы видим вдумчивого, эмоционального человека, пытающегося держаться за свою веру там, где на протяжении долгого времени он был единственным евреем. Мы видим человека, разрывающегося между необходимостью подчиниться судьбе и необходимостью не терять надежды. Мы также видим, постоянно и неотступно, внешние признаки надвигающегося безумия. Еще более неотступно перед нами маячит тот факт, что даже после освобождения Слейтер никогда больше не увидит своей семьи: немецкое гражданство для него утрачено, и домой ему не вернуться. Однако при всей тягостности такого запрета не исключено, что благодаря ему Слейтер в итоге остался жив.
Наконец, эта книга исследует вопрос, донимавший многих защитников Слейтера и остающийся без ответа более сотни лет: если полиция Глазго уже через неделю знала, что убийца не Слейтер, то почему его продолжали обвинять в преступлении и даже едва не казнили?
Ответ на этот вопрос отчасти кроется в том, как велись уголовные расследования на заре ХХ века: дело Слейтера попало на переломный момент в криминалистике, и это обстоятельство в итоге сыграло против него. Также он связан с викторианским мышлением, поскольку история Слейтера, в которой закат аристократизма XIX века соединился с бунтарскими настроениями прогрессивного XX века, по сути своей является повестью о викторианской морали. И хотя дело Слейтера началось в Эдвардианскую эпоху и продолжалось до «века джаза», оно, несомненно, является плодом периода, называемого «долгим XIX веком». Он продлился до Первой мировой войны и, возможно, даже захватывает несколько лет после нее.
В это время происходили резкие изменения в различных областях общественной жизни: бурно развивались наука и медицина, модернизировалась полиция, в литературе появился детективный жанр. Для той эпохи фигура Конан Дойля была в высшей степени показательна, будто создана по мерке. Однако тому времени была свойственна и ностальгическая оглядка на прошлое, которое не знало ни оружия массового уничтожения, ни других сомнительных достижений науки. Конан Дойль с его склонностью к либерализму и традиционализму и с одновременным превознесением научных методов и верой в потусторонний мир, к которой среди треволнений эпохи обращались многие викторианцы, воплощал собой ту двуликую, как Янус, эпоху полнее других.
В истории Слейтера, растянувшейся на два десятилетия, отразились как положительные черты, составлявшие дух того времени, — отвага, справедливость, верность научным принципам, так и отрицательные: классовые предрассудки, ханжеское отношение к полу, ксенофобия, национализм, антисемитизм. Понятия же чести, репутации, джентльменского поведения, которыми была пронизана вся эпоха, более других соображений руководили поступками — благородными и не очень — многих действующих лиц, включая Конан Дойля и Слейтера. Тесные взаимоотношения этих двоих достигли кульминации в 1929 году, когда общение, в остальном целительное и сближающее, завершилось, по словам Конан Дойля, «болезненным и отвратительным исходом» именно в связи с вопросом чести.
По сути «Конан Дойль, свидетель защиты» — книга о классовой принадлежности: о тех резких оценочных суждениях, подобных сомнительным диагностическим инструментам, которые в любую эпоху используются для отделения «своих» от «чужих». В частности, дело Слейтера иллюстрирует, какими способами эти грубые классифицирования — иконографии инакости — отражают характер эпохи и страхи, присущие культуре большинства. Кроме того, его история — иллюстрация того, каким образом эти предрассудки укрепляются законодательной властью и судами.
Дело Слейтера, вобравшее в себя страсти и предубеждения викторианских времен, по сей день остается поразительным двусторонним зеркалом той эпохи. Более того (и, начиная работу над книгой полдесятилетия назад, я не могла предвидеть такого исхода), история Слейтера с ее конфликтом между разумом и крайне коварной разновидностью неразумия, называемой также этнической нетерпимостью и проявившейся в общественной практике «расиализации преступности», стала точнейшим отражением и нашей эпохи.
Пролог Заключенный 2988
В день 23 января 1925 года Уильям Гордон, незадолго до того известный как заключенный 2988, был освобожден из Питерхедской тюрьмы — викторианской крепости на суровом северо-восточном берегу Шотландии. Гордон, скорее всего, остался бы неизвестен истории, если бы не важная анатомическая подробность: он носил зубной протез. Под протезом, скатанная в крошечный свиток и обернутая для сухости в обрывок лощеной бумаги, в тот день скрывалась отчаянная записка от такого же каторжника. Тюремщики, тщательно обыскавшие Гордона перед освобождением, даже не подумали посмотреть на десны. И записка, благодаря которой со Слейтера почти через три года снимут приговор к пожизненной каторге, попала в свободный мир.
Все прежние попытки освободить Слейтера предпринимались его адвокатами, нынешний же отчаянный замысел принадлежал ему самому. Записку, написанную карандашом на клочке тонкой оберточной бумаги, он тайком передал Гордону во время собрания в тюремном дискуссионном клубе. Неприметный бумажный катышек был здесь единственным верным способом сообщить друг другу информацию: как и в большинстве английских тюрем того времени, в Питерхеде поддерживался режим принудительного молчания. Заключенным, которых круглые сутки охраняли вооруженные стражи, позволялось разговаривать друг с другом лишь в случаях, напрямую связанных с работой. К 1925 году Слейтер уже успел получить наказание за попытку перекинуться несколькими словами с другим заключенным через вентиляционное отверстие между камерами.
Записка Слейтера, ныне ломкая и выцветшая, сохранилась в архивах Библиотеки Митчелла в Глазго. Демонстрируя характерное для Слейтера правописание, пунктуацию и синтаксис, она гласит:
Гордон старина, всячески желаю вам всего наилучшего и если захотите то пожалуйста сделайте для меня что можете. Выскажите английской общественности свое мнение обо мне, касательно личности и также в других отношениях. Вы тесно общались со мной 15 лет и потому вполне к этому способны.
Дружище, держитесь подальше от тюрьмы, но особенно от этой богом забытой дыры. Прощайте Гордон, мы, пожалуй, вряд ли увидимся вновь, но будем жить в надежде, что может быть и по-другому.
Ваш друг Оскар СлейтерP. S. Пожалуйста не забудьте списаться или встретиться с Коннан Д…
Наказ Слейтера Гордон выполнил; это можно заключить по второму посланию — анонимному письму, дошедшему до Питерхеда в середине февраля. Адресованное Слейтеру, оно сообщало:
Лишь несколько строк в попытке вас подбодрить. У вас верные друзья во внешнем мире, которые делают ради вас все возможное, поэтому не теряйте стойкости. Сэр Артур Конан Дойль велел передать, что все его симпатии на вашей стороне и вся сила его участия ляжет на весы от вашего имени… Нам хотелось бы получить от вас весточку, если вам позволено писать. Пока же не теряйте мужества и надежды на лучшее и будьте уверены, что мы делаем для вас все возможное.
Тюремщики задержали это письмо, авторство которого, как они считали, принадлежало Гордону. Но, хотя Слейтер этого не знал, его взволнованное послание выполнило свою миссию: оно убедило Конан Дойля, уже давно предпринимавшего энергичные, но безрезультатные попытки смягчить наказание, вновь взяться за дело.
Преступление, из-за которого Оскар Слейтер едва избежал виселицы, представляло собой, по словам недавно умершего писателя ХХ века, «случай убийства, которое в уголовной истории часто называли беспримерным». Преступление было ошеломляюще жестоким, его жертва — рафинированной, состоятельной и изрядно эксцентричной. Стремясь побыстрее раскрыть дело, полиция вскоре объявила, что нашелся подозреваемый: 36-летний Оскар Слейтер, который в тот год приехал в Глазго с молодой любовницей, считавшейся певицей варьете, но в действительности, вероятно, зарабатывавшей проституцией.
В Глазго Эдвардианской эпохи Слейтер по всем меркам соответствовал образу преступника. Иностранец родом из Германии, при этом еврей и фат. Его сомнительный образ жизни оскорблял чувства современников: Слейтер объявлял себя то дантистом, то торговцем драгоценными камнями, однако на жизнь зарабатывал, по мнению окружающих, азартными играми. Даже прежде описываемого убийства полиция Глазго наблюдала за ним в надежде арестовать его как сутенера. (Выражаясь в благопристойной манере, свойственной тому времени, ему собирались вменить в вину «безнравственное ведение дома».)
Суд над Слейтером состоялся в мае 1909 года в Эдинбурге, обвинение строилось на косвенных доказательствах и открытой фальсификации. «Косвенные доказательства очень ненадежны, — писал Конан Дойль. — С виду они могут четко указывать на одно, но если немного сместить точку зрения, то может выясниться, что они с той же неуклонностью указывают совершенно на другое». Эти слова Шерлока Холмса из рассказа 1891 года «Тайна Боскомской долины» точнейшим образом предвозвестили дело Слейтера.
Суд присяжных после 70 минут совещания признал Слейтера виновным, и судья приговорил его к повешению. Приговор был окончательным: судебные решения в Шотландии того времени не обжаловались. (Помилования, случавшиеся время от времени, были прерогативой английского монарха.) К тому времени, когда почти через три недели приговор заменили пожизненными каторжными работами, Слейтер успел отдать распоряжения относительно собственных похорон. В Питерхеде, куда его перевезли, ему предстояло почти два десятка лет мерить шагами крошечную камеру, рубить гранит и браниться с тюремщиками.
В конце 1911-го или начале 1912 года адвокаты Слейтера попросили у Конан Дойля поддержки. Несмотря на презрение к неджентльменскому образу жизни обвиненного, Конан Дойль (сам родившийся в Шотландии) вскоре пришел к убеждению, что произошедшее со Слейтером — пятно на национальном британском характере. Он изучил все аспекты преступления, преследования и судебного процесса, в 1912 году разразился едкой обвинительной статьей «Дело Оскара Слейтера», написал целую серию писем в английские газеты, отредактировал, опубликовал и снабдил язвительным предисловием вышедшую в 1927 году книгу журналиста Уильяма Парка «Правда об Оскаре Слейтере» и, наконец, воспользовался своим влиянием на некоторых самых могущественных государственных деятелей Великобритании.
В результате в ноябре 1927 года дело сдвинулось с мертвой точки. В 1928 году, после учреждения в Шотландии апелляционного суда по уголовным делам — что, отчасти, стало следствием развернутой Конан Дойлем бурной кампании, — дело Слейтера пересмотрели и приговор был аннулирован. На слушании, репортажи о котором Конан Дойль отправлял в одну из английских газет, они со Слейтером встретились лицом к лицу — единственный раз за всю долгую историю их взаимоотношений. Затем, после триумфальной судебной резолюции, произошел болезненный разрыв, ставший достоянием широкой общественности.
Начало этой долгой цепи событий было положено в Глазго в декабре 1908 года — примерно за неделю до смерти Марион Гилкрист и больше чем за неделю до того, как Слейтер узнал о ее существовании. На протяжении ряда лет лишь немногим был известен странный факт: в ту неделю мисс Гилкрист заявила как минимум одному человеку, что ее собираются убить.
Книга первая БРИЛЛИАНТЫ
Глава 1. Шаги на лестнице
В начале ХХ столетия в Глазго жила престарелая дама, не пользовавшаяся большой любовью окружающих. Звали ее Марион Гилкрист. К 21 декабря 1908 года, который стал последним днем ее жизни, мисс Гилкрист — несгибаемая, внушительной комплекции старуха, регулярно посещавшая церковь и отличавшаяся крепким здоровьем и безупречным воспитанием, — стояла на пороге 83-летия, до которого оставались считаные недели.
Город, где она жила, был обширен и неприветлив: булыжные мостовые, копоть, сырость. Индустриализация, охватившая изрядную часть цивилизованного мира, не обошла стороной и Глазго. Промышленные города того времени, небо над которыми застилал черный угольный дым, активно поглощали окружающую сельскую местность. Вокруг них разрастались пригороды, куда солидные буржуа возвращались после целого дня, проведенного в деловых конторах; селяне, которым было далеко до уровня этих новых жителей предместий, наводняли города в поисках работы. В 1900 году Глазго с его населением в четверть миллиона был вторым крупнейшим городом Великобритании после Лондона.
К концу XIX века в британских городах, с их обилием новоприбывших, повысился уровень преступности и состоятельных жителей охватила неизвестная прежде тревога, одна из примет нового времени. Предметом ее была собственность представителей среднего и высшего класса, а вызывали эту тревогу горожане, не принадлежавшие к буржуазии. Слой этот включал в себя рабочих, бедноту, новых иммигрантов и евреев; все они чем дальше, тем больше воспринимались как разносчики общественной заразы — опасности, которую хотелось срочно устранить.
Газеты и журналы того времени описывали эту тревогу, опираясь на метафоры вторжения. Весной 1909 года, когда Слейтера уже признали виновным в убийстве мисс Гилкрист, многие статьи писали о его прибытии на английскую землю именно в таких выражениях, уподобляя его даже вампиру — то было одним из традиционных бранных слов для евреев.
«Теперь нахлынуло племя иноземцев, — писал в том году респектабельный журнал „Бейлиф“, издававшийся в Глазго. — Великобритания… открывает объятия чужестранным подонкам… крысообразная мерзость ищет поживы среди нас». А эдинбургская вечерняя новостная газета писала, что суд над Слейтером «ярко осветил темные уголки наших великих городов, в которых подобные негодяи вершат свое черное дело. Он демонстрирует породу чужеземных вампиров, лишенных совести, кишащих в черных глубинах и подземельях цивилизованного общества».
Марион Гилкрист была крайне боязлива даже по стандартам боязливого века. Она родилась в Глазго 18 января 1826 года, ее отцом был Джеймс Гилкрист, преуспевающий инженер. После смерти матери не вышедшая замуж мисс Гилкрист осталась при отце и заботилась о нем. Перед его смертью она, по всей видимости, убедила отца оставить ей бо´льшую часть состояния и в результате оказалась намного богаче других его детей.
Несмотря на обилие племянников и племянниц, мисс Гилкрист не очень-то ими интересовалась; они платили ей тем же. «Мисс Гилкрист не поддерживала отношений с родственниками, — так после убийства сказала полицейским ее племянница Маргарет Биррел, жившая неподалеку. — Если ее и навещали, то крайне редко».
Среди тех немногих, с кем мисс Гилкрист общалась, была ее бывшая горничная Мэгги Гэлбрайт Фергюсон, имевшая дочь, которая носила имя Марион Гилкрист Фергюсон — в честь старой хозяйки матери. За месяц до смерти, 20 ноября 1908 года, мисс Гилкрист изменила свое завещание. Предыдущий вариант, составленный шестью месяцами ранее, разделял имущество, которое оценивалось более чем в 15 000 фунтов стерлингов[4] и включало драгоценности, картины, мебель, серебро и значительные денежные сбережения, между многочисленными племянницами и племянниками. По новому завещанию основная часть имущества отходила к Мэгги и Марион Фергюсон.
Последние 30 лет, до самой смерти, мисс Гилкрист жила почти в полном одиночестве. В ее распоряжении была со вкусом обставленная просторная квартира в доме 49 по Западной Принцевой улице — этот широкий проспект пересекает центр Глазго с северо-запада на юго-восток. В здешних типично викторианских домах, стоящих в ряд и соприкасающихся друг с другом боковыми стенами, традиционно селились деловые люди среднего и крупного достатка, и в начале ХХ века этот район походил на оазис спокойствия и изысканности. После убийства мисс Гилкрист газеты усиленно писали об элегантности этой части города, тем самым как бы подчеркивая утонченность дамы, несообразную ее роли жертвы.
Свое уединение мисс Гилкрист делила лишь со служанкой по имени Хелен Ламби, шотландкой 21 года от роду. Ламби, о которой отзывались как о «приятной девушке, живой, легкомысленной и не склонной к раздумьям», работала на мисс Гилкрист три года, здесь ее называли Нелли. Судя по всему, обе женщины отлично ладили, однако примечательно, что в отзыве одной из прежних хозяек, Агнес Гатри, Ламби описана как «очень хорошая домработница, но откровенно неграмотная, невеликого ума, очень изворотливая и отнюдь не высоких правил». На протяжении более чем 20 лет после убийства мисс Гилкрист поведение Ламби давало основания заподозрить, что она знала о преступлении гораздо больше, чем говорила, — вполне вероятно, что среди прочего ей был известен и истинный убийца.
Юго-восточная часть Западной Принцевой улицы, где стоял дом мисс Гилкрист, звалась также Королевской террасой, и адрес иногда писали так: «Королевская терраса, 15». Внушительный трехэтажный дом был возведен около 1850 года, квартира мисс Гилкрист занимала весь второй этаж. Квартиру первого этажа («придверное жилье», как в те времена называли это шотландцы) занимала семья музыкантов по фамилии Адамс: мать, ее взрослый сын Артур и несколько взрослых дочерей. Их квартира имела отдельный выход на улицу рядом с дверью мисс Гилкрист и нумеровалась как «Королевская терраса, 14». Жилье на третьем этаже, над квартирой мисс Гилкрист, зимой 1908 года пустовало.
Чтобы попасть в квартиру мисс Гилкрист, посетитель поднимался с тротуара на несколько ступеней, входил в уличную дверь с номером 15 и оказывался в вестибюле, совмещенном с лестничным колодцем, — в Шотландии это называлось «выгородкой». Внутри нее посетитель ступал на лестницу, ведущую на верхние этажи, и поднимался на один пролет до первой площадки, где находилась входная дверь мисс Гилкрист. Дверь открывалась в обширную переднюю. Слева от нее располагалась столовая, выходившая окнами на Западную Принцеву улицу; как и вся квартира, она была уставлена тяжелой викторианской мебелью и увешана картинами в роскошных рамах. Справа находилась гостиная, в задней части — кухня, будуар, две спальни и ванная комната. Мисс Гилкрист спала в меньшей спальне, большая служила одновременно запасной комнатой и гардеробной. Именно эта свободная спальня дала начало трагическому делу Слейтера, поскольку там-то мисс Гилкрист и хранила большинство драгоценностей.
Для женщины той эпохи и того сословия мисс Гилкрист жила вполне скромно, однако ею владела одна страсть — к ювелирным украшениям. За многие годы эта дама собрала внушительную коллекцию, куда входили перстни с бриллиантами, изумрудами и рубинами, браслеты из золота и серебра с жемчугом и бирюзой, жемчужные и бриллиантовые ожерелья, бриллиантовые серьги и многое другое. Особое пристрастие она питала к брошам, которых в ее собрании насчитывалось немало: с жемчугом, ониксом, гранатами, рубинами и топазами, три бриллиантовые броши в виде звезды, а также судьбоносная для Слейтера бриллиантовая брошь в виде полумесяца. На момент смерти мисс Гилкрист коллекция, насчитывавшая почти сотню предметов, оценивалась примерно в 3000 фунтов стерлингов[5].
«Она редко надевала драгоценности, разве что отдельные украшения, — писал Конан Дойль в 1912 году. — Обладание ими вызывало в ней радость, смешанную со страхом: не раз она выражала опасения насчет того, что на нее могут напасть и ограбить».
Чтобы избежать ограбления, мисс Гилкрист хранила драгоценности в нетривиальных местах, сейфу в будуаре предпочитая платяной шкаф во второй спальне, где она прятала ювелирные изделия между слоями одежды или в «съемном кармане с шнурком», как писал английский журналист Питер Хант в книге 1951 года, посвященной делу Слейтера. Некоторые драгоценности мисс Гилкрист прикрепляла булавками к изнанке штор, другие клала в карманы платьев.
Кроме того, она превратила квартиру в крепость. «Против нежелательного вторжения мисс Гилкрист придумала несколько труднопреодолимых предосторожностей», — писал Хант:
Окна, выходившие во двор, стояли запертыми. Уличная дверь имела целых три замка: обычный, английский и супернадежный замок Чабба. Кроме того, наличествовали засов и цепочка. Полностью запертая дверь была почти непреодолима для грабителей.
Любой посетитель дома номер 15 должен был снизу, из-за двери выгородки, позвонить в колокольчик. Внутри квартиры, в передней мисс Гилкрист, находился рычаг, открывавший запоры на нижней двери. Это позволяло мисс Гилкрист прямо из квартиры открыть уличную дверь в ответ на звонок, затем открыть дверь квартиры и посмотреть, кто поднимается по лестнице. Если посетитель внушал подозрения, то у хозяйки оставалось достаточно времени вернуться в квартиру и захлопнуть дверь перед визитером. Есть свидетельства, что мисс Гилкрист, находясь в квартире одна, никому не открывала дверь без заранее условленного сигнала.
Мисс Гилкрист договорилась с нижними соседями, Адамсами, еще об одном отдельном сигнале. Если ей будет грозить опасность и потребуется помощь, сказала она им, то она трижды постучит в пол. Вечером 21 декабря 1908 года Адамсы услышат тройной стук в первый и последний раз в жизни.
Осенью 1908 года Оскар Слейтер — игрок, щеголь и беззаботный путешественник, разъезжающий по миру, — приехал в Глазго. Он бывал там как минимум дважды, в самые первые годы ХХ века; после отъезда из Германии он успел пожить также в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Брюсселе. В 1901 году, во время первого задокументированного приезда в Глазго, он женился на местной жительнице Мэри Кертис Прайор — алкоголичке, которая постоянно требовала от него денег[6]. Вскоре расставшись с ней, Слейтер вновь пустился в разъезды и жил под разными именами, в частности для того, чтобы ей сложнее было его выследить. Есть свидетельства, что он ненадолго приезжал в Глазго в 1905 году, а затем вновь отправился в путь.
В следующий раз — видимо, в третий — Слейтер прибыл в Глазго 29 октября 1908 года. Через несколько дней к нему присоединились любовница по имени Андрэ Жунио Антуан (в своей профессии известная как мадам Жунио или попросту Антуан) и служанка Катрин Шмальц. В следующие несколько недель Слейтер обустраивался и невольно создавал первые звенья в той цепи косвенных улик, которая вскоре начнет закручиваться вокруг него. Под именем Андерсон он снял квартиру в центре Глазго в доме 69 на оживленной улице Святого Георга, пересекающей Западную Принцеву улицу; от квартиры мисс Гилкрист ее отделяло немногим больше пяти минут пешей прогулки. То было первое звено в роковой цепи.
Позже, 10 ноября, Слейтер зашел в скобяную лавку и купил набор недорогих инструментов для ремонта новой квартиры. Эти инструменты, особенно входивший в комплект небольшой молоток, стали вторым звеном в цепи. В начале декабря, когда потребовалось починить карманные часы, Слейтер отправил их почтой в «Дент», знаменитую часовую фирму в Лондоне. Это станет третьим звеном.
К тому времени Слейтер уже успел наведаться к глазговскому ростовщику, где в обмен на изначальный заем в 20 фунтов стерлингов оставил бриллиантовую брошь в виде полумесяца. Это четвертое звено оказалось самым гибельным.
Той осенью в доме мисс Гилкрист и поблизости от него стало твориться странное. В сентябре 1908 года заболел и умер ее ирландский терьер; Хелен Ламби считала, что он случайно съел какую-то отраву, старуха же подозревала злой умысел. Затем, как позже засвидетельствуют больше десятка местных жителей, в первые три недели декабря на Западной Принцевой улице бродил без дела некий мужчина — по-видимому, следил за домом мисс Гилкрист.
«Этого „наблюдателя“ видели в разное время и в разной одежде», — отмечает Питер Хант. (По описанию некоторых свидетелей, костюм включал в себя брюки в клетку, желтовато-коричневые гамаши и коричневые ботинки.) «Внешность его впоследствии описывалась неоднозначно. Один упоминает усы, другой заявляет, что их не было; один утверждает, что мужчина говорил как иностранец, другой — что он выглядел как иностранец».
В середине декабря, примерно за неделю до убийства мисс Гилкрист, взволнованная Хелен Ламби внезапно нагрянула к своей бывшей хозяйке, Агнес Гатри. Как позже вспоминала Гатри, у Ламби было что поведать о происходившем в доме мисс Гилкрист. «Она мне сообщила, что столкнулась там с поразительными вещами, — рассказывала Гатри. — Долго говорила о ее причудах. У мисс Гилкрист было много драгоценностей, которые она необычными способами прятала в доме, под коврами и проч., и она сказала Ламби о своей уверенности в том, что некий мужчина собирается прийти ее убить и что собака была отравлена».
Поистине удивительным было другое, на что Ламби намекнула в более поздней беседе с Гатри и что она недвусмысленно подтвердила в разговоре с племянницей мисс Гилкрист, Маргарет Биррел: мисс Гилкрист боялась не какого-то стороннего незнакомца, а одного или нескольких людей, ей известных.
В понедельник 21 декабря 1908 года мисс Гилкрист во второй половине дня вышла из дома уплатить по счетам и вернулась к чаю около половины пятого. В тот дождливый вечер без пяти минут семь одна из сестер Адамс, Ровена Адамс Лиддел, возвращалась пешком на Королевскую террасу со своей матерью. Приблизившись к входной двери, она увидела «наблюдателя», глядевшего на верхние этажи дома. Позже она описывала это в показаниях для обвинения по делу Слейтера:
Еще не дойдя до двери дома, я увидела темную фигуру, облокотившуюся на перила прямо под окном столовой моей матери… Я взглянула пристально, почти грубо, и полностью увидела лицо, за исключением глаз. У мужчины был длинный нос, с очень своеобразной впадиной вот здесь [указывая на спинку носа]. Такой впадины и среди тысяч людей не встретишь. Цвет лица очень светлый, не землистый и не бледный, а похожий на цвет слоновой кости. Волосы очень темные, чисто выбрит, очень широкая эта часть головы [указывая на скулу или висок]. Воротник был отложной. Головной убор обычный, вроде бы из коричневатого твида. Мужчина был очень респектабельный. Когда я прошла мимо и оглянулась через плечо, он скользнул прочь от перил и исчез.
За минуту или две до того, как пробило семь, Хелен Ламби вышла из дома мисс Гилкрист за вечерней газетой для хозяйки. После возвращения она планировала вновь сходить за покупками. От мисс Гилкрист, которая сидела у камина в столовой, читая журнал, Ламби получила пенни на газету и полсоверена на прочие покупки[7]. Взяв пенни и оставив полсоверена на столе в столовой, Ламби вышла из квартиры.
«Ламби взяла с собой ключи, затворила дверь квартиры, закрыла дверь вестибюля внизу и ушла по делам примерно на десять минут, — писал Конан Дойль. — Именно события этих десяти минут, составляющие трагедию и загадку, вскоре поглотят внимание публики».
На первом этаже, прямо под квартирой мисс Гилкрист, в это время находился Артур Монтегю Адамс, 40-летний флейтист и торговец музыкальными инструментами; он упаковывал рождественские подарки. В семь часов Адамс, его сестра Ровена и еще одна сестра, Лора, услышали наверху громкий звук удара. Затем последовал тройной стук.
Чтобы попасть в квартиру мисс Гилкрист, Адамсу нужно было выйти из собственной уличной двери с номером 14 по Королевской террасе, а затем позвонить во входную дверь номера 15. Выйдя наружу, он с удивлением увидел, что уличная дверь, ведущая в «выгородку», настежь открыта. Он поднялся по лестнице на площадку мисс Гилкрист и дернул шнурок звонка у входной двери. «Я звонил сильно, грубыми звонками», — позднее говорил Адамс, давая показания. Пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук изнутри квартиры, он услышал нечто похожее на звук расколотого дерева и, по его словам, решил, что это Ламби «ломает хворост на кухне» для растопки печи. Не услыхав больше ничего, он вернулся в свою квартиру и сказал сестрам, что, по-видимому, все в порядке.
До сестер тем временем доносился звук настолько громкий, что они думали, будто потолок «словно бы раскалывается». Еще более обеспокоенные, они вновь отправили Адамса наверх. На площадке он вновь позвонил. Все еще держась рукой за шнур колокольчика и собираясь позвонить снова, он увидел Ламби, которая около 19:10 поднималась по лестнице с газетой. При виде ее он удивился, поскольку считал, что она все это время была в кухне мисс Гилкрист.
Поднимаясь по лестнице — как рассказывала впоследствии Ламби, — она заметила влажный след на каждой из двух нижних ступеней; она заверила, что на момент ее выхода из дома этих следов еще не было. Дойдя до площадки, она тоже удивилась при виде Адамса: «Он никогда не приходил в дом, — объяснила она, — и я, обнаружив его там, была изумлена».
Пока Ламби отпирала дверь в квартиру мисс Гилкрист, Адамс рассказал ей об устрашающих звуках. Ламби, по-видимому, не восприняла это всерьез. «Да это, наверное, колесики», — объяснила она, подразумевая, что упали бельевые веревки в кухне, подвешенные на колесных блоках. Адамс сказал ей, что он на всякий случай подождет, и остался стоять на придверном коврике.
Позднее Адамс вспоминал, что Ламби, открыв дверь, пошла прямиком в переднюю мисс Гилкрист. (Версия Ламби отличается: по ее воспоминаниям, она стояла на коврике у порога.) Со своего места она увидела хорошо одетого мужчину, идущего ей навстречу со стороны второй спальни мисс Гилкрист; в комнате, стоявшей без газового освещения в момент ухода Ламби, теперь был включен свет. Мужчина вышел из квартиры, как ни в чем не бывало прошел мимо Ламби и Адамса и начал спускаться по лестнице. Как позже сказали полиции Ламби и Адамс, на его одежде не было заметных следов крови.
«В ту минуту я ничего дурного не подозревал, — впоследствии сказал на суде Адамс. — Я видел человека, который шагал вполне спокойно, потом он поравнялся со мной, а дальше понесся вниз по лестнице с бешеной скоростью, и из-за этого у меня возникли подозрения». Ламби тем временем прошла прямиком на кухню, проверила бельевые веревки и крикнула Адамсу, что с ними все в порядке. Затем она пошла во вторую спальню.
«Где твоя хозяйка?» — крикнул ей Адамс. Ламби вошла в столовую и воскликнула: «Ох, идите сюда!»
«В соответствии с описанной картиной бедная хозяйка лежала на полу рядом с креслом, в котором служанка видела ее в последний раз, — писал Конан Дойль. — Ногами к двери, головой к камину. Она лежала поверх каминного коврика, а на голову ей была наброшена кожаная подстилка. Раны были ужасающие, в лице и черепе почти все кости раздроблены. Несмотря на чудовищные раны, она оставалась жива несколько минут, но умерла без каких-либо признаков сознания». Мисс Гилкрист была избита настолько жестоко, что по фотографиям, сделанным во время вскрытия, сложно поверить, что это лицо когда-то принадлежало человеческому существу.
Адамс бросился вниз по лестнице и дальше через уличную дверь наружу. Увидев нескольких человек в конце Западной Принцевой улицы, он побежал в их сторону, но злоумышленника не увидел. Вскоре на улице к нему присоединились его сестры и Ламби. Затем Адамс бросился за полицией и врачом, Ламби побежала на запад, где через несколько улиц жила племянница мисс Гилкрист, Маргарет Биррел. Слова Ламби, сказанные в тот вечер, а также последующее отрицание этого разговора обеими женщинами еще долго не давали покоя следователям, работавшим по делу.
Позже в тот вечер Ламби вернулась в квартиру мисс Гилкрист. К тому времени Адамс успел привести врача (по случайности тоже носившего фамилию Адамс) и полицейского констебля. После осмотра тела мисс Гилкрист доктор Джон Адамс исследовал столовую, обильно залитую кровью. В поисках орудия убийства он наткнулся на тяжелый обеденный стул, с левой задней ножки которого капала кровь. Эти ножки в форме веретена, по его наблюдению, соответствовали странным ранам на теле мисс Гилкрист. «Доктор Адамс заподозрил, что нападение было совершено с использованием стула, которым нанесли несколько тяжелых ударов, — пишет Хант. — Если убийца стоял, тем более поверх тела жертвы, то мог наносить удары с огромной неконтролируемой силой. Этим может объясняться и большая поверхность ран, и видимое отсутствие крови на убийце, поскольку он в некотором смысле был защищен сиденьем стула, которое находилось между ним и телом».
В течение того же вечера к осмотру места происшествия присоединились полицейские Глазго. Среди них заметными фигурами, чьими усилиями будет двигаться дело против Слейтера, окажутся инспектор уголовной полиции Джон Пайпер, прибывший в 7:55, и один из старших чинов, Джон Орд, руководитель отдела уголовных расследований полиции Глазго, появившийся на месте преступления ближе к ночи.
Пайпер осмотрел место. Очки для чтения и журнал, принадлежавшие мисс Гилкрист, лежали на обеденном столе. Монета в полсоверена — рядом с ее рукой. Следов крови за пределами столовой не обнаружилось, никаких признаков сопротивления в передней не было, дверь квартиры оказалась не взломана. В свободной спальне валялась вскрытая деревянная шкатулка из тех, в каких дамы викторианских времен хранили швейные принадлежности. Содержимое шкатулки составляли бумаги, теперь они были разбросаны по полу. Убийца, очевидно, зажег в комнате газ, оставив после себя коробок спичек. Спички (по иронии судьбы носившие подходящее торговое название «Runaway» — «Беглец») были не той марки, которой пользовались в доме. На туалетном столике второй спальни стояло блюдо с несколькими ювелирными изделиями, которые мисс Гилкрист оставляла на виду. Большинство из них, включая часы и несколько перстней, остались нетронутыми, однако Ламби сказала Пайперу, что пропала бриллиантовая брошь в виде полумесяца, оцениваемая в 50 фунтов стерлингов[8].
Пайпер задал вопросы Адамсу и Ламби касательно человека, которого они видели выходящим из квартиры. Близорукий Адамс, бывший в тот момент без очков, смог описать виновника лишь самым общим образом: «с правильными чертами лица», в «темных брюках и светлом плаще». Ламби заявила, что она не видела лица преступника и не сможет его опознать. Из одежды она описала серый плащ длиной три четверти и круглую шляпу.
В 21:40 того же дня отдел полиции Глазго выпустил первый внутренний бюллетень о свершившемся преступлении:
Пожилая дама была убита в своем доме номер 15 по Королевской террасе между 7 и 7:10 вечера сегодня мужчиной в возрасте от 25 до 30 лет, ростом 5 футов и 7 или 8 дюймов, лицо, предположительно, бритое. Был одет в длинный серый плащ и темную шляпу.
Цель убийства, предположительно, ограбление, так как несколько шкатулок в спальне были открыты и брошены на пол; крупная золотая брошь в виде полумесяца, усыпанная бриллиантами, с крупными бриллиантами в центре, сходящими на нет к концам, пропала и может находиться в руках убийцы. Бриллианты оправлены в серебро. Никаких следов убийцы не обнаружено. Констеблям предписывается предупредить кассиров на железнодорожных станциях, поскольку убийца имеет кровавые пятна на одежде. Также предупредить при открытии закладные лавки о броши и неотступно следить.
В следующие два дня никаких следов не обнаружилось. За это время Оскар Слейтер, явно в неведении относительно преступления, готовился к отъезду из Глазго. В 1908 году этот торгово-промышленный город находился в тяжелой депрессии, времена были трудными даже для игроков. Той осенью, после письма от закадычного друга из Америки, приглашавшего его в Сан-Франциско, Слейтер собрался отправиться туда через Ливерпуль и Нью-Йорк.
В последние дни перед отплытием Слейтер завершал свои дела в Глазго. Он нашел арендатора, которому сдал свою квартиру на улице Святого Георга. Сходил к цирюльнику за бритвенными принадлежностями (в те времена не так ценившие гигиену многие мужчины оставляли собственную бритву у цирюльника) и рассказал ему о планах на отъезд. Он отправил пятифунтовую банкноту родителям в Германию в качестве подарка к празднику. Наконец, чтобы собрать побольше денег для путешествия, Слейтер попытался кое-что продать, в том числе залоговую квитанцию на свою бриллиантовую брошь в виде полумесяца.
В среду 23 декабря произошло два события, которые будут оказывать влияние на дело в течение многих лет. Первым было то, что к расследованию присоединился сыщик полиции Глазго Джон Томсон Тренч, пользовавшийся огромным уважением окружающих. К делу он будет иметь лишь косвенное отношение, однако позже, выступив с осуждениями в адрес следствия и суда, он явит себя, по словам Конан Дойля, «не просто честным человеком, но… героем».
Последствия второго события, происшедшего 23 декабря, растянутся почти на 20 лет. В тот день местная жительница по имени Барбара Барроуман сказала полиции, что ее 14-летняя дочь Мэри в вечер убийства видела человека, убегавшего из дома мисс Гилкрист.
Мэри Барроуман работала посыльной у обувщика на оживленной Большой Западной улице, пролегавшей в квартале от Западной Принцевой. По совету матери она рассказала полиции, что сразу после семи вечера 21 декабря, идя по Западной Принцевой улице с поручением от хозяина, она видела человека, выбежавшего из входной двери дома мисс Гилкрист:
Он посмотрел в сторону улицы Святого Георга и сразу свернул на запад. Я недоумевала, что могло случиться, повернула назад и следила за ним, пройдя вслед несколько шагов, и видела, как он свернул на Западную Камберлендскую улицу, все время бегом.
Я пошла и выполнила свое поручение и вернулась в лавку рядом с Лесной улицей, а после того, как ушла из лавки в 8 вечера, пошла в лавку своего брата, номер 480 по улице Святого Винсента, и по пути туда я снова проходила по Западной Принцевой улице, и видела толпу напротив номера 49, и узнала об убийстве, и подумала о мужчине, который выбегал тогда из двери дома. Ему было 28 или 30 лет, высокий, худощавого телосложения, лицо без усов и бороды, вытянутое, нос чуть свернут вправо, одет в желтовато-коричневую дождевую накидку вроде пальто, темные брюки, коричневые ботинки и твидовый головной убор приличного вида[9].
Я не видела других людей рядом с входом или поблизости, но думаю, что смогу узнать того человека, хотя не могу сказать, будто бы я видела его раньше.
Описание Мэри Барроуман заметно отличалось от описания в полицейском бюллетене, сделанного со слов Ламби. Там фигурировал мужчина в сером плаще и круглой шляпе, Барроуман говорила о желто-коричневом непромокаемом пальто и твидовом головном уборе — как она позже добавила, о донегальской кепке. В итоге полиция теперь полагала, что в деле замешаны двое. В рождественский день 1908 года полиция выпустила второй внутренний бюллетень:
Городская полиция Глазго
УБИЙСТВО
Около 7 часов вечера в понедельник 21 декабря текущего года пожилая дама по имени Марион Гилкрист была жестоко убита в доме 15 по Королевской террасе, Западная Принцева улица, где она жила. Единственное проживавшее с ней лицо — служанка — примерно в указанный час вышла из дома купить вечернюю газету, а по возвращении, менее чем через 15 минут, обнаружила, что ее хозяйка жестоко убита в комнате, в которой служанка ее оставила.
Идя домой с газетой, служанка встретила человека, первого в описании, выходящим из дома, и примерно в то же время другой человек, второй в описании, был замечен сходящим со ступеней, ведущих к дому, и убегающим прочь.
Описания.
(Первый) Мужчина от 25 до 30 лет, ростом 5 футов и 7 или 8 дюймов, лицо, предположительно, бритое. Был одет в длинный серый плащ и темную шляпу.
(Второй) Мужчина от 28 до 30 лет, высокий и худой, чисто выбритый, из одежды желтовато-коричневый плащ (по-видимому, непромокаемый), темные брюки, твидовая кепка последнего фасона, предположительно темная, и коричневые ботинки…
В тот день руководитель отдела уголовных расследований Орд поместил описание разыскиваемых мужчин в вечерние газеты, и вскоре уже Глазго полнился слухами. «Известие о подлом преступлении, так дерзко совершенном в самом сердце города, повергло в трепет жителей Глазго и всей Шотландии, — напишет позже шотландский журналист Уильям Пайк. — Шумиха по поводу убийства и похищения бриллиантовой броши поднялась такая, что грозила охватить большую часть цивилизованного мира».
Вечером 25 декабря 1908 года торговец велосипедами по имени Аллан Маклин явился в полицейское управление. Он заявил, что известный ему человек — иностранец и еврей — пытался продать залоговую квитанцию на бриллиантовую брошь в виде полумесяца. По словам торговца, того человека звали Оскар.
Глава 2. Таинственный мистер Андерсон
Маклин никогда не бывал в доме у Оскара, но знал, где тот живет. Вечером 25 декабря он привел детектива полиции Глазго Уильяма Пауэлла к дому 69 по улице Святого Георга, что в нескольких кварталах к югу от Западной Принцевой улицы. При опросе жителей Пауэлл выяснил, что человек из квартиры на верхнем этаже, который звался Андерсоном и, по слухам, был дантистом, соответствовал описанию, данному Маклином. Пауэлл доложил о новых фактах руководителю уголовного отдела Орду и в половине двенадцатого ночи был вновь отправлен к указанному дому в сопровождении двоих полицейских с приказом арестовать Андерсона в случае необходимости.
Детективы поднялись на верхний этаж и позвонили в дверь. Им открыла горничная — немка Катрин Шмальц, которая сказала, что хозяина нет дома: он и «мадам» отдыхают в Монте-Карло. Нет, с именем Оскар здесь никто не проживает.
Детективы обыскали квартиру в попытке найти залоговую квитанцию, однако вместо этого обнаружили нечто не менее губительное: в спальне они заметили кусок оберточной бумаги от свежеоткрытой посылки: «Андерсон» отправлял свои карманные часы в Лондон для ремонта, мастер их починил и отослал обратно. На обертке было написано: «Оскару Слейтеру, эсквайру, для передачи А. Андерсону, эсквайру, ул. Святого Георга, 69».
Обертка сохранилась в коллекции Государственного архива Шотландии в Эдинбурге, я держала ее в руках. Она весит едва ли унцию, однако весомость этой унции мятой бумаги с адресом, надписанным изящным каллиграфическим почерком начала ХХ века, была такова, что Оскара Слейтера преследовали, допрашивали, приговорили и едва не повесили.
Впервые с момента убийства мисс Гилкрист у полиции появилось полное имя человека, который отдавал в заклад бриллиантовую брошь. Полицейские не сомневались, что Слейтер и Андерсон — одно лицо, и эта догадка оказалась верной. От соседей они узнали, что Андерсон и его спутница в тот вечер ушли сразу после восьми часов и направились на железнодорожный вокзал. В глазах полиции это походило на бегство, что только усиливало подозрение в виновности Слейтера, и Орд разослал из главного управления приказ следить за всеми поездами, отправляющимися на юг. Так поиски убийцы мисс Гилкрист, прежде неопределенные, начали сосредоточиваться на Слейтере.
Затем полиция принялась искать лавку ростовщика, где Слейтер заложил брошь, и навела справки в местных игорных клубах, где тот часто бывал, — «в малопристойных клубах, посещавшихся малопристойными личностями», как охарактеризовал их Питер Хант. От приятеля Слейтера по имени Хью Камерон, клерка из букмекерской конторы, удалось узнать, что Оскар заложил некую бриллиантовую брошь в ломбарде Лиддела на улице Сокихолл в центре Глазго. Как позже заявит полиция, Камерон при этом указал, что Слейтер не дантист: он от случая к случаю перепродает драгоценности и — что еще предосудительнее — занимается сутенерством.
Утром 26 декабря детективы привели Ламби в лавку к Лидделу для опознания броши. «Не та», — мгновенно сказала Ламби. У мисс Гилкрист на броши был один ряд бриллиантов, у Слейтера — три. Ростовщик сказал, что Слейтер оставил ему брошь 18 ноября, более чем за месяц до убийства, и с тех пор брошь не покидала ломбард.
Такой поворот событий должен был стать истинным «фиаско», как назвал это Конан Дойль, для попыток сделать Слейтера подозреваемым. «Самый фундамент, на котором зиждилось дело, уже исчез, — писал он. — Начальное звено того, что ранее казалось очевидной цепью, внезапно лопнуло… Исходное подозрение, павшее на Слейтера, было основано на том факте, что он заложил бриллиантовую брошь в виде полумесяца… Она оказалась не той, что пропала из комнаты убитой дамы, Слейтер владел брошью не первый год и уже неоднократно ее закладывал. Это было продемонстрировано так, что ни придраться, ни оспорить. После такого полиция, по сути, оказалась в отчаянном положении: если Слейтер и вправду виновен, то это значило бы, что полиция преследовала истинного виновника по чистой случайности».
Однако преследование не остановилось, поскольку полицейским не терпелось объявить кого-либо преступником, и Слейтер — игрок, иностранец, еврей, предположительно сутенер — безупречно подходил на такую роль. «Беда… всех полицейских расследований, — отмечал Конан Дойль с язвительной чеканностью, достойной Холмса, — состоит в том, что едва полицейские остановятся на кандидатуре, которую сочтут пригодной, как ими сразу же овладевает неохота рассматривать любые версии, способные привести к другим выводам». Именно это и произошло в тот момент, когда полиция Глазго сосредоточила внимание на Слейтере.
Оскар Слейтер, один из четверых детей пекаря Адольфа Лешцинера и его жены Паулины (которую также называли Паула), родился 8 января 1872 года в силезском городке Оппельне, входившем тогда в состав кайзеровской Германии, и при рождении получил имя Оскар Йозеф Лешцинер. У него были брат Георг и две сестры: Амалия, известная как Мальхен, и Евфимия, которую называли Феми. Оскар, любимец семьи, рос в Бейтене — нищем шахтерском городке в той же местности, недалеко от границы с Польшей. «Я получил очень слабое образование в деревенской школе и никогда не преуспевал в науках, — так в 1924 году цитирует слова Слейтера британская пресса. — Я любил прогуливать уроки».
Для независимого молодого человека с живым характером Бейтен не открывал широких возможностей. Юный Оскар отправился в Берлин, где поработал у торговца древесиной, а затем в Гамбург, где устроился служить в банке. Однако жизнь клерка в целлулоидном воротничке была не для него. В 18 лет (возможно, чтобы избежать призыва в германскую армию) он уехал из страны и с тех пор путешествовал по континентальной Европе, Великобритании и Соединенным Штатам. Обладая живым и цепким умом, пусть и не обогащенным книжной премудростью, он как мог изыскивал средства к существованию и зарабатывал картами, игрой в бильярд, ставками на скачках и перепродажей подержанных драгоценностей.
Семья Слейтера была бедна. Его родители, по рассказам, жили «в двух или трех чистых комнатах» в «обветшалом доходном доме» в Бейтене. Адольф, инвалид с заболеванием позвоночника, в годы юности Слейтера уже не мог работать. Паулина страдала частичной слепотой. Во время странствий Слейтер регулярно посылал им деньги. «Никаким родителям я не могла бы пожелать лучшего сына, — сказала его мать репортеру Glasgow Herald, отыскавшего ее в Бейтене после ареста Слейтера. — Полтора года назад мне пришлось делать операцию по удалению катаракты с одного глаза. Она стоила 20 фунтов, и Оскар прислал мне 10 фунтов, чтобы помочь. Он мой сын, мой лучший из сыновей».
Впервые Слейтер побывал в Англии около 1895 года. Именно там, чтобы не утруждать местных произнесением трудного для них имени «Лешцинер» с его неудобным обилием согласных, он стал называть себя Оскаром Слейтером.
Прибыв в Глазго примерно шесть лет спустя, он с головой окунулся в жизнь среды, которую один современный нам английский писатель назвал «преисподней, населенной странными обитателями с прозвищами в духе Раниона — Крот, Солдат, Акробат, Уилли-художник, Крошка Борец, Алмазный Торговец… Коварный мир с уличными пари, шлюхами и распутством, „ресетом“[10] и укрыванием сомнительных вещей, ставками на бегах и картами, игрой в кости и в бильярд на деньги». Примерно в 1904 году Слейтер, расставшийся с женой-шотландкой, познакомился в Лондоне с 19-летней Антуан; она сопровождала его во всех последующих поездках.
При всей горячности и ветрености в Слейтере не наблюдалось жестокости. В шотландском тюремном досье значились два его предыдущих ареста, оба за мелкие проступки. В первый раз он был арестован в 1896 году в Лондоне за умышленное нанесение телесных повреждений — по всей видимости, во время потасовки в пабе. (Слейтера оправдали.) Второй арест произошел в 1899 году в Эдинбурге, причиной стало нарушение общественного порядка. (Слейтера приговорили к уплате 20 шиллингов или семи дням тюрьмы; зная Слейтера, вполне можно предположить, что он предпочел уплатить штраф.)
На деле «малопристойный мир», в котором вращался Слейтер, — мир, так ужасавший чопорное приличное общество, — состоял не из свирепых злодеев, а скорее, как писал Хант, из «людей, которые, не будучи преступниками, не задавались вопросом о нравственной стороне сделок, принимали драгоценности как валюту, не брезговали тузом в рукаве, были привычны к фальшивым именам и к прозвищам». Именно в этот мир, пусть и темный, но никак не кровожадный, и попадали многие оказавшиеся в Великобритании еврейские иммигранты, которым для вступления в высокопрофессиональную среду недоставало образования, связей или капитала.
Антуан, вполне вероятно, была проституткой; был ли Слейтер сутенером — сказать сложнее, хотя его неоднократно клеймили этим словом во время судебного процесса. Впрочем, сомнительная жизнь Слейтера, из чего бы она ни состояла, вкупе со статусом иностранца и еврея и его щегольским неприятием той классовой прослойки, к которой он должен был принадлежать по рождению, была более чем достаточным основанием для его осуждения — вначале в глазах публики, а затем и в суде. Ибо Оскар Слейтер, пусть и мало чего добившийся от жизни в других отношениях, умудрился стать чистейшим воплощением всего, чего послевикторианская Англия была приучена бояться.
Евреям в Великобритании начала ХХ века приходилось нелегко. Более того, Слейтер приехал в Глазго во времена особенно ожесточенной паранойи и, соответственно, ожесточенного антисемитизма. В 1905 году британский парламент принял «закон об иностранцах» — первый весомый запретительный закон такого рода за всю невоенную историю Англии; он жестко ограничивал иммиграцию с территорий, не входивших в состав Британской империи. Несмотря на отсутствие прямых формулировок, этот закон широко воспринимался как направленный против евреев из Восточной Европы, которые в конце XIX века хлынули потоком в Великобританию, спасаясь от погромов и нищеты. В разные времена и в разных местах отношение к новоприбывшим будет неодинаковым, но на стыке XIX и ХХ веков нетерпимость к евреям пронизывала почти все стороны английской жизни.
В Англии евреи столкнулись с долгой, глубоко укорененной антисемитской традицией. В Средние века было широко распространено убеждение, будто евреи занимаются ростовщичеством, а также похищают и убивают христианских младенцев и используют их кровь в религиозных ритуалах. В 1190 году, во время самого жестокого погрома в английской истории, буйная толпа носилась по Йорку, грабя и сжигая еврейские дома и убивая их обитателей: в итоге погибло более 150 человек. В 1290 году, при короле Эдуарде I, евреев выслали из Англии; один из историков описал это как «первое изгнание одной из самых крупных еврейских общин в Европе». Только в середине XVII века, при Оливере Кромвеле, им негласно разрешили вернуться.
В Средневековье и в последующие столетия евреи, как и представители других обособленных групп, были лишены многих видов правовой защиты, предоставляемых в Англии гражданину, под которым понимался свободный, белый, законопослушный взрослый мужчина-христианин, местный уроженец. «В глазах закона типичный представитель населения — это англичанин-мирянин, свободный, но незнатного происхождения, за которым не числится преступлений или грехов» — так в начале ХХ века писали два историка, обсуждавшие средневековый период. Их рассуждения продолжаются так:
Однако, помимо таких людей, есть еще вне духовного сана люди благородного рождения и несвободные; есть монахи и монахини <…> есть священство, составляющее отдельное «сословие»; есть евреи и есть иностранцы; есть отлученные от церкви и объявленные вне закона, а также осужденные преступники, полностью или частично утратившие свои гражданские права; также… младенцы и… женщины <…> и следует, вероятно, упомянуть сумасшедших, слабоумных и прокаженных.
К XVIII и XIX векам жизнь английских евреев стала легче, но лишь отчасти: многое зависело от степени ассимиляции и статуса, до которого поднялся конкретный еврей. В Лондоне с конца XVIII века и далее евреи, хоть и в малом количестве, даже становились членами парламента. Правда, до принятия в 1858 году «закона о послаблении для евреев» им приходилось произносить тот же текст парламентской присяги, что и другим членам парламента, включая слова «и я заявляю об этом по истинной вере христианина». Новый закон позволял опускать эту фразу.
Среди первых евреев в парламенте были Давид Саломонс, юрист и представитель респектабельной семьи банкиров, в 1855 году ставший первым евреем в должности лорда- мэра Лондона, а также Бенджамин Дизраэли, занимавший пост премьер-министра в течение многих лет в период царствования королевы Виктории, до сих пор единственный еврей среди премьер-министров.
К концу Викторианской эпохи и началу царствования Эдуарда VII антисемитизм в Великобритании вновь стал усиливаться. Одной из причин недовольства была численность еврейского населения: с начала 1880-х годов до начала Первой мировой войны из континентальной Европы уехали примерно 2,5 миллиона евреев и около 150 000 из них осели в Великобритании. В 1914 году количество евреев в Лондоне составляло 115 000 — около двух процентов всего населения столицы. (В том же году в Глазго их было намного меньше: около 7000, чуть меньше одного процента.) Второй причиной недовольства было растущее количество бедных, плохо ассимилированных евреев.
В конце 1880-х годов, например, запуганному Джеком-потрошителем Лондону понадобились считаные недели, чтобы публично связать убийства с еврейской угрозой. «После обнаружения третьей жертвы потрошителя в 1888 году, — писал криминолог Пол Кнеппер, — ходили слухи, что убийца не иначе как шохет, то есть мясник, забивающий скот и птицу на кошерное мясо; в разных частях Ист-Энда собирались толпы, выкрикивающие оскорбления и угрозы в адрес евреев. Сэр Роберт Андерсон, глава отдела уголовных расследований [в Скотланд-Ярде], подогревал антиеврейскую истерию неоднократными заявлениями о том, что считает „Джека“ евреем польского происхождения. „Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы выяснить, — утверждал он, — что он и его подручные являются евреями из низов“».
К тому времени парламент уже принял на рассмотрение вопрос об ограничении еврейской иммиграции; формально обсуждение началось в 1887 году, венчающий его «закон об иностранцах» был принят в 1905 году. «Преступность стала одним из оснований для запретительных мер, — отмечает Кнеппер и продолжает: — Вопрос был не в том, приводит ли иммиграция к повышению уровня преступности и если приводит, то почему; дело скорее касалось типов преступного поведения, накрепко связанных с конкретными расовыми характеристиками». Он продолжает:
Те, кто пропагандировал антисемитизм и нетерпимость к иммигрантам, распространяли листовки, в которых евреев связывали с проституцией, играми и другими правонарушениями. Типичная такая листовка… начиналась с вопроса: «Почему нам нужен билль об иностранцах?» Ответ давался заглавными буквами: чтобы пресечь совершаемые иностранцами преступления, искоренить иммигрантскую заразу… Джозеф Банистер, страстный антисемит, напечатавший множество буклетов и брошюр по вопросам иммиграции, называл евреев-иностранцев «ворами, беззастенчивыми эксплуататорами, ростовщиками, грабителями, фальшивомонетчиками, предателями, мошенниками, шантажистами и клятвопреступниками».
Шотландия, по крайней мере в ранний период, была не так уж склонна к антисемитизму, которым была знаменита Англия. «Шотландские протестанты придавали большую важность ветхозаветным книгам, и для них иудеи были библейским народом, заключившим древний завет с Богом, — писал Бен Брейбер, занимавшийся историей шотландского еврейства. — Протестанты… считали себя людьми Нового Завета и потому смотрели на евреев довольно благожелательно».
Как и на остальной территории Великобритании, в христианском Глазго отношение к евреям ощутимо зависело от классовой принадлежности. Первые евреи поселились там в начале XIX века; к середине столетия, когда новый средний класс почувствовал вкус к дорогим вещам, небольшая — 40–50 человек — еврейская община Глазго взялась заполнить эту нишу. В числе прочих в ней были оптик, торговец писчими перьями, ювелир, меховщик и изготовитель искусственных цветов.
Однако в конце XIX века и позже крупный приток евреев, многие из которых были бедняками, вызвал неоднозначную реакцию даже в Шотландии. «Небольшую группу евреев в Глазго терпели, отдельных еврейских дельцов… встречали с восхищением и принимали в обществе, — пишет Брейбер. — Та же готовность терпеть, встречать с восхищением и принимать в обществе не распространялась на новых иммигрантов».
Арест Оскара Слейтера и разбирательства по его делу вывели на свет антиеврейский настрой шотландцев. В основе дела лежало два краеугольных камня антисемитских убеждений: кровь и деньги. Расследование также затрагивало вопрос, который для британской буржуазии был как оголенный нерв, — вопрос о предполагаемом участии новоприезжих евреев в преступной деятельности, особенно в позорных занятиях проституцией и сводничеством.
Ход расследования с самого начала подгоняло знание о том, что искать нужно еврея. В этом не сомневался торговец велосипедами Аллан Маклин, наведший полицию на Слейтера. Не сомневалась в этом и домовладелица по имени Ада Луиза Прайн, которая в январе 1909 года сообщила полиции, что описание подозреваемого напомнило ей одного из прежних жильцов, лицо которого, по ее заявлению, «было еврейского типа».
Даже еврейская община Глазго дистанцировалась от Слейтера. Весной 1909 года, после вынесения Слейтеру смертного приговора, один из немногих его защитников, преподобный Елеазар Филипс, священник еврейской синагоги в районе Гарнетхилл, помогал организовать кампанию по смягчению приговора[11]. Другие служители синагоги, обеспокоенные тем, что их с трудом заработанная репутация может оказаться запятнанной связью с новым иммигрантом сомнительных занятий, заявили Филипсу, что, если он хочет защищать Слейтера, пусть действует в одиночку.
К концу XIX века охватившая жителей крупных городов тревога привела к созданию общественных организаций и практик, предназначенных для защиты публики от «нежелательных лиц». В первую очередь это были отделения полиции, возникшие по всей Европе. Полиция Глазго, организованная парламентским указом среди первых в Великобритании, открылась в 1800 году. В середине столетия появилось связанное с ней направление науки (криминология), которое тоже было призвано защищать граждан и их имущество. Самые известные из его деятелей — элитная команда псевдоученых-антропологов — начиная с 1860-х годов носились по Европе с кронциркулем в руках, пытаясь кодифицировать физические признаки представителей криминального сообщества. Такая работа, по их утверждению, позволила бы викторианским буржуа вычислять преступников и других маргинальных персонажей с безопасного расстояния.
Наиболее известным из этих псевдоученых был Чезаре Ломброзо. Итальянский врач и криминолог, он изобрел систему раннего обнаружения (известную как «уголовная антропология», или «научная криминология»), которая рядила расовые, этнические и классовые предрассудки в викторианские научные одежды. Преступниками, утверждал Ломброзо, не становятся, а рождаются: такой человек не может не совершать преступлений, поскольку несет в себе наследие первобытных предков. Значит, его можно вычислить по атавистическим чертам, ассоциируемым с примитивными людьми: тяжелые надбровные дуги, маленький или неправильной формы череп, асимметричное лицо и так далее. Разработанная Ломброзо система признаков уголовной физиогномики, давно уже признанная несостоятельной, в наше время напоминает ситуацию, когда гражданских людей во время войны обязывали запоминать силуэты самолетов. И то и другое служило одной цели: опознать врага раньше, чем он подберется слишком близко[12].
Даже Конан Дойль, при всем его гуманизме, отдавал должное научной криминологии, по крайней мере отчасти. Путешествуя в 1914 году по Соединенным Штатам, он посетил знаменитую государственную тюрьму Синг-Синг к северу от Нью-Йорка. В автобиографии 1924 года «Воспоминания и приключения» он упоминал, что видел там заключенных, которых развлекала заезжая труппа мюзик-холла. «Бедолаги: вся эта вымученная, вульгарная игривость песен и ужимки полуодетых женщин, должно быть, производили в их уме чудовищный отклик, — писал Конан Дойль. — По моим наблюдениям, многие из них имели отклонения в форме черепа или чертах лица, которые ясно указывали, что эти люди не в полной мере ответственны за свои деяния… Тут и там я замечал умные и даже добрые лица. Странно, как они туда попали».
Ломброзо хорошо знал, что в беспокойные времена очень удобно прикрывать смутный страх конкретной личиной. Личина эта, как подразумевалось, должна была существенно отличаться от твоего собственного лица и идеально соответствовать образу чудовища, специально для этой цели созданному. После опознания можно извергнуть его из сообщества, а вместе с ним и сопровождающие его страхи. Историк Питер Гей называет такого козла отпущения «удобный чужак». В Глазго зимой 1908–1909 годов лицо этого «чужака» стало все больше походить на лицо Оскара Слейтера.
26 декабря 1908 года руководитель уголовного отдела Орд выпустил первый документ, в котором фигурирует имя Слейтера. Используя описания, данные Маклином и Камероном, и упоминая вслед за Мэри Барроуман «донегальскую кепку», он пишет:
Требуется для опознания в связи с убийством на Королевской террасе 21-го числа «Оскар Слейтер», иногда принимающий имя Андерсон, немец, возраст 30 лет, рост 5 футов 8 дюймов, широкоплечий, темноволосый, гладко выбритый, может иметь отросшую за несколько дней щетину от усов. Нос некогда сломан, с отметиной. В последний раз видели в черном костюме с сюртуком и кепке с ушными клапанами, застегнутыми на макушке пуговицей, иногда носит мягкую донегальскую кепку; имеет светлое и темное пальто, может носить любое из них.
Может быть в сопровождении женщины около 30 лет, высокой, статной, красивой, темноволосой, одетой обычно в черный или синий костюм с мехами собольего цвета и большую синюю или черную шляпу с зелеными перьями; до вчерашнего дня они проживали в доме 69 по улице Святого Георга.
К этому времени Слейтер, не уехавший в Монте-Карло, а пустившийся в давно запланированное путешествие в Америку, уже пересекал океан, в своей беспечности не подозревая о сетях, уже начавших опутывать его.
Глава 3. Странствующий рыцарь, защитник несправедливо обиженных
Викторианские страхи нашли обильное отражение в детективном романе — жанре, первая волна громкой популярности которого пришлась на конец XIX века. Более ранняя литература, повествовавшая о преступлениях, в одобрительных тонах описывала эффектных, крайне романтизированных героев-разбойников, чьи образы были навеяны историческими фигурами вроде Дика Турпина — жившего в XVIII веке бандита, который славился буйными грабежами, кражами и убийствами по всей Англии. В роли злодеев обычно изображались представители знати, притесняющие простой народ, или жестокие блюстители порядка, охотящиеся за героем.
Однако к Викторианской эпохе — с ее опасностями городской жизни, новым средним классом и стремлением сохранить собственность — соотношение тем в криминальной литературе значительно изменилось. Теперь в большинстве произведений соображения о собственности становились важнее народных симпатий, а героический разбойник уступал место честному сыщику. Роль этого нового выдуманного персонажа оказывалась двоякой. Его первейшей задачей было вселить в читателя уверенность. Ломброзо старался убедить честных граждан, будто преступника можно опознать по виду и тем самым избежать опасности. Детективный роман, действуя несколько тоньше, пытался сделать то же: ему предстояло уверить публику в том, что — по описанию одного из исследователей — «индивидуальные следы распознаваемы и их невозможно спрятать среди толпы».
Другая задача сыщика-детектива являлась научной, даже медицинской: во всех случаях, когда предотвратить ущерб невозможно, ему надлежало действовать в роли исцеляющей силы. Главной отличительной чертой Викторианской эпохи было развитие науки в ее современном понимании: потрясшая мир эволюционная теория Дарвина, знаменательный прогресс в физике, химии, биологии и геологии, растущее понимание как структуры и функций живых клеток, так и роли микроорганизмов в развитии болезней, а также неотъемлемо связанная с этими открытиями профессионализация современной медицины.
Эти события предопределили присущий той эпохе интерес к преступности и преступникам. Преступность все больше воспринималась как форма заразы и некий род «патологии общества», а новый научный метод — как средство ее отследить и выкорчевать. К исходу Викторианской эпохи преступников (особенно иностранцев) рассматривали как силу, вторгающуюся в общество подобно тому, как микробы вторгаются в организм. Литература того периода пестрела метафорами вторжения: достаточно вспомнить антигероя-кровопийцу из романа Брэма Стокера «Дракула», опубликованного в 1897 году, или коварного еврея-гипнотизера Свенгали из романа Джорджа Дюморье «Трильби» (1894), подчиняющего себе душу своей протеже, юной прелестной девушки.
Рассказы о Холмсе свидетельствуют о тех же страхах, поскольку их автор, подобно многим прогрессивным личностям своей эпохи, не был свободен от влияния царивших в обществе идей о криминальной физиогномике, об имперской славе и даже — как показывают некоторые рассказы — об опасности иностранцев. (За исповедание экуменического гуманизма и одновременную пылкую преданность короне и государству Конан Дойль удостоился от исследовательницы Лоры Отис меткой характеристики «либеральный империалист».) Многие из злодеев Конан Дойля — англичане, ставшие на путь преступлений, однако в каноне также есть некоторое количество бесчестных чужаков, таких как мстительный американец Джефферсон Хоуп из «Этюда в багровых тонах» или убийца Тонга с Андаманских островов, упоминаемый в «Знаке четырех». По словам Отис, Конан Дойль «описывает английское общество как пропитанное иностранными преступниками, „выдающими себя“ за респектабельных граждан… Шерлок Холмс, его герой, выступает как иммунная система… чтобы идентифицировать их и обезвредить».
Дело Слейтера вобрало в себя наиболее серьезные проблемы своего времени. Каждый его этап пронизан паранойей — очень личной в случае мисс Гилкрист, более общей в случае широкой публики. Началось дело с самого ужасающего вида насильственного вторжения: проникновения в хорошо защищенный дом. В деле была замешана темная фигура чужака — не просто иностранца, но еще и еврея, выходца из народа, который нацистская идеология вскоре провозгласит переносчиком заразы. Более того, для раскрытия дела потребуется острый, вооруженный наукой разум, способный одолеть добровольное неразумие полиции и обвинителей. С этой точки зрения очень удачно, что самый деятельный защитник Слейтера был одновременно и медиком, и отцом литературного персонажа, который остается величайшим воплощением сыщика Викторианской эпохи.
Первый гражданин Бейкер-стрит, как будут впоследствии называть Шерлока Холмса, появился на свет внезапно, представ перед публикой в повести Конан Дойля «Этюд в багровых тонах». Впервые опубликованная в «Рождественском ежегоднике Битона» в 1887 году, она вскоре была издана отдельной книгой. И хотя Конан Дойль продолжит публиковать рассказы о Холмсе до 1927 года, даже последние из них будут в каждой своей детали воплощать викторианские ценности.
Холмс быстро сделался мировой сенсацией — не только из-за сыскных способностей, непоколебимой нравственности и в высшей степени рационального ума, но и из-за того, что служил олицетворением викторианской благовоспитанности и викторианской уверенности, присущих уже уходящей эпохе.
Рассказы, начиная с самых ранних, создавали утешительный мир, где есть газовое освещение и империя, где проблемы еще можно решить силой разума и чести.
«Маршалл Маклуан… однажды отметил, что серьезные культурные перемены всегда приходят под знакомой личиной внешних атрибутов предыдущей культурной нормы, — писал критик Фрэнк Макконнел. — В этом контексте мы можем видеть, что изобретенные Дойлем Холмс и Ватсон представляют собой ключевой миф для эпохи модерна, для века техники и городов. Если бы Дойль не выдумал Холмса, его пришлось бы выдумать кому-нибудь другому».
Резкие изменения, свидетелем которых стал Холмс, воплощались в научной революции, которая охватила тогда весь Запад и пылким поборником которой был Конан Дойль. Точно так же, как Томас Генри Гексли (выдающийся английский биолог XIX века, последователь Дарвина и дед писателя Олдоса Хаксли) использовал свои произведения и лекции, чтобы рассказать об успехах науки широким массам, Конан Дойль использовал Холмса для иллюстрации того, как научные достижения можно применить к расследованию преступлений. Рационалистический подход Холмса не походил на методы более ранних литературных сыщиков — создатель Холмса позаботился об этом с самого начала.
«Меня часто раздражало, что в старомодных детективных рассказах сыщик всегда приходил к нужным выводам в результате везения или счастливой случайности либо автор и вовсе не объяснял, откуда взялось верное решение, — сказал Конан Дойль в интервью 1927 года. — Я начал размышлять о том… как применить научные методы… к сыскной работе».
Холмс настолько отвечал чаяниям поздневикторианской публики, что читатели едва могли примириться с тем фактом, что он вымышленное лицо. К нему обращались за автографами, присылали ему трубочный табак и струны для скрипки. Дамы писали Конан Дойлю в надежде получить должность экономки у Холмса. Американский любитель табака запросил копию несуществующей монографии Холмса, где тот рассматривает 140 различных видов пепла. «Время от времени, — писал один биограф, — когда на Конан Дойля находил „приступ иронии“, он посылал в ответ короткую открытку с выражениями сожаления о том, что сыщик в данный момент отсутствует. При этом подпись была рассчитана на то, чтобы вызвать удивление. Она гласила: „доктор Джон Ватсон“».
В 1893 году Конан Дойль (который вскоре утомился своим героем и мечтал прославиться тяжеловесными историческими романами, которые также сочинял) убил Холмса в рассказе «Последнее дело Холмса». Однако ропот публики был настолько силен — и, соответственно, настолько выгодна была перспектива возобновления публикаций, — что Конан Дойль решил не оставлять персонажа погибшим. Вначале он возобновил повествование о своем герое в «Собаке Баскервилей», выходившей частями в 1901–1902 годах: действие там происходит за несколько лет до гибели Холмса. А в 1903 году он совершенно воскресил Холмса в «Пустом доме» — этот акт возвращения к жизни стал предвестием уже не литературной, а жизненной реабилитации Джорджа Эдалджи и Оскара Слейтера. Все три случая подтверждали давнюю истину, до которой Конан Дойль додумался еще в детстве, после поглощения приключенческих романов для мальчиков: «Вовлечь людей в неприятности очень легко, — отметил он тогда, — вытащить их обратно гораздо труднее».
Если Оскар Слейтер был олицетворением страхов поздневикторианской эпохи, то Артур Конан Дойль воплощал собой многие из благородных ее качеств: доблесть, жажду приключений, любовь к чисто мужским состязаниям на боксерском ринге и крикетном поле, страсть к научному знанию и глубокое чувство справедливости. К общим предрассудкам викторианской Англии — включая его собственные — он подходил с противовесом всеохватывающего прогрессивизма, ибо, как и Слейтер, вырос в бедности, не принадлежа к господствующей религии и не являясь англичанином.
Артур Игнатиус Конан Дойль родился в Эдинбурге 22 мая 1859 года. Он был вторым ребенком и старшим из сыновей среди семерых выживших детей Чарльза Алтамонта Дойля и урожденной Мэри Джозефины Фолей[13]. Их семья была обедневшей ветвью знаменитой фамилии: Артуров дед по отцу, Джон Дойль, художник с псевдонимом Х. Б., был политическим карикатуристом, известным в Лондоне в начале XIX века. Среди его прославленных знакомых были Уильям Теккерей, Чарльз Диккенс и Бенджамин Дизраэли. Отцовскими братьями были Джеймс Дойль, автор и иллюстратор «Английских хроник»; Генри Дойль, управляющий Национальной галереей в Дублине, и Ричард Дойль, иллюстратор журнала «Панч».
Отец Артура, художник и иллюстратор, был, по-видимому, одарен не менее своих братьев. Однако он страдал от эпилепсии, алкоголизма и — ко времени взросления Артура — от серьезного психического расстройства. В периоды, когда Чарльз был способен трудиться, он получал скромное жалованье клерка в эдинбургской муниципальной конторе. «Мы жили, — напишет впоследствии Конан Дойль, — в суровой и стесненной атмосфере бедности».
«Чарльз в полной мере обладал фамильным обаянием Дойлей, однако его часто описывали как „мечтательного и отстраненного“, „безразличного“, „философа от природы“ или „человека не от мира сего“, — пишет биограф Рассел Миллер. — В возрасте всего 30 лет он перенес такой сильный приступ белой горячки, что оказался неработоспособен и почти год получал лишь половинную плату. Мэри позже говорила врачам, что он месяцами без перерыва передвигался только ползком, „выглядел совершенным идиотом и не мог выговорить собственное имя“… Его состояние становилось все более нестабильным, однажды он на улице сорвал с себя всю одежду и пытался продать ее». В 1881 году Чарльза определили в первую из череды шотландских специальных клиник, которые станут ему домом до конца жизни. В 1893 году он умер в возрасте 61 года в Дамфрисе, в Крайтонском королевском приюте для душевнобольных.
Семья в те годы держалась на Мэри Дойль, начитанной дочери ирландского врача, вышедшей замуж за Чарльза 17-летней в 1855 году. Ее мать, как говорили, происходила из английского дворянского рода. «Миниатюрная Мэри Дойль… отчаянно гордившаяся своим происхождением, вбивала в сына горячую веру в аристократических предков и воспитывала его в традициях и преданиях ушедшего века — благородное обращение, геральдика, рыцари в сияющих доспехах», — пишет Миллер и добавляет:
Она часто давала ему задания описать геральдические щиты, и вскоре он мог назвать все детали. То было желанное бегство от спартанских условий, тревоги и аристократической бедности, в которой они жили… Артур навсегда запомнил, как сидел на кухонном столе, пока мать чистила очаг и в подробностях рассказывала о былой славе ее семьи и родственных связях с Плантагенетами, герцогами Бретани и родом Перси из Нортумберленда: «Я сидел, болтая ногами в коротких штанишках, и раздувался от гордости, пока жилетка не начинала меня стягивать, как колбасная шкурка, весь в мыслях о пропасти, которая отделяет меня от остальных мальчиков, сидящих на столах и болтающих ногами»[14].
Артур рос любознательным, упорным, литературно образованным (он начал писать небольшие рассказы еще ребенком) и при необходимости воинственным. «Впрочем, в оправдание себе скажу, — писал он, — что при всей драчливости я никогда не налетал на тех, кто слабее меня, и некоторые мои эскапады имели целью их защитить». Эта черта характера останется в нем основополагающей до конца жизни.
Дойли исповедовали римско-католическую веру; обеспеченные члены разветвленной семьи посодействовали тому, чтобы юный Артур получил образование в Стонихерсте — имеющем многовековую историю иезуитском интернате в Ланкашире. Будущий писатель надолго запомнит его суровость, дисциплину и частые телесные наказания. «Я могу говорить о них со знанием дела, поскольку, как мне думается, я вынес их больше, чем все или почти все тогдашние мальчики, — писал он впоследствии. — Я из кожи вон лез, стараясь учинить озорство или отъявленную дерзость единственно ради того, чтобы показать, что мой дух не сломлен… Один из наставников, когда я сказал ему, что из меня мог бы выйти приличный инженер-строитель, заметил: „Что ж, Дойль, инженером вы, может, и станете, но кем-то приличным — вряд ли“».
Выпустившись из Стонихерста в 1875 году, Конан Дойль еще год обучался в иезуитской школе в Австрии и лишь после этого вернулся в Эдинбург для поступления в университет. «Я был неукротим, полон жизни и чуточку безрассуден, однако дело требовало сил и старания, и я не мог в него не ввязаться, — писал он. — Матушка всю жизнь была настолько великолепна, что никто из нас не мог бы обмануть ее ожиданий. Было решено, что я стану врачом: главным образом, видимо, потому, что Эдинбург был знаменитым центром медицинского знания».
Медицинское образование в тогдашней Шотландии не требовало дополнительного предварительного обучения, и 1876 году 17-летний Конан Дойль поступил в Эдинбургский университет, где ему предстояло получить степень бакалавра медицины. Он уже мало-помалу начал расставаться с прежними религиозными взглядами; под влиянием университетской науки этот процесс только усугубился.
«Сверяясь… с новыми знаниями, полученными из книг и учебного курса, я обнаружил, что основы не только католицизма, но и всей христианской веры, преподанные мне в теологической традиции XIX века, настолько слабы, что мой разум не мог на них опираться, — писал он. — Нужно помнить, что в те годы Гексли, Тиндаль, Дарвин, Герберт Спенсер и Джон Милль были нашими главными философами, и даже рядовой обыватель чувствовал мощный поток их мысли, который для юного студента, пылкого и впечатлительного, имел неодолимую силу». Утрата веры, соответственно, означала и утрату поддержки от богатых религиозных родственников как в студенческие дни, так и после, когда Конан Дойль будет отчаянно пытаться найти себе медицинскую практику. Однако он стойко держался своих новых убеждений.
В университете Конан Дойль попал под влияние выдающегося преподавателя, доктора Джозефа Белла. «Белл очень выделялся и внешностью, и умом, — вспоминал он. — Худощавое гибкое тело, темные волосы, резкое лицо с орлиным носом, проницательные серые глаза, угловатые плечи и неровная походка… Он был отличный диагност, причем определял не только болезнь, но и занятие, и характер… Аудитория, состоявшая из Ватсонов, воспринимала все как волшебство, пока не получала объяснений, а после них дело казалось довольно простым. Неудивительно, что после наблюдений за такой личностью я позаимствовал эти методы и углубил их, когда впоследствии создавал образ детектива-ученого, раскрывающего преступления благодаря собственным талантам, а не оплошности преступника».
Когда Конан Дойлю исполнилось 20, «здоровье отца окончательно расстроилось» — в своих мемуарах он говорит об ухудшении состояния Чарльза мягко и дипломатично, никогда не указывая конкретную природу его болезни, — «и я… фактически обнаружил себя во главе большой нуждающейся семьи». Ради заработка он начал писать рассказы. Первый из них, «Тайна долины Сэсасса» (повествование разворачивалось в Африке и было еще не холмсовским; современные критики считают его подражанием Эдгару По и Брету Гарту), в 1879 году был опубликован эдинбургским литературным еженедельником «Чамберс Джорнал». В следующем году, также для финансовой помощи семье, Конан Дойль прервал занятия и нанялся врачом на китобойное судно «Надежда». Это семимесячное путешествие станет первым в ряду многих удивительных приключений писателя.
На корабле, укомплектованном командой из полусотни человек, Конан Дойль отправился из Питерхеда — шотландского городка, куда позже попадет на каторгу Слейтер, — в арктические моря. «Жизнь опасно увлекательна», — написал он позже с типично викторианской сдержанностью, а вскоре ему пришлось обнаружить, что опасности грозили не только команде, но и врачу. Не раз, выброшенный за борт внезапной волной, Конан Дойль оказывался среди глыб плавучего льда и ему приходилось заново взбираться на корабль. По случаю он однажды присоединился к гарпунерам, которые отправлялись в шлюпке охотиться на кита. «Инстинкт кита велит ему бить шлюпки хвостом, а твой — орудовать шестом и багром, продвигаясь вдоль его бока к безопасному месту у китового плеча, — писал Конан Дойль. — Однако даже там мы обнаружили… что опасность не миновала, ибо это взбудораженное существо подняло огромный боковой ласт и занесло его над шлюпкой. Один удар — и мы оказались бы на дне моря». С характерным для него настроем писатель добавляет: «Кто бы променял такой миг на любую другую охотничью победу?»
В 1881 году Конан Дойль окончил Эдинбургский университет со степенью бакалавра медицины и магистра хирургии. Той же осенью он вступил в должность судового врача на пароходе «Маюмба», отходившем из Ливерпуля к западному побережью Африки. Рассказы Конан Дойля об этом путешествии отражают лучшие черты викторианской доблести и худшие черты викторианского империализма. В один из дней он помогал тушить пожар, возникший на борту судна, груженного пальмовым маслом. В другой день писателя скосила серьезная болезнь. «До меня добрался то ли микроб, то ли комар, то ли еще что-то, и я слег с жесточайшей лихорадкой, — писал он. — Поскольку врачом был я сам, то лечить меня было некому, и несколько дней я лежал, сражаясь со смертью на крошечном ринге без всяких секундантов… Мне едва удалось выжить; когда я начал приподниматься с постели, мне сказали, что еще один человек, заболевший одновременно со мной, умер».
Отзывы о пассажирах-африканцах не делают Конан Дойлю много чести. «Были… какие-то неприятные торговцы-негры с сомнительными манерами и поведением, однако их, как патронов пароходной линии, приходилось терпеть. Некоторые из этих торговцев и владельцев пальмового масла имеют многотысячный годовой доход, но не обладают развитым вкусом, поэтому спускают деньги на выпивку, распутство и бессмысленные причуды. Помню, одного из них провожали в плавание отборные представители ливерпульского полусвета».
В 1882 году Конан Дойль получил медицинскую практику в Саутси — пригороде Портсмута на юге Англии. Три года спустя он женился на Луиз Хокинс, сестре одного из своих пациентов; близкие звали ее «Туи»[15]. В 1889 году у них родилась дочь Мэри, в 1892-м — сын Кингсли. Брак, конец которому положила лишь смерть Луиз в 1906 году, был вполне мирным, хотя и основывался, по словам одного исследователя, «больше на привязанности и уважении, чем на страсти».
Несмотря на то что Конан Дойль по всем отзывам считался способным врачом, найти самостоятельную практику ему было непросто. «В первый год я заработал 154 фунта стерлингов, во второй — 250 и мало-помалу поднялся до 300, — напишет он впоследствии. — В первый год мне прислали документ с требованием подоходного налога, и я его заполнил, показывая, что мой доход не подлежит налогообложению. Бумагу мне вернули с нацарапанной поперек нее надписью: „Крайне неудовлетворительно“. Под этими словами я написал: „Совершенно согласен“ — и отослал бумагу обратно».
В перерывах между работой с пациентами Конан Дойль продолжал писать, некоторые рассказы удавалось пристроить в журналы за гонорар. Он также закончил исторический роман «Торговый дом Гердлстон», который будет опубликован лишь в 1890 году. Кроме того, у него родился замысел цикла рассказов: в отличие от популярных тогда журнальных повестей и романов, печатавшихся фрагментами из выпуска в выпуск, этот цикл состоял бы из законченных произведений, по объему укладывающихся в один номер журнала, но заставлял бы читателя ждать продолжения.
«Месье Дюпен, искусный сыщик Эдгара По, с детства был одним из моих любимых персонажей, — писал Конан Дойль. — Но может, мне удалось бы привнести что-то свое? Я вспомнил своего давнего преподавателя Джо Белла, его орлиное лицо, его нетривиальные методы, его устрашающий дар замечать детали. Будь он сыщиком, он наверняка свел бы эти поразительные, но разрозненные навыки в нечто приближенное к строгой науке». Для такого героя писатель перепробовал разные имена — среди них Шерринфорд Холмс, — пока не остановился на четком и точном, идеально подходящем детективу, который проницательностью, логическими способностями и обостренным чувством чести будет превосходить многих живых людей[16].
Некоторое время Конан Дойль занимался медициной и писательским ремеслом параллельно; в 1891 году, после краткого обучения офтальмологии в Вене, он вместе с семьей переехал в Лондон, где у него вскоре образовалась некоторая врачебная практика. Вскоре успех Холмса позволил ему совершенно оставить медицину, однако первоначальное призвание будет служить ему до самого конца. «Часто врачи, всерьез становясь писателями, полностью перестают заниматься медициной или обращаются к ней лишь время от времени, — заметил Эдмунд Пеллегрино, врач и специалист по этике биологических исследований. — Однако они навсегда сохраняют медицинский взгляд на вещи».
После того как Холмс принес Конан Дойлю славу, писателю пришлось тратить немало времени на объяснения того, что сам он не Холмс. После выступления некоего критика, подвергшего его осуждению за то, что в «Этюде в багровых тонах» Холмс принижает созданного Эдгаром По великого сыщика шевалье Дюпена, Конан Дойль любезно ответил: «Ухватите этот факт извилиной ума: кукла и кукольник различны весьма». На деле Конан Дойль — крепкий, круглолицый, с моржовыми усами — куда больше годился на то, чтобы олицетворять собой Ватсона, а не Холмса.
Однако кукла-Холмс появилась не на пустом месте. Конан Дойль, при его природной склонности к приключениям и при таком великолепном учителе диагностики, как Белл, складом ума походил на Холмса в большей степени, чем обычно демонстрировал. «Меня часто спрашивали, обладаю ли я описываемыми качествами или я такой же Ватсон, каким кажусь с виду, — писал он. — Разумеется, я прекрасно понимаю, что справиться с практической задачей — совсем не то же, что решить ее на своих же условиях. У меня нет иллюзий на этот счет. В то же время невозможно создать персонажа собственным внутренним разумом и сделать его поистине живым, не имея в себе хоть каких-то качеств, сближающих вас».
Он продолжал: «Я несколько раз решал задачи методами Холмса после того, как полиция разводила руками. И все же я должен признать, что в обычной жизни я нисколько не наблюдателен, и что мне вначале нужно загнать себя в искусственные рамки мышления, и только потом я могу взвешивать улики и просчитывать последовательность событий».
Однако, по словам Адриана Конан Дойля, сына писателя от второго брака, его отец демонстрировал искусство диагностической логики без всякого труда:
В путешествиях по столицам мира одним из самых острых удовольствий для меня было заходить с отцом в крупный ресторан и там слушать его тихие рассуждения о характерных особенностях других посетителей, их профессиях и прочих отличительных чертах, совершенно незаметных для моего глаза. Нам не всегда удавалось проверить правильность… его наблюдений, поскольку объект интереса мог быть незнаком главному распорядителю, однако во всех случаях, когда метрдотель знал клиента, точность отцовской дедукции оказывалась поразительной. В качестве отдельной ремарки добавлю деталь, которая заинтересует поклонников Холмса. В воображении мы, разумеется, представляем себе Мастера в темно-красном халате и с изогнутой курительной трубкой. Однако таковы были атрибуты Конан Дойля, и оригиналы по-прежнему хранятся в семье!
Мастерство Конан Дойля проявлялось не только в его способности к умозаключениям, но и в страсти к сбору многочисленных эмпирических данных — ключей-подсказок, которые становились пищей для его рационального ума. На путь, связанный с эмпирикой, он ступил еще в университетские времена. «Я всегда числил его среди самых лучших своих студентов, — годы спустя скажет о нем Белл. — Он всегда чрезвычайно интересовался всем связанным с диагнозом и неустанно стремился найти побольше деталей, на которых можно основываться».
Даже будучи совсем молодым врачом, Конан Дойль был готов оспорить научное мнение, если не считал его надежно подкрепленным фактами. В ноябре 1890 года, имея практику в Саутси, он ездил в Берлин послушать лекцию немецкого врача и микробиолога Роберта Коха. Кох, которому в 1905 году предстояло получить Нобелевскую премию, уже был крупной знаменитостью: ему удалось выделить бациллы, вызывающие сибирскую язву, холеру и туберкулез. К концу XIX века он честно полагал, что открыл не только причину туберкулеза, но и способ его лечения, тем самым исполнив одно из главных мечтаний человечества. Этому и была посвящена его берлинская лекция.
Прибыв за день до лекции, Конан Дойль обнаружил, что из-за огромного количества желающих невозможно достать место. «Не потеряв надежды, — отмечает Рассел Миллер, биограф писателя, — он попытался навестить Коха, но продвинулся не дальше передней, где перед его глазами почтальон вытряхнул на стол целый мешок писем. Потрясенный Конан Дойль осознал, что письма по большей части принадлежали безнадежно больным людям, которые услышали о средстве и считали Коха своей последней надеждой… Поскольку открытия Коха еще ждали своего подтверждения, скептику Конан Дойлю показалось, что „мир охватила волна безумия“».
На следующий день в здании, где проходила лекция, Конан Дойль познакомился с американским врачом, который успел на нее записаться; впоследствии тот показал писателю свои заметки. При их просмотре, а также при обходе клинических палат Коха, куда его провел американский друг, Конан Дойль обнаружил, что хваленое лекарство вовсе не то, чем кажется. «Осматривая пациентов, к которым применялось „лекарство“ Коха от туберкулеза, — писала Лора Отис, — Дойль немедленно понял, что лечение, оказавшееся чудовищным фиаско, строилось не на уничтожении самих бацилл, а на уничтожении и отторжении поврежденной ткани, в которой росли бациллы».
Свои выводы Конан Дойль изложил в письме, опубликованном в «Дейли телеграф». Лекарство Коха, писал он, «не затрагивает истинной причины болезни. Говоря бытовым языком, это похоже на ситуацию, когда человек в кишащем крысами доме каждое утро убирал бы следы их жизнедеятельности и считал, что таким образом избавляется от крыс». Такое мнение было не очень популярным, однако время показало его правильность.
К концу 1890-х годов, когда Конан Дойль оставил медицину, а Холмс завоевал признание во всем мире, писателя все чаще просили обратить способности диагноста на решение проблем другого рода: на расследование реальных преступлений. «Врачебный взгляд на вещи» он применял к каждому из них, включая самый значительный случай за всю свою жизнь — дело Оскара Слейтера.
Глава 4. Человек в донегальской кепке
В день смерти мисс Гилкрист, 21 декабря 1908 года, Оскар Слейтер получил из-за границы два письма. Одно было от лондонского приятеля по фамилии Роджерс: тот предупреждал, что бывшая жена, с которой Слейтер расстался, желая получить деньги, напала на его след. Слейтер уже сколько-то времени строил планы переехать в Сан-Франциско по приглашению Джона Девото, с которым познакомился, когда прежде недолго жил в Америке. По счастливому совпадению второе письмо разрешало затруднение, описанное в первом: Девото уже не впервые торопил Слейтера приехать и заняться совместными делами.
Слейтер сразу же объявил своей горничной Шмальц, что через неделю она получит расчет. (Дабы затруднить жене поиски, Слейтер велел горничной объявлять всем посетителям, что он уехал в Монте-Карло.) Именно за последние дни, проведенные в Глазго, Слейтер в преддверии переезда совершил два поступка, которые вывели полицию на его след. Во-первых, он отправил телеграмму в лондонскую фирму «Дент» с просьбой отремонтировать часы и немедленно их вернуть. Во-вторых, в попытке добыть денег для переезда он начал обходить знакомцев по игорным клубам, предлагая им купить залоговую квитанцию на бриллиантовую брошь в форме полумесяца. К семи часам вечера 21 декабря он вернулся на улицу Святого Георга и, по позднейшему свидетельству Антуан и Шмальц, ужинал дома.
В следующие четыре дня приготовления продолжились. Около 20:30 в Рождественский сочельник Слейтер с Антуан вышли из квартиры вместе с нанятыми носильщиками, тащившими десять предметов багажа. На Центральном вокзале Глазго пара села в ночной поезд до Ливерпуля. Прибыв туда в 3:40 утра, они поселились в гостинице «Норд-Вестерн» как мистер и миссис Оскар Слейтер из Глазго. В гостинице, как подтвердит позже главный детектив, «горничная имела разговор с указанной дамой, каковая заявила, что пара собирается отбыть в Америку на судне „Лузитания“»[17].
Затем 26 декабря Слейтер купил два билета второго класса на «Лузитанию», в тот день отправлявшуюся в Нью-Йорк. В очевидной попытке сбить со следа жену он заказывал билеты на имя мистера и миссис Отто Сандо. К тому времени полиция Глазго, предупрежденная ливерпульскими властями, считала его скрывающимся от правосудия — независимо от броши-улики.
«Заложенная брошь, — спустя годы напишет Конан Дойль, — принадлежала Слейтеру, и полиция узнала об этом факте… раньше, чем Слейтер отбыл в Америку». Он добавил: «Более того, Слейтер нисколько не скрывал своих перемещений, к поездке в Америку он готовился в высшей степени неспешно; после дня, в который произошло преступление, он совершал все действия в той же неторопливой и открытой манере, что и прежде… При таком положении дел как может случиться, что в Нью-Йорк шлют телеграмму арестовать его по прибытии?»
Однако именно такая телеграмма была отправлена властями Глазго:
Арестовать Отто Сандо вторая каюта Лузитания разыскивается в связи с убийством Марион Гилкрист в Глазго. У него кривой нос. Обыскать его и женщину, с которой он путешествует, на предмет залоговых квитанций.
Когда «Лузитания» 2 января 1909 года вошла в порт Нью-Йорка, местные полицейские детективы поднялись на корабль и арестовали Слейтера. Тогда-то, по его словам, он впервые услышал имя Марион Гилкрист. При обыске у него нашли так и не проданную залоговую квитанцию на бриллиантовую брошь. Антуан была отправлена на остров Эллис, Слейтера в ожидании экстрадиции определили в «Могилы» — следственную тюрьму в Нижнем Манхэттене, существующую и поныне. В феврале он напишет оттуда своему приятелю из Глазго Хью Камерону, сомнительному персонажу городского «дна», известному под кличкой Крот. Слейтер не знал, что именно Камерон навел сыщиков на ломбард, где была заложена бриллиантовая брошь.
«Дорогой друг Камерон!» — так начинается письмо.
Сегодня почти пять недель, как меня держат здесь в тюрьме за совершенное в Глазго убийство.
Очень тяжело знать, мой дорогой Камерон, что мои друзья в Глазго… способны рассказывать обо мне такую ложь полицейским…
Надеюсь, мой дорогой Камерон, что ты по-прежнему будешь моим другом в беде и будешь говорить правду и останешься на моей стороне. Ты лучше всех знаешь причину, по которой я уехал из Глазго, потому что я показывал тебе письмо из Сан-Франциско от моего приятеля, и еще я оставил тебе мой американский адрес…
Полиция очень старается меня подставить. Но судебный процесс должен пройти благополучно, потому что я докажу пятью свидетелями, где я был, когда совершилось убийство.
Благодарю тебя сейчас и надеюсь иметь в тебе верного друга, потому что любой может угодить в такое дело и быть невиновным.
Поклон тебе и всем моим друзьям.
Твой друг Оскар Слейтер «Могилы», Нью-Йорк«Мерой Камероновой дружбы, — иронично замечает современный английский писатель, — может служить то, что он немедленно показал это письмо полиции».
С этого момента двойственность британских властей стала неприкрытой. Викторианская эпоха, с ее общественной паранойей и научными достижениями, была нацелена еще на распознавание и истребление разного рода захватчиков: микробов, преступников, иностранцев. Дело Слейтера, в изрядной степени проросшее из поздневикторианской привычки находить «удобного чужака», будет строиться на вопросах идентификации, то есть установления личности преступника, которое, как вскоре продемонстрируют власти Глазго, может вольно или невольно фабриковаться по мере необходимости.
13 января 1909 года инспектор уголовной полиции Пайпер и Уильям Уорнок, начальник уголовной службы шерифского суда Глазго[18], отправились в Нью-Йорк. Их сопровождали три главных свидетеля: Хелен Ламби, Артур Адамс и Мэри Барроуман. На место они прибыли 25 января. Во время судебного процесса по делу об экстрадиции Слейтера, начавшегося днем позже, британская корона в лице судебных обвинителей прибегла к откровенной лжи, лишь бы добиться возвращения Слейтера в Шотландию.
Судебные слушания по делу об экстрадиции Оскара Слейтера, он же Отто Сандо, открылись в правительственном здании в Нижнем Манхэттене под председательством Джона Шилдса, уполномоченного США по Южному округу Нью-Йорка. Со стороны государства выступал прокурор по имени Чарльз Фокс, Слейтера представляли два американских адвоката — Хью Миллер и Уильям Гудхарт. Поскольку у обвинения не было весомых доводов, адвокаты Слейтера не сомневались, что выиграют дело. Как писал Гудхарт, «во время ареста Слейтера было решено сопротивляться экстрадиции, потому что… залоговая квитанция была главным козырем для правительственной стороны, и я, зная, что под этим ничего нет, посоветовал не соглашаться».
Однако государственное обвинение было во всеоружии. Начиная с этого момента его стратегия сосредоточится не на залоговой квитанции, что было бы бесполезно, а на свидетельском опознании Слейтера как того человека, которого видели выходившим из дома мисс Гилкрист. Чтобы подстраховаться, должностные лица из Глазго еще до судебных заседаний показали фото Слейтера Адамсу и Барроуман. При этом они не потрудились показать его Ламби, которая заявляла, что не видела лица злоумышленника, — впрочем, эти показания скоро изменятся.
Первое опознание Слейтера в Нью-Йорке происходило еще до судебного заседания по поводу экстрадиции. Перед самым началом слушаний Слейтер в сопровождении двух помощников судебных приставов был проведен по коридору в кабинет уполномоченного Шилдса. Один из приставов, Джон Пинкли, к которому Слейтер был прикован наручниками, имел рост 6 футов и 4 дюйма (1,93 метра; в Слейтере было около 5 футов и 8 дюймов — 1,73 метра). На втором приставе красовалась крупная бляха с буквами «U. S.», усыпанная красными, белыми и синими звездами.
В коридоре, по которому проходили эти трое, стояли обвинитель мистер Фокс, инспектор Пайпер и все три свидетеля. Пристав Пинкли много времени спустя засвидетельствует: когда приставы и подозреваемый поравнялись с этой группой, он увидел, как Фокс большим пальцем указал на Слейтера и сказал свидетелям что-то вроде «Это тот человек?» или «Вот тот человек».
В кабинете, отвечая Фоксу, Ламби дала характерные показания:
Вопрос. Видите ли вы здесь человека, которого видели тем вечером?
Ответ. Один есть очень подозрительный, если уж говорить.
Раньше Ламби заявляла, что в вечер убийства она не видела лица злоумышленника, теперь же она показала, что все-таки заметила некую особенность его походки: «Он вроде как будто слегка трясся» — эта деталь прежде нигде не упоминалась.
Вопрос. Этот человек присутствует здесь в комнате?
Ответ. Да, присутствует, сэр.
После дальнейших расспросов она указала на Слейтера.
Поразительны были и показания Ламби относительно одежды преступника. Сразу после убийства данное ею описание значительно отличалось от описания Барроуман — настолько, что полиция сочла, будто злоумышленников было двое. (Ламби упоминала серый плащ и круглую шляпу, Барроуман говорила о желтовато-коричневом непромокаемом пальто и донегальской кепке.) Теперь, на слушаниях по вопросу экстрадиции, описание Ламби поразительно совпадало с описанием Барроуман: обе девушки показали, что человек, выходивший из квартиры мисс Гилкрист, был одет в желто-коричневое непромокаемое пальто и донегальскую кепку.
Затем показания давала Барроуман, которая повторила свое прежнее описание кепки и пальто. На вопрос, напоминает ли ей Слейтер человека, которого она видела тем вечером на Западной Принцевой улице, она ответила: «Вон тот человек, который здесь, очень на него похож», — ко времени, когда дело об убийстве будет слушаться в суде, это признание примет куда более определенную форму. Барроуман повторила свое заявление о том, что виденный ею человек «имел слегка кривой нос». (Нос Слейтера, хотя и с горбинкой, не был искривлен.) Барроуман также признала, что в кабинете Фокса в тот день ей показали фотографию Слейтера.
После этого давал показания Адамс, по всем характеристикам единственный зрелый и мыслящий самостоятельно человек среди трех свидетелей. Он произнес лишь, что Слейтер «не сказать чтобы не похож» на человека, виденного им на лестничной площадке мисс Гилкрист. В день убийства при взгляде на злоумышленника он не заметил ни особенностей походки, описанных Ламби, ни особенностей носа, описанных Барроуман.
Слушание продолжалось несколько дней; другие свидетели давали показания на стороне обвинения, еще кто-то — включая друзей по предыдущему пребыванию в Америке — на стороне Слейтера. Сам Слейтер, несомненно по совету адвокатов, озабоченных его неуклюжим английским языком с сильным акцентом, показаний не давал. Однако его свидетельства и без того представлялись ненужными, поскольку в ходе слушаний требование об экстрадиции выглядело все более бледно.
«Я никогда не сомневался в его невиновности, — несколько лет спустя писал Конан Дойлю адвокат Слейтера Уильям Гудхарт. — Из того, что я знал о деталях опознания, представленных уполномоченному во время слушаний по экстрадиции, мне всегда казалось, что идентичность Слейтера человеку, которого видели выходящим из дома жертвы в вечер убийства, крайне сомнительна». И все же 6 февраля 1909 года, перед началом очередного заседания, адвокаты Слейтера объявили, что их клиент решил отказаться от дальнейших слушаний. Он по собственной воле вернется в Шотландию и предстанет перед судом.
Такое решение Слейтера в разгар процесса, обещавшего почти наверняка завершиться в его пользу, демонстрирует некоторые стороны его характера. Одна из них — неустойчивый темперамент, который будет регулярно давать о себе знать во время каторги и затем после освобождения. Другая — неуверенность в финансах: скромные средства, которыми располагал Слейтер, уже ушли на судебные расходы.
Была и третья причина, больше других отражающая сложную натуру Слейтера. Несмотря на неопределенность стиля жизни, репутация заботила его не меньше, чем любого буржуа той эпохи, и он отчаянно жаждал восстановить свое доброе имя. Однако для того образа жизни, который вел Слейтер, в некоторых отношениях он был поразительно наивен. Отлично сознавая свою невиновность, он решил довериться шотландскому правосудию. Суд, как он считал, оправдает его раз и навсегда.
Книга вторая КРОВЬ
Глава 5. Следы
Если вам нужно раскрыть преступление, позовите врача, а еще лучше — врача, который пишет детективы. Расследование сродни диагностике: как и многие другие интеллектуальные занятия Викторианской эпохи, медицина и раскрытие преступлений стремятся реконструировать прошлое путем тщательного изучения ключей-подсказок. Если XIX век предварял собой появление современной науки, то в числе прочего это была и наука определенного вида — сферы реконструкции, такие как геология, археология, палеонтология и эволюционная биология, которые позволяли исследователю получить сумму сведений о прошлых событиях через сохранившиеся до настоящего времени следы-свидетельства, часто почти неразличимые.
Французский естествоиспытатель Жорж Кювье мог по одной кости восстановить облик целого вымершего животного. По руинам, обнаруженным при раскопках в Трое и Кноссе, немецкий археолог Генрих Шлиман и английский археолог Артур Эванс восстановили детали жизни давно умерших цивилизаций. «Предсказатель утверждает, что в некий будущий момент некто, находящийся в нужном месте, станет свидетелем определенных событий, — писал в 1880 году Томас Гексли. — Ясновидящий объявляет, что в настоящий момент некто может стать свидетелем определенных событий в тысяче миль отсюда; тот, кто занимается ретроспективным прорицанием (как пригодилось бы здесь слово „постсказатель“!), подтверждает, что столько-то часов или лет назад можно было увидеть то-то и то-то. Во всех этих случаях меняется только соотношение времен — процесс прозрения за пределы возможного прямого знания остается неизменным».
Целью этих новых наук было создание нарратива — повествования о давних, зачастую чрезвычайно отдаленных во времени фактах, которые могут быть собраны воедино и обобщены только путем тщательного сбора, скрупулезного анализа и строгого хронологического выстраивания свидетельств, обнаруженных в настоящем. Гексли красноречиво назвал этот процесс «ретроспективным прорицанием».
«По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того ни другого и никогда о них не слыхал», — читаем мы в одном из знаменитейших пассажей XIX века о ретроспективном прорицании. Далее в нем говорится:
Всякая жизнь — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену. Искусство делать выводы и анализировать, как и все другие искусства, постигается долгим и прилежным трудом… Пусть исследователь начнет с решения более простых задач. Пусть он, взглянув на первого встречного, научится сразу определять его прошлое и его профессию. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть. По ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки — по таким мелочам нетрудно угадать его профессию[19].
Автор этого рассуждения, взятого, как сообщается, из знаменитой статьи «Книга жизни», — сам Шерлок Холмс, и повествует об этом самый первый рассказ о его приключениях, «Этюд в багровых тонах». Создавая Холмса, вымышленного «научного детектива», Конан Дойль подводил основу под поздневикторианский рационализм с не меньшим жаром, чем Гексли в своих эссе и публичных лекциях[20].
Ретроспективное прорицание составляет основу как детективного расследования, так и лечения, поскольку эти два процесса во многом схожи. Оба зачастую начинаются с тела. Оба разворачиваются от конца к началу — от различимого последствия (улики, симптома) к скрытой причине (злоумышленнику, недугу). Оба глубоко связаны с проблемами идентификации, оба заняты поисками неуловимого врага: для сыщика это преступник, для врача — микроб или другой возбудитель болезни. В обоих случаях при решении задачи требуются обширные знания, детальное наблюдение и обоснованная, тщательно контролируемая работа воображения. Оба занятия имеют внутреннюю нравственную основу: их цель — восстановить разрушенный порядок (безопасность, здоровье). В детективной литературе поздневикторианского периода все эти элементы предстают в замысловатых сочетаниях.
В итоге обе эти дисциплины ищут ответ на самый фундаментальный из существующих вопросов: что произошло? Для получения такого ответа расследователь должен собрать улики, и в этом-то заключается основная трудность: ни сыщик, ни врач — ни ретроспективный пророк — не способны находить улики и свидетельства в том же хронологическом порядке, в каком те появлялись. Медицина лишь в XIX веке стала полноценно отдавать себе в этом отчет и только в то время начала рассматривать симптомы пациента как последнее звено в цепи событий. После этого концептуального сдвига диагностическое обследование стало принимать известную нам современную форму.
«В течение XVIII века врачи в основном ставили диагноз на основе спонтанного вербального общения с пациентом, — пишет врач Клаудио Рапецци. — Поскольку болезни разделялись по симптомам, пациенты могли сообщать симптомы на словах или даже письмом. Таким образом, лекари могли с успехом „навещать“ пациента… по почте». Однако к XIX веку врачи, которые желали различать, опознавать и в правильном порядке расставлять медицинские подсказки, должны были научиться не просто смотреть непосредственно на предмет, но и «смотреть с чувством», как писал Эдмунд Пеллегрино. Именно этот навык и перенял Конан Дойль от Джозефа Белла.
К концу столетия достижения в микроскопии позволили врачам видеть точнее, чем когда-либо раньше. Сыщикам того времени — тоже: для них лучшим способом ретроспективного взгляда было умение видеть в деталях. «Для меня давно уже очевидно, что мелочи важнее всего», — по секрету признается Холмс в рассказе 1891 года «Установление личности». Годом позже Белл согласился составить предисловие к новому изданию «Этюда в багровых тонах». «Важность бесконечно малого неизмерима, — писал Белл. — Наученный замечать и оценивать мелкие детали, доктор Дойль видел, как можно заинтересовать просвещенную аудиторию, доверив ей внутреннюю тайну и показав свой метод работы. Он создал рассудительного, проницательного, пытливого героя — наполовину врача, наполовину ученого».
Не стоит забывать также, что Конан Дойль учился и на офтальмолога: дело Слейтера непосредственно касается поздневикторианских взглядов — как на хорошее, так и на дурное. Все судебное дело, кружащееся вокруг установления личности преступника и опознания и опирающееся на классовые и этнические предрассудки, по сути связано со зрительной диагностикой или, точнее, с неспособностью дать верный диагноз — неспособностью затянувшейся и для многих губительной.
Ретроспективное исследование существует, разумеется, не с викторианских времен: это искусство восходит к древности и берет начало от умения охотника найти добычу по следу. До Холмса одним из самых искусных обладателей таких способностей был Задиг — древний житель Вавилона, герой одноименной философской повести Вольтера, написанной в 1747 году. В эпизоде, признанно оказавшем влияние на Конан Дойля, Задиг мастерски демонстрирует свое умение:
Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. Все они, видимо, находились в сильной тревоге…
— Молодой человек, — сказал ему первый евнух, — не видели ли вы кобеля царицы?
— То есть суку, а не кобеля, — скромно отвечал Задиг.
— Вы правы, — подтвердил первый евнух.
— Это маленькая болонка, — прибавил Задиг, — она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши.
— Значит, вы видели ее? — спросил запыхавшийся первый евнух.
— Нет, — отвечал Задиг, — я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака…
Первый евнух, убежденный, что Задиг украл… собаку царицы, притащил его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Едва этот приговор был вынесен, как нашлась… собака. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор; но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел… Задигу… потом позволили оправдаться… И он сказал следующее:
— …Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает…
Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига… И хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему штраф в четыреста унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь унций судебных издержек[21].
Разумеется, нет ничего случайного в том, что в немецком варианте имя «Задиг» читается с «ц» вместо «з» и с «к» вместо «г», как если бы его произносили евреи, говорящие на идише. В таком виде оно становится словом «цадик», которое родственно древнееврейскому слову «правосудие» и обозначает духовного руководителя, обладающего глубокой мудростью.
Первым литературным сыщиком современности и непосредственным наследником Задига был вдумчивый персонаж Эдгара Аллана По шевалье Огюст Дюпен. Этот детектив, впервые представший перед читателями в 1841 году в рассказе «Убийство на улице Морг» и потом вновь появившийся в «Тайне Мари Роже» и в «Похищенном письме», является предтечей Холмса в нескольких отношениях. Он из хорошей семьи — гениальный, отстраненный, готический, любящий ночь, не отказывающий себе в удовольствиях. У него есть верный компаньон, рассказывающий публике о его делах. Дюпен обладает настолько точной наблюдательностью и настолько рациональным умом, что может по единственной улике восстановить связную цепь обстоятельств.
Способность Дюпена к ретроспективному прорицанию — Эдгар По называет это логическим рассуждением — может казаться почти ясновидением, как в знаменитой сцене из «Убийства на улице Морг». О том, что его друг размышлял о Шантильи — тщедушном местном сапожнике, обуянном любовью к театру, — Дюпен догадывается по тому, как друг споткнулся на улице после столкновения с зеленщиком. «Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики, — заключает Дюпен. — Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик… Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре „Варьете“»[22].
К моменту появления Шерлока Холмса в 1887 году поздневикторианские научные методы и поздневикторианский детективный жанр стояли на пороге тесного слияния. Навык логического анализа, продемонстрированный Дюпеном, достигнет апогея в персонаже Конан Дойля[23]. «Научный метод сделал возможным рождение детективного жанра и способствовал его популярности, — заметил Дж. ван Довер, авторитет в детективной литературе. — Сыщик стал особым образцом нового научного мыслителя… Он сулил совместить наиболее действенный способ мышления с фундаментальной верностью традиционной этике (и к тому же применить этот способ… к эффектной сфере насильственных преступлений), и публика его приняла».
Конан Дойль был не единственным детективным автором той эпохи, придавшим черты и сыщика, и ученого одному и тому же выдающемуся персонажу. Английский писатель Р. Остин Фриман (1862–1943) открыто совместил сыскную работу и врачебную деятельность в Джоне Торндайке — враче и судебном аналитике, раскрывающем преступления; романы и рассказы о нем публиковались с 1907 по 1942 год. Специалист «медицинско-юридической практики», Торндайк никогда не путешествовал без крытого брезентом зеленого ящичка «всего квадратный фут, глубина четыре дюйма», в котором помещалась переносная лаборатория: «ряды флаконов с реактивами, небольшие пробирки, миниатюрная спиртовка, крошечный микроскоп и разнообразные инструменты тех же лилипутских размеров». Этот набор служил ему верой и правдой во многих случаях обследования места преступления.
Однако публика превыше всего ценила Холмса. Молниеносно реагирующий ум, безупречная логика, нерушимые этические принципы и талант распознавать закономерности в огромной массе улик — именно эти качества сделали его в высшей степени пригодным для главной задачи литературного сыщика: «Нарратив детективного рассказа полностью зависит от способности [героя] видеть глубинное нравственное устройство мира через методичное наблюдение и понимание его поверхностных слоев, — написал ван Довер. — Эти действия… всегда должны допускать два правдоподобных толкования: одно ложное и одно истинное. Первое — легкое, к нему нас склоняет инерция предрассудков; второе — трудное, получаемое сыщиком через вдумчивый анализ».
В деле Слейтера «первое толкование» с его удобными выводами и подтасованными результатами почти всегда было целью полиции и обвинения. Второе же, основывающееся на умелом применении диагностического воображения, было именно тем навыком, который Конан Дойль перенял у своего учителя — Джозефа Белла.
Глава 6. Прототип Шерлока Холмса
Холмс, наследник шевалье Дюпена, был также «потомком» совершенно реального гения-диагноста Джозефа Белла. Белл (1837–1911) родился в Эдинбурге в семье потомственных врачей. Его дед, сэр Чарльз Белл, первым описал периферический паралич лицевого нерва, сейчас называемый «параличом Белла». Окончив Эдинбургский университет в 1859 году, Джозеф Белл вскоре стал в нем преподавать и быстро сделался университетской знаменитостью: студенты поражались его диагностическим способностям, которые в глазах непосвященных выглядели почти колдовством.
В 1878 году Конан Дойль, студент второго курса медицинского факультета, был определен Беллу в помощники. «По некоей причине, недоступной моему пониманию, — писал он, — он выделил меня из роя студентов, часто толпившихся в его больничном отделении, и назначил помощником по амбулаторным больным: мне предстояло следить за списком его пациентов, делать простейшие записи об их болезни, а затем вводить пациентов по одному в большой кабинет, где восседал Белл, окруженный студентами и медицинскими ассистентами. Тогда-то я и воспользовался отличной возможностью учиться его методам и заодно замечать, что несколько мимолетных взглядов сообщают ему о пациенте больше, чем мне удавалось узнать при опросе больного».
Конан Дойль вспоминал один примечательный случай, когда Белл столкнулся с человеком, которого никогда прежде не видел:
Он сказал невоенному пациенту:
— Ну что ж, дорогой мой, вы служили в армии.
— Да, сэр.
— Недавно уволились?
— Да, сэр.
— Полк горцев?
— Да, сэр.
— Младший офицер?
— Да, сэр.
— Размещались на Барбадосе?
— Да, сэр.
— Видите ли, джентльмены, — объяснил он позже, — это человек почтительный, но шляпу он не снял, в армии это не принято. Однако в случае давнего увольнения он уже привык бы к гражданскому обычаю. Выглядит он властно и при этом явный шотландец. А что до Барбадоса, то больной жалуется на элефантиаз, который встречается в Вест-Индии, а не в Британии.
В другом случае незнакомая Беллу женщина вошла в лекционный зал, ведя за собой ребенка. «Он вежливо ее поприветствовал, — писал один из биографов Конан Дойля, — она в ответ сказала „доброе утро“». Дальше последовал диалог:
— Как добрались из Бернтайленда? — спросил Белл.
— Хорошо.
— Вверх по улице Инверлит шли благополучно?
— Да.
— А куда вы дели второго ребенка?..
— Оставила у моей сестры в Лите.
— А работаете по-прежнему на линолеумной фабрике?
— Да.
— Видите ли, джентльмены, — объяснил Белл студентам. — Когда она сказала «доброе утро», я заметил файфширский выговор, а ближайший город в Файфе, как вы знаете, Бернтайленд. На башмаках по краям подошвы заметна красная глина, а в радиусе 20 миль единственное место с такой глиной — ботанический сад. Улица Инверлит идет рядом с садом и дает кратчайший путь от Лита. На руке женщина несла пальто, которое слишком большое для ребенка, который был с ней, из чего ясно, что из дома она вышла с двумя детьми. И наконец, у нее на пальцах правой руки дерматит, характерный для рабочих линолеумной фабрики в Бернтайленде.
Диагностическое волшебство Белла коренилось в комбинации острой наблюдательности и строгого научного метода. «Глядите во все глаза, юноша! Включите уши, разум, шишку восприятия, используйте способность к дедукции, — так вспоминал его слова один из студентов, Гарольд Джонс. — Однако дедуктивные выводы, джентльмены, должны быть подкреплены безупречными и конкретными материальными доказательствами». Джонс, однокашник Конан Дойля, вспоминал, как Белл поздоровался с новым пациентом, а затем, повернувшись к студентам, сказал:
Джентльмены, рыбак! Вы, несомненно, заметили, что даже в жаркий летний день пациент обут в высокие сапоги. Когда он сел на стул, они были хорошо видны. В такое время года в высоких сапогах ходят только моряки. Оттенок загара на лице говорит о том, что он плавает вдоль побережья, а не ходит в дальние рейсы к другим странам. Это загар от пребывания в одном климате — так сказать, «местный загар». Под курткой у него ножны для ножа, такими пользуются здешние рыбаки. Во рту он прячет кусок табака для жевания и делает это весьма успешно, джентльмены. При сопоставлении таких дедуктивных выводов получается, что этот человек — рыбак. Кроме того, правильность выводов подтверждается тем фактом, что к его одежде и рукам прилипло несколько рыбьих чешуек, а запах рыбы при его появлении был очень заметным.
Белл был настолько великолепным наблюдателем, что даже предположительно не относящиеся к делу подробности могли оказаться для него крайне важными — порой эта важность подтверждалась лишь спустя годы. Более чем за 30 лет до того, как Александр Флеминг в 1928 году выделил пенициллин из плесени, Белл инструктировал группу медсестер: «Развивайте точность в наблюдениях и правдивость в отчетах… Например, страдающие изнурительной диареей дети иногда питают сильное пристрастие к старому сыру с зеленой плесенью и обильно его поглощают, что дает отличный эффект. Возможно ли, что бактерии в сыре способны, в свою очередь, поглотить бациллы туберкулеза?»
Для Белла любые особенности человеческого тела, неприметные для других, были молчаливыми свидетелями жизни. «Почти любое ремесло оставляет на руках знаки, подобные справочному пособию, — сказал он в интервью 1892 года. — Шрамы шахтера отличаются от шрамов рабочего в карьере. Мозоли плотника не похожи на мозоли каменщика. Сапожник совершенно не таков, как портной. Солдат и моряк отличаются походкой — правда, в прошлом месяце мне случилось сказать солдату, что в отрочестве он был моряком… Татуировки на руках расскажут о посещенных местах, брелоки на часовой цепочке преуспевающего колониста расскажут, где он заработал капитал. Новозеландский скваттер не повесит на цепочку золотую индийскую монету, а индийский железнодорожный инженер — камень маори».
Когда связь Белла с Шерлоком Холмсом стала известна, представители мировой прессы начали регулярно разыскивать его в попытке застать прототипа в действии. В одном из интервью 1893 года репортер из Pall Mall gazzette спросил его: «Есть ли система, по которой можно было бы учить полицейских искусству наблюдательности?»
«Есть система среди врачей, — ответил Белл. — Ее регулярно преподают здешним студентам… Если полицейским тренировать умение наблюдать более тщательно, было бы хорошо… Фатальная ошибка, которую совершает обычный полицейский, состоит в том, что он сначала выдвигает гипотезу, а потом подгоняет под нее факты, хотя нужно сначала добывать факты, замечать разные мелкие детали и применять дедукцию, пока все собранное не начнет неудержимо влечь его… в направлении, которое он поначалу даже не рассматривал».
Эти слова мог бы произнести сам Шерлок Холмс. Ретроспективно они стали бы точнейшим диагнозом в отношении поведения полиции в деле Слейтера.
Белл также работал государственным экспертом-криминалистом, и здесь он тоже показал себя достойным отцом своего вымышленного наследника. Притом что он занимал эту должность в течение нескольких десятилетий, из-за его крайней профессиональной скрытности мы знаем лишь о немногих случаях. «Двадцать лет или больше я занимался практикой медицинской юриспруденции, но я почти ничего не могу об этом сказать, — заявил он в 1893 году. — Было бы нечестно упоминать секретные сведения, принадлежащие государству».
Одним из известных нам случаев было дело женоубийцы Эжена Шантреля — одно из самых знаменитых преступлений викторианской Британии. Француз Шантрель обосновался в Эдинбурге в 1860-х годах и работал преподавателем иностранных языков в местной частной школе. В 1868 году он женился на одной из своих учениц, соблазненной им 16-летней Лиззи Дайер, которая к тому времени была от него беременна. Их брак, продолжавшийся десять лет, был бурным, с годами нарастала жестокость. «Дорогая мама, — писала Лиззи Шантрель в письме домой, — я, должно быть, спала около часа или больше и проснулась от нескольких резких ударов. Один пришелся сбоку в голову и оглушил… У меня не на месте челюстная кость, рот внутри разбит и гноится, лицо опухло».
В 1877 году Шантрель застраховал жизнь жены на сумму более чем в 1000 фунтов. Вскоре после этого горничная услышала стоны из спальни Лиззи Шантрель. Она нашла хозяйку без сознания, на прикроватном столике были дольки апельсина, виноград и наполовину выпитый стакан лимонада. Горничная позвала Шантреля, затем побежала за врачом. Вернувшись, она увидела, что стакан опустошен, а фрукты убраны. Она также видела Шантреля выбирающимся через окно спальни.
Лиззи Шантрель вскоре умерла, врач списал ее смерть на отравление светильным газом и сообщил об этом случае сэру Генри Литтлджону, самому известному в Шотландии криминалисту, считая, что дело должно его заинтересовать. Литтлджон привлек к этому Белла. Осматривая комнату миссис Шантрель, «Белл и Литтлджон повсюду нашли свидетельства отравления, — писал биограф Белла Илай Либоу. — Многочисленные коричневатые пятна виднелись на [ее] подушке, несколько было на ночной сорочке, и анализ показал, что эти пятна содержали опиум в твердой форме вместе с мелкими фрагментами виноградных косточек. Та же комбинация была найдена в ее пищеварительном тракте». Из разговоров с местными аптекарями Белл узнал, что Шантрель незадолго до этого купил большое количество опиума.
Помимо этих положительных улик была еще и потрясающая отрицательная улика: хотя предполагалось, что Лиззи умерла от утечки газа, горничная сказала расследователям, что она почувствовала запах газа только после того, как вернулась от врача, а не тогда, когда только нашла хозяйку без сознания. Для Белла это отсутствие газа стало в высшей степени примечательным фактом.
При расследовании, проведенном газовой компанией, за окном спальни Лиззи обнаружилась сломанная газовая труба. «Горничная, которая годами видела здесь скандалы и рукоприкладство, подозревала, что трубу сломал сам Шантрель, — писал Либоу. — Шантрель в ответ говорил, что не знал о существование трубы». Белл, которого его слова не убеждали, опросил соседей и нашел слесаря, который чинил эту трубу год назад. Эжен Шантрель, по воспоминаниям слесаря, выказал необычайный интерес к трубе и способу ее функционирования. Суд приговорили Шантреля к смертной казни, он был повешен в Эдинбурге в 1878 году.
В конце 1880-х годов, когда начинающий писатель Конан Дойль начал придумывать образ сыщика, ему не пришлось далеко ходить за примером. И хотя Белл, по-видимому уставший от внимания репортеров, часто заявлял, что он не является прототипом Холмса, сходство было очевидно любому читателю, кто его знал.
Одним из таких читателей был Роберт Луис Стивенсон — писатель, давним поклонником которого являлся Конан Дойль. Стивенсон, тоже шотландец, между 1867 и 1875 годами изучал в Эдинбургском университете инженерное дело и юриспруденцию и окончил университет за год до того, как туда поступил Конан Дойль. И хотя эти двое, по-видимому, не были лично знакомы, Конан Дойль написал Стивенсону несколько восторженных писем по поводу «Острова сокровищ», «Похищенного» и «Странного случая доктора Джекила и мистера Хайда». В 1893 году Стивенсон, страдавший туберкулезом и из-за слабого здоровья переехавший на Самоа, прислал Конан Дойлю ответ, в котором, как замечает биограф Конан Дойля Майкл Симс, «смешались похвала читателя и высокомерие соперника».
«Дорогой сэр, — писал Стивенсон. — Вы многократно пытались сделать мне приятное, за что мне приличествовало бы поблагодарить вас ранее. Ныне моя очередь, и я надеюсь, что вы позволите мне высказать похвалу вашим весьма искусным и весьма интересным приключениям Шерлока Холмса. Литература такого рода для меня хороша при зубной боли. Собственно говоря, вашу книгу я взял, когда у меня разыгрался плеврит, и вам как врачу будет интересно знать, что лекарство временно оказало нужное действие».
К этому пассажу Стивенсон присовокупил многозначительную последнюю строку: «Лишь одно меня беспокоит, — написал он. — Может ли это быть мой старый знакомец Джо Белл?»
Глава 7. Искусство ретроспективных рассуждений
Ко времени убийства мисс Гилкрист холмсовский метод рационального исследования — когда решение диктуется наблюдаемыми фактами, а не бессознательными предубеждениями, — уже вошел в силу, по крайней мере среди литературных сыщиков. Холмс настолько искусно применял эту науку, что рассказы Конан Дойля предопределили использование схожих методов полицией в реальной жизни. «Нынешнее криминалистское расследование является научным, — писал в 1959 году известный судебно-медицинский эксперт сэр Сидни Смит. — Так было не всегда, и переменой мы во многом обязаны влиянию Шерлока Холмса».
Уже в 1932 году Гарри Эштон-Вульф, автор документальных книг о преступлениях, объявил:
Многие из методов, изобретенных Конан Дойлем, сейчас используются в научных лабораториях. В качестве хобби Шерлок Холмс изучал табачный пепел. Несмотря на новизну идеи, полиция немедленно осознала важность такого узкоспециального знания, и теперь в каждой лаборатории имеется полный набор таблиц, показывающих внешний вид и состав различных видов пепла, которые каждый детектив должен уметь распознавать. Грунт и грязь из разных районов тоже были усиленно рассортированы после описанного Холмсом… Яды, почерк, пятна, пыль, отпечатки ног, следы колес, форма и расположение ран и, соответственно, возможные виды причинившего их оружия, теория криптограмм — эти и многие другие выдающиеся методики, зародившиеся в богатом воображении Конан Дойля, теперь стали неотъемлемой частью научного арсенала каждого сыщика.
В деле Гилкрист, увы, эти методы либо не получили применения, либо не оказали существенной помощи. Однако даже при ограниченных научных ресурсах полиция Глазго имела в своем распоряжении мощный судебно-медицинский инструмент, хотя и крайне редко применяемый: логическое рассуждение. После тщательного отбора эмпирических данных это следующий этап холмсовского метода и — во многих отношениях — его суть. Несмотря на то что сам Холмс часто называет этот вид рассуждений дедуктивным, на деле в нем нет никакой дедукции[24]: он, строго говоря, базируется на логическом процессе, известном как индукция, а еще точнее — на абдукции.
Термин «абдукция» в этом смысле впервые употребил американский философ Чарльз Сандерс Пирс — эрудит, чьи труды оказали значительное влияние на развитие философии, логики, семиотики, математики, психологии, антропологии и других отраслей знания. Пирс родился в 1839 году в массачусетском городе Кембридж, его отец Бенджамин Пирс преподавал математику в Гарварде и был одним из основателей Смитсоновского института. В 1859 году Чарльз окончил Гарвард, где изучал химию, и устроился работать в ведомство береговой и геодезической службы США — на следующие 32 года эта должность станет подспорьем для его широких философских исследований. Пирс, умерший в 1914 году, оставил после себя около 12 000 страниц опубликованных работ и 80 000 страниц рукописей.
«Абдукция» — или «ретродукция», как иногда называл ее Пирс, — очень схожа с «ретроспективным прорицанием» Гексли. Имея на руках набор следствий — отпечатки лап животных, медицинские симптомы, улики с места преступления, — исследователь применяет абдукцию для выяснения наиболее логически вероятной причины для них.
«Некий объект, — писал Пирс, — представляет собой неординарную комбинацию свойств, для которых мы хотели бы иметь объяснение. Мы лишь предполагаем, что объяснение существует, и если такое предположение верно, то объяснением служит какой-то один неявный факт, в то время как могут существовать, вероятно, миллионы других возможных объяснений, все из которых, к сожалению, ошибочны. На улицах Нью-Йорка найден человек, которого ударили ножом в спину. Начальник полиции может открыть справочник, ткнуть пальцем в любое имя и высказать догадку, что это и есть имя убийцы. Чего будет стоить такая догадка?» (Полиция Глазго примерно таким способом и ткнула в Слейтера.)
Абдуктивный метод не позволяет таких опрометчивых выводов. «Абдукция отталкивается от фактов, без всякого наличия изначальной гипотезы, хотя движущим мотивом служит именно чувство, что гипотеза необходима для объяснения таких удивительных фактов, — пишет Пирс. — Индукция отталкивается от подходящего предположения, без наличия изначальных фактов, хотя она и нуждается в фактах для поддержки гипотезы. Абдукция ищет гипотезу. Индукция ищет факты».
Как объясняет группа английских ученых в статье о медицинской диагностике, абдукция имеет следующую форму:
Наблюдается факт С.
Если А верно, то С — обыденное положение дел.
Следовательно, есть причина подозревать, что А верно.
Этот процесс — зеркальное отражение дедукции: при дедукции исследователь идет в рассуждениях вперед, от причины к следствию. Когда Холмс в своей дебютной истории говорит: «При решении подобных задач очень важно уметь рассуждать ретроспективно»[25] — он восхваляет абдукцию. Чтобы проиллюстрировать разницу между дедукцией, индукцией и абдукцией, Пирс приводит вот такой тройной комплект силлогизмов:
Дедукция
Правило: Все серьезные ножевые раны дают кровотечение.
Частный случай: Это была серьезная ножевая рана.
Вывод [дедуцированный итог]: Было кровотечение.
Индукция
Частный случай: Это была серьезная ножевая рана.
Результат: Было кровотечение.
Вывод [индуцированное правило]: Все серьезные ножевые раны дают кровотечение.
Абдукция
Правило: Все серьезные ножевые раны дают кровотечение.
Результат: Было кровотечение.
Вывод [абдуцированный частный случай]: Это была (вероятно) серьезная ножевая рана.
Составляя дело против Слейтера, полиция и обвинение действовали дедуктивно, с ущербом для правосудия. Если их абсурдные рассуждения свести в схему, она выглядела бы примерно так:
Правило: Все убийства совершаются «нежелательными лицами».
Частный случай: Оскар Слейтер принадлежит к «нежелательным лицам».
Вывод: Оскар Слейтер совершил убийство мисс Гилкрист.
Абдукция, как и реконструирующие науки Викторианской эпохи, порождает нарратив. Именно этот метод использовал Задиг для разматывания причинно-следственного клубка, который связал бы наблюдаемые факты. Более века спустя точно так же действовал и Шерлок Холмс: «Мы, кажется, вступили в область догадок»[26], — говорит клиент Холмса доктор Мортимер в «Собаке Баскервилей».
«Скажите лучше, — отвечает Холмс, — в область, где взвешиваются все возможности, с тем чтобы выбрать из них наиболее правдоподобную. Таково научное использование силы воображения, которое всегда работает у специалистов на твердой материальной основе».
Раз за разом Холмс использует абдукцию для расследования дел, применяя ретроспективные рассуждения до тех пор, пока все не превратится, как он говорит, в «цепь непрерывных и безошибочных логических заключений». В рассказе 1904 года «Шесть Наполеонов» Лондон становится ареной ошеломляющих преступлений: кто-то последовательно крадет и разбивает совершенно одинаковые гипсовые бюсты Наполеона, изготовленные одновременно. Для известного своей недалекостью инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда очевидное объяснение состоит в том, что кражи — дело рук безумца, который «до такой степени ненавидит Наполеона Первого, что истребляет каждое его изображение, какое попадается на глаза»[27].
Однако на вкус Холмса гипотеза Лестрейда объясняет факты слишком примитивно. Если безумец действительно жаждет разбить все изображения Наполеона, тогда зачем охотиться на эти конкретные бюсты, «если принять во внимание, — отмечает Холмс, — что в Лондоне находится несколько тысяч бюстов, изображающих великого императора»? И почему, спрашивает Холмс позже, злоумышленник, сбежавший с одним из бюстов, не разбивает его сразу, а ждет, пока окажется на конкретном участке улицы? «Холмс показал на уличный фонарь, горевший у нас над головой, — пишет Конан Дойль. — Здесь этот человек мог видеть то, что он делает, а там не мог. Вот что привело его сюда».
Такие умственные наблюдения вкупе с поездками в некоторые места позволяют Холмсу создать, как заявляет он Лестрейду не без гордости, нарратив преступления «с помощью объединенной цепочки индуктивных рассуждений. Кражи с разбитием бюстов, — верно отмечает он, — имели целью найти бесценную жемчужину, спрятанную внутри одного из них».
«Холмс… действует как семиотик, — писала критик Розмари Дженн. — Он „читает“ преступление как литературные тексты, словно они представляют собой системы знаков. Истинное значение каждого знака определяется по его отношению к остальным в определенной сети значений… В итоге он способен распознать единственное соотношение, объясняющее все улики».
Полиция же той эпохи — как в холмсовском каноне, так и зачастую в жизни — предпочитала мыслить не рафинированными представлениями о сети непредвиденных обстоятельств, а прямолинейно, все деля сомнительным образом на черное и белое. Холмс объявляет о такой опасности в рассказе 1891 года «Тайна Боскомской долины», где он утверждает: «Нет ничего более обманчивого, чем очевидный факт». «Многих отправили на виселицу на основании куда более легковесных улик», — соглашается Ватсон. «Именно так, — отвечает Холмс. — И многих повесили ни за что».
Глава 8. Дело об идентификации
11 февраля 1909 года британский ордер на экстрадицию преступника был санкционирован Государственным департаментом США. 14 февраля детективы Пайпер и Уорнок препроводили Слейтера вместе с его багажом, опечатанным американской таможней, на борт парохода «Колумбия». Прибывшее в Шотландию 21 февраля судно поднялось по реке Клайд. Чтобы избежать толпы, которая неминуемо собралась бы в Глазго поглядеть на успевшего прославиться подозреваемого, Слейтера сняли с парохода пятью милями раньше, в Ренфру, и довезли до места на автомобиле. Закованному в наручники Слейтеру при сходе на берег кто-то из экипажа «Колумбии» отвесил пинок.
В штаб-квартире полиции Глазго багаж Слейтера вскрыли. Среди аккуратно сложенной и тщательно запакованной одежды нашли тот самый молоток — небольшой, не многим крупнее молотка для клепки. Полиция сочла, что молоток успели вымыть, а непромокаемый желтовато-коричневый плащ с темными пятнами — постирать. Среди изобилия шляп нашлись две кепки, но ничего похожего на донегальскую, которую упоминала Мэри Барроуман. Клетчатых брюк, желтовато-коричневых гамаш и коричневых башмаков, в которых «наблюдатель», по показаниям некоторых свидетелей, глазел на дом мисс Гилкрист, тоже не обнаружилось.
«Посреди пылкой людской ярости, возбуждаемой кровавыми злодеяниями, имеется тенденция — не обошедшая также судей и присяжных — отметать или объявлять несущественными сомнения, польза от которых считается одной из привилегий обвиняемых, — писал Конан Дойль в документальной подборке „Странные уроки, преподанные жизнью“, в которой рассматривается три английских убийства XIX века. — Намного более разумной представляется та точка зрения, что пусть лучше 99 виновных избегут наказания, чем пострадает один невинный».
Полиция Глазго подобной щепетильностью не отличалась. Обвинения против Слейтера были шаткими, и в полиции это понимали. Брошь-улика — искра, от которой вспыхнула идея поимки Слейтера, — давно перестала быть уликой. Но полиция уже решила, что преступник у нее в руках, и не собиралась от него отказываться. В результате судебному делу предстояло почти полностью полагаться на опознание преступника свидетелями. Однако даже в случаях, когда никто не пытается сознательно подтасовывать факты, свидетельская память — штука ненадежная: она фрагментарна, склонна подменять одно другим, ею легко манипулировать. И хотя ненадежность свидетельских показаний будет научно доказана только в конце ХХ века, в эдвардианской Англии об этом ее свойстве уже знали по опыту.
За десятилетие до убийства мисс Гилкрист был вынесен еще один ошибочный приговор, выдвинувший проблему в поле зрения публики. В 1895 году жительница Лондона обвинила Адольфа Бека, потрепанного норвежского франта, в том, что он обманом выманил у нее драгоценности, прикинувшись титулованным дворянином. После ареста Бека полиция выяснила, что мошенник, применявший «игру на доверие», за последние годы обманул таким способом больше двух десятков женщин. Полиция выстроила в ряд нескольких мужчин для процедуры опознания, и многие жертвы указали на Бека — единственного среди всех седовласого мужчину с усами.
Бек заявил, что его приняли за другого; когда происходили первые случаи такого мошенничества, он находился, по его словам, в Южной Америке. Однако на основании свидетельских показаний его приговорили к семи годам каторжных работ. Досрочно отпущенный с каторги в 1901 году, он по аналогичному обвинению вскоре был вновь арестован, подвергнут суду и приговорен. Лишь в 1904 году полиция нашла истинного виновника: седоволосого жителя Вены по имени Вильгельм Мейер. Он жил в Англии под вымышленным именем, слегка схожим с именем Бека. Мейер сознался в преступлениях, Бек получил помилование, а его дело надолго осталось в истории как предостерегающий пример для других.
«Общеизвестно, — напишет Конан Дойль в 1912 году, — что нет ничего более ненадежного, чем идентификация личности». Зная об этом, в деле Оскара Слейтера полиция и обвинение сделали все, чтобы опознание сработало.
21 февраля 1909 года в центральном полицейском участке Глазго Слейтера поставили перед свидетелями в один ряд с другими участниками опознания. Вместе с ним, смуглым и черноволосым, стояли 11 мужчин: девять переодетых шотландских полицейских с бледно-розовой кожей и два железнодорожных работника-шотландца с таким же цветом лица. Не каждый из свидетелей сумел указать на человека, «наблюдавшего» за домом мисс Гилкрист, но те, кто все-таки произвел опознание, немедленно выбрали Слейтера.
«Ожидать, что шеренга шотландских констеблей и железнодорожников обеспечит „прикрытие“ при опознании немецкого еврея с явно иностранной внешностью, было почти то же самое, что пытаться спрятать бульдога среди карликовых дамских пуделей», — годы спустя язвительно напишет журналист Уильям Парк. Очень кстати пришлось и то, что некоторым свидетелям перед опознанием показали фото Слейтера, — такова была распространенная практика в те годы.
На следующий день, 22 февраля, Слейтеру и его адвокату Юингу Спирсу было официально зачитано обвинение в убийстве мисс Гилкрист, и Слейтера вернули под стражу, в тюрьму на Герцогской улице в Глазго. «Слейтер всех поразил спокойствием и учтивыми манерами, — писал Питер Хант. — Он попросил мистера Спирса передать благодарность полиции за их доброе обращение». Немного спустя Спирс признался газетчикам: «Чем больше я вижу Слейтера, тем больше уверяюсь в его невиновности. Не забудьте, я говорю это не как официальный адвокат. Общаясь со Слейтером как человек с человеком, я не могу отделаться от чувства, что совершена чудовищная ошибка. Слейтер не принадлежит к людям, которые пошли бы на такое отвратительное преступление».
Вскоре судебные разбирательства перенесли в столицу Шотландии Эдинбург, и Слейтера перевели в эдинбургскую тюрьму Колтон. Во время заседаний, назначенных на весну, государственное обвинение должен был представлять Джеймс Харт, местный прокурор Ланаркшира — графства, в которое входил Глазго[28]. Харт, с большим пылом добивавшийся осуждения Слейтера, впоследствии станет считаться одним из наиболее сильно повлиявших на исход процесса участников. С адвокатской стороны выступали Спирс и барристер Александр Макклюр, которому предстояло вести судебные прения.
Официальное обвинение было предъявлено Слейтеру 6 апреля; его молоток, плащ и одну из шляп отправили на экспертизу доктору Джону Глейстеру из Университета Глазго. Глейстер, один из ведущих судебно-медицинских экспертов Шотландии, перед этим производил вскрытие тела мисс Гилкрист. Его показания в суде, включая перечень ужасающих травм жертвы и утверждение, будто все они сделаны миниатюрным молотком Слейтера, почти неотвратимо помогли довести суд до приговора Слейтеру.
Вопрос, не дававший тогда покоя Конан Дойлю, в течение сотни лет так и не получил ответа: если полиция уже через неделю знала о том, что брошь нельзя рассматривать в качестве улики, то почему Слейтера продолжали обвинять в убийстве? Среди прочего причина крылась в неблагоприятном стечении исторических обстоятельств.
Во времена убийства мисс Гилкрист сыщик, проводящий идентификацию подозреваемого, оказывался на распутье. Для него существовало две дороги. Одна — путь вперед, зарождающаяся рационалистическая наука ХХ века, которая позже будет названа криминалистикой. Другая — путь назад, туманная псевдонаука XIX века, известная как криминология и основывающаяся на работах Чезаре Ломброзо и ему подобных. Свернув на путь криминологии, полиция Глазго обрекла Слейтера на худшее. Впрочем, как подтвердилось годы спустя, навешивание на него убийства мисс Гилкрист было целью полиции с самого начала.
Викторианские времена не раз называли эпохой идентификации, и такое название очень уместно. Развитие техники, приведшее к росту городов, породило и тягу к передвижениям: железные дороги и быстрые пароходы позволяли обычным людям с легкостью пересекать границы. Впрочем, преступникам — тоже, что было гораздо хуже. Сами города с их толпами незнакомцев были для преступника благодатным местом, где личность становилась понятием условным: прикрываешься фальшивым именем — и растворяешься в толпе. В итоге тревожность, присущая эпохе, породила идею необходимости издали опознавать преступника как такового. Однако индивидуальная идентификация, то есть способность найти конкретную иголку в плотном многонациональном стоге сена, — дело нелегкое, и перед викторианским обществом встал насущный вопрос о том, как это делать.
Чтобы идентифицировать подозреваемого, нужно в числе прочего уметь считывать информацию с обстановки на месте преступления, с жертвы или с самого преступника. В наше время самый известный способ для этого — задействовать отрасли криминалистики, такие как баллистика, дактилоскопия, серология и токсикология. Эти реконструирующие дисциплины Новейшего времени позволяют расследователям восстановить прошлые события через некоторое, иногда очень длительное, время после того, как они произойдут, — как, например, опознание по ДНК, введенное в 1980-х годах.
Однако в Викторианскую эпоху криминалистика находилась еще в зародыше, до конца XIX века не существовало даже такого понятия, как «место преступления». И криминалистические расследования в привычном нам виде — со строгими профессиональными протоколами, современными научными процедурами и оборудованными по последнему слову техники полицейскими лабораториями — начали проводиться лишь в 1930–1940-х годах.
И все же необходимость идентифицировать преступников стара как мир. Можно вспомнить Каина, который совершил первое описанное в истории человечества убийство и навсегда был заклеймен особым знаком — «каиновой печатью». Но как же идентифицировали преступников до середины ХХ века? Ответ лежит в плоскости символики, сферы знаков: если в наше время информация в основном считывается с места преступления, то раньше ее считывали непосредственно с преступника.
У того, кто расследует преступление, есть три возможности для идентификации подозреваемого. Он может сделать это после преступления, проведя криминалистическую экспертизу места происшествия. Может идентифицировать его во время совершения преступления через показания свидетелей. И как бы нелогично это ни звучало, преступника можно идентифицировать до совершения преступления, нанеся упреждающий удар, призванный защитить общество. Какой метод использует сыщик — зависит отчасти от обстоятельств, отчасти от того, какие средства ему доступны. Но также это в значительной степени зависит от того, как в данную конкретную эпоху относятся к преступлению, преступникам и наказанию.
В древности и долгое время после в западной культуре преступление рассматривалось как грех. В интересах общественной безопасности однажды выявленный преступник должен был нести на себе определенный знак: вспомните Эстер Прин из «Алой буквы» и заглавную букву, написанную мелом на одежде убийцы, которого сыграл Петер Лорре в триллере 1931 года «М», поставленном Фрицем Лангом. В Средневековье преступников часто помечали знаком, соответствующим виду преступления. «Клеймение и прожигание уха как способ обозначить статус изгоя для преступника были законным наказанием в Англии как минимум с конца XIV века», — писал один историк и добавлял:
Статут о рабочих, появившийся в 1361 году, провозглашал, что беглецов надлежит клеймить на лбу буквой F (от falsity — вероломство). Закон о бродяжничестве 1547 года… велел клеймить бродяг буквой V на груди. Прожигание уха было введено в 1572 году статутом, который всех бродяг предписывал «жестоко бить плетьми и прожигать им хрящ правого уха каленым железом». По закону 1604 года неисправимых бродяг надлежало «клеймить на левом плече раскаленным железом шириной с английский шиллинг большой римской буквой R».
Такие отметины давали тройной контроль со стороны общества. Видимые клейма служили предупреждением для честной публики. Теоретически они также удерживали людей от того, чтобы вести преступную жизнь. А до эпохи более-менее распространенной грамотности и подробных записей о преступлениях они могли «считываться» представителями закона как свидетельство предыдущего приговора: подозреваемых обычно раздевали и осматривали в поисках клейма.
В средневековой Англии нежелательные лица также имели дело с системой уличного правосудия, которое было связано с понятием преступника — это слово обозначало не преступника как такового, а человека, находящегося вне защиты закона. В судебных делах той эпохи обвиняемый в преступлении (или адресат гражданского иска), который не являлся в суд и которого власти не могли найти, мог быть объявлен вне закона. Любой английский подданный, обнаруживший такого человека, имел право поступить с ним как угодно, даже убить его[29]. «Объявление вне закона было смертной казнью той грубой эпохи, — писали историки ХХ века. — Преследовать изгнанного и ударить его по голове, как будто он дикий зверь, было правом и обязанностью любого законопослушного человека».
Однако ближе к эпохе Просвещения понятие о преступлениях и преступниках изменилось. Преступление теперь считалось плодом ошибочного этического выбора, и удаление такого человека из общества — для длительного размышления и осознания содеянного — давало ему возможность реабилитации[30]. Для людей той эпохи, впрочем, главным вопросом при встрече с чужаком был тот же, что и всегда: «Кто ты, с кем мне придется иметь дело?», как сформулировал это философ Иеремия Бентам в начале XIX века.
Поскольку, согласно идеалам Просвещения, увечье и самосуд прежних веков считались негуманными, государство начало вести подробные досье на преступников. Эти записи существовали главным образом для идентификации рецидивистов. Проверка каталогов в отделении полиции или в тюрьме могла подтвердить наличие прежних преступлений у человека не хуже, чем клеймо прежних времен. Однако в этой системе был один фундаментальный изъян: она оказывалась совершенно бесполезной, если подозреваемый брал себе другое имя, и этот факт сбивал с толку стражей порядка многие десятилетия.
В 1870-х годах Альфонс Бертильон, гражданский сотрудник французской полиции, изобрел более удачный способ идентификации рецидивистов. Прибегнув к относительно новому в то время искусству фотографии, он создал то, что мы сейчас называем официальным полицейским фото: анфас и профиль, присоединенные к картотечной записи. Та же карточка в изобилии содержала информацию о размерах тела человека. В полицейском участке или в тюрьме новоприбывших тщательно обмеряли, результаты сверяли с комплектом параметров, уже занесенных в дело. Совпадение, как утверждал Бертильон, могло служить доказательством личности даже в том случае, если осужденный сменил имя.
Эта система, известная как бертильонаж, нашла широкое применение в полиции Великобритании и США. Она действительно позволяла идентифицировать некоторых рецидивистов, однако была неудобна тем, что пользоваться ею можно было только после серьезного обучения. К тому же она не срабатывала с малолетними преступниками, которые успевали вырасти в период между обмерами. И к тому же эта система могла использоваться только после преступления, когда подозреваемый уже попадал в руки правосудия.
«Научная криминология» Ломброзо была призвана обойти эти неудобства. Прочно коренясь в викторианских предрассудках, этот диагностический подход беззастенчиво учил главенствующую культуру распознавать чужаков. Однако помимо предвзятости, лежащей в основе метода, еще большая его опасность крылась в том, что признаки, идентифицирующие преступника, он уже не предлагал считывать, а выводил умозрительно.
До викторианских времен упреждающая идентификация была гораздо проще. При встрече с незнакомцем целый набор хорошо известных классовых признаков — произношение, одежда, поведение, прическа — надежно говорил о том, можно ли доверять этому человеку или лучше держаться от него подальше. Неважно, что по этим признакам нельзя было опознать преступника: они позволяли успешно идентифицировать чужака, а этого для горожан-буржуа было более чем достаточно. На взгляд сливок общества XVII и XVIII веков лучше было перестраховаться и выплеснуть вместе с криминальной водой всех младенцев низших классов.
Однако с наступлением новых времен привычные опознавательные знаки стали стираться. Когда города наводнили иностранцы, викторианское общество, безошибочно отличавшее речь лондонского дна от произношения обеспеченных классов, вдруг обнаружило, что слух теперь не очень-то помогает. Даже самая отъявленная публика, почти поголовно ищущая способ проникнуть в более высокие слои общества — или сорвать незаконный куш, — научилась пользоваться старыми сигналами, перенимая определенный выговор или привычку к определенному гардеробу, чтобы ложно причислить себя к нужному классу.
Для викторианских буржуа современная система идентификации была крайне необходима, и, если прежние опознавательные знаки перестали действовать, оставалось лишь изобрести новые. На этом-то этапе и появилась «научная криминология» Ломброзо с ее главным принципом: если порядок в социуме зависит от общественного контроля, значит, жизненно важно определить, кого именно нужно взять под контроль. И Ломброзо засел за составление справочника преступников.
Там, где криминалистика, основанная на настоящей науке, принялась бы изучать место преступления, криминология сосредоточилась на преступнике. Как и многие интеллектуальные направления того времени, она вдохновлялась дарвинистской теорией, которая пронизывала всю эпоху, как электрический заряд. Однако в руках Ломброзо и его последователей криминология оказалась дарвинизмом самого порочного толка.
Эти антропологи от криминологии считали склонность к преступлениям врожденным качеством — внутренней предрасположенностью, которую не исправить никакими мерами. Предпринять, по их убеждению, можно было лишь одно: найти способ идентифицировать преступников «от природы» (а с ними и тех, кто не совершал преступлений, но унаследовал преступные наклонности) по набору анатомических признаков. Признаки эти были хорошо заметны, так что могли считываться издалека, как верхняя строка в таблице для проверки зрения.
В своем главном произведении «Человек преступный», опубликованном на итальянском языке в 1876 году, Ломброзо писал, что ему удалось установить связь между физиономическими особенностями и преступными наклонностями в 1860-х годах, когда он производил вскрытие тела известного преступника. «То была не просто идея, то было откровение», — писал он. Взвинчивая себя до готической мелодрамы, он продолжает:
При виде этого черепа я узрел внезапно, как широкую залитую светом равнину под пламенеющим небом, проблему натуры преступника — атавистического существа, который воспроизводит в своей природе свирепые инстинкты примитивного человечества и низших животных. Так получили анатомическое объяснение огромные челюсти, высокие скулы, выступающие надбровные дуги, отдельные линии на ладонях, избыточный размер глазного яблока, деформированная или недоразвитая ушная раковина у преступников, дикарей и обезьян, нечувствительность к боли, крайне острое зрение, татуировки, чрезмерная лень, пристрастие к оргиям и неодолимая тяга к злу ради зла, желание не только лишить жертву жизни, но и изуродовать труп, растерзать плоть и выпить кровь.
Книга Ломброзо вышла на английском только в 1911 году, однако англичане викторианских времен знали о ней из других источников, среди которых были работы Хэвлока Эллиса, английского врача и евгениста: в 1890-е годы он помог распространению термина «криминология». Еще более значимыми для тогдашней английской криминологии были работы Фрэнсиса Гальтона, страстного евгениста и двоюродного брата Чарльза Дарвина. Стремясь обеспечить чистоту английского генофонда, Гальтон экспериментировал с комбинированной фотографией: он накладывал лица преступников одно на другое в надежде получить изображение протопреступника, чьи черты были бы присущи всему преступному классу. Если таких людей идентифицировать, то всему классу можно закрыть возможность порождать себе подобных.
Гальтон, как и Ломброзо, в своих работах скрестил криминальную антропологию с евгенической программой — тогда это было в порядке вещей. Обе системы давали и дополнительную выгоду: при завершении такой классификации преступных черт их можно было распространять на любую нежелательную группу, будь то цыгане, евреи или другие иммигранты. Именно эту социальную программу, которую криминолог Пол Кнеппер позже назовет «расиализацией преступности», викторианское общество с энтузиазмом принялось воплощать в жизнь.
Не впускать иммигрантов было несложно: запреты можно было оформить законодательно. В США первый закон об ограничении иммиграции — «акт об исключении китайцев» — был принят конгрессом в 1882 году, его подписал президент Честер Артур. В Великобритании парламент принял «закон об иностранцах» в 1905 году. Этот закон запрещал въезд «нежелательным иммигрантам» — под этим расплывчатым определением подразумевались евреи из Восточной Европы. Здесь поразительным образом объединялись понятия «иностранец» и «преступность»; эта уловка позволяла оправдать идентификацию, маргинализацию и наказание «чужаков». Сегодня мы называем это стереотипированием.
По-настоящему криминалистический подход к идентификации стал зарождаться в конце XIX века благодаря работам Ганса Гросса — австрийского юриста, которого увлекла идея применения новой науки к раскрытию преступлений. Его монументальный труд «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» (Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen) увидел свет в 1890 году.
Метод Гросса был значительным шагом вперед по сравнению с сомнительной антропологией Гальтона и Ломброзо[31]. Их субъективному расовому подходу он противопоставил научный метод: вместо считывания воображаемых признаков с фигуры преступника расследователи должны искать следы на месте преступления. Пособие Гросса широко освещало следующие вопросы: «Что делать на месте преступления», «Поиск скрытых объектов», «Конструкция и применение оружия», «Воспроизведение следов» и «Как отмечать и описывать следы крови». Перевода на английский книге пришлось ждать больше десяти лет, она вышла только в 1906 году под названием «Криминалистическое расследование. Практическое руководство для судей, полицейских чинов и юристов».
В 1908 году, когда расследование обратилось к убийству мисс Гилкрист, старые криминологические методы Гальтона и Ломброзо сосуществовали с новыми, криминалистическими. Здесь проходил судебный водораздел, и к чести сыщиков нужно признать, что они пытались пользоваться новыми методами. Однако эти методы были еще настолько примитивны, что в деле Гилкрист либо не сыграли большой роли, либо оказались нерабочими. В итоге Слейтер был отдан на откуп криминологии, которая последовательно находила вину там, где ее не было.
Неясно, знали ли сыщики Глазго о книге Гросса, вышедшей на английском языке всего двумя годами раньше. Зато они были знакомы с методом дактилоскопии, появившемся в Великобритании на рубеже XIX — ХХ веков[32]. Когда снимали отпечатки пальцев в квартире мисс Гилкрист, на шкатулке во второй спальне нашелся один подозрительный. Однако даже самая прекрасная дактилоскопическая технология в мире зависит от базы данных, с образцами из которой можно сравнить отпечаток, а тогда база данных отделения полиции, существовавшая едва ли десяток лет, не дала никаких совпадений.
Не преуспев в идентификации убийцы мисс Гилкрист криминалистическими методами после совершения преступления, полиция была вынуждена обратиться к двум альтернативным способам. Один — идентификация с помощью свидетельских показаний. Здесь-то и пришло время для множества собранных показаний соседей о «наблюдателе» рядом с домом мисс Гилкрист, а также для Ламби и Барроуман с их свидетельствами, намеренно поданными так, чтобы достичь наихудшего для Слейтера эффекта.
Однако с наибольшей готовностью полиция обратилась к самому страшному средству идентификации — к криминологии, или к превентивному указанию на преступника. Именно этот метод, тесно связанный с расовым подходом к раскрытию преступлений, обеспечил успех идентификации, преследованию и вынесению приговора Оскару Слейтеру. Как обнаружилось, полиция Глазго начала идентификацию Слейтера задолго до убийства мисс Гилкрист.
Главная беда криминологии в том, что из всех примитивных способов она самый примитивный. Поскольку криминология не может быть применена после деяния, она не в состоянии идентифицировать одиночных злоумышленников. Она может лишь навесить на искомое лицо ярлык принадлежности к конкретному слою — этническому, социальному, религиозному и так далее. Однако при тревожности, свойственной Викторианской эпохе, ощутимый недостаток этого метода оказался также ощутимым его достоинством. В эпоху, когда главным вопросом, обращенным к незнакомцу, был не «кто ты?», а «к какой группе ты принадлежишь?», криминология служила отличным средством упреждающего общественного контроля, держа под прицелом представителей маргинализованных групп населения.
В криминалистическом расследовании выявление преступника происходит прежде идентификации. Считывая «бесконечно малые» следы на месте преступления, расследователь мало-помалу выходит на личность злоумышленника. Такова логическая последовательность событий.
Викторианская криминология переворачивала этот порядок. Она предлагала только общую классификацию: иностранец, игрок, неимущий, еврей. Такой подход — сомнительное использование диагностического воображения — является давним и стабильным прибежищем фанатиков. По искаженной логике криминологии выявление преступника происходило позже идентификации; этот поставленный с ног на голову процесс вызывает в памяти резкую реплику королевы из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, написанной в 1865 году: «Пусть выносят приговор! А виновен он или нет — потом разберемся!»[33]
Полиция Глазго, прибегая к криминологии как к основному инструменту, знала, что использовать ее для доказательства вины Слейтера нельзя. Зато виртуозно применить для конструирования его вины — вполне возможно. Стало быть, по меркам буржуазных представлений эпохи, задержание Слейтера было огромным успехом независимо от того, убивал он мисс Гилкрист или нет. Ибо, если Оскар Слейтер и не был убийцей, он как минимум был в высшей степени «удобным» чужаком.
Брошь-улика стала для полиции редкостной удачей, так как ставила под прицел человека из той прослойки, которую эдвардианский Глазго и без того жаждал убрать со своих улиц, — одного из тех, кто, по словам американского адвоката Элинор Джексон Пил, был элементом «доступным и бросовым». Тот факт, что улика стала недействительной, почти ничего не значил: задержание Слейтера и признание его виновным было четырехкратным везением — одним ударом город отделался бы от иностранца, еврея, игрока и представителя (как минимум временного, от случая к случаю) низших классов. Слейтеру, по тогдашним представлениям, в прямом соответствии с английской пословицей грозило неминуемое «повешение если не за овцу, так за ягненка», и он его едва избежал.
То, что виновность Слейтера была сфальсифицирована изначально, подтвердилось в 1927 году, когда шотландский журналист Уильям Парк взял у Слейтера интервью после освобождения из Питерхеда. «В течение некоторого времени перед убийством полиция следила за его жилищем с целью обвинить его в безнравственном ведении дома», — в том же году писал Парк Конан Дойлю и продолжал:
Он видел, что лейтенант Дуглас и другие полицейские за ним следят, и отлично об этом знал. Перед самым арестом Слейтер регулярно видел его людей, занятых наблюдением.
Я обнаружил… заявление Гордона Хендерсона, управляющего клубом «Слопер»[34]: полицейские явились туда в среду 23 декабря, спрашивали об Оскаре Слейтере. То было за два дня до того, как Маклин доложил о залоговой квитанции…
Это дает нам совершенно новую ситуацию. За Слейтером следили из-за другого проступка, и по делу мисс Гилкрист его привлекли как удобную для приговора фигуру… Слейтер еще в 1911 году заявил, что полиция за ним следила и дала ему уехать из Глазго, чтобы потом вменить ему в вину «попытку скрыться от правосудия»… Полиция признала, что была в доме у Слейтера примерно за два часа до его отъезда и не арестовала его…
Все дальше углубляясь в это чудовищное дело, мы не видим ничего, кроме чистой фальсификации: намеренных предварительных действий ради последующего обвинения.
В итоге вырисовывается следующая картина. Оскар Слейтер прибыл в Глазго осенью 1908 года. Почти наверняка полиция его уже знала по прежним появлениям в городе. На этот раз за ним следили с самого приезда, на протяжении всего пребывания. Затем произошло убийство мисс Гилкрист, и, по счастливому для полиции совпадению, Слейтер заложил брошь. Лучшего предлога для идентификации, преследования и ареста Слейтера не требовалось. Когда дело оказалось ненадежным, полиция и обвинение подперли его сомнительными свидетельскими заявлениями, выманиванием ложных показаний, сокрытием оправдывающих обстоятельств и всей той нелогичностью, какую только позволяет криминологический метод. На судебном заседании судья заявил присяжным, что на Слейтера «не распространяется презумпция невиновности… как на обычного человека», тем самым заклеймив его как лицо, находящееся вне закона, пусть и не назвав его таковым открыто.
Дело Слейтера, кульминация века, «поистине загипнотизированного делением на классы» (по словам историка Питера Гея), стало иллюстрацией к обоим смыслам слова «класс»: оно сосредоточилось не только на низком происхождении Слейтера, но и на гибельных классифицирующих ярлыках, которыми давно уже наделила его главенствующая культура. Именно Конан Дойлю предстояло привнести в дело необходимый криминалистический подход. Именно этот подход — научный, рационалистический, изысканно абдуктивный — в итоге принесет освобождение Слейтеру, одному из самых «удобных чужаков» той эпохи.
Книга третья ГРАНИТ
Глава 9. Люк в полу
Суд по делу Слейтера начался в 10 часов утра 3 мая 1909 года в Эдинбурге, в здании Высшего уголовного суда — главного уголовного суда Шотландии. Председателем суда был Чарльз Джон, лорд Гатри. Справа от него в георгианском зале суда сидели 15 присяжных (все мужчины), среди них владелец склада, отошедший от дел фермер, клерк, жестянщик и часовщик. Слева от лорда Гатри находилось место для дачи свидетельских показаний, напротив — столы для государственного обвинителя и защиты[35].
Главным государственным обвинителем, называемым «лорд-адвокат», выступал Александр Юр, ему помогали два заместителя. Его стол был завален вещественными доказательствами, в шотландской юридической практике называемыми «предъявляемые изделия». Обвинение планировало представить 69 таких предметов, включая рабочую шкатулку мисс Гилкрист, принадлежащую Слейтеру залоговую квитанцию, молоток и набор визитных карточек Слейтера, на которых был напечатан псевдоним «А. Андерсон».
За столом защиты сидели барристер Слейтера Александр Макклюр со своим помощником Джоном Мэйром и адвокат Юинг Спирс. Позади столов находилась скамья подсудимых, где будет сидеть обвиняемый, за ней — галерея, заполненная журналистами и любопытствующей публикой. В течение предстоящего четырехдневного заседания лорд Гатри с его рефлекторными викторианскими суждениями и Юр с его злобной дотошностью сделают больше всех — за исключением разве что прокурора Джеймса Харта — для того, чтобы приговорить Слейтера. Адвокат Макклюр с его бестолковыми речами поспособствует этому не меньше.
Из камеры, находившейся в подвале, Слейтер в сопровождении двух полицейских вошел в зал — или, скорее, вознесся, «как джинн в пантомиме», по выражению одного автора, — через люк в полу. Выглядело это как зловещее предвестье того, что позже могло произойти на эшафоте.
Дело против Слейтера было глубоко несостоятельным. Брошь-улика давно уже перестала быть отягчающим свидетельством, как и несостоявшийся ход с приписыванием Слейтеру попытки скрыться от правосудия. Также обвинение, даже после неутомимых поисков, так и не смогло продемонстрировать никакой связи между Оскаром Слейтером и Марион Гилкрист. Однако преступление уже стало газетной сенсацией, и полиция обязана была найти виновного. Волей случая в ее руках оказался более чем подходящий подозреваемый. И здесь, как и при процедуре экстрадиции, задача создания фальсифицированного дела против Слейтера была возложена на свидетельские показания.
«Свидетельства такого рода могут иметь некоторую ценность, если они идут как вспомогательные к солидному признанному факту, — указывал Конан Дойль. — Однако пытаться выехать на одной только идентификации — значит строить все судебное дело на зыбучем песке».
Процедура обвинения заняла первые два с половиной дня. В отличие от английских и американских судов, в шотландских судах не бывает открывающего выступления прокурора, вместо этого сразу вызывают свидетелей. Обвинители планировали представить их в количестве 98; помимо Ламби, Барроуман, Артура Адамса и разнообразных представителей закона в списке свидетелей значилось огромное количество соседей, утверждавших, будто они видели «наблюдателя»; велосипедный торговец Аллан Маклин, донесший полиции на Слейтера; судебные эксперты; клерк городской подземки и местный прокурор Харт. Список свидетелей защиты включал в себя всего 13 имен.
Давая показания для государственного обвинения, детективы Глазго красочно расписывали причину, по которой подозрение пало на Слейтера. «Одним из новых доводов против полиции, — говорилось в тогдашней статье в „Имперских новостях“, — является то, что присяжных во время суда совершенно сбили с толку насчет изначальной причины для ареста Слейтера… О броши-улике было сказано как можно меньше… Лорд-адвокат заявил присяжным, что описание, предоставленное свидетельницей Барроуман, было таким точным, что по нему полиция вышла на подсудимого».
Бесспорной звездой начального дня заседаний была Ламби, последней взошедшая на свидетельскую трибуну. «Показания Хелен Ламби стали заметно жестче за три месяца, прошедшие между нью-йоркским и эдинбургским заседаниями, — напишет потом Конан Дойль. — В последнем случае она выступала с такой агрессивной уверенностью, что при вопросе, напоминает ли плащ Слейтера одежду убийцы, она дважды ответила „это тот самый плащ“ еще до того, как плащ развернули».
Показания Ламби стали более жесткими и в других отношениях. В вечер убийства она сказала полиции, что не видела лица преступника. Позже, в Нью-Йорке, Ламби заявила, что узнала Слейтера по походке, росту и цвету волос. Теперь, при повторном допросе, проведенном адвокатом Слейтера Макклюром, она выступила еще более твердо:
Вопрос. Только походка, рост и темные волосы?
Ответ. Да, и сторона его лица…
Вопрос. Вы сегодня сказали нам, что узнали его по лицу?
Ответ. Сторона его лица.
Вопрос. Я вновь зачитаю вопрос, который был задан в Америке: «Теперь опишите, пожалуйста, виденного вами в тот вечер человека, который прошел мимо вас в дверях: по возможности рост, по возможности одежду или другие подобные его описания, по которым другие лица смогли бы его каким-либо образом опознать». И вы ответили: «Одежда в тот вечер на нем была не та же, в которой он сегодня, а лица я не разглядела». Говорили ли вы так?
Ответ. Не все лицо, а одна сторона.
Вопрос. Уполномоченный сказал: «Что вы сказали о его лице?» Ваш ответ: «Я не разглядела лицо; я никогда не видела его лица». После того как вы сказали это в Америке и дважды по разным поводам утверждали, что вы никогда не видели его лица, почему вы теперь отступаетесь от своих слов и говорите, что видели лицо этого человека и узнали его?
Ответ. Я видела его лицо…
Вопрос. Почему вы сказали: «Я не разглядела лицо; я никогда не видела его лица»?
Ответ. Я не видела лицо целиком. Он держал голову опущенной, и была видна только сторона лица…
Вопрос. На чем вы сейчас основываетесь?
Ответ. Я сейчас основываюсь на лице.
Для такой новообретенной уверенности Ламби по поводу лица Слейтера имелась причина, хотя в течение многих лет она будет оставаться неизвестна широкой публике.
Суд продолжил работу на следующий день, и перемены были только к худшему. Показания давала Мэри Барроуман, которая, как и Ламби, сейчас больше прежнего была уверена в виновности Слейтера. Когда ей показали черную фетровую шляпу из его багажа, она признала в ней ту самую донегальскую кепку, которая была на злоумышленнике в вечер убийства. (Шляпа, которую ей показали, не была донегальской кепкой.)
При повторном допросе по поводу ее нью-йоркских показаний Барроуман утверждала следующее:
Вопрос. Показывали ли вам фотографию в кабинете мистера Фокса, прежде чем вы пошли в суд?
Ответ. Да.
Вопрос. Сколько фотографий?
Ответ. Три…
Вопрос. Когда вы увидели фотографии, вы узнали того человека?
Ответ. Да…
Вопрос. Вы узнали фотографии сразу же?
Ответ. Одну из них.
Вопрос. Стало быть, идя в суд, вы искали человека, похожего на фотографию?
Ответ. Да.
Показания Барроуман в суде заметно отличались от ее изначальных показаний в полиции. На этот раз она дошла до того, что сказала, будто убегавший с места происшествия человек наткнулся на нее по пути и даже прямо под уличным фонарем, — эти два пункта она раньше не упоминала. Эти обстоятельства, сказала она, позволили ей детально разглядеть человека, прежде чем он пустился бежать по улице.
Во второй день также давал показания Артур Адамс. Характерно сдержанный, он сказал лишь, что Слейтер «очень напоминает» злоумышленника, и добавил: «Для меня слишком серьезная ответственность утверждать по мимолетному взгляду».
Третьим свидетелем обвинения была Анни Армор, билетная кассирша городской подземки[36]. Она показала, что в вечер убийства работала за билетным окошком на станции «Келвинбридж», недалеко от дома мисс Гилкрист. Около 19:45 — более чем через полчаса после преступления — она видела темноволосого мужчину, вбежавшего на станцию. Этот человек, одетый в светлый плащ, бросил ей пенсовую монетку за проезд и, не остановившись, чтобы взять билет, устремился на лестницу, ведущую к платформе. Крови на его одежде кассирша не заметила. Два месяца спустя в центральном полицейском участке Глазго Армор опознала в Слейтере того человека. Показанная ей перед этим фотография Слейтера пришлась очень кстати.
Чтобы оправдать неестественно долгое время, которое понадобилось Слейтеру на путь от дома мисс Гилкрист до станции «Келвинбридж» (обычно он отнимал около семи минут), обвинитель Юр предположил, что остальные полчаса Слейтер бегал туда-сюда по окрестным улицам, чтобы сбить со следа полицию, и только потом спустился в подземку.
Последним крупным свидетелем со стороны обвинения во второй день был судебно-медицинский эксперт Джон Глейстер. Он преподавал в Университете Глазго медицинскую юриспруденцию — предмет на стыке медицины и правоведения, сейчас это называют судебной медициной. По просьбе обвинения Глейстер осматривал место преступления, проводил вскрытие тела мисс Гилкрист и экспертизу молотка, плаща и прочих вещей Слейтера.
Глейстер, рожденный в 1856 году, в уголовных судах Шотландии имел репутацию почти легендарную. «За 33 года работы медицинским юристом его манеры приобрели некую театральность, которая действовала на прокуроров и заодно делала Глейстера любимцем прессы и публики, — отмечали два историка. — Непрерывно выкуривавший одну сигару за другой, он производил впечатление человека крайне энергичного. В старости его ястребиные черты, сияющая лысина, внушительные усы и небольшая „имперская“ бородка, вкупе с его знаменитым неумирающим пристрастием к цилиндру, сюртуку и широким воротникам а-ля Гладстон, делали его узнаваемым безошибочно… Как и другие крупные медики-детективы, Глейстер при даче показаний считал себя совершенно непредвзятым, однако его репутация и остроумие легко могли свести на нет усилия адвокатов».
Взойдя на свидетельскую трибуну, Глейстер зачитал отчет о вскрытии.
«Тело принадлежит упитанной пожилой женщине. Внешне заметны следующие признаки насилия. Говоря вообще, лицо и голова сильно разбиты… Обнаружены несколько переломов нижней челюсти, верхней челюсти и скул, кости вдавлены в ротовую полость… После глубокого обследования обнаружено, что кости глазниц, носа и лба были полностью разбиты и раздроблены на многочисленные фрагменты…
Кромка волос, седоватых у корней, вместе с кожей головы пропитана кровью…
После удаления мозга обнаружено, что череп сломан в основании от передней правой части до задней… После рассечения [грудной] полости обнаружено, что грудина сломана полностью по всей толщине… В правой стороне груди спереди обнаружены переломы третьего, четвертого, пятого и шестого ребер, третье ребро сломано в трех разных местах…
В результате упомянутого обследования мы приходим к мнению… что указанные повреждения причинены насильственным контактом с тупым орудием, при этом удары наносились со значительной силой».
В продолжение речи Глейстер уверенно заявил, что молоток Слейтера весом в восемь унций (226 граммов) мог причинить указанные повреждения. «Я не нашел в столовой, — заявил Глейстер, — никаких орудий, которые могли бы быть использованы для убийства мисс Гилкрист». Это утверждение явным образом игнорировало тяжелый стул, который больше походил на искомое орудие.
На плаще Слейтера Глейстер обнаружил пятна в количестве 25 штук, большинство из них коричневато-красные. Исследование под микроскопом, заявил он, показало, что некоторые из пятен содержат красные частицы, напоминающие частицы крови млекопитающих. При этом методы того времени не позволяли на таком малом образце отличить человеческую кровь от крови других млекопитающих. И хотя Глейстер не оглашал этого факта, пятна на плаще Слейтера, говоря словами Диккенса из «Рождественской песни», могли иметь отношение «скорее к соусу, чем к могиле».
Защита выставила собственного медицинского эксперта, но к тому времени свидетельство Глейстера почти наверняка уже сделало свое дело.
«В отсутствие более определенных доказательств медицинские показания, видимо, стоили немного, — пишут историки. — Однако в истеричной атмосфере, окружающей судебное дело, Глейстер с его уверенным видом несомненно повлиял на присяжных». Они добавляют: «Дело позднее стало… наукой для полицейских-учеников в Глазго, дав им пример того, как не нужно вести расследование убийства».
В третий день давали показания последние свидетели, призванные обвинением. Среди них был Маклин, торговец велосипедами, который рассказал полиции о попытках Слейтера продать залоговую квитанцию. В середине дня обвинители завершили свои выступления по делу Слейтера, хотя самое тяжелое ему еще только предстояло.
Во время выступлений обвинения адвокат Слейтера Макклюр производил впечатление человека доброжелательного, но слабого. На второй день, проводя допрос руководителя уголовного отдела Джона Орда, он заставил его признать, что брошь уже не представляет собой улику:
Вопрос. Обнаружили ли вы, что брошь в виде полумесяца, которую Слейтер пытался продать… была той самой, которая изначально была отдана под заклад в ноябре?
Ответ. Да…
Вопрос. Было ли совпадение даты последнего платежа за брошь, 21 декабря, тем пунктом, который заставил вас считать, будто брошь могла принадлежать мисс Гилкрист?
Ответ. Несомненно, это имело некоторое влияние на расследование.
Вопрос. Сразу ли вы обнаружили, что брошь не та?
Ответ. Мы знали тем же утром.
Однако по причинам, известным ему одному, Макклюр не задал вдогонку главный вопрос: почему, когда улика перестала быть уликой, полиция все-таки преследовала Слейтера? Допросы других свидетелей обвинения он тоже вел не блестяще. Макклюр не пытался обратить внимание присутствующих на нестыковки в показаниях Ламби и Барроуман, не давил на Глейстера вопросами о том, как мог маленький молоток причинить такие серьезные увечья мисс Гилкрист, не требовал от полиции отчета по поводу того, что во всей квартире мисс Гилкрист не обнаружилось отпечатков пальцев Слейтера.
«Макклюр добился бы гораздо большего, если бы попросту свел воедино некоторые глупости, в которых обвиняли Слейтера, и предположил, что он и есть убийца, — писал Хант. — Этот человек, в разумности которого ни у кого нет сомнений, умудряется, по их словам, избавиться от одежды, в которой наблюдал за домом, и при этом сохранить те предметы одежды, в которых убивал жертву, а также молоток. Войдя внутрь, он никакую из дверей не оставил открытой на случай необходимости быстро скрыться, потерял время на убийство жертвы, хотя зарился всего лишь на драгоценности… убежал из дома в направлении, ровно противоположном ближайшему безопасному месту, а затем (не переодеваясь) вышел на улицы… Позже, в самый разгар поисков убийцы, он гуляет по всему Глазго как ни в чем не бывало и не пытается замести следы». Однако Макклюр на суде ничего этого не сказал.
Защитить своих свидетелей от манипулятивных перекрестных допросов обвинения он тоже не смог. Давая показания в пользу подсудимого, друг Слейтера Хью Камерон так ответил на вопрос лорда-адвоката Юра:
Вопрос. Когда вы впервые встретились с ним в 1901 году, под каким именем он жил?
Ответ. Оскар Слейтер.
Вопрос. После того как вы с ним познакомились, вы выяснили, кто он?
Ответ. Он был игрок.
Вопрос. Что-нибудь еще?
Ответ. Да, я так понял, что этот человек, как и огромное число приехавших в Глазго, жил на доходы от женщин.
Вопрос. Разве вы не знали изначально, что средства на жизнь он получал с доходов женщин от проституции?
Ответ. Я не могу сказать, что знал об этом изначально[37].
Как и в Нью-Йорке, адвокаты советовали Слейтеру не давать показания самостоятельно. По-английски он говорил не блестяще, с сильным акцентом; еще большее беспокойство вызывало то, что его образ жизни оскорблял представителей среднего класса британского общества. «Явными и высоко ценимыми атрибутами этого цивилизованного стиля было умение вести себя за столом, наличие фортепиано в гостиной, зачитанные книги в библиотеке, билеты на концерты и визиты в музеи, какая-нибудь предназначенная для других программа „помоги сам себе“ и публичная подписка на популярную благотворительную цель, — отмечал Питер Гей, описывая поздневикторианских буржуа. — Разумеется, в этом идеализированном автопортрете заметным образом присутствовала воздержанность во всех смыслах этого слова».
Для поствикторианского восприятия тот факт, что Слейтер был иностранцем и евреем и жил на средства от не вполне приличных занятий, был довольно возмутительным. Однако еще больше раздражало публику то, что в эпоху ощутимой зависимости от социальных маркеров Слейтер злостно не подпадал под классификации. По внешнему виду он был в высшей степени элегантным представителем обеспеченного класса, но при этом никак не джентльменом. При всей предполагаемой распущенности он до судебного расследования не казался впавшим в отчаяние или уныние — по сути, он демонстрировал жизнерадостность, близкую к природной. Весь облик Слейтера (на который, по господствующим представлениям эпохи, он не имел ни малейшего права) никак не соответствовал тем привычным защитным лозунгам, с которыми обычно выносятся общественные диагнозы.
Свидетельские показания Шмальц и Антуан только усугубили ситуацию. Выйдя на свидетельскую трибуну, Шмальц заявила, что во время убийства Слейтер обедал дома. При этом, отвечая на вопросы Юра, она огласила информацию, которая наверняка вызвала у присяжных крайнюю обеспокоенность:
Вопрос. Кто вас нанял?
Ответ. Мадам Жунио.
Вопрос. Она тогда жила в доме 45 по улице Ньюмана в Лондоне?
Ответ. Да.
Вопрос. Принимала ли она там джентльменов?
Ответ. Да.
Вопрос. Был ли среди них и Оскар Слейтер?
Ответ. Да.
Вопрос. Приходил ли он чаще других джентльменов?
Ответ. Да.
Вопрос. Проживал ли он там иногда?
Ответ. Он иногда там оставался…
Вопрос. Оставался там как муж мадам Жунио?
Ответ. Да…
Вопрос. Когда вы приехали в Глазго, дом 69 на улице Святого Георга… кто-нибудь приходил в дом помимо мадам и самого Слейтера?
Ответ. Да, приходили друзья мадам.
Вопрос. Джентльмены по вечерам?
Ответ. Да.
Вопрос. Ходила ли мадам в мюзик-холлы «Империя» и «Палас»?
Ответ. Да…
Вопрос. Что делал Слейтер в течение дня?
Ответ. Он иногда выходил по утрам и после обеда — я не знаю, что он делал.
Вопрос. Насколько вам известно, занимался ли он делами?
Ответ. Нет, насколько я знаю.
Когда пришла очередь Антуан давать показания, все стало еще хуже. Викторианский идеал женщины как «домашнего ангела» — описанный в поэме 1854 года с таким названием авторства Ковентри Патмора — в начале ХХ века еще не изжил себя. Домашний ангел имел две вариации: девственную (добродетельная дочь) и материнскую (заботливая асексуальная жена и мать). Антуан со всей очевидностью не была ни тем ни другим. Даже ее декларированное занятие — певица мюзик-холла — было довольно постыдным. «Публичная профессия актрис, певиц и танцовщиц считалась почти по умолчанию связанной с сексуальной неразборчивостью, — писала исследовательница Розмари Дженн. — Выражение „юная особа из театра“… было эвфемизмом для проститутки»[38].
Антуан тоже обеспечила Слейтеру алиби, заявив, что в момент убийства он был дома. Однако к свидетельской трибуне она вышла уже после того, как Шмальц рассказала суду о приходящих джентльменах. Эти две женщины умудрились вызвать неловкость, свойственную поздневикторианской эпохе: неловкость из-за классовой принадлежности, сексуальности, иностранного происхождения, а более всего из-за знания — или, скорее, незнания — собственного места в жестком общественном устройстве того времени. Когда лорду-адвокату представился случай подвергнуть Антуан перекрестному допросу, он ответил лишь: «У меня нет вопросов», тем самым ясно показав, что с точки зрения обвинения она уже выступила максимально действенно.
Кроме Слейтера, не дававшего показаний, на свидетельскую трибуну не всходили еще несколько заметных лиц, чье слово могло бы ему помочь. Среди них был доктор Джон Адамс, первый медик на месте преступления, который отсутствовал в обоих свидетельских списках — и свидетелей обвинения, и свидетелей защиты. В итоге присяжные так и не услышали его выводов о том, что смерть мисс Гилкрист наступила от ударов стулом. В письме Конан Дойлю в 1927 году Уильям Парк сказал, что недавние адвокаты Слейтера «никогда не слыхали о деле, в котором первый врач, осматривавший место преступления, был бы отвергнут обвинением».
Также в обоих списках свидетелей отсутствовал житель Глазго по имени Дункан Макбрейн — зеленщик из ближайшей к Слейтеру лавки, хорошо знавший того в лицо. В феврале 1909 года Макбрейн сказал полиции, что в вечер убийства, в 20:15, он видел Слейтера спокойно стоящим на пороге собственного дома. Обвинение же утверждало, будто Слейтер — уже убивший мисс Гилкрист и теперь лихорадочно мечущийся по улицам, кидающийся в подземку, уезжающий в отдаленную часть города и прячущийся там некоторое время — скрытно пробирался к себе домой пешком и прибыл примерно в 21:30. Адвокатам о показаниях Макбрейна никто не сообщил.
Однако самым поразительным было отсутствие показаний племянницы мисс Гилкрист, Маргарет Биррел. Беседуя с полицией вскоре после смерти тетки — и об этом тоже никто не сообщил представителям защиты, — она заявила, что в вечер убийства к ней в дом прибежала Хелен Ламби и сказала, что видела убийцу и точно знает, кто он.
Глава 10. «Пока не наступит смерть»
В четвертый день, 6 мая 1909 года, адвокат Слейтера Александр Макклюр вызвал последних свидетелей защиты. Оставались лишь финальные заявления с обеих сторон, а затем судейское напутствие присяжным. Судя по дальнейшим событиям, любое из перечисленных действий, даже взятое отдельно, могло оказаться достаточным для осуждения Слейтера.
Лорд-адвокат Юр, государственный обвинитель, говорил первым, «все время комкая носовой платок в правой руке, как если бы тот был символом судьбы обвиняемого» — так описал это шотландский криминолог Уильям Рафхед. Почти двухчасовая речь, обращенная к присяжным, которую лорд-адвокат произносил, не заглядывая в бумаги, стала мешаниной из произвольных фактов, какие он только счел пригодными для нагнетания театральности, абсурдной логики (по его рассуждениям выходило, будто любому, кому хватает безнравственности быть сутенером, хватит безнравственности быть убийцей) и некоторого количества откровенно лживых заявлений:
До вчерашнего дня я считал, что перед вами возникнет серьезная трудность — поверить в то, что на свете существует человек, способный на такой низкий поступок.
Я полагаю, джентльмены, что эта трудность перестала существовать вчера после полудня [во время дачи показаний Камероном], когда из уст одного из тех, кто, по-видимому, знал обвиняемого лучше других… мы услыхали, что жизнь его опустилась до глубочайших бездн человеческой деградации, ибо, по общему убеждению, субъект, живущий на доход от проституции, уже опустился до глубочайших бездн, все нравственное чувство в нем вымерло и прекратило свое существование. Этой трудности больше нет, и я без всяких колебаний утверждаю, что человек, находящийся сейчас на скамье подсудимых, способен на такой низкий произвол.
Причиной убийства мисс Гилкрист в «доме, расположенном на респектабельной и очень тихой… улице», продолжал Юр, было ограбление. (Этим утверждением маскировался тот факт, что из дома не было взято ничего, кроме броши.) «Нам предстоит увидеть, — объявил он присяжным, — как обвиняемый узнал, что она владела этими драгоценностями». Этого обещания Юр не выполнил.
— Теперь я подхожу, — продолжал Юр, — к его попытке скрыться от правосудия.
Я намеренно говорю «скрыться от правосудия», поскольку собираюсь показать, что в то время существовала лишь одна-единственная причина для его отъезда из Глазго — желание избежать попадания в руки правосудия… Говорят, будто за две недели, или за три, или за месяц до того он упоминал об отъезде в Америку; я совершенно убежден, что так и было. Нет ни малейших сомнений: он заранее решил, что после исполнения замысла он не останется здесь ни на миг дольше необходимого… Я утверждаю, что бегство было поспешным и толчком к нему послужила публикация в газетах в два часа пополудни 25 декабря[39].
В заключение Юр сказал присяжным:
Джентльмены, я закончил… Ни на миг не помышляю отрицать, что сегодня вам предстоит исполнить обязанность, серьезнее и ответственнее которой у вас, быть может, не было в жизни. От вашего вердикта со всей несомненностью зависит жизнь человека… Возможно или даже вероятно, что он худший из людей; однако он заслуживает такого же честного суда, как если бы он был лучшим из людей. Возможно, он один из самых низких среди смертных; возможно, он мошенник; возможно, вор, грабитель или самый дурной тип, но этим не подразумевается, что он совершил убийство… Джентльмены, он имеет право на воздаяние по заслугам: не менее того, но и не более того. Заявляю вам, что обвинение предъявлено ему по праву, что нет и тени неясности, нет никаких обоснованных сомнений, что он и совершил это гнусное убийство.
После речи Юра настал черед для выступления адвокатов. Обращаясь к присяжным, Макклюр упомянул о том, что брошь нельзя считать уликой, вспомнил противоречивые описания «наблюдателя», переменчивые показания Ламби и утверждения, что Слейтер был сутенером («Впрочем, в это нам углубляться не следует», — тактично заметил он.)
«Можете ли вы, положа сейчас руку на сердце, сказать, будто убеждены в том, что этот человек совершил убийство? — спросил он присяжных. — Если да, то ответственность ложится на вас, не на меня».
Речь Макклюра во многих отношениях была достойна похвал. Однако он не сделал две принципиально важные вещи: не указал на неточности в речи Юра и не опроверг порочащие Слейтера инсинуации. «Кларенс Дарроу сумел бы это сделать, даже стоя на голове, — писал Хант. — Макклюр попросту не подходил для такой задачи».
Последовавшее за этим напутственное обращение судьи к присяжным стало очередным, еще более ярким примером активного манипулирования. Каким бы беспристрастным юристом ни был лорд Гатри, он неизбежно разделял предрассудки своей эпохи, страны и класса. Он происходил из видной семьи с хорошей репутацией. Его отец, преподобный Томас Гатри, в свое время был главой Свободной церкви Шотландии; в 1840-х годах Гатри-старший помог основать в Эдинбурге благотворительную школу для бедных, в которой учились дети из трущоб.
Сам лорд Гатри, убежденный сторонник умеренности, в 1909 году стал президентом «Бригады мальчиков» — военизированной организации религиозного характера, основанной в Глазго с целью удержать уличных детей от преступной жизни. Вполне возможно, что он считал Слейтера воплощением тех самых пороков, от которых оба Гатри жаждали избавить Шотландию. Обращаясь к присяжным в конце судебного процесса, он сказал[40]:
Вы уже многое слышали о целом наборе свидетельств — во-первых, свидетельств о характере… Характер… не вызывает никаких сомнений. Этот человек содержал себя на средства от погибели мужчин и погибели женщин; он жил так, как побрезговали бы жить многие мерзавцы…
Я использую имя «Оскар Слейтер». Мы не знаем, кто этот человек. Его имя не Слейтер… Он загадка… Мы не знаем, где он родился, где воспитывался, кого из него воспитывали, учили ли чему-либо[41]. Этот человек остается такой же загадкой, какой был в начале этого судебного процесса… На него не распространяется презумпция невиновности… как на обычного человека…
Мистер Макклюр говорил о своих свидетелях как о надежных. Вы их видели. Вы знаете их занятия; вы знаете, как судьба Антуан была связана с судьбой подсудимого в прошлом и как будет связана в будущем; вы знаете, что за особа служанка, какие обязанности она выполняла, и вам надлежит решить, надежна ли эта группа свидетелей или нет…
Джентльмены, дело полностью в ваших руках… Если вы считаете, что применительно к делу нет обоснованных сомнений, то исполняйте свой долг и признайте этого человека виновным; если считаете, что обоснованные сомнения существуют, то признайте невиновным.
Присяжные удалились на совещание в 16:55. В Шотландии уголовные дела решаются большинством голосов, присяжные могут выбирать из трех вердиктов: «виновен», «невиновен» и «вина не доказана» — последний в обиходе шотландских юристов сардонически называется «невиновен, и никогда больше так не делай». Система трех вердиктов, допустимость решения большинством голосов (а не единогласием) среди присяжных, нечетное их количество (15) — все эти механизмы веками служили тому, чтобы избегать ситуаций, когда коллегия присяжных не смогла бы прийти к единому мнению.
В 18:05 присяжные вернулись в зал суда. В итоге было вынесено девять вердиктов «виновен», один «невиновен» и пять «вина не доказана» — этого было достаточно для обвинительного приговора Слейтеру[42].
После зачитывания вердикта прозвучала эмоциональная реплика, которую Уильям Рафхед, присутствовавший на суде, назвал самым горестным восклицанием, какое слышал за всю жизнь:
— Милорд, — воскликнул Слейтер, — можно мне сказать одно слово? Вы позволите мне говорить?
— Сядьте сейчас же, — указал ему лорд Гатри.
— Милорд, — настаивал Слейтер, — мои отец и мать старые бедняки. Я приехал в эту страну по собственной воле. Я вернулся защитить свои права. Я ничего не знаю об этом преступлении. Вы приговариваете невиновного.
Обращаясь к Макклюру, судья сказал:
— Полагаю, вам следует посоветовать подсудимому оставить все, что он имеет сказать, для представителей обвинения. Если он настаивает, я не буду сейчас препятствовать. Желаете ли вы проследить за тем, что он говорит?
— Милорд, — продолжал Слейтер, — что я могу сказать? Я приехал из Америки в Шотландию, ничего не зная об этом преступлении… Я никогда не слышал это имя. Я ничего не знаю об этом преступлении. Я не знаю, как я могу быть связан с этим преступлением. Я ничего о нем не знаю. Я приехал из Америки по собственной воле. Мне больше нечего сказать.
Слейтер замолк, и лорд Гатри, надев традиционную черную судейскую шапочку, огласил приговор: «Упомянутого Оскара Слейтера надлежит препроводить прочь из тюрьмы Эдинбурга и тотчас переместить в тюрьму Глазго, где держать до 27 дня мая 1909 года, и в названный день между восемью и десятью часами утра, в ограде указанной тюрьмы в Глазго, руками обычного палача повесить за шею на виселице, пока не наступит смерть, тело же его впоследствии похоронить в ограде указанной тюрьмы в Глазго».
Люк в полу открылся, Слейтера увели. Его эмоциональный всплеск не прошел незамеченным: вскоре после этого, по свидетельству Уильяма Парка, был принят закон, «по которому подсудимого после оглашения вердикта можно препроводить вниз, в камеру, не дожидаясь, пока вердикт будет занесен в книгу и подписан».
Слейтера поместили в тюрьму на Герцогской улице, где ему предстояло ждать 21 день — весь срок, отпущенный ему до казни. Апелляционного суда по уголовным делами в Шотландии не было, приговор казался окончательным. Однако по мере приближения казни общая враждебность к Слейтеру сменялась все более растущим смятением. «Во время суда Глазго жил в атмосфере, напоминающей Салем, — писал биограф Конан Дойля Пьер Нордон. — С вынесением приговора лихорадка утихла; смутный стыд у одних и убежденность в невиновности Слейтера у других, еще более редких, вместе породили волну если не сочувствия, то терпимости по отношению к узнику».
17 мая адвокат Слейтера Юинг Спирс отправил Джону Синклеру, министру по делам Шотландии, официальное письмо с просьбой о смягчении приговора для Слейтера[43]. Этот документ, в шотландской законодательной практике называемый меморандумом, был эталоном юридической аргументации, который последовательно воспроизводил процесс над Слейтером со всеми его изъянами. Помимо прочего документ содержал убедительное объяснение того, почему сам Слейтер не давал показаний:
По отношению к узнику податель меморандума находит честным указать, что тот неизменно стремился дать показания от собственного имени. Его адвокат советовал ему этого не делать, но не из-за какой-либо вины, которую бы за ним знал. Узнику к тому времени пришлось выдержать напряжение четырех дней суда. По-английски он говорит довольно неправильно — хотя вполне понятно — и с иностранным акцентом… Податель меморандума, выступавший солиситором Слейтера с момента возвращения того из Америки… почтительно просит учесть его абсолютную убежденность в невиновности Слейтера…
Поэтому да будет угодно досточтимому министру… принять настоящий меморандум к самому благоприятному рассмотрению и после того рекомендовать Его Всемилостивому Величеству применить королевское право к смягчению приговора, вынесенного данному узнику.
К меморандуму прилагалась публичная петиция в пользу Слейтера, подписанная более чем 20 000 человек.
Тем временем представители обвинения, уверенные в том, что приговорили кого следовало, распределили среди получателей награду в 200 фунтов за сведения, приведшие к аресту и приговору для убийцы мисс Гилкрист. Мэри Барроуман получила половину (эта сумма, вероятно, была сравнима с годовым доходом ее семьи), остальное раздали нескольким другим свидетелям.
Государство также занялось подготовкой к казни Слейтера. Виселица, которую перед этим на время отдавали в Инвернесс для местной казни, была доставлена на Герцогскую улицу и установлена поблизости от камеры заключенного. Слейтер с его неиссякаемым любопытством к механике, как пишет Хант, «к некоторому удивлению тюремщиков, проявил технический интерес к детальному устройству виселицы».
За двое суток до назначенного повешения, 25 мая 1909 года, как раз после распоряжения Слейтера о том, чтобы его похоронили с фотографией его родителей, министр Синклер по поручению короля Эдуарда VII изменил приговор на пожизненную каторгу. «То был любопытный компромисс, — писал впоследствии британский журналист. — Вину Слейтера сочли чрезмерной для освобождения, но недостаточной для повешения».
Слейтер узнал о смягчении приговора от одного из тюремщиков, который в памятном для Слейтера душевном порыве тайком передал ему сласти. «Если вам доведется вновь побывать в тюрьме на Герцогской улице, — так Слейтер позже напишет из Питерхеда преподобному Филипсу в Глазго, — то сообщите, пожалуйста, тому старому доброму начальнику тюрьмы, что надзиратель, давший мне три конфеты в проклятой камере после того, как мне сообщили о помиловании, получит за них три золотые монеты, когда я выйду на свободу».
До этого дня оставалось еще почти 20 лет.
Глава 11. Жестокое холодное море
В маленьком окне я вижу северное море. Здесь мы его зовем Немецким морем, и я целый день грежу о былых временах.
— Оскар Слейтер, из письма к родителям, 1914 год
Питерхедская тюрьма была построена благодаря бурным волнам Северного моря. К концу XIX века порт Питерхед стал крупнейшим китобойным предприятием, которое продавало жир, мясо и кость по всему миру. Однако терзаемое штормами море постоянно грозило опасностью как большим китобойным судам, так и небольшой питерхедской флотилии, добывавшей обычную рыбу. Конан Дойль собственноручно описал переделку, в которую попал в 1880 году вместе с командой арктического китобойного судна «Надежда»:
Как я вижу по дневнику, мы отбыли из Питерхеда 28 февраля в два часа пополудни, провожаемые огромной толпой и шумом… Мы тотчас угодили в непогоду, барометр однажды упал до 28,375 — за все мои океанские путешествия я не видел отметки ниже. Мы едва успели зайти в Леруикскую гавань[44] до того, как ураган обрушился на нас в полную силу; он был настолько неистов, что на якоре… нас сносило ветром под острым углом. Если бы он застиг нас несколькими часами ранее, мы бы точно лишились шлюпок — а шлюпки китобойному судну жизненно необходимы. Лишь к 11 марта погода смягчилась, и мы смогли двинуться дальше; к тому времени в бухте скопилось двадцать китобойных судов.
К середине 1880-х годов питерхедские власти решили, что для защиты от грозного моря городу нужен длинный волнорез. Тяжелейшую работу по вырубке камней и сооружению волнолома можно было отдать заключенным. Правда, ни одной тюрьмы в городе не было. Поэтому было решено построить ее и обеспечить тем самым круглогодичный приток рабочей силы.
Твердыня, известная во времена правления королевы Виктории как «ее величества тюрьма Питерхед», была открыта в 1888 году. «Нам говорят, что обращение в шотландских тюрьмах очень справедливое, так что ничего более страшного с тобой не случится», — с надеждой напишет Слейтеру мать в 1910 году. Она была права лишь отчасти.
Рубеж XIX и XX веков стал временем перемен не только для английской криминологии, но и для пенологии — науки о наказаниях. В XIX веке преступников считали неисправимыми, поэтому заключение несло исключительно карательную функцию; изоляция, тяжелый труд и скудный рацион были стандартом. С наступлением нового века подход стал более прогрессивным, и наиболее просвещенные тюремные начальники теперь считали тюрьму местом перевоспитания преступников. Так, в Питерхеде была библиотека, практиковались совместные занятия заключенных, существовал дискуссионный клуб, на заседании которого Слейтер передаст Уильяму Гордону тайную записку. Однако в целом в питерхедской тюрьме царила спартанская строгость, где отбывали наказания самые печально известные преступники. «Я лучше выберу немедленную смерть, чем пожизненное заключение в Питерхеде», — сказал в 1918 году шотландский революционер-социалист Джон Маклин, который отбывал там не один срок.
Главное здание тюрьмы вмещало 200 человек. Все камеры были одиночные размером примерно четыре на восемь футов (около 120 на 240 см), потолок был ниже семи футов (около 210 см) — «попросту небольшой ящик», как писал Маклин. Из мебели — гамак, прикрепленный к двум стенам, и узкая откидная железная столешница с дощатым верхом. В каждой камере было окно в 18 квадратных дюймов (около 115 кв. см) с прочной решеткой.
«Каждая камера обогревается теплым воздухом из общего зала», — писал Маклин, который отбывал в Питерхеде наказание за подстрекательство к мятежу:
Воздух в зале подогревается американскими угольными печками и проникает в камеру через две щели внизу двери. В большинстве камер зимой очень холодно, поскольку такой способ обогрева никуда не годится, а завернуться в одеяла — преступление, за которое начальник тюрьмы может перевести тебя в «специальные» камеры, одна ужаснее другой. Разумеется, преступлением может быть объявлено что угодно. Цель — сломить нервную систему узников, многие из которых доходят до крайне жалкого состояния.
Эссе Джеральда Ньюмана, еще одного узника тех времен, дает дальнейшие подробности питерхедской жизни: «Бесконечные тоскливые дни в каменоломнях, жестокое обращение, грубая и дурно поданная еда, наказание в темных камерах на хлебе и воде… Жестокий холод зимних ночей в камере, куда не проникает ни малейшей частицы тепла; знойное летнее солнце, опаляющее голову в сухом пыльном карьере, где даже зубило и молот, которыми работаешь, жгут тебе руки, а яркий свет опаляет глаза».
Во времена Маклина одежда заключенного состояла из пары грубых башмаков, штанов из «чертовой кожи», шерстяных чулок, рубахи, жилета и нижней рубашки. Зимой для работы на улице она дополнялась курткой и беретом из толстой коричневой шерсти, а также парой рукавиц. Стригли заключенных дважды в месяц, тюремный цирюльник срезал волосы почти до корней. Белье каждого, как пишет Маклин без видимой иронии, «держали в чистом и гигиеничном состоянии с помощью стирок раз в две недели». Тюремные надзиратели тоже получали особую форму. Поскольку многие из заключенных выходили на работу за пределы Питерхеда, приставленные к ним тюремщики были хорошо вооружены. С самых первых дней существования этой тюрьмы и до конца 1930-х каждому тюремщику выдавалась сабля, до конца 1950-х многих также вооружали винтовками. «Клинки вовсе не походили на декоративные опереточные, — писал шотландский журналист Роберт Джеффри. — Для безоружного человека вероятность того, что его полоснут лезвием по груди, была весомым поводом к послушанию, и стражи это знали». В эту тюрьму, находящуюся в 180 милях к северо-востоку от Глазго, Оскара Слейтера доставили 8 июля 1909 года. В течение следующих 18 с половиной лет он будет известен как заключенный 1992.
Анкета Слейтера, сопровождавшая его по прибытии и составленная руководителем отдела уголовных расследований Ордом, содержит множество качеств и склонностей, которые привели Слейтера в тюрьму:
Имя и псевдонимы: Оскар Слейтер, он же Отто Сандс [sic], он же Оскар Лешцинер…
Характер в отношении честности: игрок и торговец краденым.
Характер в отношении ремесла: законных занятий не имеет.
Характер в отношении трезвости: умерен в своих привычках.
Средства к существованию: игра и доход от безнравственных заработков проституток. Также известный вор и торговец краденым.
Класс жизни: низкий. Отъявленный негодяй. Невозможно назвать ни одного положительного качества.
Занятие: законных занятий не имеет…
Характер друзей и знакомых: воры, торговцы краденым, игроки, проститутки, шантажисты. (За исключением родителей, которые относительно добропорядочны.)
Имена и адреса добропорядочных граждан, способных дать правдивую информацию по упомянутым пунктам: руководитель отдела уголовных расследований Джон Орд и инспектор Пайпер из отдела уголовных расследований, Глазго.
Каждый день в пять часов утра узников будил тюремный колокол. В половине шестого в камеры приносили овсянку и молоко. В семь часов их выводили на тюремный двор и перед отправкой на работу обыскивали. Слейтер был приписан к каменоломне и должен был «отламывать огромные гранитные глыбы (твердые, как железо) ужасающе тяжелым молотом», по его собственным словам из письма. Камни предназначались для нового здания тюрьмы.
Откровенный рассказ о жизни Слейтера в заключении можно найти в газетной статье, написанной Уильямом Гордоном в 1925 году, после освобождения. Гордон, ранее в том же году тайно вынесший из тюрьмы во рту письмо Слейтера с просьбой к Конан Дойлю, описывал совместную со Слейтером работу в каменоломне. Стиль, несомненно, был смягчен редакторами, однако рассказ сохранил свою живость.
«Он был спокойным, его уважали заключенные, и я почувствовал к нему инстинктивную приязнь, — писал Гордон. — Каждый работавший в нашей группе должен был за день проделать 30 отверстий глубиной более фута в сплошной гранитной глыбе. Это тяжелая дневная норма, но к ней привыкаешь… Мы со Слейтером работали в каменоломнях бок о бок день за днем целыми месяцами».
В половине двенадцатого узников вновь собирали во дворе, обыскивали и отправляли в камеру на обед, который, по воспоминаниям Маклина, состоял из «пинты (около 570 мл) бульона, семи унций (198 г) говядины, шести унций (175 г) хлеба и некоторых добавок вроде картофеля, сыра и пр.». В один из дней заключенные после обеда вновь отправились на работу; когда они вернулись в пять часов, им «выдали 14 унций (около 400 г) сухого хлеба и пинту кофе; с 1917 года стали давать меньше». В камерах можно было читать до выключения света в половине девятого. Гамаком можно было пользоваться лишь с половины девятого вечера до пяти утра, если не было специального медицинского разрешения.
Этот распорядок разнообразили только письма из дома, которые для Слейтера были «нитью жизни», протянувшейся через море. «Мой невинный Оскар, — писала ему мать, Паулина, в одном из первых писем, — могу послать тебе радостное уверение, что мы не сидим сложа руки… Да сохранит тебя Бог в здравии, не теряй мужества. Горячие поцелуи от твоей матери, которая любит тебя до последнего вздоха».
Через некоторое время Слейтер писал: «В твоем последнем письме, дорогая матушка, ты спрашиваешь меня, храню ли я твои письма. Да, мне такое позволено; однако это не помогает мне помнить, какие ответы я давал на твои письма, мне нельзя хранить копии [ответов], однако мы не станем об этом беспокоиться, и если я когда-то повторюсь, то ты, конечно же, меня простишь… Твои письма, дорогая матушка, я сложил вместе, как молитвенную книгу, и когда мои мысли — а такое бывает часто — обращаются к дорогому дому, я вновь перечитываю твои письма и нахожу большое утешение… Я также, дорогой отец, всем сердцем стараюсь оставаться радостным, и добродушие моей дорогой матушки очень мне помогает».
Письма от Лешцинеров, преимущественно написанные Паулиной, наполнены уютными напоминаниями о семейном круге («Не волнуйся, дитя мое, если не видишь отцовского почерка, он по-прежнему занят своим домино, но попросил меня оставить для него место, он намерен дописать от себя приветствие») и зарисовками деревенской жизни: «Ты вряд ли узнал бы Бейтен, так много изменилось за последние несколько лет, — писала Паулина. — Осталось всего несколько домов, в которые еще не провели электрический свет». (От Слейтера: «Электрический свет очень удобный, особенно для пожилых людей. Подумайте об этом».)
В письмах есть также обыденные пересуды («Да! Совершенно верно, у фрау Лехтенштейн на лице большая бородавка с длинными волосами»), а главное — глубокие свидетельства поддержки. «Ты всегда был хорошим сыном, и отчего тебе не проявлять в дни твоего несчастья такую же любовь к нам, ведь только ею мы и можем обмениваться», — писала его мать. Письмо продолжалось так:
С тобой, мое дорогое дитя, я начинаю день, и ты никогда не уходишь из моих мыслей. Я считаю дни до того времени, когда вновь должно прийти письмо от тебя. Я часто вижу тебя во сне свободным и наслаждающимся благами этого мира.
О, если бы так было в действительности… Да, дорогой Оскар, человек ко всему привыкает.
Мы смирились с твоим несчастьем и радуемся вестям, что ты здоров… Мое единственное желание — чтобы Всевышний дал нам хотя бы на четверть часа свидеться до того, как закончатся дни нашей жизни…
Все остальные друзья и родственники все время о тебе спрашивают… Тетушка Ева шлет отдельный привет… Я пытаюсь сводить концы с концами тем, что отдаю внаем некоторые наши комнаты.
Увы, письма не могли служить Слейтеру надежной опорой. За перепиской заключенных строго следили, посылать и получать письма узникам позволялось лишь через определенные промежутки времени, зависящие от их поведения и отбытого срока. В первые несколько лет после прибытия в Питерхед Слейтеру разрешали отправлять письма домой только раз в полгода. Из-за необходимости их переводить время растягивалось еще сильнее: тюремный цензор требовал, чтобы вся корреспонденция велась на английском языке. Каждый раз, составив письмо Слейтеру, его родители вынуждены были искать в Бейтене человека, знающего английский, иначе их немецкие письма, доставленные в Питерхед, сначала отправлялись в Эдинбург для перевода и только потом попадали в руки Слейтеру. Его письма к семье, которые он вынужден был писать по-английски, родителям приходилось переводить уже дома.
«Мы очень обрадовались твоему письму, которое я отдала перевести на немецкий, — писала Слейтеру мать в сентябре 1909-го, вскоре после его прибытия в тюрьму. — Мы все надеемся, что найдут настоящего убийцу или доказательства твоей невиновности, мое дорогое дитя, тогда ты поскорее обрел бы свободу… Пусть тебе хватит мужества вынести твою тяжкую долю и пусть укрепится твоя вера в то, что Всевышний дарует справедливость… С каким нетерпением мы все ждем мига, когда сможем тебя обнять».
Как становится ясно из писем родителей, найти переводчика в Бейтене было делом непростым.
Мой любимый и добрый сын, — писала Паулина годом позже. — Мы отчаянно надеялись получить от тебя знак того, что ты жив… Дама, которая по моей просьбе писала письма на английском, была учительницей, она уехала из Бейтена, и я не могла найти никого, кто взял бы на себя английскую переписку… Беспокойство за тебя, мое любимое и невинное дитя, отняло у меня все силы. Теперь я сделаю все возможное и вновь соберусь с духом, чтобы все-таки сохранить себя ради моего дорогого Оскара; в тот миг, когда ты получишь заслуженную свободу, — тогда не будет больше волнений за твою жизнь, даже если бы тебе пришлось зарабатывать хлеб как простому труженику для себя и для нас… А сейчас, мое драгоценное дитя, пусть Бог даст тебе мужество и здоровье и защитит тебя впредь. Целую тебя, твоя всегда любящая мать.
Слейтер, которого характеризовали как не имеющего «ни одного доброго свойства», одно за другим отправлял домой письма, дышащие нежностью.
«Мне хотелось бы сообщить тебе хорошие новости, но, увы, я не знаю, что происходит за стенами тюрьмы — написал он в первый день нового, 1912 года. — Знание о том, что ты, дорогая матушка, единственная из многих твоих сестер сейчас жива, доставляет мне радость и дает надежду, что ты можешь дожить до ста лет; конечно, тебе нужно присматривать за отцом, но он тоже может дожить до такого возраста… Пусть Бог сохранит вам разум на долгое время: только этого я желаю. Твоя фотография, которую я храню, в твой день рождения займет почетное место над моей постелью».
Как показывают некоторые письма, даже Питерхед не мог полностью убить в Слейтере юмор. «Когда я сидел за ужином, мне вручили фотоснимки, и я, радостный, ленивый и сытый, долго их разглядывал, — писал он родителям в 1913-м. — Не волнуйся, дорогой отец, из-за того, что ноги (в твоем возрасте) не так активно исполняют свой долг, как тебе хотелось бы… Я здоров и молю Бога, чтобы вы прожили долгое время и выглядели не хуже, чем на фотографиях… Да сохранит вас Бог, мои дорогие родители; с тем и остаюсь — ваш сын, считающийся виновным, Оскар».
Однако послания из дома недолго поддерживали Слейтера, как следует из другой его переписки. Эти мрачные, меланхоличные, иногда горькие письма невыносимо читать. В мае 1910 года он пишет другу семьи доктору Мандовскому, юристу в Бейтене: «Это непростое дело… С самого начала меня сделали козлом отпущения, и на всех уровнях были приложены усилия, чтобы проявленная ко мне несправедливость не вышла на свет… Мое дело — второе дело Дрейфуса… Я сломлен и погублен, и я — сколько буду жить — приложу все усилия к тому, чтобы избавить мою семью от этого позора».
Заключенным было позволено изредка переписываться с адвокатами и иногда видеться с ними или с другими людьми, не являющимися близкими родственниками. В начале заключения Антуан несколько раз письменно обращалась к тюремному начальству с просьбой увидеться со Слейтером. Ее просьбы неизменно отклоняли, и вскоре она исчезла из виду.
Лешцинеры по-прежнему твердо поддерживали сына, однако скудные средства не позволяли им поездку в Шотландию. «Чтобы тебя навестить… потребовалась бы 1000 марок, — писала Паулина в 1910 году — А поскольку мы, как ты знаешь, не можем позволить себе даже малейших расходов… нам придется отказаться от мысли о путешествии… Все дело также требует больших издержек без всякой надежды хоть на какой-то результат…[45] Они берут большие деньги, но мало чего могут добиться даже дома, а уж тем более за границей». Почти за два десятка лет, проведенных в Питерхеде, Слейтер ни разу не виделся ни с кем из родных.
Так тянулись месяц за месяцем и год за годом. В октябре 1912-го, вскоре после третьей годовщины заключения, он послал родителям душераздирающее письмо. «К сожалению, должен признать, что случай мой безнадежен, — писал он. — Полиция — мой главный враг, именно они сфабриковали все дело. Они сделали все возможное, чтобы меня повесить. Единственная надежда, которая у меня пока осталась, — что терзаемый совестью убийца, прежде чем навеки закрыть глаза, сознается при свидетелях».
Этому желанию никогда не суждено было сбыться. Однако — хотя Слейтер об этом, скорее всего, не знал — его великий защитник Артур Конан Дойль уже присоединился к делу.
Глава 12. Артур Конан Дойль, консультирующий детектив
Адвокат Слейтера Юинг Спирс, чей меморандум помог предотвратить смертный приговор его подопечному, умер от инсульта в декабре 1909 года. Ему было 37 лет. Его сменил адвокат Александр Шонесси, который и убедил Конан Дойля заняться делом Слейтера.
Шонесси не смог бы найти лучшего защитника. К началу работы над делом Слейтера в 1912-м сэр Конан Дойль был одним из самых знаменитых людей Великобритании. После первых успехов он стабильно двигался вперед, завоевывая все большее внимание публики: в 1896 году он писал в Westminster Gazette репортажи о войне между англичанами и египетскими «дервишами»; в 1900-м, посреди Англо- бурской войны, в качестве военного врача отправился добровольцем в кишащий заразой южноафриканский полевой госпиталь. («Для них пули, для нас микробы, то и другое ради чести флага», — напишет он с характерной патриотической торжественностью.) В 1902-м он опубликовал сообщение об этом конфликте «Война в Южной Африке, ее причины и ведение» и в том же году удостоился рыцарского звания за заслуги в связи с войной. В Европе и Америке он выступал с лекциями.
Он также продолжал публиковать рассказы о Шерлоке Холмсе, которые уже успели сделать его одним из самых высокооплачиваемых писателей. «В историческую эпоху, когда деловой представитель среднего класса зарабатывал в Великобритании 150 фунтов стерлингов в год, Конан Дойлю платили 100 фунтов за тысячу слов, — отмечал американский автор детективов Стивен Уомак. — Американский журнал Collier's Weekly однажды предложит ему 25 тысяч долларов за шесть рассказов о Шерлоке Холмсе — для большинства американцев того времени это доход примерно за десять лет или более. Говоря в современных терминах, Конан Дойль был Стивеном Кингом своей эпохи».
Конан Дойль, разделявший взгляды, свойственные Викторианской эпохе, как и большинство публичных деятелей тех времен, при этом оставался довольно стойким к антисемитизму, захватившему общество. Его повествования о поездке по фронтам Первой мировой войны, например, демонстрируют либерализм, хотя для современных читателей они тоже омрачены некоторым количеством стереотипов:
В тот день я обедал в штабе сэра Джона Монаша, отличного офицера, прекрасно себя показавшего, особенно после наступления… Он отметил, что евреи еще со времен Иисуса Навина показали себя как хорошие воины. Один из австралийских дивизионных генералов, Розенталь, тоже оказался евреем, и весь главный штаб полнился черноволосыми воинами с орлиными носами. Это говорило в их пользу и также в пользу совершенного равноправия в австралийской системе, которая ставила во главе самых лучших, кем бы они ни были.
Конан Дойль оставлял отпечаток духа эпохи на всем, чем занимался: на потоке писем в газеты о важных для него предметах; на публичных кампаниях за изменение семейного законодательства Великобритании в пользу женщин, стремящихся, как он писал, бежать «от объятий пьяниц, от подчиненности жестоким мужьям, от цепей, приковывающих их к злодею или жестокому маньяку»; а кроме того — на своей роли родителя.
В письме биографу Конан Дойля Пьеру Нордону в 1959 году, почти через 30 лет после смерти отца, Адриан Конан Дойль рассказал характерный случай:
Когда я застрелил крокодила в Восточной Африке — настоящего людоеда, который предыдущей ночью убил негра, — какой-то юноша бросился в воду посмотреть, можно ли достать шестом до туши, ушедшей под воду. Мы не знали, выжило чудовище или нет, есть ли у него пара. Юноша полез в реку несмотря на запрещающий окрик отца, но, когда он оказался в воде, мне тоже пришлось лезть в реку; несмотря на испытываемый страх, я знал: отец сочтет необходимым и естественным, чтобы я скорее нарушил приказ, чем позволил человеку рангом ниже, чем его сын, взять на себя страшный риск, от которого я уклонился. То был кодекс поведения такой же ясный, как пылающее перед алтарем пламя, и почти такой же приятный, как периодическое прикосновение этого пламени к твоей плоти.
Для Конан Дойля викторианский кодекс поведения был незыблем. «Джентльмену позволено лгать только в двух случаях, — писал он в 1924 г: — чтобы защитить женщину и чтобы вступить в бой, когда это бой за правое дело». Об отличительных свойствах джентльмена Нордон писал так: «Мистер Адриан Конан Дойль и мисс Мэри Конан Дойль вспоминали принципы, которые исповедовал их отец: „Для джентльмена существуют три мерила, и они не имеют ничего общего с достатком, положением или внешней видимостью. Значимо лишь следующее: во-первых, благородство мужчины по отношению к женщинам; во-вторых, его честность в финансовых делах; в-третьих, его обхождение с теми, кто ниже его по рождению и поэтому находится в зависимом положении“».
Конан Дойль, бывший одновременно сторонником прогресса и патерналистским традиционалистом, в полной мере соединял в себе двойственность своего века. В монографии об отце «Подлинный Конан Дойль» (The True Conan Doyle) Адриан вспоминает об этом контрасте:
Этот человек обладал широтой мышления, позволявшей ему донести до сына, что в случае половой болезни тот может совершенно положиться на родительское понимание и помощь. Напротив, присутствовала в этом человеке и узость взглядов, из-за которой он ненавидел даже самые мягкие из рискованных замечаний… То же можно сказать и о его реакции на какую-нибудь безобидную вольность доброжелательного незнакомца. В самом деле, мало что могло быстрее довести Конан Дойля до приступа ярости, чем хлопок по спине, недолжное обращение по имени или бесцеремонное замечание… Однажды он разбил мою трубку в щепки, когда я надумал раскурить в присутствии дам… Так что читателю нетрудно будет поверить, что даже в возрасте 70 лет мой отец в столице Британской империи бросился с любимым зонтиком наперевес на негодяя, который публично заявил, будто он использует смерть старшего сына для рекламы своих спиритических сеансов.
И тут же Адриан продолжает: «Это человек, который проедет лишние 30 миль в экипаже ради того, чтобы помочь какой-то старой цыганке, который способен просидеть всю ночь у постели больного слуги, читая ему или умеряя его боль. Можно понять, почему при отбытии на Англо-бурскую войну за Конан Дойлем, как преданный оруженосец, отправился его дворецкий».
Понятия о чести распространялись у Конан Дойля и на дела сердечные. В 1893 году его первая жена Луиз заболела туберкулезом. И хотя супруги, по всей видимости, не питали друг к другу пламенную страсть, Конан Дойль относился к жене с нежностью и делал все возможное для ее выздоровления. Доктора утверждали, что жить ей осталось считаные месяцы, однако Конан Дойль сумел добиться для жены лучшего медицинского ухода и вместе с ней ездил в Швейцарию, знаменитую целебным воздухом, так что жена прожила еще 13 лет. Правда, последние девять из них он уже любил другую женщину.
В 1897-м Конан Дойль познакомился с Джин Лекки — состоятельной золотоволосой англичанкой шотландского происхождения, которая была моложе его лет на пятнадцать. В последующие годы, до смерти Луиз в 1906-м, между Конан Дойлем и Джин были пылкие, но целомудренные отношения. Как истинный представитель Викторианской эпохи Конан Дойль решил не оставлять жену, не разводиться и не изменять. «Даже среди английских писателей-джентльменов такое поведение было поразительным, — писал Уомак. — Герберт Уэллс и Чарльз Диккенс, два других прославленных английских беллетриста, имели любовниц и внебрачных детей». В 1907-м, через год после смерти Луиз, Конан Дойль женился на Джин.
Однако было нечто — даже более важное, чем богатство Конан Дойля, его честность и слава, — из-за чего его участие в деле Слейтера стало особенно ценным: сэр Артур Конан Дойль уже имел опыт решения загадок в реальной жизни.
Будучи заядлым читателем детективов, Конан Дойль испытывал глубокий интерес и к реальным преступлениям. Документальные книги о преступлениях и вырезки из газет и журналов составили целую библиотеку, которая, несомненно, была не так беспорядочна, как у Холмса на Бейкер-стрит, но наверняка почти настолько же обширна. В его коллекции были «Судебное дело Мэри Бланди, незамужней девицы, об убийстве ее отца Фрэнсиса Бланди, джентльмена», «Убийство на острове Сматтиноуз и другие убийства», «Прославленные фальсификации Уильяма Рупелла, покойного члена парламента от Ламбета» и восьмитомник Александра Дюма «Знаменитые преступления». Несмотря на то что Конан Дойль приобрел основную часть книг между 1911 и 1929 годами, когда две трети рассказов о Холмсе уже вышли из печати, библиотека давала ему пищу для новых историй и стимулировала «дедуктивное воображение»[46].
В начале XX века Конан Дойль написал несколько статей, в которых излагались реальные случаи убийств; три из них были посмертно опубликованы в цикле «Странные уроки, преподанные жизнью» (Strange Studies from Life). В 1904 году он стал одним из первых членов «Клуба преступлений» — тайного лондонского клуба, посвятившего себя обсуждению современных и исторических убийств. Среди членов сообщества были также автор детективов Макс Пембертон, сын знаменитого театрального актера сэра Генри Ирвинга Гарри Ирвинг и журналист Флетчер Робинсон, который своим рассказом о призраках в мрачных долинах Дартмура вдохновил Конан Дойля на написание «Собаки Баскервилей». Какие случаи там обсуждались, нам точно не известно, но, по некоторым сведениям, среди них были преступления Томаса Нила Крима, викторианского врача и серийного отравителя, случай Адольфа Бека с ошибочным установлением личности в 1895-м и кража ирландских королевских драгоценностей 1907 года.
По мере роста известности к Конан Дойлю стали стекаться письма от обычных людей, умоляющих его помочь в случаях исчезновения близких и при других необъяснимых событиях. «Сущий Шерлок Холмс в действии», — вспоминал Адриан Конан Дойль:
Вспоминаю внезапные, безмолвные периоды, когда после очередного письма или визита взволнованного незнакомца отец запирался у себя в кабинете на два или три дня. Никакой аффектации — то была полная сосредоточенность ума, который проверял и перепроверял, размышлял, анатомировал и искал ключ к загадке. Приглушенные шаги домашних, поднос с нетронутой едой у порога, внутреннее ощущение напряжения, охватившего семью и прислугу, — все это было отражением скрытой от глаз работы ума за дверью отцовского кабинета.
Конан Дойль расследовал изрядное количество сложных случаев. Однажды он единственным вопросом раскрыл загадочное преступление, над которым полиция ломала голову не один год. То была история женщины по имени Камилла Сесилия Холланд, которая в 1899 году исчезла с фермы Моут-Хаус (букв. «дом рядом со рвом») — из сельского дома, где вместе с ней жил ее гражданский муж Сэмюел Герберт Дугал. Год за годом от Холланд не было вестей, хотя Дугал продолжал получать деньги по чекам на ее имя. Ходили слухи, что ее убили, однако полицейские обыски на ферме, где Дугал жил с новой любовницей, ничего не давали.
В 1904-м, на пятом году отсутствия Холланд, группа лондонских журналистов спросила мнение Конан Дойля о ее деле. Да, согласился он, она почти наверняка убита, но остается вопрос: где тело?
«Никто не знает», — ответили журналисты. Даже Скотланд-Ярд, призванный на помощь местной полиции, тщательно обыскал каждую комнату в доме, все прилегающие постройки и весь участок и ничего не нашел.
— А ров? — попросту спросил Конан Дойль.
Там, в бывшей дренажной канаве, когда-то врезанной в ров, но после засыпанной землей, полиция обнаружила тело Камиллы Сесилии Холланд, погибшей от огнестрельной раны. Дугал был арестован, подвергнут суду и приговорен к казни. Он признал свою вину прямо на эшафоте, за несколько мгновений до повешения.
Еще один случай, который расследовал Конан Дойль, был связан с человеком, исчезнувшим из отеля «Лэнгем» в Лондоне. Разгадка стала эталоном применения абдуктивной логики, достойной Холмса. «Несколько попадавшихся мне задач очень походили на некоторые случаи, выдуманные мной для демонстрации метода Холмса, — писал Конан Дойль. — Я, пожалуй, могу привести один пример, когда метод этого джентльмена удалось скопировать с полным успехом». Дело было так.
Исчез мужчина. Он взял из банка все свои деньги — 40 фунтов. Опасались, что его убили из-за денег. Было известно, что он остановился в крупном лондонском отеле в тот же день, когда приехал из провинции. Вечером он отправился в мюзик-холл, с представления вышел около десяти часов вечера, вернулся в отель, снял вечерний костюм (который нашли в его номере на следующее утро) и бесследно исчез. Никто не видел, как он выходил из отеля; постоялец из соседнего номера заявил, что ночью слышал движение в комнате. Я занялся делом через неделю после исчезновения, полиция к тому времени ничего не обнаружила. Куда подевался этот человек?
Таковы были полностью все факты, которые мне сообщили его деревенские родственники. Я попытался взглянуть на дело глазами Холмса; в ответ я написал, что человек этот, очевидно, в Глазго или в Эдинбурге. Позже оказалось, что он в самом деле уехал в Эдинбург, хотя за прошедшую с тех пор неделю успел перебраться в другую часть Шотландии.
Здесь мне и нужно бы оставить повествование, поскольку, как часто демонстрировал доктор Ватсон, объяснение подоплеки делает загадку неинтересной. На этом этапе читатель может отложить книгу и найти собственное решение, показав тем самым, насколько все просто. Читатель располагает для этого всеми данными, которые были мне предоставлены. Впрочем, ради тех, кто не имеет склонности к таким головоломкам, я попробую указать звенья, образующие цепь событий. Единственное преимущество, которым я обладал, заключалось в том, что я знал порядки в лондонских гостиницах — впрочем, я думаю, гостиничные порядки везде примерно схожи.
В первую очередь следовало посмотреть на обстоятельства и отделить факты от догадок. Ненадежным было лишь заявление того постояльца, который ночью слышал движение в соседнем номере. Как он мог отличить этот звук от других шумов крупного отеля? Это свидетельство не стоило принимать во внимание, если оно противоречило общим выводам.
Сразу было ясно, что исчезновение было добровольным. Иначе зачем этот человек взял из банка все свои деньги? Из отеля он ушел ночью. Однако во всех гостиницах есть ночной швейцар, и, когда дверь уже заперта, выйти без его ведома невозможно. Дверь запирают после того, как публика вернется из театров, примерно около полуночи. Стало быть, тот человек ушел из отеля раньше полуночи. Из мюзик-холла он вернулся в десять, переоделся и с саквояжем вышел из гостиницы. При этом, судя по всему, его никто не видел. Из этого делаем вывод, что вышел он в такое время, когда гостиничный холл заполнен возвращающейся из театра публикой, то есть между 11 и половиной двенадцатого. После этого, даже если дверь останется не заперта, в холле будет слишком малолюдно, так что человека с багажом наверняка заметят.
Добравшись до этого этапа, спросим себя: почему человек, желающий остаться незамеченным, выходит на улицу в такой час? Если он намеревался спрятаться в Лондоне, то ему незачем было селиться в отеле. Значит, он собирался уехать поездом. Но человека, ночью выходящего из поезда на провинциальной станции, наверняка заметят, и, когда поднимется тревога из-за его исчезновения, какой-нибудь охранник или носильщик его вспомнит. Стало быть, местом назначения должен быть крупный город, конечная станция, где сойдут все пассажиры и можно затеряться в толпе. Заглянув в железнодорожное расписание, мы обнаружим, что около полуночи отправляется шотландский экспресс, идущий до Эдинбурга и Глазго; наша цель достигнута. Если этот человек не стал брать с собой парадный костюм, то он намеревался вести жизнь без особых увеселений, и этот вывод тоже впоследствии подтвердился.
Я рассказываю об этом случае, чтобы показать: основные принципы логических рассуждений Холмса имеют практическое применение в жизни.
В 1906 году Конан Дойль займется расследованием своего первого крупного случая из реальной жизни — несправедливого осуждения Джорджа Эдалджи. Это громкое дело, в котором смешались судебная ошибка, публичный накал страстей, неприкрытая ксенофобия и итоговое оправдание жертвы, достигнутое усилиями Конан Дойля, во многом стало предвестием дела Слейтера.
Глава 13. Странный случай Джорджа Эдалджи
Старший из троих детей отца-индийца и матери-англичанки, Джордж Эрнест Томпсон Эдалджи родился в Англии в 1876 году Его отец, Шапурджи Эдалджи, парс из Бомбея, в 1850-х перешел в христианство и после переселения в Англию принял сан англиканского священника. В 1874 году он женился на Шарлотте Элизабет Стюарт Стоунхэм, через два года его назначили приходским священником в церковь Св. Марка в стаффордширском приходе Грейт-Уэрли. В 1879-м родился второй сын, Хорас, в 1882-м — дочь Мод.
Преподобный Эдалджи был одним из первых выходцев из Южной Азии, кому достался церковный приход в Англии; его происхождение, а также брак с англичанкой не могли не вызывать толки в викторианское время. Однако поначалу жизнь семьи в Грейт-Уэрли не была ничем омрачена. «Будучи поставлен в крайне трудное положение цветного священника в английском приходе, он держал себя достойно и осмотрительно, — позже напишет Конан Дойль. — Единственный обнаруженный мной случай, когда местное население испытывало по отношению к нему хоть какое-то недовольство, были выборы, ибо в политике он оказался убежденным либералом».
В 1888 году, когда Джорджу было 12 лет, семья Эдалджи начала получать анонимные письма с угрозами, после полицейского расследования была арестована горничная из его дома. Ее подвергли суду, но не приговорили ни к какому наказанию, и письма на время прекратились. Затем в 1892-м пошла новая волна злобных писем; из них многие присылались в дом священника, а часть предназначалась для соседей Эдалджи. «К концу нынешнего года твой ребенок либо окажется в могиле, либо будет опозорен на всю жизнь», — говорилось в письме 1893 года к преподобному Эдалджи. В это же время неизвестный «доброжелатель» устроил серию инсценировок, когда украденные в деревне предметы были оставлены на виду рядом с домом священника, а в местных газетах публиковались подложные объявления, в которых от имени Эдалджи извинялись за написание подметных писем.
Джордж, по всем отзывам отличный студент, пошел учиться на юриста и в 1899 году стал младшим адвокатом. Он по-прежнему жил в отцовском доме и каждый день ездил в свою контору в Бирмингеме, примерно в 20 милях от Грейт-Уэрли. Второй поток писем иссяк в 1895-м, но будущее сулило куда более жестокие испытания.
В начале 1903-го, когда Джорджу еще не было 30 лет, вокруг Грейт-Уэрли стали происходить жестокие убийства животных: коров и лошадей на полях кто-то потрошил живьем. Эти зверства, которые получили название «уэрлийского произвола», продолжались месяцами, никаких злоумышленников найти не удавалось. В это же время семья Эдалджи стала жертвой третьего потока писем, которые были адресованы соседям и местной полиции. В некоторых письмах Джорджа Эдалджи объявляли членом банды, нападающей на животных. В августе 1903 года молодого человека арестовали и обвинили в изувечении пони.
Полиция обыскала дом священника и изъяла несколько предметов, среди которых был набор лезвий преподобного Эдалджи с темными пятнами и влажное пальто Джорджа, тоже с пятнами. Пятна на лезвиях оказались ржавчиной, но свидетель-эксперт на суде подтвердил, что пятна на пальто — это кровь млекопитающего.
В репортажах о суде пресса почти не пыталась пресечь расовую ненависть, которой пылала публика. Статья в бирмингемской Daily Gazette описывала молодого Эдалджи в выражениях, словно сошедших со страниц указателя Ломброзо: «Ему 28 лет, но выглядит моложе… В смуглом лице с круглыми черными глазами, выдающимися губами и маленьким круглым подбородком ничто не выдавало типичного адвоката. Внешность в основном восточная, во время речи обвинителя никакого проявления эмоций, кроме слабой улыбки».
В вулвергемптонской газете Express and Star репортер утверждал: «Многочисленные и удивительные предположения слыхал я в местных пивных насчет причин, по которым Эдалджи пустился убивать скот по ночам, и широко популярной оказалась идея, что он совершал ночные жертвоприношения экзотическим богам».
На суде в октябре 1903 года Эдалджи объявили виновным и приговорили к семи годам каторжных работ. Тот факт, что во время его тюремного заключения скот продолжали увечить, в глазах полиции не имел никакой ценности: полицейские считали, что убийства совершаются членами банды Эдалджи. Апелляционного суда в Англии тогда не было, и каторга казалась неотвратимой. Однако со временем, как и в случае Слейтера, росло публичное недовольство, составленная сторонниками Эдалджи петиция собрала 10 000 подписей. В октябре 1906-го, после трех лет каторги, Эдалджи освободили без помилования и объяснений.
Статус преступника, с которого не снят приговор, не позволял Эдалджи заниматься юриспруденцией. В попытке вернуть себе доброе имя он написал несколько статей о своем деле. В тюрьме Эдалджи читал рассказы о Шерлоке Холмсе и после освобождения выслал свои статьи Конан Дойлю.
«Читая статьи, я почувствовал голос правды; я понял, что имею дело с чудовищной трагедией и должен сделать все возможное для исправления дела, — позже писал Конан Дойль. — Мое негодование и решимость не отступать были порождены мыслью о беспомощности этих людей — цветного священника, смелой голубоглазой и седовласой жены, юной дочери, — которых изводят жестокие мужланы и которых полиция, призванная защищать, третирует и вопреки всякому здравомыслию обвиняет в их собственных несчастьях».
Подход Конан Дойля, в миниатюре предвосхищающий его подход к делу Слейтера, включал в себя три направления: расследование, публикацию и агитацию. После изучения газетных изложений и других документов, относящихся к делу, он назначил Эдалджи встречу в лондонском отеле. Как он напишет в брошюре 1907 года «Дело Джорджа Эдалджи», первый же взгляд показал, что молодой человек не мог совершить преступления, в которых его обвиняли:
При первом взгляде на Джорджа Эдалджи я понял, что этот человек почти наверняка не совершил преступления, за которое был осужден, и тот же взгляд позволил мне угадать по крайней мере некоторые из причин, из-за которых он попал под подозрение. Он пришел в мою гостиницу к назначенному сроку, но я задержался, и он коротал время за чтением газеты. Я узнал его по смуглой коже и, остановившись, за ним понаблюдал. Он держал газету близко к глазам и несколько сбоку, что указывало не только на сильную близорукость, но и на заметный астигматизм. Мысль о том, что такой человек станет рыскать ночью по полям и нападать на скот, при этом умудряясь избегать встреч с полицейскими, показалась бы нелепой любому, кто способен представить себе, как выглядит мир для человека с миопией в восемь диоптрий… Однако из-за безнадежного состояния зрения он выглядел как рассеянный человек с неподвижным взглядом, что вместе со смуглой кожей наверняка делало его очень странным в глазах английских селян и ассоциировало с ним любые странные события. Так один-единственный физический изъян оказался и показателем невиновности, и причиной, по которой этого человека сделали козлом отпущения.
Конан Дойля, который изучал офтальмологию, поразило, что адвокаты Эдалджи не указали на этот факт. «Защита была настолько слабой, что на протяжении всего судебного процесса ни разу не упоминалось то обстоятельство, что при отсутствии хорошего освещения этот человек все равно что слеп, в то время как между его домом и тем местом, где произошло злодеяние, лежит полотно железной дороги, идущей от Лондона на северо-запад: рельсы, проволока и другие препятствия; по обеим сторонам стоят изгороди, через которые пришлось бы перелезать, так что даже мне, сильному и энергичному человеку, при ярком дневном свете не так уж легко было все преодолеть».
Чтобы дать делу практическое доказательство, Конан Дойль заказал особые очки, в которых человек с нормальным зрением видел бы так же, как Эдалджи. «У меня нормальное зрение, — писал он, — но в очках я испытал полную беспомощность. Я дал их репортеру и заставил пройти от дома до теннисной лужайки напротив. Он не сумел… На мой взгляд, совершить преступление мистеру Эдалджи было все равно что совершить его безногому инвалиду».
Просматривая судебный протокол, Конан Дойль отметил сомнительное происхождение пятен, которые полиция нашла на пальто Эдалджи:
Теперь полиция пытается доказать два пункта: что пальто было влажным и что на нем были пятна, оставшиеся от преступления. Каждый из пунктов хорош сам по себе, однако, к сожалению, они несовместимы и уничтожают друг друга. Если пальто было влажным и если пятна были следами крови, оставленными на пальто в ту ночь, то эти пятна тоже были влажными и тогда инспектору оставалось лишь к ним прикоснуться и затем поднять обагренный палец в воздух, тем самым уничтожая все сомнения. Но поскольку он этого сделать не мог, то становится ясно, что пятна не были свежими… Как эти небольшие пятна оказались на пальто, определить настолько же трудно, насколько трудно выяснить, откуда взялось пятнышко, которое я сейчас замечаю на рукаве своей домашней куртки. Возможно, то была капля соуса от мяса с кровью. В любом случае можно почти с совершенной уверенностью сказать, что даже самый умелый хирург не сможет темной ночью взрезать лошадь бритвой так, чтобы оставить на пальто всего лишь два пятна размером с трехпенсовую монетку. Эта идея не подлежит рассмотрению.
В январе 1907 года Конан Дойль опубликовал свои выводы в серии статей в Daily Telegraph, позже они были изданы книгой под названием «Дело Джорджа Эдалджи». Впоследствии он написал: «О несправедливости по отношению к Джорджу Эдалджи вскоре узнала вся Англия». Когда о вмешательстве Конан Дойля стало известно, писатель тоже стал получать письма с угрозами расправы, написанные тем же почерком, что и послания к Эдалджи. «Этот факт, — отметил он, — нисколько не пошатнул убежденности министерства внутренних дел в том, что все письма написаны Джорджем Эдалджи»[47].
В результате работы над делом Эдалджи у Конан Дойля сформировалась частная гипотеза о личности преступника — местного юноши, пользующегося дурной славой, по имени Ройден Шарп. По убеждению Конан Дойля, против Шарпа говорил тот факт, что он успел поработать подручным мясника (отсюда познания в анатомии животных и умение обращаться с ножом), а также то, что периоды затишья в череде угрожающих писем приходились на то время, когда Шарп был в плавании. Чтобы не связываться с риском возвести вину на человека, которому не было предъявлено официального обвинения, Конан Дойль данную информацию скрыл; его брошюра «Дело против Ройдена Шарпа», содержащая доводы в пользу этой гипотезы, была опубликована полностью лишь в 1985 году.
Расследование Конан Дойля привело к тому, что министр внутренних дел Великобритании Герберт Гладстон создал правительственную комиссию по пересмотру приговора Эдалджи. В мае 1907 года комиссия опубликовала результаты работы. «Выводы, к которым она пришла, были довольно странными, — отметил биограф Конан Дойля Пьер Нордон. — С одной стороны, она не соглашалась с судом присяжных, вынесшим приговор Джорджу Эдалджи за жестокое убийство пони, и объявляла вердикт необоснованным; с другой стороны, она утверждала, что Эдалджи был автором анонимных писем, которые его же и обвиняли… О том, чтобы возместить ему ущерб от трехлетнего тюремного заключения или объявить официальное помилование, не было и речи».
Несмотря на частичную победу, Конан Дойль испытывал горечь. «Отвратительное решение, — писал он. — Этот несчастный человек, чья скромная семья уплатила сотни фунтов издержек, не получил ни одного шиллинга за причиненный ущерб. Это пятно на истории английского правосудия».
В остальном 1907 год принес Конан Дойлю три радостных события. Во-первых, Джорджу Эдалджи вернули право заниматься юриспруденцией, и теперь он вновь мог вернуться к адвокатской практике. Во-вторых, в сентябре Конан Дойль наконец женился на своей возлюбленной Джин Лекки. Эдалджи был приглашен на свадебный прием, и «Конан Дойль утверждал, — пишет его биограф Дэниел Сташовер, — что никого из гостей не встречал с большей гордостью». И наконец, усилия Конан Дойля оправдать Эдалджи способствовали появлению в Англии апелляционного суда. Вскоре его участие в этом деле приведет к еще более жестокой битве — за оправдание Оскара Слейтера.
Глава 14. Заключенный 1992
В Государственном архиве Шотландии есть примечательный экспонат, огромный гроссбух в кожаном переплете — журнал питерхедских надзирателей, содержащий записи их наблюдений за Слейтером на протяжении одной недели в 1911 году. Это, по-видимому, единственный сохранившийся фрагмент за 18 лет. Среди записей встречается следующее:
5 февраля. Заключенный был очень тих… Поведение очень плохое, пришлось перевести в отдельные камеры…
5 февраля. В 7:20 заключенный пришел в возбуждение и нес всякую бессмыслицу надзирателю. В 2 часа пополудни заключенный плакал и просил матрац, чтобы лечь, ибо голова его так болела, что он не мог держать ее прямо…
8 февраля. Заключенный временами пел, а также иногда разговаривал сам с собой. Когда его дверь открыта, он обычно болтает без умолку, в основном бессмыслицу… Во время прогулки он упорно говорил что-то дежурному громким возбужденным голосом…
11 февраля. Ничего необычного, за исключением того, что он отказывается работать, ходит по камере и поет. Заключенный сказал, что от его одежды пахнет…
Странности в поведении Слейтера появились почти сразу же после его прибытия в Питерхед — об этом свидетельствует множество дисциплинарных записей тюремного начальства. За 18 с половиной лет, проведенных Слейтером в Питерхеде, эти записи составили толстую стопку разрозненных листов.
«Заключенный несколько взбудоражен и, по-видимому, склонен считать, будто сотрудники тюрьмы и полиция состоят против него в сговоре, — гласит одна из таких записей, датированная апрелем 1910 года: к тому времени Слейтер провел в Питерхеде девять месяцев. — Поведение несколько безразличное. Управляться с заключенным будет сложно». Со временем среди записей накопятся «поведение пристойное» и даже «поведение хорошее», однако по большей части пределом мечтаний для Слейтера останется отзыв «поведение очень безразличное», многократно повторяющийся в общем потоке записей.
Зачастую Слейтеру доставалось за неудовлетворительную работу в каменоломнях, а также, как указывают многочисленные дисциплинарные записи, за несметное количество других нарушений. Среди записей за первые годы встречается следующее:
19 июля 1909 года: отказывается работать…
22 мая 1909 года: неподчинение приказам — отказался ложиться спать, заявив, что в одеялах находятся снадобья…
29 ноября 1909 года: порча тюремного имущества (клинического термометра)…
31 декабря 1909 года: неподчинение, нарушение порядка и попытка напасть на надзирателя.
Единственным успокоительным для Слейтера были письма из дома. Из-под неутомимого пера матери текли семейные новости («Что касается Георга[48], то на него жаль тратить много слов, он бессердечен, а теперь, когда разбогател, сделался скареднее прежнего. Его жена не лучше, да и о дочери можно сказать то же») и забавная болтовня («Обе девочки Фанни не замужем — добиться такого можно лишь большими усилиями, как ты сам хорошо знаешь»). В письмах заметен безжалостный бег времени:
Мой любимый невинный Оскар… Читаю твое письмо и благодарю Бога, что ты чувствуешь себя хорошо. Сейчас нас окружает только одиночество… Я единственная жива из всех моих братьев и сестер. Как ты знаешь, дядя Сало и тетя Минна умерли в один год. Нам пришлось съехать, так как наш квартирный хозяин невыносимо поднял плату.
Если бы только Бог сделал так, чтобы твои ужасные неприятности развеялись, тогда мы непременно могли бы радоваться всю оставшуюся нам жизнь. Отец по-прежнему нездоров. Конечно, он ежедневно возносит молитвы за своего любимого Оскара и благословляет тебя каждый раз, когда произносит твое имя.
Ответы Слейтера обычно были полны участия: «Мне очень тяжело знать, дорогие мои, что вы обо мне печалитесь, — написал он однажды матери. — Я здесь пробыл так долго, что мне теперь разрешили получать письма от вас каждые два месяца. Мне было бы радостно думать, что кто-то из младшего поколения мог бы навестить меня летом, это не такие крупные расходы, как вы полагаете. Сюда ходит прямой корабль из Гамбурга. Лист бумаги слишком мал и не вмещает всей моей любви к вам».
Порой в письмах звучат более мрачные ноты. «Я обращался с просьбой о помиловании уже не менее семи или восьми раз и неизменно получаю все тот же ответ: „Нет причин для вмешательства“, — писал Слейтер. — Вот бы вулкан поглотил всех лжецов вместе с их шкурой и внутренностями. Не хочу жаловаться вам, дорогие родители, но вы даже не можете представить, каким несчастным я себя чувствую и зачастую желал бы уйти прочь из этого мира, если бы не мысль о вас».
Другие письма полны смирения, Слейтер пытается приглушить чувство потери — и в родных, и в себе самом. «Дорогие родители, не горюйте, я из-за этого чувствую себя несчастнее, чем прежде, — пишет он. — Чтобы не пасть духом, я теперь всегда пытаюсь думать: „Так должно быть“».
Тюремное досье Слейтера было полно его письмами-жалобами в адрес инспекции, контролирующей тюрьму. В многих из них Слейтер на неправильном английском утверждал, что точно знает о своем скором освобождении, в других заявлял, что обнаружил настоящего убийцу мисс Гилкрист. В одном письме 1912 года он просит освободить его от работ в карьере:
«Вряд ли я хорошо выполняю работу по обтесыванию камней или по откалыванию крупных гранитных глыб огромным тяжелым молотом, — писал Слейтер. — Я очень пригодился бы в роли пекаря или повара… Мой отец тоже пекарь, я особенно хорошо готовлю пироги и пудинги». (В ответном сообщении неназываемый питерхедский служащий отмечает: «Я не счел его подходящим, поскольку временами он впадает в сильное беспокойство».)
В марте 1911 года Слейтер написал преподобному Филипсу, главе еврейской общины в Глазго, который останется его сторонником на протяжении всего тюремного заключения. Это письмо, содержащее отчаянные фантазии об освобождении, питерхедские чиновники так никогда и не отправили адресату:
Я надеюсь скоро получить свободу… До смертного дня я никогда не забуду, как вы обняли меня и сказали: «Слейтер, я верю в вашу невиновность, доверьтесь Богу, не все потеряно…» То было в камере эдинбургского суда после того, как меня привели, объявив виновным в жестоком убийстве; одинокий [Слейтер трижды подчеркнул это слово], я стоял между своими врагами, и в моем несчастье вы явились передо мной, как святой…
Когда я выйду, я намерен из человеколюбия показать публике, как на самом деле устроено мое дело, и уверяю вас: кое-кому придется несладко… Когда я выйду, я обличу обман перед всем миром.
Со временем обвинения Слейтера становились еще более конкретными. В 1911 году и позже он написал серию писем председателю тюремной комиссии, которого все называли «смотритель Полворт» и который изредка навещал Питерхед. Письмо, написанное в марте, гласит:
Смотритель Полворт, со мной поступили бесчеловечно, милостиво выслушайте: 21 марта… меня определили в «отдельные камеры»[49] по четырем ложным обвинениям, на хлеб и воду…
Также в это время мне давали выпить снадобья [это слово трижды подчеркнуто] вместе с микстурой от кашля, и 36 часов я мучился безумным бредом в своей камере и до сих пор не оправился. Пожалуйста, послушайте: врач и начальник, замешанные в дело, на которое я жалуюсь, работают в сговоре. Было спланировано привести меня к вам в одурманенном состоянии… Это больше, чем убийство, и я прошу вашей помощи… Как может такой дурной человек, как врач, позволять себе таким образом играть с моим здоровьем, мои нервы совершенно расстроены из-за этого снадобья.
На следующий день Слейтер в очередном письме нарисовал еще более ужасную картину:
В прошлую субботу против меня вновь использовали эту нехристианскую уловку. Над моей постелью распылили тот же порошок, что добавляли мне в молоко и микстуру от кашля… Мой духовный наставник навещал меня 15-го числа нынешнего месяца, и после его отъезда, в субботу вечером, снадобье оказалось в моей камере… Симптомы были те же, что после микстуры… Если это не кончится, сэр, то скоро я слягу с воспалением мозга — это так же верно, как то, что я сейчас пишу это письмо. Я знаю, у меня крепкий организм, я много выдерживал, но никогда не испытывал такого нервного напряжения, как сейчас… Смотритель Полворт, я больше ничего не прошу, только честности… Лишь дайте мне явиться миру невиновным, особенно ради моих любимых престарелых родителей… Я полностью доверяю только вам и мистеру Филипсу… Ваш покорный слуга Оскар Слейтер.
P. S. Умоляю, сэр, велите прекратить эти игры со снадобьями.
Рассказ Слейтера был очень похож на параноидальный бред. Однако социалист Джон Маклин поразительным образом описывает нечто схожее, что ему пришлось испытать в Питерхеде во время Первой мировой войны: «Жуткое состояние от снадобий, подмешанных в пищу». В 1918 году Маклина судили за подстрекательство к мятежу, и он обратился к присяжным со словами:
Когда я был в Питерхеде, все шло гладко до середины декабря, а затем начались сложности. У меня была лихорадка, которую удалось одолеть, и затем температура спала… Я заявил, что в мою пищу что-то подмешивают… Я знаю, что для снижения температуры больным могут давать бромистый калий. Возможно, именно его и использовали. Я понимал, что происходит в Питерхеде, из намеков и высказываний других заключенных; что с января до марта, в так называемый зимний период, врач занят тем, что укладывает заключенных в лазарет и там расшатывает их органы и общее здоровье.
Я называю этот период «время жмуриться», так как от лекарств глаза заплывают. Я кое-как выкарабкался. Вокруг меня я видел людей в ужасном состоянии. У них были поражены разные органы и нервная система, а со слов тех, кто по идейным соображениям отказывается от военной службы, мы знаем, что правительство имеет с таких людей свою выгоду — одни умирают, другие совершают самоубийство, третьи теряют разум и попадают в сумасшедший дом… Часть этого процесса я испытал на себе и подчеркиваю, что эта черствая и равнодушная система продолжает действовать в тюрьмах и сейчас.
Объективно оценить заявления Маклина — как и заявления Слейтера — сложно. Однако, как говорит шотландский историк, «неоспоримо, что тюремный опыт Маклина как в 1916–1917 годах, так и после суда в 1918-м сильно повредил его здоровью».
Тюремное начальство отлично знало о проблемах с психикой у Слейтера. «Что касается психического состояния заключенном, — читаем мы в рапорте тюремного медика, датированном июнем 1911 года, — Слейтер одержим идеей, что его освобождение неминуемо, одержимость напрямую связана с определенными письмами[50], им полученными. От них его разум впал в такое смятенное состояние, что заключенный утерял всякое представление о реальности». Рапорт завершался угрожающе: «В настоящее время я не считаю его помешанным, однако нет сомнений в том, что он таковым станет, если те, кто ему пишет, не будут более осмотрительны».
По случайному совпадению Конан Дойль присоединился к делу вскоре после этого. Его задачей было не выяснение личности истинного преступника, а доказательство того, что Слейтер таковым не является. «Поскольку меня всюду называли спасителем Эдалджи, то люди, считавшие приговор Слейтеру судебной ошибкой, надеялись, что я смогу сделать для него то же самое, — писал он позднее. — Я приступил к делу очень неохотно, однако после ознакомления с фактами увидел, что все обстоит еще хуже, чем в случае Эдалджи, и что несчастный Слейтер, по всей вероятности, не более моего виновен в убийстве, за которое осужден».
Начав просматривать материалы, Конан Дойль обнаружил данные, которые только укрепили его решимость. «Невозможно читать и оценивать факты в связи с приговором Оскару Слейтеру без возмущения процессом и убежденности в том, что правосудие в данном случае не свершилось, — писал он в 1912 году — Если из-за таких улик он проведет жизнь в тюрьме, это будет позором… Насколько приговор был справедлив, читатель может судить сам, внимательно изучив связное изложение дела». Именно такое изложение и начал создавать Конан Дойль.
Книга четвертая БУМАГА
Глава 15. «Вам известен мой метод»
Чем больше Конан Дойль изучал дело Слейтера, тем озабоченнее становился. «Эта история ужасна, — писал он, — и, по мере чтения обнаруживая всю ее чудовищность, я решил сделать для этого человека все, что можно». Он вряд ли мог представить себе, что делом Слейтера ему придется заниматься до конца 1920-х (работа над делом Эдалджи продолжалась меньше года), однако его решение не было легковесным. «Я связался с несколькими знавшими его заключенными, уже вышедшими на свободу, — позже напишет Конан Дойль, — и они в один голос утверждают, что другие узники считают его невиновным, а это наиболее компетентные судьи из всех возможных».
Несмотря на то что Конан Дойль работал над делом Слейтера по той же схеме, что и в случае Эдалджи, в подходе были принципиальные различия. В деле Эдалджи он выступал как человек действия, в деле Слейтера — как мыслитель. Расследуя случай с Эдалджи, Конан Дойль в прямом смысле шел тем же путем, что преступник, пробираясь через сырые поля и железнодорожные рельсы. Он встречался со своим подопечным и его семьей, оставался с ними в постоянном контакте. В деле же Слейтера он предпочел работать главным образом с документами. Со Слейтером Конан Дойль встретится лишь однажды после его освобождения; в питерхедском журнале по учету корреспонденции, который хранит сведения о каждом письме, отправленном и полученном Слейтером за 18 с половиной лет, нет записи об этой переписке.
Такой подход имел несколько причин. Делом Эдалджи Конан Дойль занялся вскоре после смерти первой жены, Луиз, и тем самым получил желанную возможность отвлечься. Дело Слейтера попало к нему в тот период, когда он уже счастливо женился на Джин и, вероятно, не хотел надолго отлучаться из дома. Есть и более значимая причина: несмотря на то что личное отношение Конан Дойля к Слейтеру не влияло на его решимость добиться правды («Некоторые из нас поныне сохраняют старомодную верность принципу, что наказывать человека следует за преступление, а не за нравственность или безнравственность его личной жизни», — писал он), Конан Дойль, как истинный викторианец, считал Слейтера неприглядной личностью. Все годы, пока писатель занимался делом Слейтера, он тщательно держал его на расстоянии.
Впрочем, сколько бы работа над делом Слейтера ни походила на логические упражнения в уютном кресле, сам метод расследования не становился от этого менее действенным. Дюпен, великий сыщик Эдгара По, однажды вычислил убийцу не выходя из дома. Сам Холмс многократно раскрывал преступления, не покидая своей квартиры в доме 221-б на Бейкер-стрит. «Страховые компании не так уж часто выплачивают компенсации за беседы с пациентами хоть кому-то, кроме психиатров, — писал врач Паскуале Аккардо. — И все же по-холмсовски идеальный вариант именно таков: раскрыть преступление не выходя из гостиной, как Ниро Вульф». В деле Эдалджи Конан Дойль выступал в роли настоящей ищейки. В деле Слейтера роль ищейки была для него метафорической, но оттого не менее важной.
«Факты! Факты! Факты! — таково знаменитое восклицание Холмса в рассказе 1892 года „Медные буки“. — Не могу же я делать кирпичи, если нет глины». И вот Конан Дойль приступает к собиранию глины. Место убийства мисс Гилкрист уже не могло принести никакой пользы, да и в любом случае судебная экспертиза, в те годы слишком примитивная, не дала ничего ценного. Конан Дойль обратился к сфере, которую знал лучше всего, — к печатному слову. Начал он с тщательного изучения стенограммы суда, впервые опубликованной в 1910-м Уильямом Рафхедом, выдающимся шотландским юристом и криминологом.
Рафхед не пропустил ни одного дня судебных слушаний по делу Слейтера и к концу процесса был совершенно убежден в его невиновности. «О том, что его мнение явственно прочитывается в предисловии к книге о судебном процессе, — писал Питер Хант, — свидетельствует тот факт, что Слейтеру [в тюрьме] был выдан экземпляр с изъятым предисловием».
Рафхед был рад иметь такого внушительного союзника и стал помощником Конан Дойля по сбору информации — энергичным Арчи Гудвином рядом с Ниро Вульфом. Он слал писателю дополнительные документы и записи своих бесед с лицами, имеющими отношение к делу Слейтера. Конан Дойль в числе прочего обратил свой взгляд диагноста на шквал газетных статей о преступлении и его последствиях, а также на стенограмму нью-йоркского судебного заседания об экстрадиции. По сути, он составлял тщательно детализованную историю болезни. Собранные им факты были симптомами — или последствиями — рассматриваемого им случая. Ему предстояло доказать, что Слейтер не был их причиной.
Метод, к которому прибег Конан Дойль, можно сформулировать так: из потока несущественной информации выделить относящиеся к делу подробности и затем среди них найти убедительные подсказки. С помощью этого метода и глубокого понимания человеческого поведения Конан Дойль совершил первую по-настоящему плодотворную находку в отношении дела Слейтера, которая даст правдоподобный мотив для якобы немотивированного убийства Марион Гилкрист.
Итак, Конан Дойль занялся поиском фактов. Жизнь Слейтера по-прежнему была нелегкой, периоды времени отсчитывались лишь по драгоценной переписке с родителями. «Изербах год за годом полноводен, лягушачьих концертов больше нет, зато электрический транспорт ходит каждые десять минут», — писала Паулина.
«Работая с гранитными глыбами, я часто попадаю молотом по левой руке, и на каждый удар, уже полученный и еще предстоящий, я желаю вам счастливейшего нового года», — писал Слейтер в декабре очередного года. В следующем апреле он написал: «Несомненно, в Бейтене вы заметили бы, что вчера начались [пасхальные] каникулы, здешние евреи присылают мне еду, часто и рыбу, и, когда я получаю эти дополнительные блюда, я каждый раз чувствую, что ем настоящую еврейскую еду».
Как и прежде, мрачные письма Слейтера порой содержат нотки юмора. «Ваше письмо мне вручили во время ужина, и я был счастлив узнать, что вы благополучны и радостны, — писал он. — Когда я увидел ваше фото и раздумывал над отросшими волосами отца, я бессознательно поднес ладонь к голове (здесь нет зеркала) и почувствовал себя обескураженным, однако утешился мыслью, что родился уже в значительной степени лысым».
Письма Паулины по-прежнему полны стойкой веры и поддержки: «Мой добрый сын! Письмо от тебя, мое дорогое дитя, для нас радость, если оно приходит оттуда, где, Бог свидетель, не место для тебя. Почти сказкой звучит, когда я говорю тебе: ни на миг я не оставила надежды на то, что рано или поздно ты вновь получишь свободу, которую заслуживаешь. Не теряй мужества. Всевышний услышит ежедневные горячие молитвы твоих старых добрых родителей… Конечно, придет день, когда все обнаружится и мы вновь увидимся, и ты после подумаешь: моя мать предсказала верно».
В 1912 году Конан Дойль опубликовал плоды своих расследований под названием «Дело Оскара Слейтера». Эта 80-страничная книга — образец экономности, но в ней, с проницательностью Холмса и с четкостью Ватсона, Конан Дойль по бревнышку разбирает дело против Слейтера. Этот небольшой томик стал предметным уроком по абдуктивной логике, основанной на наблюдаемых фактах — и только фактах, из которых строится логичное повествование, восстанавливающее истинную картину.
«Вам известен мой метод», — часто говорит Холмс Ватсону, и в «Деле Оскара Слейтера» логика Конан Дойля в точности повторяет подход Холмса. Начиная дело, он желал получить ответ на целый ряд вопросов. Что есть факт и что есть предположение? Какие данные настолько несерьезны, что не были замечены более ранними расследователями? Какая закономерность проступает, когда все факты собраны, структурированы и кодифицированы? Холмс, предостерегая Ватсона, описывал процесс так: «Никогда не доверяйте общим впечатлениям, мой дорогой, но сосредотачивайтесь на деталях».
Одна из постоянных тем в этой книге Конан Дойля — крайняя нелогичность при поиске и уголовном преследовании предполагаемого убийцы. Писатель разматывает клубок нестыковок, рушит раздутые обвинения и распутывает сеть недопустимых доказательств, на которых строилось дело с начала и до конца. Во всем рассказе о преступлении и его последствиях сквозит главный вопрос: чем объяснить такие странные внешние аспекты дела?
Конан Дойль дает сцену действия: обрисовывает мисс Гилкрист, ее драгоценности и ее квартиру, воссоздает обстановку того вечера, когда произошло убийство, и изображает взволнованного Артура Адамса — и примечательно невозмутимую Хелен Ламби — на пороге квартиры. Здесь-то и начинается раскрытие обстоятельств.
В книге одно из главных и самых суровых обвинений касается действий Ламби в то время, когда злоумышленник выходил из квартиры мисс Гилкрист. Эта сцена содержит в себе подсказку особого свойства: отрицательное свидетельство. Во всей английской литературе наиболее знаменитый пример диагностического применения отрицательного свидетельства мы находим у Конан Дойля. В рассказе «Серебряный» Холмс, расследующий исчезновение знаменитого скакуна, беседует с инспектором о поведении остальных лиц на ферме, где содержали коня. «Есть еще какие-то моменты, на которые вы посоветовали бы мне обратить внимание?» — спрашивает инспектор. «На странное поведение собаки в ночь преступления», — отвечает Холмс. «Собаки? Но она никак себя не вела!» — возражает инспектор. «Это-то и странно», — замечает Холмс[51].
Для Холмса разгадка именно в бездействии. Нечто похожее, как подозревал Конан Дойль, можно было вывести и из странного поведения Ламби на пороге квартиры. Представьте себе следующее: если вы, придя домой, обнаружите выходящего из вашего дома незнакомца, вы уж точно что-нибудь скажете: «Эй!», «Стойте!», «Вы кто такой?» Однако Ламби не проронила ни слова. Ее молчание вскользь отметил Рафхед в 1910 году. Теперь, в «Деле Оскара Слейтера», Конан Дойль четко обозначил всю странность ее поведения. После описания сцены на пороге квартиры мисс Гилкрист он продолжил:
Действия Хелен Ламби можно объяснить лишь одним образом: после того как она увидела у двери Адамса, она совершенно лишилась способности рассуждать. Сначала Ламби объясняет сильный шум внизу: по словам Адамса — падением бельевых веревок, подвешенных на колесных блоках, что совершенно не могло дать такого эффекта… При появлении незнакомца она не воскликнула «Кто вы такой?» и не выказала иных признаков удивления, но позволила Адамсу предположить по ее молчанию, что незнакомец имел право там находиться. И наконец, вместо того, чтобы сразу бежать проверять, как там хозяйка, она отправляется на кухню, по-видимому все еще во власти мысли о веревках. Сказав Адамсу, что с ними все в порядке, — словно это хоть кого-то интересовало, — она идет в свободную спальню, где не могла не заметить случившееся ограбление, поскольку на полу в середине комнаты лежала раскрытая шкатулка. Однако Ламби не выказала тревоги и лишь после восклицания Адамса «Где ваша хозяйка?» наконец пошла в комнату, где совершилось убийство. Нужно признать, что такое поведение кажется странным и объясняется — если вообще объясняется — только[52] явным недостатком ума и понимания ситуации.
В «Деле Оскара Слейтера» описываются брошь, которую не признали уликой, преследование Слейтера до Америки, слушание по вопросу экстрадиции, абсурдная процедура опознания в Глазго и суд в Эдинбурге. Конан Дойль с вежливой язвительностью удивлялся, что показания Ламби и Барроуман полностью совпали — сначала в Нью-Йорке, а затем и на суде. «В Эдинбурге Барроуман, как и Ламби, была куда более уверенной, чем в Нью-Йорке, — писал он. — Чем больше времени проходило после убийства, тем, по всей видимости, легче становилось опознание… Поразительный факт: обе девушки, Ламби и Барроуман, клялись в том, что, несмотря на совместное путешествие из Нью-Йорка в одной каюте, они ни разу не разговаривали о деле, ради которого пустились в путь, и никогда не сверяли свои воспоминания о человеке, которого им предстояло опознать. Для девиц 15 лет и 21 года от роду это уникальный случай самообладания и выдержки».
Конан Дойль также опроверг постулат, принципиальный для обвинения, будто Слейтер в сознании своей вины бежал из Глазго в Рождественский сочельник 1908 года. Эта гипотеза базировалась на ложной предпосылке:
Лорд-адвокат в своей речи указал, что Слейтер, покинув Глазго, изо всех сил пытался запутать след. Однако все это время полиция Глазго располагала следующей телеграммой от главного детектива Ливерпуля: «С поезда сошли только двое… Они сняли спальный номер в гостинице „Норд-Вестерн“. Мужчина назвался Оскаром Слейтером из Глазго… Горничная имела разговор с его дамой, которая сказала ей, что пара собирается отплыть в Америку на судне „Лузитания“».
Стало быть, никакого запутывания следов… Разумеется, правда и то, что на борту судна Слейтер принял имя Отто Сандо. Он желал начать в Америке новую жизнь под этим именем. Ясным доказательством того, что он переменил имя из-за Америки, а не из-за желания сбить со следа полицейских, является тот факт, что для учетной книги ливерпульской гостиницы он дал свое истинное имя и адрес в то самое время, когда, согласно полицейским теориям, он должен был прилагать все усилия к сокрытию своей личности. Можете ли вы представить себе убийцу, который бежит с места преступления, зная, что за ним гонятся, и при этом в первой же гостинице оглашает, кто он и откуда прибыл?
Преследование Слейтера, писал Конан Дойль в 1912 году, было нелогичным с самого начала: «Вообразите себе чудовищное совпадение, связанное с его виной, — совпадение, состоящее в том, что полиция из-за своей ошибки с брошью чисто случайно пустилась по следам нужного ей преступника. Какой вариант более вероятен: неслыханное совпадение или то, что полицейские, ухватившись за гипотезу о виновности Слейтера в убийстве, упорствуют, рассчитывая на то, что ненадежное опознание иностранца с нетрадиционной внешностью оправдает их действия?»
Это «ненадежное опознание», подчеркивает Конан Дойль, стало основой, на которой обвинители выстроили все судебное дело: «Полиция так и не смогла предъявить самое основное: связь между Слейтером и мисс Гилкрист или объяснение того, каким образом иностранец, приехавший в Глазго, мог узнать о существовании — не говоря уже о богатстве — пожилой дамы, которая имела мало знакомых и редко выходила из квартиры». Конан Дойль также напомнил читателям об обещании лорда-адвоката рассказать присяжным о том, как Слейтер узнал о драгоценностях мисс Гилкрист: «Никаких дальнейших упоминаний об этом, по-видимому, не последовало».
Кроме того, оставался вопрос о том, каким образом злоумышленнику удалось проникнуть в квартиру мисс Гилкрист. Используя абдуктивную логику, Конан Дойль дает возможный ответ:
Как убийца проник внутрь, если Ламби утверждает, что она заперла двери? Я не могу не сделать вывода, что у него были запасные ключи. В таком случае все становится понятным, ибо пожилая дама — чье восприятие было вполне нормальным — при звуке отпирающегося замка не впала бы в беспокойство, а сочла бы, что Ламби вернулась раньше времени… Это понятно. Но если у него не было ключей, вообразите себе сложности… Если бы дама открыла дверь квартиры, то ее тело нашли бы в прихожей. Поэтому полиция руководствовалась предположением, что дама услышала звонок, прямо из квартиры открыла нижнюю дверь (как это можно проделать в любой шотландской квартире), открыла дверь квартиры, на освещенной лестнице даже не взглянула на входящего, но вместо этого вернулась к своему креслу и журналу, оставив дверь открытой для убийцы. Такой поворот возможен, но разве не является он крайне невероятным? Мисс Гилкрист боялась ограбления и не стала бы отказываться от простейших предосторожностей… В то, что беспокойная старая дама откроет обе двери и, не взглянув на посетителя, вернется в столовую, очень трудно поверить.
Абсурдность полицейских доказательств, указывал Конан Дойль, становится ясна, если взглянуть на преступление с точки зрения преступника — к этой технике не раз успешно прибегал Холмс.
Он заранее спланировал свои действия. Общеизвестно, что открыть нижнюю дверь шотландской квартиры легко. С этим справится любой перочинный нож. Если преступнику, чтобы добраться до жертвы, требовалось бы звонить в дверь, то очевидно, что лучше было бы звонить у верхней двери, поскольку иначе слишком велик шанс, что хозяйка взглянет вниз, увидит поднимающегося по лестнице злоумышленника и запрется изнутри. С другой стороны, если он подойдет к верхней двери и хозяйка ее откроет, ему останется лишь приналечь, и он окажется внутри… И все же полиция выдвигает теорию, что… он позвонил снизу. Он не стал бы этого делать… Если взвесить все эти доводы, то, я думаю, невозможно не прийти к выводу, что у убийцы были ключи.
В поддержку гипотезы о том, что убийца не был чужим в доме, Конан Дойль восстановил его поведение внутри квартиры: чужак, — рассуждал он, — решил бы, что мисс Гилкрист хранила драгоценности в своей спальне. Здесь, как и прежде, Конан Дойль основывался на отрицательном действии, поскольку злоумышленник четко знал, что на комнату мисс Гилкрист тратить время не нужно: «Если принять, что убийца охотился за драгоценностями, то очень важно отметить его знание об их местоположении, — писал он. — Почему он пошел прямиком в гостевую спальню, где и хранились драгоценности? Любые сведения, полученные со стороны (например, при наблюдении с заднего двора), указали бы на то, какую из комнат занимает хозяйка. Можно предположить, что грабитель, получивший сведения таким способом, сразу отправится в хозяйскую спальню. Однако этот человек так не сделал. Он сразу прошел в другую комнату… Разве это не наводит на мысли? Не заставляет заподозрить, что он был уже знаком с внутренним устройством квартиры и привычками хозяйки?»
Позаимствовав еще один прием из репертуара Холмса, Конан Дойль представил себе, как пошло бы дело, если бы Слейтер вправду был убийцей, — и описал те осложнения, которые неминуемо возникли бы.
Пришлось бы заметить, что, кроме опознаний, надежность которых сомнительна, между преступлением и предполагаемым преступником нет ни единой точки соприкосновения. Можно возразить, что такой точкой является наличие молотка, но в каком хозяйстве нет молотка? Не забывайте, что если Слейтер совершил убийство этим молотком, то он его специально брал с собой… Но какому здравомыслящему человеку при планировании преднамеренного убийства придет в голову брать с собой орудие легкое, хрупкое и настолько длинное, что оно будет торчать из любого кармана? Камень на дороге послужит той же цели гораздо лучше. К тому же молоток, покрытый кровью, находился бы в кармане и после преступления. Если бы Слейтер избавился от одежды, он, разумеется, избавился бы также и от молотка.
Еще до начала суда над Слейтером, указывает Конан Дойль, «три важных пункта — заложенная брошь, предполагаемое бегство и показания об одежде и оружии — либо были совершенно опровергнуты, либо стали крайне ненадежны». Это значило, что (будучи джентльменом, Конан Дойль не мог открыто обвинять следствие в подтасовке фактов) ради требуемого приговора обвинители прибегали к любым мерам.
Обратившись к самой процедуре суда, Конан Дойль анализировал выступления сторонников обвинения с изяществом опытного эксперта. «Лорд-адвокат говорил, не заглядывая в бумаги, что свидетельствует о его красноречии, но не способствует точности, — сухо замечал он. — Если присяжные помнили даты хоть сколько-нибудь нечетко, то дважды повторенное авторитетное утверждение лорда-адвоката, будто вымышленное имя Слейтера было названо им до его отъезда, имело самый серьезный эффект».
Он продолжал: «Некоторые другие заявления лорда-адвоката неожиданные. Убийство было совершено около семи часов. Убийца мог вновь выйти на улицу около десяти или пятнадцати минут восьмого… И все же Шмальц говорит, что Слейтер был дома в семь, и так же говорит Антуан».
Одна из самых явных логических ошибок в речи лорда- адвоката, — указывал Конан Дойль, — касалась местонахождения драгоценностей мисс Гилкрист. Поскольку убийца не знал точного места их хранения (знал, в какой комнате искать, но не знал, что драгоценности были спрятаны в шкафу), то, по утверждению лорда-адвоката на суде, «это вполне мог быть обвиняемый». Конан Дойль понимал, что утверждение обвинителя в виде логической цепочки приняло бы такую форму:
Убийца был незнаком с устройством дополнительной спальни мисс Гилкрист.
Слейтер был незнаком с устройством дополнительной спальни мисс Гилкрист.
Следовательно, Слейтер — убийца.
«Это мог быть обвиняемый, — повторил Конан Дойль и почти с неприкрытым презрением добавил: — А еще это мог быть любой человек в Шотландии».
Рассматривая другие утверждения обвинителей, Конан Дойль не преминул парировать одно из них, указав на явное преувеличение. «Лорд-адвокат заявил, что смена имени [Слейтером] „заставляет усомниться в его невиновности“, — писал он. — Возможно, это и верно, как и то, что смена может иметь под собой причину, не имеющую ничего общего с убийством».
Конан Дойль критиковал и защитников Слейтера. Несмотря на всю дипломатичность в отношении адвоката, Александра Макклюра, Конан Дойль не обошел молчанием недостатки его ведения дела:
При таком большом количестве данных немудрено упустить из виду некоторую их часть. Например, от адвоката можно было бы ожидать большей настойчивости в ситуации, когда обвинение не смогло показать, каким образом Слейтер мог хоть что-то знать о существовании мисс Гилкрист и ее драгоценностей, как он попал в квартиру и что сталось с брошью, которую, по их мнению, он унес с собой…
Лишь в одном случае выбор мистера Макклюра представляется сомнительным — и такие случаи являются самыми сложными для адвокатов. Он решил не давать слова подзащитному… Это, разумеется, сыграло не в пользу его клиента.
Конан Дойль анализировал не только людей. Одним из самых ярких его достижений стал «допрос» предметов, связанных с преступлением: он исследовал полсоверена, деревянную шкатулку, пропавшую брошь, драгоценности на туалетном столике. Именно попытка «разговорить» эти предметы позволила выявить первый правдоподобный мотив для убийства мисс Гилкрист.
Главными свидетелями преступления становятся подчас не люди, а вещи. Врач по состоянию конечностей или органов может воссоздать их историю, археолог по горшечному черепку способен увидеть фрагмент прошлого — точно так же и детектив может взять бессловесный предмет и получить от него свидетельство о давних событиях, о которых иным способом не узнать. Среди литературных сыщиков считывать информацию с предметов лучше всего умел Шерлок Холмс.
Яркий пример этого мы находим в рассказе 1892 года «Голубой карбункул»[53]. Холмс заполучил гуся и шляпу — предметы, принадлежащие незнакомцу, которого сыщик никогда не видел. Шляпа становится поводом для целой цепи абдуктивных умозаключений.
«Как же вы узнаете, кто он?» — спрашивает уже женатый Ватсон, время от времени навещающий Бейкер-стрит.
— Только путем размышлений.
— Размышлений над этой шляпой?
— Конечно.
— Вы шутите! Что можно извлечь из этого старого рваного фетра?
Холмс взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом, свойственным ему одному.
— Конечно, не все достаточно ясно, — заметил он, — но кое-что можно установить наверняка, а кое-что предположить с разумной долей вероятия. Совершенно очевидно, например, что владелец ее — человек большого ума и что три года назад у него были изрядные деньги, а теперь настали черные дни. Он всегда был предусмотрителен и заботился о завтрашнем дне, но мало-помалу опустился, благосостояние его упало, и мы вправе предположить, что он пристрастился к какому-нибудь пороку — быть может, к пьянству. По-видимому, из-за этого и жена его разлюбила…
— Дорогой Холмс…
— Но в какой-то степени он еще сохранил свое достоинство, — продолжал Холмс… — Он ведет сидячий образ жизни, редко выходит из дому, совершенно не занимается спортом. Этот человек средних лет, у него седые волосы, он мажет их помадой и недавно подстригся. Вдобавок я почти уверен, что в доме у него нет газового освещения.
Ватсон, в полном изумлении, просит Холмса объяснить.
Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на голову. Шляпа закрыла его лоб и уперлась в переносицу.
— Видите, какой размер! — сказал он. — Не может же быть совершенно пустым такой большой череп.
— Ну а откуда вы взяли, что он обеднел?
— Этой шляпе три года. Тогда были модными плоские поля, загнутые по краям. Шляпа лучшего качества. Взгляните-ка на эту шелковую ленту, на превосходную подкладку. Если три года назад человек был в состоянии купить столь дорогую шляпу и с тех пор не покупал ни одной, значит, дела у него пошатнулись.
Логические рассуждения продолжаются и дальше. Холмс говорит о предусмотрительности хозяина шляпы (на нее указывает шляпная резинка), его моральном упадке (не стал заменять негодную резинку новой) и том факте, что он пользуется помадой для волос (срезанные после стрижки волоски, приставшие к подкладке).
— А как вы узнали, что его разлюбила жена?
— Шляпа не чищена несколько недель. Мой дорогой Уотсон, если бы я увидел, что ваша шляпа не чищена хотя бы неделю и вам позволяют выходить в таком виде, у меня появилось бы опасение, что вы имели несчастье утратить расположение вашей супруги…
— У вас на все готов ответ. Но откуда вы знаете, что у него в доме нет газа?
— Одно-два сальных пятна на шляпе — случайность. Но когда я вижу их не меньше пяти, я не сомневаюсь, что человеку часто приходится пользоваться сальной свечой — может быть, он поднимается ночью по лестнице, держа в одной руке шляпу, а в другой оплывшую свечу. Во всяком случае, от газа не бывает сальных пятен. Вы согласны со мною?
Такому же допросу Конан Дойль подверг и предметы с места убийства мисс Гилкрист, хотя и не видел их воочию. То, что полиция воспринимала лишь как разрозненные объекты, он увидел как целостную систему: монета в полсоверена на ковре рядом с телом мисс Гилкрист, драгоценности на блюде, стоящем на туалетном столике, и в особенности шкатулка на полу. Конан Дойль первым указал на важность того, что вещи находились именно на этих местах.
«Полиция в рассказах о Холмсе, — пишут два американских исследователя, — часто следует ложной версии именно потому, что в начале расследования полицейские выдвигают гипотезу, в лучшем случае объединяющую некоторые разрозненные факты, но не учитывают „мелочей“ и поэтому отказываются рассматривать данные, не подкрепляющие их теорию». Как обнаружил теперь Конан Дойль, именно это и произошло с полицией Глазго, которая сочла ограбление главным мотивом убийства мисс Гилкрист. Он писал:
Следует задаться вопросом, были ли нужны убийце драгоценности… Когда он дошел до спальни и зажег газ, он не стал сразу же хватать часы и кольца, которые открыто лежали на туалетном столике. Не подобрал полсоверена… Его внимание было отдано рабочей шкатулке, крышку которой он вскрыл. (Я думаю, это и был звук «ломаемого хвороста», слышанный Адамсом.) Бумаги из шкатулки была рассыпаны по полу. Может, бумаги и составляли его цель, а финальное похищение бриллиантовой броши было всего лишь отвлекающей уловкой?.. Если считать, будто убийца действительно охотился за драгоценностями, то очень полезно отметить его знание об их местонахождении, причем знание неполное… Если ему требовались драгоценности, то он знал, в какой они комнате, но не знал, в какой части комнаты. Более полные сведения подсказали бы ему, что драгоценности хранились в платяном шкафу. Однако убийца обыскивал шкатулку. Если он охотился за бумагами, то его сведения были полными.
Конан Дойль, мастер детективных историй, немедленно опознал украденную бриллиантовую брошь как второстепенный предмет. Когда Адамс позвонил в дверь, злоумышленник, скорее всего, сунул брошь в карман перед тем, как величественно выйти из квартиры. Викторианская литература содержит обильные свидетельства того, что в те времена страсть к бриллиантам была очень распространена. Убийца, сознательно или нет, схватил драгоценность, которая станет объектом полицейского расследования и центром внимания публики. Брошь, за которую чуть не повесили Слейтера, по убеждению Конан Дойля, была всего лишь «побочным симптомом».
Внимание к шкатулке и ее разбросанному содержимому позволило Конан Дойлю определить первый истинный мотив для убийства. Зачем, риторически спрашивал он себя, злоумышленнику пренебрегать драгоценностями ради бумаг? «Можно сказать, — писал он, — что, помимо завещания, трудно представить себе документ, который стоил бы таких действий».
Догадка Конан Дойля окажется правильной. До 1914-го мало кто знал, что члены семьи мисс Гилкрист ссорились из-за наследства еще до ее смерти. Позже они начали втихомолку обвинять друг друга в ее убийстве.
«Дело Оскара Слейтера» было издано 21 августа 1912 года, книга продавалась за шесть пенсов: Конан Дойль намеренно не повышал цену, чтобы книгу прочло как можно больше людей. «После публикации я получил многочисленные письма со всей страны, меня просили употребить все мое влияние на то, чтобы убедить власти назначить повторное расследование, — писал он в следующем месяце. — Полагаю, что, указав британской публике на возможность и вероятность судебной ошибки, я пробудил более широкий интерес к случаю Слейтера, и если общественность согласна с моим мнением, то ей остается добиться пересмотра дела».
При публикации книги Конан Дойль опроверг обвинения в том, что он защищает убийцу. «Может показаться, что я изложил дело полностью с точки зрения защиты, — писал он. — В ответ я лишь попросил бы читателя прочесть показания всех участников полностью. И тогда обнаружится, что эту историю невозможно рассказать без сознательного выбора в пользу защиты. На одной стороне — факты. На другой — домыслы, неудовлетворительные опознания, опасные изъяны и крайне стойкие предрассудки». Или, как гласит знаменитое изречение Холмса, «отбросьте все невозможное; то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался»[54].
«Вкратце, — заключает Конан Дойль, — я не вижу, как разумный человек, взвесив все свидетельства, может не признать, что подсудимый, воскликнув: „Я ничего об этом не знаю“, говорил истинную правду».
Однако при всей проницательности книги, при всей ее холодной логичности и скрытой ярости «Дело Оскара Слейтера» появилось слишком рано: убийство мисс Гилкрист было еще живо в памяти публики, и многие по-прежнему считали Слейтера виновным. Несмотря на то что «каждая улика против Слейтера при проверке разваливается на куски» (как писал позже Конан Дойль), книга почти не оказала влияния на дело и Слейтер остался в заточении.
Ко времени выхода книги отчаяние Слейтера, такое очевидное в 1911 году, сменилось покорностью. «Что до моего дела, я давно уже смирился с неизбежным, а поскольку мне не может помочь никто, кроме Всевышнего, то я отдаю все под Его защиту, — писал он родителям. — Сила воли — лучшее лекарство против горя. Я наконец настроился не размышлять слишком много о своем жалком положении». Позже он написал им: «Рад сообщить, что я чувствую себя сильным и здоровым как телом, так и душой и бестрепетно покоряюсь своей судьбе».
Новообретенная решимость Слейтера была нелишней — в ближайшие два года существенных перемен по его делу не предвиделось. Затем, в 1914 году, секретная бумага из полицейских архивов Глазго бросит подозрение на некую личность, которую мисс Гилкрист знала в течение долгого времени.
Глава 16. Крах Джона Томсона Тренча
В ноябре 1912-го, почти через четыре года после смерти мисс Гилкрист, в городке Броти-Ферри поблизости от Данди, к северу от Эдинбурга, была найдена убитой 65-летняя шотландка по имени Джин Милн. По случайному совпадению многие детали убийства перекликались с делом мисс Гилкрист. Жертва была богатой и жила уединенно. Тело нашли внутри ее элегантного дома, смертельный удар по голове нанесли кочергой. В доме обнаружилось множество денег и драгоценностей, однако ничего не пропало. Дверь не взламывали: по-видимому, жертва сама впустила убийцу.
Толпа свидетелей утверждала, что у дома Милн был замечен мужчина; основываясь на их заявлениях, полиция Данди разослала его приметы по всей Великобритании. Полиция английского городка Мейдстон, расположенного к юго-востоку от Лондона, мгновенно опознала подозреваемого: Чарльз Уорнер, канадский бродяга, в то время отбывал двухнедельное заключение в мейдстонской тюрьме за неоплату счета в местной гостинице. Пятерых свидетелей из Броти-Ферри привезли в Мейдстон, и все пятеро признали в Уорнере того человека, которого они видели у дома Милн. Как описывал это Питер Хант, «один из них со слезами сказал: „Я знаю, что накидываю ему веревку на шею, но он и есть тот самый человек!“».
Полиция Данди запросила помощи в Глазго. Лейтенант-детектив Джон Томсон Тренч из центрального отделения Глазго был направлен в Мейдстон, где он арестовал Уорнера и доставил его обратно в Данди. Там его опознали еще 12 свидетелей, и местный прокурор начал заводить против него дело.
Между тем Тренчу не давала покоя одна мысль. Тело Милн обнаружили только в ноябре, однако полиция определила, что убийство произошло несколькими неделями раньше, 16 октября. Уорнер сказал Тренчу, что он приехал в Европу из Торонто и провел последние несколько месяцев в путешествиях по Великобритании и континентальной Европе. В день убийства, по его словам, он находился в Антверпене. Тренч спросил, может ли Уорнер подтвердить этот факт по гостиничным записям. Нет, ответил Уорнер: он спал на парковых скамейках.
Затем Уорнер вспомнил, что 16 октября 1912 года он заложил в Антверпене жилет, у него осталась квитанция. Дело против него набирало обороты, пишет Хант, и «Уорнер понял, что его лучший друг — тот человек, что его арестовал». Тренч выехал в Антверпен, нашел ростовщика, получил подтверждение даты и выкупил жилет Уорнера. На основании этого алиби Уорнера освободили. Толпа свидетелей ошибалась.
К этому времени Томас Тренч был одним из самых уважаемых офицеров глазговской полиции. Сын шотландского крестьянина, он начинал констеблем в 1893 году и получил звание лейтенанта-детектива в 1912-м. Владелец многочисленных наград, в 1914 году он получит королевскую полицейскую медаль за то, что «многократно выказывал недюжинную отвагу при задержания опасных преступников, а также имеет выдающиеся заслуги в полицейском деле».
Тренча все уважали. «Непринужденные манеры, живой характер, хоть и не без донкихотства, — писал Хант. — По словам майора, под командованием которого он служил в Первую мировую войну, „пользовался любовью товарищей, не позволял себе неприглядных поступков, желал справедливости для всех“». Он был женат, имел шестерых детей.
После того как зимой 1908–1909 годов Тренч поучаствовал в расследовании убийства мисс Гилкрист, он затаил глубокие сомнения в справедливости приговора. Со временем он тайно скопировал из полицейского архива документы, которые были изменены или положены под сукно, включая взрывоопасный рапорт, который в будущем будет известен как «секретный документ». В 1914 году, после пяти лет сомнений, Тренч выступил публично. Это решение повлечет за собой юридический пересмотр дела Слейтера, который обернется горьким фарсом. Оно также будет стоить Тренчу карьеры.
Неизвестно, что заставило Тренча столько лет ждать и что в итоге стало поводом к выступлению. Возможно, расследование в Броти-Ферри, когда многочисленные свидетели один за другим поручились, что невинный человек и есть убийца, усилило его сомнения насчет дела Слейтера. Может быть, он считал, что королевская медаль, врученная ему Георгом V в первый день нового, 1914 года защитит его от официального наказания.
В начале 1914 года Тренч посвятил в свои мысли друга — юриста Дэвида Кука. Он поведал Куку, что 23 декабря 1908 года, через два дня после убийства мисс Гилкрист, начальство послало его в дом ее племянницы Маргарет Биррел. Та рассказала, что Хелен Ламби не только узнала убийцу, но даже и назвала его — он был известной личностью и членом многочисленной семьи мисс Гилкрист. Позже, 3 января, Ламби повторила Тренчу то же самое.
Кук написал Томасу Маккиннону Вуду, британскому министру по делам Шотландии, и потребовал официального расследования по приговору Слейтера. Он осторожно упомянул готовность Тренча дать показания. «Если упомянутый в вашем письме констебль пришлет мне письменное изложение имеющихся у него свидетельств, — ответил Маккиннон Вуд, — я со всем возможным вниманием рассмотрю этот вопрос». Тренч, по-видимому, расценил это как гарантию неприкосновенности и выслал Маккиннону Вуду свои показания.
В марте 1914 года Кук связался с Конан Дойлем. «Прошу вас пока считать это письмо конфиденциальным», — отметил он и продолжил:
Лейтенант-детектив Тренч из центрального отделения — офицер способный и честный. Со времени первого упоминания имени Слейтера в связи с убийством мисс Гилкрист и до сего дня Тренч считал Слейтера невиновным. Я никогда не имел другого мнения.
Тренч — мой близкий друг, и я часто обсуждал с ним дело Слейтера. Он многократно повторял мне, что не удовлетворен действиями полиции по этому делу…
Я могу вам сказать, что изначальное заявление девицы Барроуман, скопированное из полицейского журнала, не имеет никакого отношения к показаниям, данным ею на суде. Смею предположить, что, если бы изначальное заявление было оглашено на суде, Слейтеру не вынесли бы обвинительного приговора…
Откровенно говоря, я считаю, что Мэри Барроуман не была на Западной Принцевой улице в 7 часов вечера или около того. Вероятно, она там находилась несколькими часами позже, когда об убийстве было уже известно. Барроуман могла быть в толпе зевак на месте происшествия. Она задерживалась с возвращением домой и, чтобы облегчить неприятные объяснения, решила привнести в дело некоторую долю сенсации…
Что касается Ламби, Тренч готов показать под присягой, что 3 января 1909 года он получил от нее категоричное заявление, что другой человек, имя которого мне не следует здесь упоминать, был тем лицом, которое она видела выходящим из дома. Это уверенное заявление было сделано Ламби 3 января не более чем через 15 минут после того, как убийца покинул дом. Полиция располагала этими фактами и намеренно скрыла информацию от адвокатов и суда…
Мисс Биррел (племянница мисс Гилкрист) готова показать, что Нелли Ламби приходила к ней домой в 7:15 в вечер убийства, вошла в дом, объявила, что ее хозяйку убили и что она видела убийцу — назвав его имя. Эту информацию мисс Биррел передала полиции в вечер убийства.
Из Виндлсхэма — своего изящного дома в Суссексе — Конан Дойль вторично взялся за дело Слейтера, вместе с Куком пытаясь воздействовать на высокое начальство ради пересмотра приговора. В марте 1914 года министр Маккиннон Вуд отметил, что формальное расследование обстоятельств вынесения приговора состоится той же весной. Расследование будет проводиться по следующим пяти пунктам.
1. Не называл ли кто-либо из свидетелей, дававших показания о личности преступника, других лиц кроме Оскара Слейтера?
2. Знал ли об этом кто-либо в полиции? Если да, почему свидетельства не были представлены на суде?
3. Скрывался ли Слейтер от правосудия?
4. Имелась ли у полиции информация о том, что Слейтер назвал свое имя в гостинице «Норд-Вестерн», Ливерпуль, указав место предыдущего пребывания и упомянув тот факт, что отплывает на судне «Лузитания»?
5. Не ошиблась ли одна из свидетельниц при указании дня, в который, по ее словам, она находилась на Западной Принцевой улице?
Ободренный Тренч приготовился рассказать правду: он знал, что если хотя бы один пункт окажется в пользу Слейтера, то приговор могут отменить. И хотя показания Тренча будут прямыми и честными, на него и Кука обрушатся неприятности.
Слейтер, судя по всему, ничего не знал о попытках пересмотреть дело. Его стойкая решимость покориться судьбе, так трогательно обрисованная в письмах 1912–1913 годов, давно уже исчезла — об этом говорит возобновленный в 1914 году поток писем к тюремному начальству, явственно отдающих паранойей. Устрашающий меморандум, составленный питерхедским врачом в феврале 1914 года, предполагает, что в течение некоторого времени умственное состояние Слейтера уже было очевидным:
Упомянутый заключенный, по моему мнению, является душевнобольным. Я уже подозревал по разным поводам, что у него мания преследования и галлюцинации — как слуховые, так и вкусовые. В настоящее время он крайне возбужден и опасен. Он в высшей степени импульсивен и неспособен контролировать свои действия. Заключенный слышит голоса, чувствует запах применяемого к нему хлороформа; он также утверждает, будто я не даю ему никакого лечения и пытаюсь его убить, что является бредом. Ему небезопасно находиться на работах, и я обратился к начальнику тюрьмы с просьбой держать его в отдельной камере и под строгим присмотром.
Расследование по вопросу приговора Слейтеру должно было состояться в Глазго под руководством Джеймса Гарднера Миллара — юриста, занимающего в Ланаркшире пост шерифа графства. У сторонников Слейтера назначение вызвало обеспокоенность. «Шериф Гарднер Миллар — превосходный юрист, и в вопросах гражданского права я не знаю специалиста с более весомым мнением, — сообщал Кук в апреле 1914 года в письме к Конан Дойлю. — Однако у него нет никакого опыта в уголовных делах. Он в этом совершенный младенец, и главный его принцип — полиция не может ошибаться».
Беспокойство Кука мгновенно себя оправдало. Миллар объявил, что слушания будут проходить за закрытыми дверями, без доступа прессы и публики. Рассматриваться будут лишь факты, а не процесс ведения суда. Свидетелей не будут приводить к присяге, лишь попросят их говорить правду. Эти условия, как с горечью Кук писал Конан Дойлю, «говорят мне, что слушания в большей или меньшей степени будут фарсом».
Из тех данных, которые Тренч планировал огласить, наиболее взрывоопасными были секретные документы, которые он скопировал из полицейского архива, в них содержались показания Маргарет Биррел, данные ею вскоре после убийства. В этих показаниях Биррел рассказывала о визите Ламби и о том, как она назвала злоумышленником другого человека, не Слейтера. Для защиты этого человека, которому не предъявили обвинений, в последующих полицейских копиях этого документа указывался лишь псевдоним — инициалы А. Б.
Через два дня после смерти мисс Гилкрист, 23 декабря 1908 года, Тренч по приказу старшего руководителя по фамилии Орр направился в дом Биррел, чтобы взять у нее показания. Позднее он вспоминал: «Я получил отдельные инструкции допросить ее об [А. Б.] и о том, что сказала Ламби во время своего посещения ее дома в вечер убийства. Я сходил к мисс Биррел и получил от нее это свидетельство слово в слово». Вернувшись в полицейский участок, он пересказал слова Биррел двум начальникам, имеющим схожие имена, — руководителю уголовного отдела Джону Орду и старшему руководителю Джону Орру. Особенно радовался Орр, заявивший: «Это первая настоящая улика, которая у нас есть». Показания Биррел, записанные Тренчем, выглядели так:
Я племянница покойной Марион Гилкрист, жившей в доме 15 на Королевской террасе, Западная Принцева улица. Моя мать приходилась ей сестрой. Отношения мисс Гилкрист с родственниками не были хорошими. Ее почти никто не навещал.
После возвращения [из недавнего путешествия] она вновь и вновь объявляла о своей решимости изменить завещание. Некоторые из ее родственников полагали, что она успела это сделать. Своего намерения она не скрывала. С родственниками, которые ее навещали, она самым явным образом обходилась дурно…
Вечер убийства я никогда не забуду. Служанка мисс Гилкрист, Нелли Ламби, подошла к моей двери в 7:15. Она была возбуждена, сильно дергала звонок. Когда дверь открылась, Нелли ворвалась в дом и воскликнула: «О, мисс Биррел, мисс Биррел, мисс Гилкрист убили, она лежит мертвая в столовой, и о, мисс Биррел, я видела человека, который это сделал».
Я ответила: «Боже, Нелли, это ужасно. Кто это был, ты его знаешь?»
Нелли ответила: «О, мисс Биррел, я думаю, это был [А. Б.]. Я уверена, что это был [А. Б.]». Я сказала ей: «Боже, Нелли, не говори так, убийство в семье и без того дурно, а убийца — в тысячу раз хуже. Если не очень уверена, Нелли, не говори так». Она вновь повторила мне, что она уверена в том, что это был [А. Б.].
В тот же вечер ко мне приходили детективы Пайпер и Доман, и от них я узнала, что она сказала им об [А. Б.]. Я известила об этом некоторых моих друзей, включая члена муниципалитета Глазго, который связался со старшим руководителем Орром. Во второй половине дня в среду, 23 декабря 1908 года, меня навестил детектив Тренч, и я в точности изложила ему то, что мне сказала Ламби.
Однако еще до конца дня 23 декабря были предприняты усилия скрыть «первую настоящую улику»: человек, которого назвала Ламби, принадлежал к высшему обществу Глазго. Пока Тренч записывал показания Биррел, Орд имел телефонную беседу с коллегой, Уильямом Миллером Дугласом, — тот руководил западной секцией полицейского отдела, изначально отвечавшего за расследование. «Я звонил Дугласу, — сказал Орд Тренчу, — и он убежден, что [А. Б.] непричастен к делу». В отношении показаний Биррел этим дело и кончилось: адвокаты Слейтера об их существовании так и не узнали.
В день 3 января 1909 года Тренч, имея при себе набросок портрета Слейтера, был отправлен беседовать с Ламби. Она не узнала человека на портрете. Тренч позже заявил:
С Ламби я до этого не говорил, но брал показания у мисс Биррел и поэтому знал, что Ламби объявила [А. Б.] виновником. Я коснулся [А. Б.], спросив у нее, вправду ли она думает, что это тот человек, которого она видела. Она отвечала: «Было бы смешно, будь он не тот, кого я видела»… После встречи с Ламби я заключил, что если бы ее кто-то поддержал, то она указала бы на [А. Б.] под присягой. Я был настолько поражен, что на следующее утро упомянул об этом факте руководителю отдела Орду, спросив его, не считает ли он, что это мог быть не [А. Б.]. Он мне ответил лишь: «Дуглас все выяснил, что мы можем сделать?»
У Марион Гилкрист был младший брат Джеймс, который женился на даме по имени Элизабет Грир. Джеймс умер в 1870 году, тремя годами позже Элизабет Грир-Гилкрист вышла замуж за профессора Мэтью Чартериса, который преподавал медицину в Университете Глазго. У этой пары было три сына: Арчибальд родился в 1874-м, Фрэнсис — в 1875-м и Джон — в 1877-м.
Род Чартерисов был знаменит: среди предков числились прославленные миссионеры, теологи и преподаватели, и сыновья Элизабет полностью оправдали ожидания семьи: Арчибальд стал выдающимся юристом, Фрэнсис — врачом и преподавателем Глазговского университета, как отец; Джон стал офицером. К началу XX века семья была одной из самых известных в Глазго. Позже, в 1907 году, Фрэнсис Чартерис упрочил свое положение женитьбой на Анни Фрезер Кеди, дочери одного из состоятельных фабрикантов города.
Братья Чартерис, хотя и не имевшие родства с мисс Гилкрист, стали ей фактически племянниками, поскольку были сыновьями ее бывшей невестки. Они временами ее навещали и, судя по большинству отзывов, поддерживали с ней более теплые отношения, чем другие. Фрэнсис Чартерис, на свадьбе которого мисс Гилкрист была гостьей, был особенно к ней внимателен; именно от него она получила в подарок ирландского терьера. Однако Маргарет Биррел сказала Тренчу, что, несмотря на эти знаки внимания, «мисс Гилкрист заявила мне, что никто из Чартерисов не получит ни пенни из ее денег».
Фрэнсис Чартерис и был тем самым «А. Б.». Конан Дойль, частным порядком считавший, что именно Фрэнсиса и видели в передней мисс Гилкрист в вечер убийства, не спешил его обвинять. Кук тоже предостерегал насчет осмотрительности. «С любыми обвинениями против доктора я намерен обращаться осторожно, — писал он Конан Дойлю в мае 1914 года. — Ни я, ни кто другой не можем заявить, что доктор Чартерис и есть тот злоумышленник. Мы, разумеется, вправе сказать, что если его имя упоминала Ламби, то делу Слейтера когда-то должен прийти конец».
Однако семья Чартерисов, по-видимому, задействовала свои связи на самых высоких уровнях, пытаясь замолчать признание Ламби, и поэтому Слейтер был обречен.
Закрытое слушание по делу Оскара Слейтера состоялось в Глазго 23–25 апреля 1914 года. Шериф Миллар заслушал показания двух десятков свидетелей, несколько из которых, в том числе Мэри Барроуман и торговец велосипедами Аллан Маклин, в основном лишь повторили то, что говорили на суде пятью годами раньше.
Полицейские, дававшие показания, неумолимо стояли стеной, защищая своих. Старший руководитель Орр, который теперь носил звание помощника главного констебля, сказал, что не помнит, как посылал Тренча брать показания у Маргарет Биррел и как произносил фразу «это первая настоящая улика, которая у нас есть». Инспектор Пайпер, теперь главный инспектор-детектив, сказал, что Ламби ничего не говорила ему об А. Б. в вечер убийства; также он сказал, что она не могла опознать злоумышленника.
Миллар также допросил Ламби и Биррел. Ламби, ныне жена шахтера по имени Роберт Гиллон, заявила, что не называла имени А. Б. Она отрицала, что Тренч показывал ей портрет Слейтера и задавал вопросы об А. Б., а также то, что сказала ему: «Было бы смешно, будь он не тот, кого я видела». Биррел отрицала, что Ламби говорила ей об А. Б., и отрицала, что пересказывала это Тренчу.
Несколько свидетелей дали показания, которые могли бы стать свидетельством в пользу Слейтера; двое из них не выступали на первом суде: зеленщик Дункан Макбрейн и Колин Маккаллум — обувщик, у которого работала Барроуман. Макбрейн показал, что видел Слейтера спокойно стоящим у двери многоквартирного дома, в котором жил, в 8:15 того самого вечера, когда убили мисс Гилкрист, — в то самое время, когда Слейтеру полагалось запутывать следы после убийства, бегая по улицам в предместьях Глазго. Маккаллум показал, что у Барроуман не было никакого поручения, ради которого ей в тот вечер пришлось бы оказаться на Западной Принцевой улице.
Последним в тот день давал показания Джон Томсон Тренч. Назавтра Дэвид Кук писал Конан Дойлю:
Слушания, как вы знаете, открылись вчера. Тренч был последним свидетелем, дававшим показания в тот день. Я видел его позже. Он человек рассудительный и абсолютно честный. Он сказал мне, что слушания, по его мнению, были самым крупным фарсом, какой только происходил в юридических кругах за долгое время.
Сначала шериф сказал ему, что мисс Биррел и Ламби отреклись от заявлений про Чартериса, и спросил, посмеет ли он настаивать. Тренч подтвердил, что настаивает, и достал дневник, который содержал в образцовом порядке и в котором указано, что Тренч действительно наносил те визиты.
Рука полиции видна на всем. Освободить Слейтера в результате нынешнего волнения фактически значило бы обвинить полицию, прокурора, лорда-адвоката и судью. Вместо того чтобы выпустить дело на свет, прилагались и будут прилагаться все усилия, чтобы замять честное расследование.
По окончании слушаний шериф Миллар выслал стенограмму на рассмотрение министру Маккиннону Вуду. «Касательно манеры тех, кто давал показания, — написал он в сопроводительной записке, — я считаю достаточным заявить, что мисс Биррел… производила впечатление очень умной, внимательной и надежной свидетельницы… Миссис Гиллон [Хелен Ламби], мисс Мэри Барроуман и мистер Макбрейн выглядели честными и желающими рассказать правду». Позже, 17 июня 1914 года, Маккиннон Вуд огласил свое решение. «Я удовлетворен, — сказал он, — что не обнаружено никаких поводов вмешаться в исполняемый приговор».
Разгневанный Конан Дойль отправил в печать яростное письмо. «Слушания велись при закрытых дверях перед одним-единственным местным шерифом, свидетели не были приведены к присяге, — писал он. — Все отдавало скорее русской, чем шотландской юриспруденцией». Он добавил: «Все дело, по моему мнению, останется бессмертным среди отборных злодеяний в качестве примера некомпетентности и упрямства должностных лиц».
Несмотря на ярость, Конан Дойль писал: «Мы не смогли сделать больше ничего». Для Тренча и Кука, впрочем, начинался новый, мрачный виток дела Слейтера.
14 июля 1914 года лейтенант-детектив Джон Томсон Тренч был отстранен от исполнения служебных обязанностей, 14 сентября его уволили из департамента полиции Глазго. Дискредитированный, он ушел в армию и стал инструктором по строевой подготовке, а затем сержантом в Королевском шотландском пехотном полку. В мае 1915 года, когда он готовился отправиться к Дарданеллам в составе своего батальона, он был арестован глазговскими полицейскими, в тот же день арестовали Кука. Их обвинили в перепродаже вещей, украденных при ограблении ювелирного магазина в Глазго в январе 1914 года.
Тренч в том деле был детективом. По распоряжению начальства он привлек Кука в качестве посредника между страховой компанией магазина и скупщиком краденого, в руки которого попали драгоценности. Кук исполнил приказ, и драгоценности были возвращены в обмен на 400 фунтов стерлингов от страховщика. Теперь местный прокурор Джеймс Харт заявил, что ему никто не говорил об этой сделке и что действие, предпринятое Куком и Тренчем, квалифицируется как нелегальная продажа краденого товара.
Суд над Куком и Тренчем открылся в августе 1915 года. К счастью, судья счел дело почти анекдотичным и велел присяжным вынести оправдательный вердикт. Присяжные повиновались, вердикт был единогласным. Тренч с честью прошел Первую мировую войну и был уволен из армии в октябре 1918 года. Им с Куком не суждено было дожить до старости: Тренч умер в 1919 году 50-летним, Кук умер в 1921 году в возрасте 49 лет.
В следующий раз Конан Дойль займется делом Слейтера через десять с лишним лет после слушаний. Он писал:
Я устал от дела, ибо потратил на него не один месяц, однако я чувствовал, что противостою кругу юристов, которые не могут выдать полицию, не выдав при этом самих себя. Несомненно, что мистер Юр в своей прокурорской речи зашел слишком далеко и что при справедливом рассмотрении дела это должно быть признано.
Нам нужно полное и бесстрастное расследование. Когда оно произойдет — если когда-либо произойдет, — будет большой скандал.
Оскар Слейтер ничего не знал о существовании мисс Гилкрист, против него нет никаких приличных улик. Кто совершил преступление — вопрос опасный. В любом случае Слейтер его не совершал.
К 1924 году, когда Конан Дойль опубликовал первое издание автобиографии, включавшей краткое изложение дела Слейтера, большинство руководящих лиц, участвовавших в суде и в тайных слушаниях, были уже мертвы. «Любопытно, что сейчас, когда я это пишу, судья Гатри, Кук, Тренч, Миллар и другие уже умерли, — сказал Конан Дойль. — Однако Слейтер еще жив и находится в Питерхеде».
Глава 17. Не исключая каннибалов
Годы Первой мировой войны были для Слейтера ужасны. Однажды тюремщики, под влиянием захлестнувших Великобританию антигерманских настроений, привязали его к столбу — то ли за разговоры, то ли за невыполнение рабочей нормы в карьере — и оставили под солнцем на два часа. Это происшествие, о котором Слейтер рассказал в 1925 году, не было параноидальным бредом: оно также описано в газетной статье Уильяма Гордона о тюремной жизни Слейтера — статья была опубликована после освобождения Гордона в 1925 году. «Общеизвестно, что на разговоры и прочие мелкие нарушения тюремного распорядка надсмотрщики смотрят сквозь пальцы, — пишет Гордон. — Но доносов — и наказаний — Слейтеру доставалось больше, чем другим».
Во время войны также прекратился ободряющий поток писем из Бейтена. Архив семейной переписки, изобилующий письмами в обе стороны, с лета 1914 года до весны 1919-го совершенно пуст. «Дорогие родители, — напишет Слейтер в 1919 году, — ваше последнее письмо, дорогие мои, я получил 8 / 8 / 1914, пять лет назад». Он продолжает:
После подписания мира я надеялся сразу получить вести от вас — нынешние мои чувства известны лишь Богу… Во время войны я не мог получать письма. Я нарочно себя взбадривал, но теперь это трудно. Война окончена, для меня вновь стали доступны пути и способы получения писем, и прежнее отсутствие вестей от вас, мои дорогие, для меня очень нерадостно. Неопределенность начинает на мне сказываться… Вы, мои драгоценные родители, стары, я тоже старею и теряю здоровье. Для всех нас один путь, и я от всего сердца прошу вас поскорее написать мне все в подробностях — я готов ко всему.
В апреле 1919 года Слейтер получил первую послевоенную весточку — письмо от сестры Мальхен. Впервые за все время письмо от семьи было написано не родителями. «Мне не нужно больше от тебя скрывать, дорогой Оскар, что матушка была очень больна и Бог явил особую милость, вернув ее нам, — писала Мальхен. — Мы все радуемся признакам жизни от тебя. Я вновь тебе напишу, когда мне будет позволено. Я навещаю родителей почти каждую неделю».
Затем, в следующем феврале, Слейтер получил весть, к мужественному принятию которой долго готовился. «Могу себе представить, дорогой Оскар, как огорчит тебя смерть дорогих людей, и я надеюсь, что от первого впечатления ты уже оправился, — писала ему позже Мальхен. — Теперь я расскажу тебе о последних днях наших родителей»:
Отец многие годы был нездоров, и его смерть была облегчением. Матушка заболела диабетом, а еще страдала сердечным недугом — в придачу ко всем переживаниям из-за твоей истории. Ты не представляешь, как все переменилось, ужасные цены по всей Германии и мало еды. Георг вдруг начал страдать желудком, это переросло в рак. Его жена умерла от отека горла, который не могли оперировать из-за ее слабого сердца. [Их] младший сын Карл, благородный и умный, погиб на войне. Старший, Эрнст, находится в клинике для душевнобольных. Я совсем отдалилась от Феми. Она была очень недобра к нашей покойной матушке. После смерти матери она дурно поступала и со мной тоже, и в итоге я лишилась всего наследства. С финансовой точки зрения я не в обиде, меня лишь огорчает ее дурное обращение.
Ответ Слейтера не сохранился, однако в октябре 1920 года Мальхен пишет вновь:
Жаль, что ты должен писать по-английски, потому что я боюсь, что мне неверно переведут твои письма и тогда часть содержимого будет для меня потеряна. Теперь я отвечу на твои вопросы о смертном дне наших родителей. Наш дорогой отец умер первым, 11 июня 1916 года; Георг — 18 апреля 1917-го, а несколько дней спустя, 1 мая, — наша дорогая матушка. Она не знала о смерти Георга.
Мой муж по-прежнему занимается тканями и постоянно в разъездах, также и мой старший сын Феликс, который имел свое дело, но сейчас оно идет очень плохо. Война все переменила. Гарри не дает мне так уж много радости, зато Катель и Феликс мне это возмещают. Теперь, дорогой Оскар, ты знаешь все печальные новости. Держи голову выше и оставайся в добром здоровье. С Божьей помощью мы вновь увидимся, такова моя ежедневная молитва. Неужели в твоих мрачных делах по-прежнему нет ни проблеска света?
Мальхен будет для Слейтера главной нитью, связывающей с семьей, вплоть до выхода из тюрьмы. «Добрая Мальхен, я буду регулярно тебе писать каждые шесть недель, а если придется писать кому-то еще, я попрошу специального позволения, — сообщил ей Слейтер в письме без даты, отправленном в начале 1920-х годов. — Я очень рад узнать, что тебе 44 года и ты 25 лет замужем. Я выгляжу как старый седой кот».
В марте 1922 года Мальхен, живущая в Бреслау (в сотне миль к северо-западу от Бейтена), ответила:
Конечно, я буду писать тебе каждые шесть недель, если это позволено, и буду ждать твоих ответных писем. С детьми Феми я в хороших отношениях, но с ней самой я не стану видеться до конца жизни. Так я обещала нашей дорогой матушке, а кроме того, она изрядно потрепала мне нервы.
Представляешь, почти вся Верхняя Силезия, включая Бейтен, была передана Польше, теперь ездить туда очень сложно и очень дорого[55]. И все же я намерена каждый год посещать могилу наших дорогих родителей.
Затем в августе последовал сюрприз: письмо от самой Феми. «Мы часто о тебе думаем, и наши дети говорят о дядюшке Оскаре только хорошее, — писала она ему. — Все наши близкие покинули нас слишком рано. Моя дочь Лилли умерла 18 лет от роду. Макс и дети шлют искренний привет».
В конверт Феми положила и последнее письмо от родителей Слейтера, написанное восемью годами ранее. Помеченное 3 августа 1914 года, оно всю войну оставалось неотправленным. Паулина писала:
Мой дорогой Оскар! Можешь быть уверен, дорогое дитя, я считаю дни до того срока, когда от тебя придут письма. Не оставляй надежды до последнего вздоха. Твою невиновность рано или поздно признают. Такой хороший сын может ожидать от Бога, что в один прекрасный день невиновность будет установлена. Я часто думаю о деле Дрейфуса, где правда в итоге победила.
Отец слабеет здоровьем. Наибольшее его удовольствие — хорошо поесть и выкурить добрую сигару. Мы живем сейчас не в таком достатке, как два года назад.
Жена человека, у которого ты служил подмастерьем, пошла по худой дорожке, этого он и заслуживал. Георг каждый месяц дает нам 50 марок, а ведь мы даже не просили. Я сама сейчас ничего не могу зарабатывать, отец тоже совсем не способен ничего делать. Получить твое письмо всегда радостное событие, и в этом нет ничего подозрительного. Даже у почтальона нет никаких подозрений насчет того, откуда приходят письма.
Оставайся сильным в надежде на поцелуи твоей любящей матери.
В январе 1925 года заключенный 2988 — Уильям Гордон, только что выпущенный из Питерхеда, — подвергся тщательному обыску; тюремщики проверили все, от подкладки пальто до полой ручки саквояжа. Их скрупулезность себя не оправдала: искусственная челюсть Гордона и заложенная за нее записка Слейтера (бумага для которой была позаимствована из переплетной мастерской в тюрьме) остались нетронутыми.
Гордон добрался до Виндлсхэма — дома в Юго-Восточной Англии, где Конан Дойль жил вместе с Джин, их сыновьями Адрианом и Денисом и дочерью, тоже названной Джин. (Годы спустя Адриан Конан Дойль будет вспоминать, как отец показывал ему свернутый в трубочку обрывок бумаги с отчаянной мольбой Слейтера.) Это была просторная викторианская вилла со штатом прислуги, в который, по словам биографа, входили «дворецкий, повар и пять горничных, два садовника и шофер, а также помощник садовника, который чистил обувь и заодно служил посыльным, имея для этого особую зеленую ливрею и шапочку в форме таблетки». Только что вышедший из тюрьмы преступник в такой обстановке зрелище не вполне обычное, но для Конан Дойля как специалиста по реальным, а не только литературным расследованиям подобные встречи были не в новинку.
Микроскопическое послание, доставленное Гордоном, могло бы служить воплощением идеи Джозефа Белла, который писал: «Важность бесконечно малого неизмерима». Это миниатюрное письмо повлечет за собой цепь событий, итогом которых станет освобождение Слейтера в конце 1927 года, а в процессе выйдет новая книга о деле Слейтера, отредактированная и опубликованная Конан Дойлем, появится разоблачительная газетная статья, которая получит широкую огласку, а Хелен Ламби и Мэри Барроуман отрекутся от своих показаний, данных в суде.
Конан Дойль, после 1914 года оставивший работу над делом Слейтера, даром времени не терял. После нескольких поездок на фронт во время Первой мировой войны он начал писать шеститомную историю войны «Британская кампания во Франции и Фландрии». Не оставлял и детективную литературу: к этому времени увидели свет уже 54 из 60 рассказов о Шерлоке Холмсе.
«Время от времени, — писал позже Конан Дойль, — слышишь из-за тюремных стен известие о бедняге Слейтере». Получив переданную Гордоном записку, он вновь решил приложить свои силы к освобождению Слейтера.
Послание, переданное Гордоном, не было для Конан Дойля первым опытом тайной корреспонденции. В 1915 году он отправлял секретные послания пленникам-британцам в Германию. «Дело это не очень трудное, — объяснял Конан Дойль, — однако в итоге удавалось подбодрить пленных некоторым количеством подлинных новостей, ибо в то время им было позволено читать лишь немецкие газеты. Выглядело все так»:
У близкой подруги моей жены, мисс Лили Лодер Саймондс, был брат — капитан Уилли Лодер Саймондс, из уилтширцев, который был ранен и взят в плен в расположении седьмой бригады… Он, человек изобретательный, сумел отправить домой письмо, которое пропустила немецкая цензура, поскольку с виду оно состояло из описания фермы, однако при тщательном прочтении становилось ясно, что отправитель рассказывает о себе и своих товарищах. Мне показалось, что если некто сумел применить такой прием, то он будет готов к подобным уловкам и при получении ответных писем из дома. Я взял одну из своих книг и, начиная с третьей главы (я предположил, что первую цензор проверит), наколол булавкой точки под нужными буквами напечатанного текста и так изложил все новости. Затем я отправил книгу адресату, присовокупив письмо. В письме я упомянул, что книга, к моему сожалению, поначалу довольно скучна, но начиная с третьей главы может показаться интереснее. Выразиться более ясно я не осмелился. Лодер Саймондс совершенно не уловил намека, однако по счастливой случайности он показал письмо гвардейскому капитану Руперту Кеппелю, взятому в плен при Ландреси. Тот учуял подвох, попросил книгу и нашел мою шифровку. Своему отцу, лорду Албермарлу, он сообщил, что надеется получить от Конан Дойля и другие книги. Мне передали это известие, и я, разумеется, понял, что дело сделано. С того времени я раз в месяц-другой накалывал булавкой очередную сводку новостей.
Для Конан Дойля война стала временем активной деятельности и огромных утрат. После вступления Великобритании в войну он как патриот пытался уйти в армию, однако власти отказали: писателю было уже 55 лет. Тогда он принялся организовывать движение, которое со временем объединило 200 000 гражданских лиц по всей стране, готовых защищать тыл. «Наша дисциплина и выучка были превосходны, — писал Конан Дойль, — а про способность двигаться походным порядком никто не сказал бы дурного слова, если помнить, что многим из бойцов уже исполнилось 50, а то и 60. Нам не в диковину было промаршировать строем от Кроуборо до Франта с винтовками и снаряжением, там на болотистом поле провести два с половиной часа в тренировках, а затем походным порядком вернуться обратно. Весь путь составлял добрых 14 миль».
В 1914 году, после того как немцы в один день потопили три английских военных корабля, оставив тысячи моряков барахтаться в воде, пока не утонут, Конан Дойль написал морскому командованию письмо с предложением выдать каждому английскому моряку надувной резиновый воротник, который поддерживал бы людей на воде. Командование вскоре приняло эту идею к исполнению.
Конан Дойлю, как и многим, война принесла ясное понимание двойственности эпохи: чудеса науки и техники — тех сфер, на которые в XIX веке возлагались прекрасные надежды — в XX веке с его военной авиацией и нервно- паралитическим газом казались не такими уж волшебными. Война унесла жизни двух дорогих для Конан Дойля членов семьи: старший сын, Кингсли, рожденный в первом браке с Луиз, и младший брат писателя, Иннес, побывали в сражениях и вскоре, обессиленные после боев, умерли от пандемии гриппа 1918–1919 годов.
Теперь фундаментальные ценности Викторианской эпохи — классовая принадлежность, честь, Бог, королева и государство — изрядно потускнели. В эпоху восторга перед достижениями современности многие принялись искать для себя некую духовную опору, которая, как они считали, была уничтожена новым веком. Сэр Артур Конан Дойль — ученый, рационалист и непревзойденный логик — был среди них одним из самых заметных.
Конан Дойль к тому времени давно полагал, что бездна между наукой и спиритическим миром не так уж непроницаема. Впервые испытав тягу к спиритизму в 1890-х, он с тех пор исследовал его со спокойным и методичным скептицизмом. Теперь тяга к сфере, центральную часть которой составляли вера в загробную жизнь и надежда на то, что ушедшее прошлое может проявляться и в настоящем, стала непреодолимой. «Те, кто в поздние годы изумлялся тому, что Конан Дойль, при его здравомыслии, увлекся спиритизмом, — замечал биограф писателя Рассел Миллер, — не сумели понять, что это поздневикторианское поветрие, державшееся отнюдь не на безумцах и шарлатанах, привлекало к себе кое-кого из лучших научных мыслителей Великобритании».
Для выяснения того, есть ли жизнь после смерти, Конан Дойль прибег к тому же фирменному стилю эмпирических расследований, который использовал при раскрытии преступлений. В процессе этой деятельности он посещал сеансы бесчисленных практикующих медиумов, обильно писал на эту тему и публиковал итоги в Psychic Press — издательстве, которое сам же и основал. «Сколь тщательным и долгим было мое изучение предмета, — писал он, — прежде чем моя позиция материалиста и агностика пошатнулась и я вынужден был признать доказательства истинными… С другой стороны, когда обнаруживается, что медиум пользуется фальшивой драпировкой или аксессуарами… мы сталкиваемся с самым одиозным и нечестивым злодеянием, на какое только способно человеческое существо».
По поводу спиритизма было ясно, что научная проницательность Конан Дойля уступила натиску его собственных надежд. К 1920-м годам он почти безоглядно уверовал в призраков, фей и жизнь после смерти. В книгах, статьях и лекциях того периода писатель демонстрирует убежденность в том, что спиритизм отражает фундаментальные человеческие истины более полно, чем христианство. Неудивительно, писал Миллер, что эту его позицию многие встречали в штыки:
В Виндлсхэме Конан Дойль стал регулярно получать гневные письма, которые обычно не принимал во внимание, однако одно из писем было особенно оскорбительным. 16 декабря 1919 года ему написал лорд Альфред Дуглас, бывший любовник Оскара Уайльда, относительно недавно обратившийся в католическую веру: «Сэр, что вы за отвратительное создание с вашими грязными карикатурами на „Христа“. С таким человеком, как вы, есть лишь один способ обращаться: хорошенько отхлестать вас плетью». Дуглас обвинял Конан Дойля в пропаганде спиритизма ради денег и легкой славы — «короче говоря, ради тех же целей и с применением того же откровенно вульгарного упорства, с каким вы мастерили вашего идиотского „Шерлока Холмса“». Он пустился прорицать, что «богохульные бредни» Конан Дойля навлекут на него «ужасные кары», и подписался: «Ваш, с величайшим презрением». Конан Дойль на следующий день ответил властно, кратко и пренебрежительно: «Сэр, ваше письмо меня успокоило. Раздосадовать меня могло бы лишь ваше одобрение».
Однако даже более мягкие критики признавали, что увлечение Конан Дойля спиритизмом и сопутствующие насмешки публики могли серьезно осложнить его работу по делу Слейтера.
В 1920-х годах сестры Слейтера продолжали ему писать. Мальхен взяла на себя материнскую роль хранительницы света в окошке: «Я столько месяцев жду от тебя каких-нибудь известий, и все напрасно, — написала она в 1923 году. — При самой первой возможности, дорогой Оскар, сообщи нам что-нибудь. В Германии жизнь по-прежнему очень тяжела. Каждый день молюсь Богу, чтобы твоя невиновность стала очевидной и ты получил бы свободу».
Немного позже Слейтер ответил: «Ты пишешь мне в письмах, что не удивишься, если я потерял к вам интерес. Однако ты очень ошибаешься, дорогая Мальхен. Я потеряю к вам интерес лишь тогда, когда кончится мое существование. Я каждый день думаю о вас всех».
Феми тоже писала регулярно. «Макс часто говорит о тебе, и дети тоже, — писала она в марте 1924 года. — Магда, Эрна, Эрих и Ганс уже в браке. Вальтер пока не женат, а восемнадцатилетняя дочь (Лилли), к большому сожалению, умерла во время войны. Мой старый Макс (ему сейчас 60 лет) по-прежнему вполне крепок и должен умело работать и зарабатывать деньги… Если бы существовала надежда увидеть тебя вновь! Наши дорогие родители всегда молили об этом Бога, но, к несчастью, они так рано ушли из жизни… От твоей любящей сестры Феми, Макса и всех пятерых детей».
В следующем сентябре она написала: «Я только что вернулась с кладбища, навещала могилы наших дорогих родителей, и в качестве привета шлю несколько листьев оттуда. Мы с радостью тебя приютили бы у себя — и я, и Мальхен. Ты хорошо знаешь, что у Макса всегда для тебя что-нибудь найдется, и ваша братская любовь не иссякла. Наша дорогая матушка порадовалась бы от всего сердца, если бы увидела, как мы привязаны друг к другу и с каким желанием приняли бы тебя к себе».
К середине 1920-х жизнь Слейтера в Питерхеде стала легче: после 15 лет и многих просьб его освободили от работы в карьере и перевели в плотницкую мастерскую при тюрьме. Однако при всей радости от нового назначения, которая описывается в тогдашних письмах Слейтера, его строки полны отчаяния:
«Я не знаю, есть ли в мире существо (не исключая каннибалов), которое чувствовало бы то же, что я, — с горечью писал он в 1924 году глазговскому приятелю Сэмюелю Риду. — Уже 15 с половиной лет, как меня бросили в тюрьму за преступление, которого я не совершал. В настоящее время я чувствую, что взорвусь. Неужели мое дело не дает ни малейших зацепок для сомнений?» Послание Слейтера 1925 года, тайком переданное на волю, наконец даст такую зацепку.
Глава 18. Похищенная брошь
В начале 1925 года, после получения послания от Гордона, Конан Дойль написал Джону Гилмору, министру по делам Шотландии: «После тщательного анализа дела я лично убежден, что Слейтер не знал о существовании погибшей женщины прежде, чем его обвинили в убийстве. Однако исходный вопрос о вине или невиновности еще не все: осужденный уже отсидел 15 лет, а это, насколько я понимаю, является обычным пределом пожизненного заключения в Шотландии при хорошем поведения заключенного. Я настоятельно просил бы вас любезно проявить личное внимание к данному делу, которое, вполне вероятно, войдет в анналы криминологии».
Конан Дойль явно надеялся на ответ: он привык, что высокопоставленные лица в Британии к его словам прислушивались. «Атмосфера важности вокруг Конан Дойля не теряла насыщенности в течение 21 года, что я провел под его крышей, — вспоминал его сын Адриан. — Бывало, что меня, совсем малыша, поднимала к окну няня с выпученными глазами и показывала мне отца и тогдашнего премьер-министра Англии, которые медленно прогуливались взад-вперед по лужайке, что-то серьезно обсуждая».
На этот раз Конан Дойль ответа не удостоился. Однако он получил письмо от глазговского журналиста Уильяма Парка, с которым переписывался о деле Слейтера с 1914 года, когда Парк стал пылким сторонником Тренча и Кука. Теперь Парк, продолжающий расследовать дело самостоятельно, вновь связался с Конан Дойлем. «Можете быть уверены, никаких шагов к освобождению не будет, — писал он. — Слейтер никогда не выйдет. И все же я намерен позже опубликовать новую книгу об этом деле. Опишу фальшивых свидетелей с их лживыми заявлениями. Можно доказать, что власти выставили на суд как минимум одного явного лжесвидетеля».
Тронутый письмом Парка, Конан Дойль вновь написал Гилмору, и 28 февраля 1925 года один из подчиненных Гилмора прислал лаконичный ответ: «Министр по делам Шотландии уполномочил меня сообщить, что он не считает целесообразным рекомендовать какое бы то ни было вмешательство в приговор Слейтера».
«Излишне говорить, что я разочарован, — отозвался Конан Дойль. — Я сделал все возможное для исправления этой несправедливости. Теперь ответственность переходит на вас».
Слейтер к этому времени провел на каторге столько времени, что ему начало писать уже третье поколение семьи. «Вы удивитесь моему письму, ведь вы меня едва помните» — так гласило послание, написанное в сентябре 1925 года накануне праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года:
Я малышка Эрна, дочь вашей сестры Феми. Нам тоже пришлось несладко. Военные годы принесли нам горе, жизнь была нелегким бременем, мы были совершенно разорены. Затем болезнь нашей младшей (Лилли) и ее смерть. После этого один удар за другим. Бедный дядя Георг, его жена Анна, наши дорогие бабушка и дедушка — все они умерли примерно за два года. То были горькие часы и много слез. Матушка сдает комнаты и работает ради них без отдыха. Отец очень постарел. Жизнь и вправду очень тяжела. Лучше всего пришлось тете Мальхен. Ее муж сохранил работу и живет без горя и забот.
Счастливого и здорового Нового года вам, с сердечным приветом и поцелуями от всех нас, особенно от вашей племянницы Эрны, нынешней фрау Мейер.
Слейтер ответил на это теплым посланием:
Я с изумлением получил от тебя письмо через 17 лет, все же я говорю: «Лучше поздно, чем никогда». Я не забыл никого из вас и каждый день о вас думаю; время и расстояние не могут меня охладить. Я по-прежнему помню добрые времена на Телеграфной улице[56] и английские завтраки. Как бы то ни было, я теперь вынужден воскликнуть: «Фрау Мейер, я не завтракал яичницей с беконом 17 лет».
Очень хорошо представляю себе, сколько горя и страдания принесла вам смерть разных родственников, особенно твоей матушке. Я тоже чувствовал эти удары судьбы и физически, и морально. С учетом всех обстоятельств и моего возраста я не могу жаловаться на здоровье. Ты должна понимать, моя дорогая Эрна, что после такой долгой изоляции от мира я мало о чем могу написать. Не горюй о моей судьбе и, пожалуйста, не забывай мой девиз: «Учись страдать без жалоб».
Вскоре в переписку вступила и дочь Мальхен, Кати, известная под ласковым прозвищем Катель. «Мы получили ваше полное любви письмо и рады, что вы хотите ближе познакомиться с нами, детьми, — писала она. — Мы считали, что только утяжелим вашу судьбу, если будем все время вам писать. Я надеюсь в этом году выйти замуж. Этого человека вы знаете очень хорошо: это Сэм Тау, его первой женой была Марта Юнгманн из Бейтена. Он почти на 18 лет старше меня, но это не преграда, если любишь».
Слейтер ответил через несколько месяцев, к тому времени свадьба уже совершилась. «Среди прочего, что говорит о вашем браке твоя дорогая матушка, — „Кати не имеет ни гроша за душой, у нее нет даже стула“», — пишет он и добавляет:
Первое, как совершенно ясно, не всегда необходимо для семейной жизни, ибо хорошая жена дороже всяких денег; однако я беспокоюсь насчет второго и очень желал бы тебе помочь. 13 или 14 лет назад моя покойная матушка прислала мне твое фото, и с тех пор оно занимает почетное место среди портретов моих умерших родителей. Каждый день я думаю об ушедших и о тебе. Мне очень тяжело услышать, что твой отец не очень здоров; возможно, ему снова лучше. До меня также доходят сведения, что времена в Германии совсем плохи, однако в этой стране, где полтора миллиона человек не имеют работы, не приходится танцевать на розовых лепестках.
После пренебрежительного ответа от министерства Конан Дойль понял, что Гилмор не станет ничего делать. Государственные органы явно хотели избежать публичного расследования и публичного скандала, который разразился бы в случае, если бы действия полиции и местного прокурора получили широкую огласку. Однако была и другая причина держать Слейтера в тюрьме, о которой Конан Дойль мог не подозревать: судя по государственным меморандумам, власть не знала, что делать со Слейтером в случае его условно- досрочного освобождения — «разрешения на выход», как это называлось в Великобритании. Частные обсуждения на высших уровнях велись уже с 1924 года, когда срок заключения Слейтера в Питерхеде подходил к 15 годам, то есть к стандартной отметке, после которой может рассматриваться условное освобождение. Как показывают официальные документы, государство не желало, чтобы после освобождения Слейтер оставался в Великобритании, но не знало, можно ли депортировать его обратно в Германию.
Британские официальные лица со временем выяснили, что немец, проживший за пределами Германии более десяти лет, автоматически терял гражданство. Меморандум на эту тему, написанный в июле 1924 года, по сути был вердиктом о продлении заключения. «По-видимому, избавиться от Слейтера невозможно, — говорилось в нем. — В этих обстоятельствах, по моему мнению, его пока нужно оставить там, где он находится. После 20 лет срока дело вновь попадет на пересмотр».
Так долго Слейтер мог не продержаться. Дисциплинарные записи показывают, что годы, проведенные в Питерхеде, делали его все более неустойчивым:
14 августа 1914. Порча тюремного имущества — ночная ваза (посуда) и оконное стекло.
13 мая 1916. Разговоры. Безделье. Ругательства и оскорб- ления, угрозы напасть на тюремщика с применением молотка.
25 сентября 1917. Ссора с другим заключенным и нападение на него во время работы.
14 июля 1921. Сознательная порча тюремного имущества (2 новые библиотечные книги).
20 декабря 1924. Разбитая тарелка для еды.
16 ноября 1925. Попытка нападения на тюремщика.
3 апреля 1926. Нарушение порядка и дисциплины, то есть передача пакета другому заключенному.
Он клялся, что 20-летнюю отметку не пересечет живым. «Бедняга Слейтер говорил нам, что он намерен терпеть Питерхед до конца 20-летнего срока, — позже сообщал Конан Дойлю журналист Уильям Парк. — Если после этого никакая помощь не придет, он намеревался покончить с собой. „Я покажу, что Оскар Слейтер способен умереть храбро“, — таково было его клятвенное намерение положить конец страданиям».
Уильям Парк, преданный своему делу журналист, был при этом человеком невоздержанным. Как показывает переписка с Конан Дойлем, в его личной жизни царил хаос: выпивка, несчастливый брак, частая нужда в деньгах — все как в романах о жалкой доле литератора-поденщика. Профессиональное упорство, похвальное для журналиста, иногда становилось помехой и грозило перерасти в навязчивую идею. «Этот странный, терзающий сам себя фанатик, декларативно заявивший о намерении выпотрошить всю глазговскую полицию» — так назвал его Питер Хант, добавив:
Уильям Парк был примечателен: высокий, широкоплечий, с довольно изысканной внешностью, хорошо образованный, он имел отличный музыкальный слух и фотографическую память. До откровений Тренча он ничего не знал о деле Слейтера.
При небывало ясном уме, нетерпимом к малосообразительным людям, и при излишнем пристрастии к виски Парк имел дурную наклонность оперировать непроверенными сведениями как доказанными фактами. Он, немало сделавший для Слейтера, никогда не мог избавиться от типично журналистской оценки фактов с точки зрения «интересности» для публики. В переписке с Конан Дойлем он предстает как натура нетерпеливая, слегка фанатичная, ухватывающая доказательства тут и там без должного учета всех обстоятельств.
Он вбил себе в голову (тут нужно признать, что дальнейшие события показали его правоту), что полиция ошибалась с самого начала и до конца, была насквозь продажна, мстительна, безответственна и груба. К делу Слейтера он подходил не как к единичной ошибке, а как к характерному проявлению системы — по его мнению, совершенно коррумпированной.
К счастью, Парк мог опереться на Конан Дойля — писатель не раз посылал ему деньги. Под внимательным руководством Конан Дойля Парк начал работать над книгой «Правда об Оскаре Слейтере», основанной на документах и его собственных репортерских материалах, в числе которых было объемное интервью с вдовой Тренча. Из писем с обсуждениями рукописи понятно, что Конан Дойль проверял каждую страницу и обильно предлагал идеи. Книгу он издал сам, через собственное издательство Psychic Press.
Посвященная Джону Томсону Тренчу книга «Правда об Оскаре Слейтере» вышла в июле 1927 года. Как и сам Конан Дойль в предыдущих случаях, Парк выстроил целую цепь — имеющую огромный кумулятивный эффект — нелогичностей и нестыковок в деле Слейтера. Его репортерские поиски позволили найти факты, которые не обнаружил даже Конан Дойль, в том числе два случая подтасовок со стороны полиции и обвинителей.
В первом случае Парк выяснил, что полиция получила ордер на обыск квартиры Слейтера под фальшивым предлогом. Заявление на ордер, поданное местным прокурором Джеймсом Хартом, датировано 2 января 1909 года — в этот день Слейтер прибыл в Нью-Йорк на борту «Лузитании». В заявлении Харт указал, что обыск в квартире необходим потому, что Слейтеру уже предъявили обвинение в убийстве мисс Гилкрист и он «бежал» из Шотландии. Как указал Парк, официальные лица в Глазго знали, что ни одно из этих утверждений не верно. Однако на основании заявления Харта ордер на обыск был выдан.
Вторая подтасовка была связана с несостоятельностью броши в качестве улики — об этом факте полиция тоже знала к моменту прибытия Слейтера в Нью-Йорк. «Теперь, на виду у всего мира, — писал Парк, — освободить арестованного значило признаться в собственных ошибках. Но коли отдан приказ продолжать, то на основании чего было продолжать?»
Ответ, поясняет Парк, можно найти в документе, который Тренч скопировал из архива глазговской полиции и копию которого он перед смертью передал Парку. В этом документе, составленном на ранней стадии расследования, полиция Глазго рассматривала весомость броши как улики против других потенциальных подозреваемых. В изначальной формулировке брошь описывалась как «значительно менее сильная» улика против остальных. Однако в официальной версии документа вместо этих слов было карандашом написано, что брошь является всего-навсего «не более сильной» уликой, чем другие.
Конан Дойль снабдил книгу убедительным предисловием. «Ясно, что дело пришлого немецкого еврея, носившего псевдоним Оскар Слейтер, будет жить в истории криминологии как судебная ошибка необычного для наших судов характера, — писал он. — Нет ни одной улики, которая не рассыпалась бы при малейшем прикосновении». Далее он спрашивает: «Кто виновен в этой крупной и продолжительной судебной ошибке?» — и после этого идет список в духе статьи «Я обвиняю!», в котором фигурируют судья лорд Гатри, лорд-адвокат Александр Юр, несколько министров по делам Шотландии и шериф Миллар, «а более всего — местный прокурор и полиция».
В заключение Конан Дойль пишет: «И наконец, мы вправе спросить: что же можно теперь сделать? Боюсь, для Слейтера можно сделать очень мало. Кто может вернуть утраченные годы? Однако его имя можно обелить и, возможно, дать небольшое содержание на его преклонный возраст… Более всего, ради репутации британского правосудия, ради дисциплины в полиции и ради того, чтобы показать официальным лицам, что их обязанности перед публикой должны быть исполнены, дело нужно подвергнуть тщательному публичному рассмотрению. Но пусть это будет должное рассмотрение бесстрастными лицами, которые твердо следуют правде и справедливости в суде. Лишь после такого расследования общественное мнение может успокоиться… Воистину это прискорбная история официальной ошибки, с начала и до конца. Прошло 18 лет, а невинный человек все еще ходит в арестантской робе».
Глава 19. Ворота Питерхеда
Книга Парка вызвала в прессе огромный интерес: момент наконец-то оказался удачным. В высших сословиях после Первой мировой войны менялись представления о том, что считать угрозой. К 1920-м годам страхи буржуазии, раньше сосредоточенные на иностранцах, стали переходить на феминизм первой волны и суфражистское движение, на социализм и на дегуманизирующее влияние техники. Среди этих забот одинокий стареющий мошенник-еврей уже, скорее всего, не воспринимался такой зловещей фигурой, как раньше. К тому же большинство главных действующих лиц, чья репутация оказалась бы запятнана в случае публичного расследования — среди них судья лорд Гатри, местный прокурор Харт и шериф Миллар, — уже перешли в мир иной.
При всей желательности шумихи в прессе Конан Дойль знал, что одного этого будет недостаточно. В сентябре 1927 года, решив добиться правительственного внимания на самом высшем уровне, экземпляр книги Парка он послал Рамсею Макдональду, который в 1924 году стал первым премьер-министром Великобритании от партии лейбористов. Лейбористское правительство было смещено консерваторами к концу того же года, однако Макдональд, ставший лидером лейбористов, по-прежнему был одним из самых могущественных людей в Великобритании[57].
Макдональд стал для Конан Дойля влиятельным союзником. «Я занялся делом плотнее и вполне убежден, что этот человек столкнулся с тяжелейшей несправедливостью и что со всей историей нужно покончить — не просто освободить его, но и оправдать, — писал он Конан Дойлю 26 сентября. — Все должны быть неизмеримо благодарны вам за поразительную преданность делу при всех препятствиях и явном отсутствии успеха».
Книга Парка также подтолкнула к действиям английского журналиста Эрнеста Клефана Палмера. Выступая под псевдонимом Пилигрим, он написал целую серию материалов о деле Слейтера; материалы публиковались в лондонской газете Daily News с середины сентября до середины октября 1927 года. «Каждый день Палмер обрушивался на новый аспект дела, на неточности в речи лорда-адвоката, на ухищрения Мэри Барроуман, на почти безумное поведение гипотетического убийцы, если считать им Слейтера, — писал Питер Хант. — Он подверг проверке рассказ Мэри Барроуман о Западной Принцевой улице и объявил, что детальное описание человека, пробежавшего мимо нее, неправдоподобно».
Манчестерская воскресная газета Empire News 23 октября опубликовала броский материал, который на собственных же страницах хвастливо объявила «одним из самых эффектных поворотов за всю историю уголовных дел». Статья, написанная от первого лица, была рассказом Хелен Ламби — та исчезла из Шотландии и предположительно считалась умершей. Репортеры манчестерской газеты нашли ее в Америке, недалеко от Питтсбурга, где она жила вместе с мужем. Интервью с ней, оформленное как рассказ, вышло под заголовком «Почему я ошиблась со Слейтером». В частности, в нем говорилось:
Слова, произнесенные и впоследствии аннулированные, касались следующего: на вопрос полиции, имею ли я представление о личности человека, выходившего из дома моей хозяйки вечером в день убийства, я упомянула имя мужчины, часто бывавшего там в гостях.
Я вправду так и сделала, потому что, возвращаясь после покупки газеты и повстречав человека, выходящего из дома, я не сочла его незнакомым.
Когда я назвала полиции имя человека, которого я, по моему мнению, опознала, мне ответили: «Чушь! Не думаете же вы, что он убил и ограбил вашу хозяйку!» Они так насмехались над моим упоминанием о виденном мной человеке, что их уговоры склонили меня признать это ошибкой…
У меня были причины не смотреть слишком внимательно. Человек, который, по моему мнению, выходил из квартиры, уже навещал мисс Гилкрист по другому случаю, и я после упомянула при хозяйке его имя.
Она на меня разгневалась и заявила, что если я когда- либо снова выкажу малейшее любопытство по поводу любого из ее гостей, то она откажет мне от места…
В силу многих обстоятельств мне было легче принять мысль, что искомым человеком был Слейтер. Более того, нам сказали, что он пытался сбежать в Америку с чем-то из вещей моей хозяйки и был пойман.
Я уверена, что виденный мной мужчина был лучше одет и имел более высокое положение в обществе, чем Слейтер. Единственной общей чертой было то, что при опознании, если смотреть слева, в конце ряда из других лиц они были почти одинаковы.
«Что за история! — писал впоследствии Конан Дойль. — Что за скандал! Она говорит, полиция заставила ее назвать Слейтера. Третья степень, допрос с пристрастием! Что за клоака! И при этом до нас не долетает ни слова надежды от деревянноголовых чиновников. Я прибегну к политическому давлению, и я знаю, как это сделать. В итоге я выиграю, но борьба оказалась долгой».
Тем временем Парк пытался найти Мэри Барроуман, которая затерялась в трущобах Глазго и, по слухам, стала проституткой. «Она уличная, была в тюрьме, — писал он Конан Дойлю осенью 1927 года. — Опровержение от нее стало бы концом для обвиняющей стороны». С помощью Палмера и неназываемого бывшего заключенного Парк ее нашел, и 5 ноября 1927 года в Daily News напечатали публичное отречение:
Я, Мэри Барроуман, выступавшая свидетельницей на слушаниях в Нью-Йорке и на суде в Эдинбурге, в интересах правосудия желаю сделать следующее заявление.
Касательно слушаний в Нью-Йорке, где я впервые увидела обвиняемого. Я не чувствовала себя вправе сказать тогда, что Оскар Слейтер определенно был тем человеком, которого я видела спускающимся по лестнице дома на Западной Принцевой улице, где убили мисс Гилкрист.
В то время я лишь подумала, что он очень похож на виденного мной мужчину, и я не сказала при опознании, что это определенно тот самый человек.
Лишь после моего возвращения в Глазго мне сообщили, что Слейтер точно был виновником. Мне об этом сказал мистер Харт, местный прокурор.
Этот господин был очень суров в обращении со мной как со свидетельницей. Он вынуждал меня день за днем приходить в его кабинет и с ним встречаться.
Я должна сказать, что посещала его кабинет не менее 15 раз с целью рассмотрения моих показаний. Я точно знаю, что не преувеличиваю число моих визитов в его кабинет, скорее преуменьшаю.
Каждый день все шло по одному тому же распорядку. Он пересказывал мои показания, говорил лишь он, я по большей части слушала. Он настойчиво указывал, что надлежало говорить, так что я не имела или почти не имела собственного голоса.
Именно мистер Харт добился того, чтобы я изменила свои слова «очень схож с тем человеком» на твердое заявление, что Слейтер был тот самый человек.
Самое большее, на что я была готова, — это сказать, что Слейтер был очень похож, и именно мистер Харт произнес слова «тот самый» и использовал их в моих показаниях.
Я самым определенным образом желаю заявить, что я тогда сочла поведение мистера Харта недолжным. Он навязывал то, что требовалось сказать…
Я была тогда всего лишь пятнадцатилетней девицей и не вполне осознавала разницу между заявлением о том, что Слейтер был тот самый человек, и заявлением о сходстве, и если бы мне пришлось сейчас давать показания, то я заявила бы, что он очень похож на того человека, — именно это я и сказала, когда впервые его увидела.
В свете таких откровений правительство больше не могло игнорировать голоса тех, кто выступал за Слейтера. Сэр Джон Гилмор 10 ноября сделал заявление: «Оскар Слейтер отсидел более 18 с половиной лет от пожизненного срока, и я считаю себя вправе санкционировать его досрочное освобождение сразу после необходимых формальностей».
Слейтер узнал эту новость из мгновенно разошедшихся тюремных слухов. Преподобный Елеазар Филипс, защитник Слейтера с самого начала, был тайно вызван в Питерхед, чтобы препроводить его на волю. В понедельник 14 ноября 1927 года, в три часа пополудни, ворота Питерхеда, отгораживающие тюрьму от мира, распахнулись и Оскар Слейтер после 18 лет четырех месяцев и шести дней вышел из них свободным человеком.
Глава 20. Больше света, больше справедливости
Весть о предстоящем освобождении Слейтера просочилась в британскую прессу и стала сенсацией. Один репортер, прикинувшись водителем, сумел пробраться в машину, которая везла Слейтера и преподобного Филипса из тюрьмы. Другой проник в их купе, когда они ехали поездом в Глазго. «Каково чувствовать себя наконец на свободе?» — спросил он. «Лучший план — отправиться в Питерхед и выяснить», — ответил Слейтер.
На вокзале Глазго поезд встречала толпа репортеров. Филипс и его взрослая дочь быстро провели Слейтера в машину, которая доставила его к дому священника. Там тоже толпились репортеры и фотографы. «Что вы чувствуете?» — вновь и вновь спрашивали его. «Я устал, — ответил он. — Я не спал пять ночей, с тех пор как узнал о том, что возвращаюсь. Я хочу отдохнуть. Я хочу отдохнуть».
Он поужинал с семьей Филипсов и провел ночь в их доме. Вскоре он наведался в полицейское управление Глазго, где многие годы назад началась его одиссея: ему, как условно освобожденному заключенному, раз в месяц надлежало отмечаться в полиции. Похудевший, седой и почти облысевший, Слейтер мало походил на щеголеватого, темноволосого, хорошо сложенного человека, каким был два десятка лет назад. В полиции он поинтересовался судьбой многих из тех, кто играл главную роль в его деле: главный инспектор уголовной полиции Пайпер, руководитель отдела уголовных расследований Орд, шериф Уорнок — и получил ответ, что все они либо отошли от дел, либо умерли.
От Конан Дойля он получил теплое приветственное письмо:
Дорогой мистер Оскар Слейтер!
Позвольте сказать вам, от имени моей жены и моего собственного, насколько опечалила нас ужасающая несправедливость, постигшая вас от руки наших чиновников. Единственным слабым утешением для вас может служить лишь то, что ваша судьба, если нам удастся заставить публику осознать последствия, может в будущем послужить предостережением для других.
Мы по-прежнему будем действовать в расчете на то, чтобы добиться расследования этой несправедливости и, как я надеюсь, некоторой компенсации вам за незаслуженные страдания.
Искренне ваш, Артур Конан ДойльСлейтер горячо откликнулся (за 18 лет в британской тюрьме его английский язык не стал лучше):
Сэр Конан Дойль, разбиватель моих кандалов, любитель истины, я благодарю вас от всего сердца за доброту, которую вы мне выказали.
Мое сердце переполнено и почти разрывается от любви и благодарности к вам [и] вашей жене, дорогой леди Конан Дойль, и всем честным людям, которые ради справедливости (и только ради нее) мне помогали.
До моего смертного часа я буду почитать вас и дорогую леди, мой дорогой Конан Дойль, но эта безграничная любовь к вам обоим заставляет меня лишь просто подписаться.
Ваш Оскар СлейтерСлейтер был свободен, оставалось его реабилитировать. В 1926 году в Шотландии появился первый апелляционный суд по уголовным делам — отчасти как следствие усилий Конан Дойля и других защитников Слейтера. Однако новый суд в том виде, в каком был учрежден, для самого Слейтера был бесполезен: он был уполномочен рассматривать дела, слушавшиеся после 31 октября 1926 года. Чтобы включить дело в число рассматриваемых, понадобился специальный акт британского парламента.
Конан Дойль с помощью Рамсея Макдональда приготовился воздействовать на парламент и написал брошюру, в которой требовал судебного пересмотра. Брошюру раздали всем членам палаты общин, и 16 ноября 1927 года министр Гилмор представил палате общин специальный билль, который позволял пересмотр дела Слейтера. Закон был принят 30 ноября.
Представлять Слейтера должен был нанятый его сторонниками Крейги Атчисон — один из крупнейших шотландских юристов по уголовным делам. «Многие юристы считали [Атчисона] самым выдающимся из всех шотландских адвокатов, — писала в 2009 году газета Guardian. — Выступая адвокатом в многочисленных слушаниях об убийствах, он не проиграл ни одного дела». Услуги Атчисона стоили недешево, и для сбора суммы, необходимой для его гонорара, была объявлена публичная подписка[58]. Собранных средств оказалось недостаточно, и Конан Дойль согласился лично возместить разницу — об этом акте щедрости он впоследствии будет сожалеть.
Обжалование дела Оскара Слейтера открылось 8 июня 1928 года в Высшем уголовном суде Шотландии — в том же зале суда, где Слейтера некогда приговорили к повешению. Коллегию из пяти судей возглавлял лорд верховный судья (главный в Шотландии судья по уголовным делам) Джеймс Эйвон Клайд. Обвинение представлял лорд-адвокат (генеральный прокурор по делам Шотландии) Уильям Уотсон. Слейтер в сопровождении преподобного Филипса сидел в галерее для посетителей. Присутствовал и Конан Дойль, который вернулся в родной город вести репортаж с судебного заседания для газеты Sunday Pictorial. То был единственный раз, когда они со Слейтером встретились лицом к лицу.
Судьи настояли, чтобы в слушаниях заново не рассматривалось изначальное дело, и постановили, что никакие новые свидетельства не должны приниматься, если они не относятся к свежеоткрывшимся фактам. Они также отказались от допроса Слейтера. «В данных обстоятельствах, — написали они, — было бы совершенно нерационально тратить время на взятие его показаний».
Слейтер, не понимающий юридических следствий такого решения, впал в ярость. С типичной для него горячностью он решил сорвать заседание и телеграфировал участникам, что желает отмены суда. Это, в свою очередь, разъярило Конан Дойля. «Я думаю, его ум почти совсем помутился от всего пережитого, — заявил он в интервью. — Я говорил ему, что было бы крайне глупо даже думать об отказе, и настаивал, чтобы суд состоялся в любом случае, нравится это Слейтеру или нет». (Частным порядком, в послании к Рафхеду, Конан Дойль высказывался куда более нетерпимо: «Меня тянуло подписать петицию об исполнении изначального приговора».) Мало-помалу сторонникам удалось образумить Слейтера, и он согласился молча сидеть на своем месте.
Из-за того что суд не пересматривал изначальное дело, свидетельские показания позволено было дать лишь немногим. В итоге ни инспектор Пайпер, ни старший офицер Дуглас, сыгравшие влиятельную роль в расследовании убийства, не были допущены к повторному допросу, проводимому Атчисоном. «Я очень хотел бы увидеть инспектора Пайпера на свидетельской трибуне для дачи показаний, — сказал Парк, обращаясь к Конан Дойлю в начале того же года. — Этого человека, несомненно, мы могли бы заклеймить как лжеца чистейшей воды». Он добавил: «Слейтер нам описал, как его опознавали в полицейском участке. Дуглас брал каждого свидетеля за плечи, проходил вдоль строя опознаваемых, подталкивал свидетеля к каждому и спрашивал: „Это он?“ Когда свидетели подходили к Слейтеру, Дуглас давал им мощный толчок и неприкрыто кричал: „Это он?“».
Племянницу мисс Гилкрист, Маргарет Биррел, к которой Ламби прибежала после убийства, тоже не пригласили давать показания — впрочем, ее свидетельства, как указывал Парк, мало чему помогли бы. «Она теперь скорее умрет, чем огласит имя, — говорил он. — Это повлекло бы за собой возможное повешение ее родственника и прочие ужасные вещи. Нет, она не раскроет рта».
За неимением этих свидетелей присутствие Хелен Ламби становилось жизненно важным, и после опровержений, с которыми она выступила в 1927 году, судьи собирались допустить ее к даче показаний. «Эта женщина, — объявил Атчисон, — хранит тайну». Однако найти Ламби нигде не удавалось. Она уехала из Питтсбурга, все усилия отыскать ее следы были тщетны. Позже выяснилось, что она живет в городке Пеория, штат Иллинойс, со своим мужем Робертом Гиллионом, который работал в местных угольных шахтах, и двумя дочерьми — Маргарет и Марион. В июне 1928 года газета Peoria Star опубликовала статью под заголовком «Судьба Слейтера в пеорийских руках».
«Вытирая мыльные руки о передник, — говорилось в статье, — худощавая и румяная миссис Гиллион показалась на пороге своего скромного домика на задах цирюльни, откликнувшись на долгий стук репортера. На полу кухни лежали охапки одежды, готовые отправиться в электрическую стиральную машину, которая работала в нескольких футах рядом. На каждый вопрос следовал готовый ответ „Это мое дело“».
Ламби отказалась участвовать. В декабре 1927 года, через два месяца после ее опровержения в Empire News, она разразилась новым заявлением, опровергающим предыдущее опровержение. Оригинал, написанный огромными детскими буквами, по правописанию и пунктуации мог бы посоревноваться с письмами Слейтера:
Я хочу отречься от заявления недавно публикованного в Газетах нет никакой правды в том заявлении. Коннан Дойль пользовался фальшивым заявлением я не стала бы винить другого человека Слейтер тот самый человек кого я видела выходящим из дома мисс Гилкрист я здоровая и в таком же уме как была на суде Если Слейтер сказал бы правду он не Невиновный
От Хелен Ламби теперь в США.
В письме к Конан Дойлю Парк только отмахнулся от нового заявления: «Ламби — переменчивая негодяйка, — писал он. — Полагаю, что [ее] мать здесь навестил некто озаботившийся тем, чтобы Хелен опровергла предыдущее интервью. То могла быть полиция Глазго или кто-то из заговорщицкой клики Биррел — Чартерис. Ламби не продержалась бы под пристрастным повторным допросом».
Когда Ламби пригласили в Шотландию на апелляцию, она заупрямилась. По закону нельзя было потребовать ее возвращения, и дело слушалось без нее.
Судебная процедура по обжалованию дела продолжилась 9 июля 1928 года. В числе свидетелей, выступавших в защиту Слейтера, был Уильям Рафхед — для своей книги «Суд над Оскаром Слейтером» он некогда интервьюировал Джона Адамса, первого врача на месте преступления. Доктор Адамс умер в 1922 году, и Рафхеду позволили давать показания по тому интервью: «Учитывая виденные им увечья, он выразил мнение, что молоток не мог иметь никакой связи с убийством, — сказал Рафхед. — Он сказал, что сначала посмотрел на голову, увидел раны, и затем подумал, нет ли в комнате чего-то похожего на предмет, которым их могли нанести. Оглядевшись, он заметил этот стул, обыкновенный викторианский стул, и увидел, что задняя ножка „сочится“ — как он мне это описал — кровью».
Судебный пристав Джон Пинкли приехал из Америки рассказать, что произошло во время слушаний по экстрадиции, когда он вел Слейтера мимо свидетелей:
Вопрос. Могли ли Ламби или Барроуман подумать, что человек, прикованный к вам наручниками, не является взятым под стражу?
Ответ. Я не представляю, как это могло бы про- изойти.
Вопрос. Уверены ли вы, что [Ламби] видела, как вы проходили по коридору с заключенным?
Ответ. Должна была.
Вопрос. Если не была слепой?
Ответ. Да.
Признанной звездой слушаний был адвокат Слейтера, Крейги Атчисон. Обращаясь к судьям, он говорил около 14 часов, анализируя все аспекты расследования, задержания и судебных разбирательств. Конан Дойль обрисовал эту сцену для Sunday Pictorial; нужно отметить, что даже в 1928 году его описание проникнуто викторианской идеей насчет взаимозависимости физиогномики и свойств личности.
Три дня я сидел на адвокатских местах в суде. Три дня солидная коллегия из пяти шотландских судей сидела позади меня. Три дня мои глаза созерцали только одного человека перед моим лицом и толпу зрителей позади него. Но этот один человек стоит созерцания.
Это пиквикская фигура. Его лицо покрыто младенческим румянцем, глаза цвета незабудок тоже могли бы принадлежать младенцу. Лицо тяжеловато, но привлекательно и к тому же свежо, от впечатления слабости его спасают решительные, твердо сжатые губы.
Да, он говорил ровно 14 часов, распутывая сложности одного из самых замысловатых дел.
Расследование было искусным в самой высшей степени. Это чудеса анализа. Яснее всего я помню эти голубые глаза и небольшие пухлые виртуозные руки.
Он говорит и говорит своим мягким, мелодичным голосом, разъясняя все сложности. Пухлые виртуозные руки подчеркивают нужную мысль. Вот протест от судей. Голубые глаза выражают боль и удивление. Взлетают пухлые ручки. И вновь мягкий голос подхватывает повествование…
А затем вдруг ваш взгляд останавливается. Одно ужасающее лицо выделяется среди других. Лицо не порочное и не злобное, но тем не менее ужасающее из-за отражающейся в нем угрюмой печали. Твердое и неподвижное, оно словно высечено из питерхедского гранита. Это Слейтер.
20 лет назад Шотландия, быть может, совершила грех — и административный, и судебный, но невозможно отрицать, что она доказала свою цивилизованность тем, что учредила суд, которому достало бы силы и достоинства исправить давнюю судебную ошибку и искупить вину перед никому не известным иностранцем.
После того как Атчисон закончил выступление, лорд-адвокат Уотсон огласил мнение обвинения в поддержку приговора Слейтеру. Затем судьи удалились на совещание. На новом заседании суда 20 июля 1928 года было вынесено судебное постановление по четырем пунктам. Зрители видели, как Слейтер подался вперед и приставил руку к уху.
Первое постановление подтвердило изначальный вердикт. Второе тоже. И третье. Затем судьи огласили четвертый пункт: должен ли приговор быть опровергнут как результат неправильного руководства со стороны судьи, лорда Гатри. По мере чтения перспектива для Слейтера выглядела мрачнее прежнего. «Когда мужчина зарабатывает сутенерством, это не просто непристойно, это знак нечеловеческой безнравственности», — так показательно начали судьи свою речь и затем продолжили:
Нет подтверждений тому, чтобы кто-либо из членов судейской коллегии руководствовался убеждениями подобного рода при решении вопроса о виновности или невиновности апеллянта, однако нет подтверждений и тому, что никто из них этого не сделал. Бесспорно, судейское напутствие в адрес присяжных не содержало предупреждений о недопустимости чувств подобного рода при вынесении вердикта. Возможно, в силу того факта, что апеллянту из-за предвзятости было отказано в презумпции невиновности и сведения о его безнравственности были доведены до присяжных, их вердикт был обвинительным.
Наставление присяжным, высказанное в судейском напутствии, приравнивалось к юридически ложному указанию, и прежнее решение суда, вынесшего приговор апеллянту, должно быть отменено.
Питер Хант описывает то, что случилось дальше: «Слейтер не сразу осознал, что он выиграл. [Затем] триумфальная улыбка, на миг озарившая его лицо, сменилась мрачной хмуростью». Горячий и непрактичный, Слейтер мечтал не меньше чем о полном оправдании, построенном не на казуистической придирке к процессу судопроизводства, а на том, что он не убийца и не сутенер — эти две истины он мечтал донести до мира. Его оправдали, но в собственных глазах он остался бесчестным. «Я, Оскар Слейтер, невиновен в убийстве, равно как и в позорном образе жизни, который мне приписывали не только 20 лет назад, но приписывают и теперь в решении апелляционного суда, — сказал он позднее. — Я расскажу всю правду и опровергну эту клевету».
В письме к Конан Дойлю, выдающем сильную тревогу за репутацию, свойственную Викторианской эпохе, Слейтер демонстрирует смешанные чувства:
Дорогой сэр Артур!
Большое спасибо за ваши поздравления и ваши огромные усилия.
Сэр Артур, они зашли слишком далеко с забрасыванием меня нечистотами в открытом суде, но меня это не заботит, однако меня заботят мои родственники и друзья, и ради них я должен что-то сделать.
Эти жестокие пять судей, которые знали существо моего дела, должны были немного себя сдержать. Теперь любой прохожий на улице знает о моем деле.
Я буду бороться и всех их разоблачу. Всех, кто лишил меня уверенности, предал. Я буду бороться независимо от последствий.
Искренне ваш, Оскар СлейтерКонан Дойль, удовлетворенный вердиктом, знал, что борьба окончена. «Мое участие в деле прекращается сейчас, когда я добился признания невиновности Слейтера», — заявил он прессе. Однако его отношения со Слейтером на этом не закончились.
Глава 21. Рыцарь и мошенник
Для Слейтера по-прежнему оставался нерешенным вопрос о компенсации за неправомерное тюремное заключение. Поначалу с типичной для него гордыней он объявил, что ему ничего не нужно. «Что касается меня, Оскара Слейтера, то никаких счетов я предъявлять не стану, — сказал он в заявлении газете Empire News. — Я предпочту лечь в могилу, чем такое сделать».
Конан Дойль в письме советовал Слейтеру не поступать опрометчиво:
Я вполне могу понять ваши чувства, но можете быть уверены, что вы не получите компенсации, ни единого пенса, если сами за ней не обратитесь… Я бы предложил 10 000 фунтов стерлингов[59]. Вы столько не получите, но все же это не чрезмерная сумма. Любой запрос выше этой суммы охладит всякое сочувствие к вам.
Впрочем, как я сказал, это ваше дело. Однако в любом случае необходимо выплатить наши законные долги… Ваши адвокаты, как в коллегии, так и в суде, работали отлично и не оставили в деле камня на камне.
Судебные издержки, которые, по моему мнению, довольно скромны в сравнении с большинством известных мне громких дел, оцениваются примерно в 1200 фунтов. Из них я собственными усилиями собрал около 700 фунтов. К оставшимся 500 фунтам есть некоторые дополнительные выплаты. Нужно заплатить мистеру Парку (если он это вознаграждение примет). Я бы предложил 100 гиней. Я не прошу никакого вознаграждения для себя, но я потратил 30 фунтов на поиски Хелен Ламби и 20 фунтов на объявления, эти деньги должны быть мне возмещены.
Думаю, что, пока не решен вопрос с вашими собственными запросами, вы должны отправить запрос на покрытие уже сделанных расходов, которые вы можете оценить в 1600 фунтов минус 700 фунтов, чтобы расплатиться по разным статьям. Если вы щедро отказываетесь от возмещения в свой адрес (если вы действительно считаете это разумным), то, согласитесь, вы должны честно расплатиться по долгам с теми, кто трудился ради вас долго и плодотворно.
С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, А. К. Д.Министерство по делам Шотландии, действуя по собственному почину, 4 августа предложило Слейтеру 6000 фунтов без покрытия дополнительных издержек. Не посовещавшись ни с кем, Слейтер принял эти деньги. И тем самым положил начало горькой размолвке с Конан Дойлем.
Слейтер предложенные 6000 фунтов воспринимал как должную плату и не собирался никому ничего возмещать. Конан Дойль, как он знал, обладает некоторым состоянием и легко может прожить без тех нескольких сотен фунтов, которыми поступился. Однако Слейтер не понимал того, что для Конан Дойля все сводилось к прочному и глубоко укорененному принципу: абсолютная честность в денежных вопросах, как он неустанно учил своих детей, была одним из императивов его жизни.
Оба они выросли в бедности. Один стал рыцарем, другой — нет, и из неприятной переписки между ними, последовавшей в 1928 и 1929 годах, ясно, что ни один из них не мог понять другого. Здесь вся история обретает грустные тона «Пигмалиона», ибо Конан Дойль, сделавший Слейтера свободным, не мог сделать из него джентльмена. После стольких трудов Конан Дойля по возвращению Слейтера под защиту закона Слейтер реагировал как человек, для которого закон не писан. Для Конан Дойля такое поведение, которое попирало честь и разум, две путеводные звезды его собственной жизни, было неприемлемо.
В переписке, становившейся все более саркастичной, главные противоречия Викторианской эры, касающиеся классовой принадлежности, поведения, репутации, звучат как никогда ясно. Из писем видно, что Конан Дойль долгое время действовал, опираясь на неверный диагноз — на глубинную, невольную неспособность идентифицировать, кто перед ним. Прошлое Слейтера вызывало у него неприязнь с того мига, как Конан Дойль занялся его случаем (по его словам, Слейтер был «не человек, а презренное перекати-поле»), и два десятилетия писатель держал его на расстоянии. В итоге Слейтер существовал для него больше как архетип, чем индивид.
Не то чтобы Конан Дойль презирал Слейтера как иностранца или еврея по царившему в ту эпоху обыкновению. «Либеральный империалист» до мозга костей, он не страдал викторианской манией делить людей на разряды. Со временем Слейтер стал восприниматься им как благородный идеал невинно пострадавшего.
Теперь неджентльменское прошлое Слейтера вновь заявляло о себе, привнося ложь в этот идеал. Создавая тот образ Слейтера, который позволил вмешаться в дело, Конан Дойль бессознательно поддался инерции предрассудков. Ибо в итоге его отношение к Слейтеру как к абстракции, а не как к уязвимому человеку из плоти и крови было попросту способом держать «чужака» на расстоянии.
«Чтобы не поступить с вами несправедливо, я вновь спрашиваю вас, — писал Конан Дойль Слейтеру в августе 1928 года. — Намерены ли вы возместить расходы по вашей защите тем, кто вас поддерживал, если правительство им не заплатит? Мне бы хотелось прямого и ясного ответа».
Позже в том же месяце он пишет вновь: «Вы, вероятно, сошли с ума. Если вы вправду способны отвечать за свои поступки, то вы не только самый глупый, но и самый неблагодарный человек из всех, кого я встречал. Теперь, когда я вас узнал, у меня нет желания продолжать прямую переписку, однако можете быть уверены, что вам придется ответить за свои долги».
Вскоре Конан Дойль обратился к газетам — давней арене для защиты публичной репутации. В мае 1929 года он написал в Empire News:
На ранней стадии я получил письмо от Оскара Слейтера, в котором он объявил, что никто не должен потерпеть убытки ради его защиты. Это было до вынесения вердикта. С тех пор я писал ему несколько раз, приводя факты, но он либо не отвечал, либо отвечал уклончиво. Сейчас адвокаты, как положено, затребовали денег; я, разумеется, исполнил свои личные поручительства и выплатил все сполна.
Если бы Слейтер проиграл дело в суде, я с радостью вошел бы в расходы, но поскольку он получил компенсацию в 6000 фунтов стерлингов, то представляется чудовищным возлагать расходы на меня.
В сентябре 1928 года Конан Дойль дал интервью газете Telegraph. В статье говорилось: «Это отвратительное окончание того, что могло бы стать благородной историей, — так вчера прокомментировал сэр Артур Конан Дойль свою попытку вернуть деньги, ранее уплаченные им в счет расходов Оскара Слейтера. — Конечно, я чудовищно огорчен и раздосадован. Это вопрос не столько денег, сколько принципа».
Слейтер в интервью газете Daily Mail продемонстрировал непоследовательность, которая в течение многих лет была его бичом:
Пусть он называет меня неблагодарным псом. Ругательства, которыми он меня осыпает, только обратятся против него же. Отвечать оскорблением на оскорбление ниже моего достоинства. Я даже не стану именовать его охотником за деньгами или искателем славы.
Бедняга! На него давят адвокаты. Не он ли заработал сотни фунтов писаниями обо мне, когда я был в тюрьме?
Потом он сочинял статьи обо мне, когда меня освободили, и за каждую ему платили по 50 фунтов. То было для него выгодное дельце. Он затеял подписку в мою пользу, и все говорили: «Какой он добрый».
Разгневанный Конан Дойль опубликовал ответ в том же выпуске газеты: «Охотиться за деньгами [!] Я трудился ради него 18 лет. Я написал о нем книгу, которая продавалась по 6 пенсов и не принесла мне ни пенни». Еще сильнее его рассердила другая статья в Daily Mail, в которой репортер навестил Слейтера, который жил тогда в отеле на английском морском курорте, в Брайтоне, и, по всем меркам, демонстрировал новые высоты европейского щегольства. «Оскар Слейтер сегодня приветственно пожал мне руку в своем отеле, предложил сигару из дорогой шкатулки с золотой окантовкой и выпил итальянского вермута в качестве аперитива перед отличным обедом, — писал репортер. — Он наслаждается жизнью. Купается, играет в гольф, танцует, регулярно посещает театр. Его глаза сияют здоровьем».
Конан Дойль ответил в Evening News: «Он поступил дурно, и почти все его слова — неправда. Я вижу, Слейтера застали в Брайтоне курящим дорогую сигару и вообще живущим в свое удовольствие. Частично это делается за мой счет».
Слейтер остался непоколебим, и Конан Дойль обратился к судам. В недрах Государственного архива Шотландии сохранилась папка, надпись на которой свидетельствует об одной из самых болезненных глав этой 22-летней истории, — пачка бумаг с немыслимым заголовком: «Конан Дойль против Слейтера». Иск, поданный в августе 1929 года, имел целью потребовать компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов.
К счастью, дело было улажено до вмешательства суда. В октябре 1929 года представитель Слейтера уговорил его предложить Конан Дойлю пресловутые 250 фунтов и убедил Конан Дойля их принять. «В то время неблагодарность этого человека больно меня уязвила, — писал Конан Дойль в 1930 году, — однако с тех пор я, поразмыслив, пришел к выводу, что вряд ли кто-то способен перенести 18 лет несправедливого тюремного заключения и выйти невредимым».
С этими словами повесть о Слейтере, начавшаяся в гуще социально-классовых противоречий и закончившаяся почти так же, наконец подошла к завершению.
Сэр Артур Конан Дойль — «друг Конан Дойль с большим сердцем, большим телом и большой душой», как сказал о нем викторианский писатель Джером Клапка Джером, — закончил свою прощальную битву всего за несколько месяцев до смерти. Он писал: «У меня было много приключений. Теперь меня ждет последнее и самое славное из них».
В Виндлсхэме 7 июля 1930 года Конан Дойль, сердце которого уже отказывалось служить, попросил, чтобы ему помогли перебраться с кровати в кресло у окна, за которым красовался суссекский пейзаж: было ясно, что ему хотелось избежать «немужской» смерти в постели. Его жена Джин и трое их детей помогли писателю пересесть в кресло, в котором он и умер той ночью в возрасте 71 года. Возможно, лишь в этот миг, со смертью наиболее яркого своего представителя, и закончился долгий XIX век.
Эпилог Что с ними стало
Кто убил Марион Гилкрист в тот дождливый декабрьский вечер? Конан Дойль стойко полагал, что это был ее племянник Фрэнсис Чартерис; этот взгляд разделяли и некоторые авторы более позднего времени, писавшие о преступлении. (Чартерис умер в 1964 году, сделав блестящую карьеру как врач и педагог. Остро чуткий к слухам, он до конца жизни утверждал, что не имеет никакого отношения к убийству.) Другие авторы указывали на многочисленных членов семейства мисс Гилкрист, третьи приписывали вину шайке профессиональных воров или подозревали преступное сотрудничество между Хелен Ламби и одним из ее ухажеров.
Уильям Рафхед, не называя никаких имен, придерживался мнения, что убийство было делом рук более чем одного человека. «Кто-то ведь убил мисс Гилкрист, — писал он в 1929 году при издании книги „Суд над Оскаром Слейтером“. — 20-летние размышления над фактами, подтвержденными в суде, укрепляют меня во мнении, что в деле были замешаны два человека, один из которых либо успел скрыться в промежутке между визитами мистера Адамса, либо — как Раскольников — ждал в пустой квартире наверху, пока не стихнет суета. Если читатель, изучая свидетельские показания, будет держать в уме эту гипотезу, он может признать ее полезной, поскольку ею объясняются многие сложности, проистекающие из нестыкуемых рассказов о внешности и передвижениях „того самого человека“».
В отношении вопроса, кто убил мисс Гилкрист, я принадлежу к убежденным агностикам. Любая «разгадка», появившаяся спустя 11 десятилетий после события, может быть продуктом лишь чисто умозрительных построений. Впрочем, я полагаю, что Ламби унесла в могилу больше сведений о преступлении, чем упоминала при жизни, включая знание о том, кто был убийцей. Таково было мнение Конан Дойля, который в 1930 году писал: «Я не вижу смысла искать правду об убийстве мисс Гилкрист, если Хелен Ламби не сознается. Ей, без сомнения, известно о преступлении больше, чем она упоминала публично». Однако никаких признаний от Ламби не последовало. В 1930-х вместе с семьей она вернулась в Шотландию, а позже поселилась на севере Англии. Она умерла в Лидсе (Западный Йоркшир) в 1960 году, 73 лет от роду.
Мэри Барроуман, которая в поздние годы занималась поденной работой, дважды выходила замуж. Ее считали алкоголичкой; двоих детей забрало государство. Шотландский журналист Роберт Хаус в своей книге «Квадратная миля убийства», выпущенной в 2002 году и посвященной четырем убийствам в Глазго, включая убийство мисс Гилкрист, писал: «Через многие годы после суда над Оскаром Слейтером Мэри Барроуман явилась в некий дом в Глазго и сказала, что желает сделать признание. В вечер убийства она не приходила на Западную Принцеву улицу. Ее пьющая мать велела ей заявить о якобы виденном, надеясь поживиться за счет вознаграждения». Барроуман умерла в 1934 году в возрасте 40 лет от рака.
Семидесятитрехлетний Артур Адамс 3 января 1942 года был найден умершим своей смертью в собственном доме номер 14 на Королевской террасе, под той самой квартирой, в которой мисс Гилкрист встретила свою смерть. По примечательной прихоти судьбы свидетельство о его смерти подписал доктор Джон С. М. Орд — сын Джона Орда из полиции Глазго.
В 1969 году член глазговского городского магистрата Джон Янг начал кампанию за посмертную реабилитацию детектива-лейтенанта Джона Томсона Тренча. После рассмотрения вопроса городские власти решили, что не имеют юридических полномочий требовать пересмотра дела о его увольнении. Впрочем, в 1999 году в Музее полиции Глазго была установлена памятная табличка в честь Тренча. При открытии присутствовала Нэнси Старк — единственная из его детей, дожившая до этого дня. Табличка гласила: «Сейчас для судебных уголовных дел и для полицейских дисциплинарных разбирательств существует возможность обжалования, которой ни мистер Тренч, ни мистер Слейтер в свое время не могли воспользоваться. Тот факт, что эта мера безопасности существует уже в течение многих лет, является, вероятно, должным памятником тем страданиям, которые эти люди претерпели ради правды и справедливости».
Его величества тюрьма Питерхед (во время правления королевы Елизаветы II известная как «ее величества тюрьма Питерхед») до конца XX века считалась одним из худших мест наказания в Великобритании — «шотландский гулаг, тюрьма без малейшей надежды», как ее назвали комментаторы в 1991 году. Тюрьма была закрыта в 2013 году, теперь там музей.
Самый знаменитый узник Питерхеда Оскар Слейтер — щеголь, игрок, иностранец, козел отпущения, еврей — остался довольно экзотической фигурой, вокруг которой в последующие годы время от времени вращались газетные слухи. «Женюсь на негритянке, говорит Оскар Слейтер» — гласил заголовок в The New York Times через год после его оправдания, в 1929 году. Дальше шел подзаголовок: «Житель Шотландии, получивший 30 тысяч фунтов в компенсацию неправомерного приговора за убийство, планирует жить в Африке».
Реальность была куда более прозаической. Слейтер прожил в Шотландии до конца своих дней, поселившись в прибрежном городе Эр неподалеку от Глазго. Общительный, пользующийся любовью соседей, он имел скромное дело по восстановлению и продаже старинных вещей. В 1936 году, после смерти первой жены, жившей отдельно от него, он женился на Лине Шад, шотландской жительнице немецкого происхождения, которая была моложе его на 30 лет. По всем отзывам этот брак был счастливым.
Несмотря на то что германского гражданства Слейтер давно лишился, Вторая мировая война вновь вызвала к жизни его немецкое прошлое. После ее начала Слейтера как иностранца из вражеской страны ненадолго интернировали вместе с женой. Впоследствии супруги вернулись к привычной жизни в Эре. Не в силах выносить имя Оскар Слейтер, он вновь жил под именем Оскар Лешцинер.
«После войны Оскару оставалось несколько золотых лет, — писал британский автор Ричард Уиттингтон-Эган, который интервьюировал Лину Лешцинер перед ее смертью в 1992 году. — Порой, единственно ради удовольствия от жизни, он становился на Старом мосту, освященном именем Роберта Бёрнса, и пел во всю силу своих легких. Он обладал хорошим певческим голосом, ему нравилось слушать музыку. Часто ходил в театр и в кино. Всегда был любителем пеших прогулок. Был не прочь поговорить. После долгих лет принудительного молчания больше всего любил добрую беседу. Обладая щедрым нравом, он всегда вкладывал свою лепту в благотворительность — особенно когда дело касалось больных или бездомных детей».
Оскар Лешцинер умер от эмболии легочной артерии 31 января 1948 года у себя дома в Эре в возрасте 76 лет, пережив почти всех главных участников сфабрикованного против него дела. В Германию он не вернулся. Скорее всего, и к лучшему: 27 июля 1942 года более тысячи евреев были депортированы из Бреслау — его родного района Силезии. Из них выжило едва ли два десятка. В той тысяче были сестра Слейтера Феми, погибшая в Треблинке, и его любимая сестра Мальхен, убитая в Терезинском гетто.
Благодарности
Эта книга, без всякого преувеличения, родилась из тысяч страниц документов, которые тщательно собирались, копировались и пересылались через океан неутомимыми людьми, работавшими в архивах по всей Великобритании. В Государственном архиве Шотландии в Эдинбурге то были Джессика Эвершед, Джейн Даймисон, Саманта Смарти и Робин Эркхарт; в Библиотеке Митчелла в Глазго — Линда Берк, Майкл Галлагер, Патрисия Грант, Клэр Макгуган, Барбара Маклин, Питер Мунро, Сьюзан Тейлор и Нерис Танниклифф; в Музее Питерхедской тюрьмы — Александр Геддес; в архивах Конан Дойля в городском совете Портсмута — Майкл Гантон.
Спасибо также Кирсти Уорк за прекрасный обед в Глазго, Алану Клементсу и Кейтлин Уорк-Клементс — за помощь с книгой. Мои агенты, Катинка Матсон и Макс Брукман, заслуживают благодарности за их многолетнюю поддержку, как и Майкл Хили из той же компании Brockman Inc.
В издательстве Random House мне повезло работать с потрясающим редактором Хилари Редмон, которая, прочитав ранний набросок этой книги, углядела суть истории задолго до меня. Ее ассистент Молли Терпин оказывала квалифицированную помощь. В издательстве Random House также помогали воплотить книгу в жизнь Нэнси Делиа, Барбара Бакман, Ричард Элман, Шарон Пропсон, Мэри Моутс и Джессика Боне. Литературным редактором выступала Сью Уорга, указатель составлял Коэн Каррут. В британском издательстве Profile Books благодарности достойны сооснователь и управляющий директор Эндрю Франклин, а также мой редактор Сесили Грейфорд. Джон Дейви, который курировал британское издание моей предыдущей книги «Загадка лабиринта» и должен был курировать нынешнюю, умер перед самым завершением книги. Он успел поделиться проницательными комментариями к раннему варианту рукописи, за что я глубоко ему благодарна; надеюсь, окончательная версия книги станет скромной данью его памяти. Биограф Конан Дойля Дэниел Стэшоуэр, редактор основополагающего издания канона о Шерлоке Холмсе Лесли Клингер и специалист по истории шотландского еврейства Бен Брейбер прочли рукопись и предложили неоценимые правки и примечания. Коллеги из The New York Times выказывали поразительную терпимость, пока я сражалась с книгой по ночам, их стараниями работа в газете превратилась для меня в постоянный источник радости и гордости. Среди них Барбара Баумгартен, Шарлотта Берендт, Том Каффри и покойные Дженет Элдер, Бернадетт Эспина, Нил Генцлингер, Уильям Граймс, Джек Кадден, Питер Кипньюс, Уильям Макдональд, Роберт Макфадден, Дуглас Мартин, Долорес Моррисон, Амиша Паднани, Сэм Робертс, Джефф Рот, Ричард Сандомир, Дэниел Слотник, Чарльз Страм, Брюс Уэбер и Эрл Уилсон. Художественный редактор Джонатан Корум, работавший также над «Загадкой лабиринта», создал для нынешней книги мастерские визуальные материалы. Лора Отис, исследовательница и лауреат премии Макартура, изучающая увлекательный интеллектуальный ландшафт на стыке викторианской науки и викторианской литературы (и которую я имею удовольствие называть подругой со школьных времен), дала мне необходимые сведения об основных научных и литературных течениях той эпохи. Тереза Уильямс и Айра Хозински заслуживают огромной благодарности за неустанное желание выслушивать все связанное с книгой и за их драгоценную 30-летнюю дружбу. И наконец, благодарность, любовь и уважение адресуются писателю, критику и преподавателю Джорджу Робинсону, чья дружба сопровождает меня более 30 лет.
Действующие лица
Артур Адамс — сосед снизу мисс Гилкрист.
Доктор Джон Адамс — первый врач, прибывший на место преступления; не связан родством с Артуром Адамсом.
Крейги Атчисон — адвокат Слейтера во время судебного пересмотра дела в 1928 году.
Андре Жунио Антуан («мадам Жунио») — любовница Слейтера, по слухам, проститутка.
Анни Армор — служащая метрополитена Глазго, свидетель обвинения на суде по делу Слейтера.
Мэри Барроуман — девочка-посыльная подросткового возраста, заявившая, что видела, как убийца убегал по Западной Принцевой улице.
Доктор Джозеф Белл — преподаватель Конан Дойля на медицинском факультете, искусный диагност и прототип Шерлока Холмса.
Маргарет Биррел — племянница мисс Гилкрист.
Хью Камерон — клерк из букмекерской конторы Глазго и приятель Слейтера; он навел полицию на лавку, где Слейтер заложил бриллиантовую брошь в виде полумесяца.
Фрэнсис Чартерис — известный в Глазго врач, племянник мисс Гилкрист.
Дэвид Кук — глазговский юрист, друг и единомышленник лейтенанта-детектива Тренча.
Уильям Миллер Дуглас — руководитель отдела в полиции Глазго.
Джордж Эдалджи — англичанин индийского происхождения, чей несправедливый приговор за порчу животного Конан Дойль помог отменить в 1907 году; его дело стало предвозвестником дела Слейтера.
Мэгги Гэлбрайт Фергюсон — бывшая горничная мисс Гилкрист; вместе с дочерью, носившей имя Марион Гилкрист Фергюсон, была главной наследницей по новому завещанию мисс Гилкрист.
Чарльз Фокс — государственный прокурор на слушаниях по делу об экстрадиции в Нью-Йорке.
Марион Гилкрист — жертва описываемого преступления.
Сэр Джон Гилмор — министр по делам Шотландии в 1924–1929 годах.
Джон Глейстер — судебно-медицинский эксперт, свидетель обвинения на суде по делу Слейтера.
Уильям А. Гудхарт — первоначальный адвокат Слейтера на слушаниях об экстрадиции.
Уильям Гордон — узник Питерхеда, знакомый Слейтера; после освобождения в 1925 году он передал отчаянное письмо Слейтера Конан Дойлю.
Агнес Гатри — бывшая хозяйка Хелен Ламби.
Чарльз Джон, лорд Гатри — судья на процессе по делу Слейтера.
Джеймс Харт — местный прокурор Ланаркшира, ключевая фигура в вынесении несправедливого приговора Слейтеру.
Хелен (Нелли) Ламби (впоследствии Гиллон) — служанка мисс Гилкрист.
Адольф Лешцинер — отец Слейтера (при рождении получившего имя Оскар Йозеф Лешцинер).
Евфимия (Феми) Лешцинер — сестра Слейтера.
Георг Лешцинер — брат Слейтера.
Паулина (или Паула) Лешцинер — мать Слейтера.
Ровена Адамс Лиддел — сестра Артура Адамса.
Дункан Макбрейн — зеленщик в Глазго, который мог подтвердить алиби Слейтера, но не был допущен на заседание суда.
Колин Маккаллум — обувщик в Глазго, у которого работала Мэри Барроуман.
Александр Логан Макклюр — адвокат Слейтера, выступавший его защитником на суде.
Рамсей Макдональд — глава Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании в 1924, 1929–1931-м и 1931–1935 годах.
Аллан Маклин — торговец велосипедами, доложивший полиции о залоговой квитанции Слейтера.
Эрна Мейер — дочь Феми, сестры Слейтера.
Джеймс Гарднер Миллар — юрист и шериф Ланаркшира; руководил тайным расследованием в 1914 году.
Джон Орд — главный руководитель отдела уголовных расследований полиции Глазго.
Джон Орр — старший руководитель в полиции Глазго.
Эрнест Клефан Палмер («Пилигрим») — британский журналист, автор обличающих газетных статей о деле Слейтера, опубликованных в 1927 году.
Уильям Парк — журналист и автор вышедшей в 1927 году книги «Правда об Оскаре Слейтере», отредактированной и опубликованной Конан Дойлем.
Преподобный Елеазар Филипс — глава еврейской общины в Гарнетхилле; еврейский священнослужитель в Глазго, долговременный сторонник Слейтера.
Джон У. М. Пинкли — американский судебный пристав на слушаниях об экстрадиции.
Джон Пайпер — инспектор уголовной полиции Глазго, ключевая фигура в нью-йоркских слушаниях об экстрадиции Слейтера.
Уильям Рафхед — шотландский юрист, криминолог и журналист, редактор книги «Суд над Оскаром Слейтером», выходившей четырьмя изданиями с 1910 по 1950 год.
Катрин Шмальц — горничная Слейтера.
Александр Шонесси — второй адвокат Слейтера в Глазго, принявший дело после Юинга Спирса.
Джон А. Шилдс — уполномоченный США по Южному округу Нью-Йорка; руководил слушаниями по делу об экстрадиции Слейтера.
Джон Синклер — министр по делам Шотландии, 1905–1912 годы.
Юинг Спирс — первый адвокат Слейтера в Глазго.
Амалия (Мальхен) Лешцинер-Тау — сестра Слейтера.
Кати (Катель) Тау — дочь Мальхен, сестры Слейтера.
Джон Томсон Тренч — лейтенант-детектив полиции Глазго; выступил в защиту Слейтера на разбирательствах в 1914 году, за что поплатился карьерой.
Александр Юр — лорд-адвокат (главный государственный обвинитель), главный прокурор на суде по делу Слейтера. Впоследствии был удостоен титула и стал известен как барон Стратклайд.
Уильям Уорнок — начальник уголовной службы шерифского суда Глазго, ключевая фигура на нью-йоркских слушаниях об экстрадиции Слейтера.
Томас Маккиннон Вуд — министр по делам Шотландии, 1912–1916 годы.
Глоссарий
«Выгородка» — в шотландских домах, имеющих несколько квартир, вестибюль с лестницей, ведущей на верхние этажи.
Донегальская кепка — плоская круглая мягкая кепка из твида, традиционно ассоциирующаяся с Ирландией.
Лорд-адвокат — главный правительственный обвинитель.
«Придверное жилье» — в шотландских домах квартира первого этажа, имеющая собственный выход на улицу, отдельный от двери «выгородки».
Мастер Полворт — председатель тюремной комиссии в Шотландии.
«Вина не доказана» — в шотландских судах по уголовным делам один из трех возможных вердиктов наряду с «виновен» и «невиновен», который могут вынести присяжные.
Местный прокурор — юридическая должность в Шотландии, совмещающая функции расследования и обвинения; нечто схожее с должностью окружного прокурора в США.
Министр по делам Шотландии — главный правительственный министр в Великобритании, отвечающий за дела Шотландии.
Шериф — представитель судебной власти в Шотландии, осуществляющий контроль над местным судом.
Библиография
Accardo, Pasquale, M. D. Diagnosis and Detection: The Medical Iconography of Sherlock Holmes. Rutherford, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1987.
Adam, Alison. A History of Forensic Science: British Beginnings in the Twentieth Century. London: Routledge, 2016.
Asimov, Isaac. «Thoughts on Sherlock Holmes.» Baker Street Journal 37, no. 4 (1987): 201–4.
Barnes, Julian. Arthur and George. London: Jonathan Cape, 2005.
Bell, Dr. Joseph. «Mr. Sherlock Holmes.» Introduction to Conan Doyle (1892), 5–13.
Bigelow, S. Tupper. «Fingerprints and Sherlock Holmes.» Baker Street Journal 17, no. 3 (1967): 131–35.
Booth, Martin. The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan Doyle. New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's Minotaur, 1997.
Boreham, N. C., G. E. Mawer, and R. W. Foster. «Medical Diagnosis from Circumstantial Evidence.» Le Travail Humain 59, no. 1 (1996): 69–85.
Braber, Ben. Jews in Glasgow 1879–1939: Immigration and Integration. London: Vallentine Mitchell, 2007.
________. «The Trial of Oscar Slater (1909) and Anti-Jewish Prejudices in Edwardian Glasgow.» History 88 (2003): 262–79.
Caplan, Jane. «'This or That Particular Person': Protocols and Identification in Nineteenth-Century Europe.» In Caplan and Torpey (2001), 49–66.
Caplan, Jane, and John Torpey, eds. Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001.
Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland and Alice's Adventures Underground. Cleveland: World Publishing Company, 1946.
Cole, Simon A. Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001.
Conan Doyle, A. The Stark Munro Letters: Being a Series of Twelve Letters Written by J. Stark Munro, M. B., to His Friend and Former Fellow-Student, Herbert Swanborough, of Lowell, Massachusetts, During the Years 1881–1884. New York: D. Appleton & Company, 1895.
________. The War in South Africa: Its Cause and Conduct. New York: McClure, Phillips & Company, 1902.
Conan Doyle, Adrian. The True Conan Doyle. New York: Coward-McCann, 1946.
Conan Doyle, Arthur. The Case of Oscar Slater. New York: Hodder & Stoughton/George H. Doran Company, 1912.
________. Introduction to Park (1927).
________. Memories and Adventures. Oxford: Oxford University Press, 1924; 2nd ed., London: John Murray, 1930.
________. Through the Magic Door. Pleasantville, N. Y.: Akadine Press, 1999.
Conan Doyle, Sir A. A Study in Scarlet. London: Ward, Lock & Company, 1892.
Conan Doyle, Sir Arthur. The Case of Mr. George Edalji. London: T. Harrison Roberts, 1907. In Conan Doyle (1985), 34–78.
________. The Penguin Complete Sherlock Holmes. New York: Penguin Books, 1981.
________. The Story of Mr. George Edalji. Edited by Richard and Molly Whittington-Egan. London: Grey House Books, 1985.
—. Strange Studies from Life and Other Narratives: The Complete True Crime Writings of Sir Arthur Conan Doyle. Selected and edited by Jack Tracy. Bloomington, Ind.: Gaslight Publications, 1988.
Costello, Peter. The Real World of Sherlock Holmes: The True Crimes Investigated by Arthur Conan Doyle. New York: Carroll & Graf Publishers, 1991.
Crowther, M. Anne, and Brenda White. On Soul and Conscience: The Medical Expert and Crime. 150 Years of Forensic Medicine in Glasgow. Aberdeen, U. K.: Aberdeen University Press, 1988.
Dickens, Charles. A Christmas Carol: And Other Christmas Books. New York: Vintage Classics, 2012.
Dictionary of the Scottish Language (an online database comprising two major historical dictionaries, A Dictionary of the Older Scottish Tongue and The Scottish National Dictionary), .
Doyle, Georgina. Out of the Shadows: The Untold Story of Arthur Conan Doyle's First Family. Ashcroft, B. C.: Calabash Press, 2004.
Duff, Peter. «The Scottish Criminal Jury: A Very Peculiar Institution.» Law and Contemporary Problems 62, no. 2 (Spring 1999): 173–201.
Eco, Umberto, and Thomas A. Sebeok, eds. The Sign of the Three: Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington: Indiana University Press, 1983.
Ellis, Havelock. The Criminal. Memphis, Tenn.: General Books, 2012.
Ferrero, Gina Lombroso. Criminal Man: According to the Classification of Cesare Lombroso, Briefly Summarised by His Daughter Gina Lombroso Ferrero. New York: G. P. Putnam's Sons, 1911.
Frank, Lawrence. Victorian Detective Fiction and the Nature of Evidence: The Scientific Investigations of Poe, Dickens, and Doyle. London: Palgrave Macmillan, 2009.
Freeman, R. Austin. The Best Dr. Thorndyke Stories. Selected by E. F. Bleiler. New York: Dover Publications, 1973.
________. «The Case of Oscar Brodski.» In Freeman (1973).
Garavelli, Dani. «Insight: The Jury's Still Out on 'Not Proven' Verdict.» Scotsman, Feb. 13, 2016.
Gay, Peter. The Cultivation of Hatred: The Bourgeois Experience, Victoria to Freud. Vol. 3. New York: W. W. Norton & Company, 1993.
Gibson, John Michael, and Richard Lancelyn Green, eds. The Unknown Conan Doyle: Letters to the Press. London: Secker & Warburg, 1986.
Grant, Douglas. The Thin Blue Line: The Story of the City of Glasgow Police. London: John Long, 1973.
Gross, Hans. Criminal Investigation: A Practical Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers. Translated and edited by John Adam and John Collyer Adam. New Delhi: Isha Books, 2013.
Hardwick, Michael, and Mollie Hardwick. The Man Who Was Sherlock Holmes. Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, 1964.
Higgs, Edward. Identifying the English: A History of Personal Identification, 1500 to the Present. London: Continuum, 2011.
Hines, Stephen. The True Crime Files of Sir Arthur Conan Doyle. New York: Berkley Prime Crime, 2001.
House, Jack. Square Mile of Murder. Edinburgh: Black & White Publishing, 2002.
Hunt, Peter. Oscar Slater: The Great Suspect. London: Carroll & Nicholson, 1951.
Huxley, Thomas Henry. Science and Culture: And Other Essays. New York: D. Appleton, 1882.
Jann, Rosemary. The Adventures of Sherlock Holmes: Detecting Social Order. New York: Twayne Publishers, 1995.
Jeffrey, Robert. Peterhead: The Inside Story of Scotland's Toughest Prison. Edinburgh: Black & White Publishing, 2013.
Jones, Dr. Harold Emery. The Original of Sherlock Holmes. Windsor, U. K.: Gaby Goldscheider, 1980.
Joseph, Anne M. «Anthropometry, the Police Expert, and the Deptford Murders: The Contested Introduction of Fingerprinting for the Identification of Criminals in Late Victorian and Edwardian Britain.» In Caplan and Torpey (2001), 164–83.
Julius, Anthony. Trials of the Diaspora: A History of Anti-Semitism in England. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Kirsch, Adam. Benjamin Disraeli. New York: Schocken Books, 2008.
Klinefelter, Walter. The Case of the Conan Doyle Crime Library. La Crosse, Wis.: Sumac Press, 1968.
Klinger, Leslie S., ed. The New Annotated Sherlock Holmes. 3 vols. New York: W. W. Norton & Company, 2005–6.
Knepper, Paul. «British Jews and the Racialisation of Crime in the Age of Empire.» British Journal of Criminology 47 (2007): 61–79.
Liebow, Ely. Dr. Joe Bell: Model for Sherlock Holmes. Madison, Wis.: Popular Press, 2007.
Lillo, Antonio. «Nae Barr's Irn-Bru Whit Ye're oan Aboot: Musings on Modern Scottish Rhyming Slang.» English World-Wide 33, no. 1 (2012): 69–102.
Loftus, Elizabeth, and Katherine Ketcham. Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness, and the Expert Who Puts Memory on Trial. New York: St. Martin's Press, 1991.
Lycett, Andrew. The Man Who Created Sherlock Holmes: The Life and Times of Sir Arthur Conan Doyle. New York: Free Press, 2007.
McConnell, Frank D. «Sherlock Holmes: Detecting Order amid Disorder.» Wilson Quarterly 11, no. 2 (1987): 172–83.
MacLean, John. Accuser of Capitalism: John MacLean's Speech from the Dock, May 9th 1918. London: New Park Publications, 1986.
________. «Life in Prison.» The Red Dawn 1, no. 1 (March 1919): 8–9; republished at .
McNay, Michael. «Craigie Aitchison Obituary.» Guardian, Dec. 22, 2009.
Markovits, Stefanie. «Form Things: Looking at Genre Through Victorian Diamonds.» Victorian Studies 52, no. 4 (2010): 591–619.
Miller, Russell. The Adventures of Arthur Conan Doyle: A Biography. New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's Press, 2008.
Murch, A [lma] E [lizabeth]. The Development of the Detective Novel. New York: Philosophical Library, 1958.
Nordon, Pierre. Conan Doyle: A Biography. Translated by John Murray. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1967.
O'Brien, James F. The Scientific Sherlock Holmes: Cracking the Case with Science and Forensics. Oxford: Oxford University Press, 2013.
«Oscar Slater's Own Story: Specially Compiled from Private Documents.» Empire News, April 13, 1924.
Otis, Laura. Membranes: Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century Literature, Science, and Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
Park, William. The Truth About Oscar Slater [with the Prisoner's Own Story]. London: Psychic Press, 1927.
Peckham, Robert, ed. Disease and Crime: A History of Social Pathologies and the New Politics of Health. New York: Routledge, 2014.
________. «Pathological Properties: Scenes of Crime, Sites of Infection.» In Peckham (2014), 56–78.
Pellegrino, Edmund D. «To Look Feelingly: The Affinities of Medicine and Literature.» Literature and Medicine 1 (1982): 19–23.
Piel, Eleanor Jackson. «The Death Row Brothers.» Proceedings of the American Philosophical Society 147, no. 1 (2003): 30–38.
Poe, Edgar Allan. «The Murders in the Rue Morgue.» In Poe (1984), 397–431.
________. «The Mystery of Marie Rogêt.» In Poe (1984), 506–54.
________. Poetry and Tales. New York: Library of America, 1984.
Pollock, Sir Frederick, and Frederic William Maitland. The History of English Law Before the Time of Edward I 2nd ed. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1911.
Ramsey, Ted. Stranger in the Hall. Glasgow: Ramshorn Publications, 1988.
Rapezzi, Claudio, Roberto Ferrari, and Angelo Branzi. «White Coats and Fingerprints: Diagnostic Reasoning in Medicine and Investigative Methods of Fictional Detectives.» BMJ: British Medical Journal 331, no. 7531 (2005): 1491–94.
Roughead, William, ed. Trial of Oscar Slater. Notable British Trials Series. Edinburgh and London: William Hodge & Company, 1910; 2nd ed., 1915; 3rd ed., 1929; 4th ed., 1950.
Saxby, Jessie M. E. Joseph Bell: An Appreciation by an Old Friend. Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1913.
Scraton, Phil, Joe Sim, and Paula Skidmore. Prisons Under Protest. Milton Keynes, U. K.: Open University Press, 1991.
Sebeok, Thomas A., and Jean Umiker-Sebeok. «You Know My Method: A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes.» In Eco and Sebeok (1983), 11–54.
Siegel, Jack M. «The First Citizen of Baker Street.» Chicago Review 2, no. 2 (1947): 49–55.
Sims, Michael. Arthur and Sherlock: Conan Doyle and the Creation of Holmes. New York: Bloomsbury, 2017.
Smith, Alexander Duncan, ed. The Trial of Eugène Marie Chantrelle. Notable Scottish Trials Series. Glasgow: William Hodge & Company, 1906.
Smith, Sir Sydney. Mostly Murder. New York: Dorset Press, 1988.
Stashower, Daniel. Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle. New York: Owl/Henry Holt, 1999.
Tilstone, William J., Kathleen A. Savage, and Leigh A. Clark. Forensic Science: An Encyclopedia of History, Methods, and Techniques. Santa Barbara, Calif.: ABC–CLIO, 2006.
Toughill, Thomas. Oscar Slater: The «Immortal» Case of Sir Arthur Conan Doyle. Stroud, U. K.: Sutton Publishing, 2006.
Truzzi, Marcello. «Sherlock Holmes: Applied Social Psychologist.» In Eco and Sebeok (1983), 55–80.
Van Dover, J. K. You Know My Method: The Science of the Detective. Bowling Green, Ky.: Bowling Green State University Popular Press, 1994.
Voltaire, M. de. Zadig. New York: Rimington & Hooper, 1929.
Wade, Stephen. Conan Doyle and the Crimes Club: The Creator of Sherlock Holmes and His Criminological Friends. Oxford: Fonthill Media, 2013.
Whittington-Egan, Richard. The Oscar Slater Murder Story: New Light on a Classic Miscarriage of Justice. Glasgow: Neil Wilson Publishing, 2001.
Whittington-Egan, Richard, and Molly Whittington-Egan. Introduction to Conan Doyle (1985).
«Will Wed a Kaffir, Says Oscar Slater.» New York Times, Nov. 28, 1929, 21; reprint of Associated Press article datelined London, Nov. 27, 1929.
Wilson, Philip Whitwell. «But Who Killed Miss Gilchrist?» North American Review 226, no. 5 (1928): 531–44.
Wistrich, Robert S. «Antisemitism Embedded in British Culture.» Online interview by Manfred Gerstenfeld, Jerusalem Center for Public Affairs, 2008, -embedded-in-british-culture.
Womack, Steven. Introduction to Hines (2001).
Примечания
Сокращения
ACD (Arthur Conan Doyle) — Артур Конан Дойль
AMA (Arthur Montague Adams) — Артур Монтегю Адамс
AT (Amalie (Malchen) Leschziner Tau) — Амалия (Мальхен) Лешцинер-Тау
DC (David Cook) — Дэвид Кук
ES (Ewing Speirs) — Юинг Спирс
EL (Euphemia (Phemie) Leschziner) — Евфимия (Феми) Лешцинер
HL (Helen Lambie) — Хелен Ламби
HMPP (His Majesty's Prison Peterhead) — его величества тюрьма Питерхед
JTT (Det. Lt. John Thompson Trench) — лейтенант-детектив Джон Томсон Тренч
LF (Leschziner family) — семья Лешцинер
MB (Margaret Birrell) — Маргарет Биррел
ML (Mitchell Library, Glasgow) — Библиотека Митчелла в Глазго
MP (Master of Polworth) — мастер Полворт
NRS (National Records of Scotland, Edinburgh) — Государственный архив Шотландии в Эдинбурге
OS (Oscar Slater) — Оскар Слейтер
PL (Pauline Leschziner) — Паулина Лешцинер
REP (Reverend Eleazar Phillips) — преподобный Елеазар Филипс
WAG (William A. Goodhart) — Уильям А. Гудхарт
WG (William Gordon) — Уильям Гордон
WP (William Park) — Уильям Парк
WR (William Roughead) — Уильям Рафхед
Примечание от автора
«носил составную фамилию»: Russell Miller, The Adventures of Arthur Conan Doyle: A Biography (New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's Press, 2008), 24.
«Подлинный Конан Дойль»: Adrian Conan Doyle, The True Conan Doyle (New York: Coward-McCann, 1946).
Предисловие
«самое жестокое и бездушное преступление»: Arthur Conan Doyle, The Case of Oscar Slater (New York: Hodder & Stoughton/George H. Doran Company, 1912), 79–80.
«бессмертным злодеянием, примером исключительной некомпетентности»: Письмо ACD для Spectator, 25 июля 1914. John Michael Gibson and Richard Lancelyn Green, eds., The Unknown Conan Doyle: Letters to the Press (London: Secker & Warburg, 1986), 205.
«увидимся, Оскар»: Dictionary of the Scottish Language, . Менее известный, чем кокни, рифмованный сленг Глазго тоже появился в XIX веке и остался таким же жизнеспособным, как его лондонский аналог. Среди современных примеров — «the Tony Blairs» для слова «ступени» («Тони Блэры», употребляется вместо рифмуемого слова stairs), «Andy Murray» («Энди Мюррей», рифма к curry — «карри»), «Gregory Pecks» («Грегори Пекс», рифма к specs — «очки») и «Marilu Henner» («Марилу Хеннер», рифма к tenner — «десятифунтовая банкнота»). Эти примеры взяты из Antonio Lillo, «Nae Barr's Irn-Bru Whit Ye're oan Aboot: Musings on Modern Scottish Rhyming Slang,» English World-Wide 33, no. 1 (2012): 69–102.
«постыдной фальсификацией»: Arthur Conan Doyle, Memories and Adventures, 2nd ed. (London: John Murray, 1930), 445.
«шотландским гулагом»: Цитируется в Phil Scraton, Joe Sim, and Paula Skidmore, Prisons Under Protest (Milton Keynes, U. K.: Open University Press, 1991), 65.
если бы срок перевалил за 20 лет: WP к ACD, 1 декабря 1927, ML.
«противостоял целый круг политических законников»: Письмо, помеченное как «частное», от ACD к неизвестному адресату, без даты, ML; также цитируется в Miller (2008), 299.
«наказать кота за пропажу сметаны»: Письмо Эндрю Лэнга к WR. Цитируется в Peter Hunt, Oscar Slater: The Great Suspect (London: Carroll & Nicholson, 1951), 142.
«Дело Слейтера»: Pierre Nordon, Conan Doyle: A Biography, trans. John Murray (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1967), 115.
«рыцарь безнадежных судебных дел»: William Roughead, ed., Trial of Oscar Slater, 4th ed., Notable British Trials Series (Edinburgh and London: William Hodge & Company, 1950), xxviii.
едва ли не самый знаменитый персонаж западной литературы: В 1987 году выдающийся писатель-фантаст и рационалист Айзек Азимов перекрыл эту оценку, написав: «В действительности вполне можно считать, что Шерлок Холмс — самый знаменитый вымышленный персонаж среди любых других и во все времена». Isaac Asimov, «Thoughts on Sherlock Holmes,» Baker Street Journal 37, no. 4 (1987): 201.
«Артур и Джордж»: Julian Barnes, Arthur and George (London: Jonathan Cape, 2005).
«не человек, а презренное перекати-поле»: Conan Doyle (1912), 43.
«ретроспективные рассуждения»: «A Study in Scarlet,» in Sir Arthur Conan Doyle, The Penguin Complete Sherlock Holmes (New York: Penguin Books, 1981), 83. (Артур Конан Дойль. «Этюд в багровых тонах»).
«У меня есть наклонности»: Там же, 23–24.
трогательные письма: В соответствии с тюремными порядками Слейтер обязан был писать семье по-английски; ответные письма, написанные на немецком, в Шотландии должны были переводиться на английский и лишь затем вручаться адресату. Слейтер не вполне владел английским, это видно по текстам писем. Письма членов его семьи, сохранившиеся в шотландских архивах, переведены на английский язык разными переводчиками с разными способностями. В цитатах из писем Слейтера, представленных в этой книге, я ради удобочитаемости иногда незначительно меняла нестандартную пунктуацию и разбивала на абзацы текст, который Слейтер и некоторые из его переводчиков писали сплошным потоком; я также стандартизовала несовпадающие варианты написания некоторых немецких имен.
«долгий XIX век»: Peter Gay, The Cultivation of Hatred: The Bourgeois Experience, Victoria to Freud (New York: W. W. Norton & Company, 1993), 3: fn.
«болезненный и отвратительный исход»: Conan Doyle (1930), 445.
«расиализация преступности»: Ср. Paul Knepper, «British Jews and the Racialisation of Crime in the Age of Empire,» British Journal of Criminology 47 (2007): 61–79.
Пролог. Заключенный 2988
23 января 1925 года: Дата освобождения Гордона и номер заключенного даны по HMPP internal memorandum, Feb. 17, 1925.
почти через три года: Слейтера освободили в ноябре 1927 года.
во время собрания: Hunt (1951), 187.
режим принудительного молчания: John MacLean, «Life in Prison,» Red Dawn 1, no. 1 (March 1919): 8–9; перепост на .
круглые сутки охраняли вооруженные стражи: Robert Jeffrey, Peterhead: The Inside Story of Scotland's Toughest Prison (Edinburgh: Black & White Publishing, 2013), 19.
уже успел получить наказание: HMPP disciplinary record, Sept. 1, 1912, NRS.
Гордон старина…: OS к WG, без даты, ML.
Лишь несколько строк…: Задержанное анонимное письмо к OS, вероятнее всего от WG, 14 февраля 1925. Присоединено к HMPP internal memorandum, Feb. 17, 1925, NRS.
«случай убийства»: Douglas Grant, The Thin Blue Line: The Story of the City of Glasgow Police (London: John Long, 1973), 54.
«Косвенные доказательства очень ненадежны…»: «The Boscombe Valley Mystery,» in Conan Doyle (1981), 204–5. (Артур Конан Дойль. «Тайна Боскомской долины».)
Глава 1. Шаги на лестнице
население в четверть миллиона: /3.
второй крупнейший город: Там же.
«Теперь нахлынуло племя иноземцев…»: Цитируется в Ben Braber, «The Trial of Oscar Slater (1909) and Anti-Jewish Prejudices in Edwardian Glasgow,» History 88 (2003): 273–74.
«ярко осветил»: Цитируется там же, 274.
родилась в Глазго: County of Lanark, Register of Births and Baptisms, NRS.
«Мисс Гилкрист не поддерживала отношений с родственниками»: MB к JTT, декабрь 1908; документ был сохранен им для использования на суде 1914 года, ML.
20 ноября 1908 года: Marion Gilchrist, Trust Disposition and Deed of Settlement and Codicil, May 28 and Nov. 20, 1908. Books of Council and Sessions, NRS.
Предыдущий вариант: Там же.
которое оценивалось: Richard Whittington-Egan, The Oscar Slater Murder Story: New Light on a Classic Miscarriage of Justice (Glasgow: Neil Wilson Publishing, 2001), 71.
«приятная девушка, живая, легкомысленная»: Hunt (1951), 17.
«очень хорошая домработница»: Письмо Агнес Гатри к WP, цитируется в Whittington-Egan (2001), 156.
собрала внушительную коллекцию: Список взят в Roughead (1950), 248–49.
На момент смерти: William Park, The Truth About Oscar Slater [with the Prisoner's Own Story] (London: Psychic Press, 1927), 46.
«Она редко надевала драгоценности…»: Conan Doyle (1912), 9.
сейфу в будуаре предпочитая: Hunt (1951), 17.
Некоторые драгоценности мисс Гилкрист прикрепляла булавками: Jack House, Square Mile of Murder (Edinburgh: Black & White Publishing, 2002), 143.
«Против нежелательного вторжения…»: Hunt (1951), 17.
Окна, выходившие во двор, стояли запертыми: Там же.
Если ей будет грозить опасность: Там же.
в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Брюсселе: Hunt (1951), 69–70.
он женился на местной жительнице: Register of marriages, Oscar Leschziner (Slater) and Mary Curtis Pryor, July 12, 1901, NRS.
алкоголичке, которая постоянно требовала от него денег: Hunt (1951), 69.
Есть свидетельства, что он ненадолго приезжал: Там же, 73.
Слейтер прибыл в Глазго: Там же, 75.
в своей профессии известная как мадам Жунио: Там же, 39.
10 ноября: Roughead (1950), lxi.
изначальный заем в 20 фунтов: Там же. Слейтер заложил брошь 18 ноября.
ирландский терьер: Hunt (1951), 18.
в первые три недели декабря: Там же.
«Этого „наблюдателя“ видели…»: Там же, 19.
«Она мне сообщила…»: AG к WP, 1927. Цитируется в Whittington-Egan (2001), 157.
на что Ламби намекнула в более поздней беседе: Там же.
недвусмысленно подтвердила в разговоре: MB к JTT, декабрь 1908.
вернулась к чаю около половины пятого: HL, показания на суде по делу Слейтера, 3 мая 1909. Roughead (1950), 51.
дождливый вечер: Hunt (1951), xi.
Еще не дойдя до двери дома…: Ровена Адамс Лиддел, показания на суде по делу Слейтера, 4 мая 1909. Roughead (1950), 85–86.
За минуту или две до того, как пробило семь: Conan Doyle (1912), 10.
пенни на газету: Там же, 20.
«Ламби взяла с собой ключи…»: Там же, 10.
40-летний флейтист: Hunt (1951), 17; House (2002), 140. Адамс родился 21 апреля 1868 года; .
«Я звонил сильно…»: AMA, показания на суде по делу Слейтера. Цитируется в Roughead (1950), 78.
«ломает хворост на кухне»: Там же.
«словно бы раскалывается»: Цитируется в Park (1927), 22.
заметила влажный след: HL, показания на суде по делу Слейтера. Цитируется в Roughead (1950), 51.
«Он никогда не приходил в дом…»: Там же.
«наверное, колесики»: Там же.
по ее воспоминаниям, она стояла: Hunt (1951), 21.
хорошо одетый мужчина, идущий ей навстречу: HL, показания на суде по делу Слейтера. Цитируется в Roughead (1950), 51.
был включен свет: Там же.
на его одежде не было заметных следов: Hunt (1951), 24.
«я ничего дурного не подозревал»: AMA, показания на суде по делу Слейтера. Цитируется в Roughead (1950), 79.
«Где твоя хозяйка?»: Там же.
«В соответствии с описанной картиной…»: Conan Doyle (1912), 13.
по фотографиям, сделанным во время вскрытия: Thomas Toughill, Oscar Slater: The «Immortal» Case of Sir Arthur Conan Doyle (Stroud, U. K.: Sutton Publishing, 2006).
Адамс бросился вниз по лестнице: Park (1927), 25.
«Доктор Адамс заподозрил…»: Hunt (1951), 24.
прибывший в 7:55: Там же, 24.
появившийся на месте преступления ближе к ночи: Там же, 25.
полсоверена: Там же, 24.
никаких признаков сопротивления: Там же, 27.
торговое название «Runaway»: Там же, 25.
Близорукий Адамс: Conan Doyle (1912), 14.
«с правильными чертами лица»: Там же, 15.
серый плащ длиной три четверти: Conan Doyle (1912), 15.
В 21:40 того же дня: Glasgow police internal report, Dec. 21, 1909, ML.
Пожилая дама была убита…: Там же.
В 1908 году этот торгово-промышленный город: Braber (2003), 273.
письмо от закадычного друга из Америки: Park (1927), 171.
рассказал ему о планах на отъезд: Hunt (1951), 94.
В среду 23 декабря: Toughill (2006), 150; Roughead (1950), 88.
«не просто честным человеком»: Conan Doyle (1930), 445.
местная жительница по имени Барбара Барроуман: Hunt (1951), 30; Toughill (2006), 250.
По совету матери: Hunt (1951), 31.
Он посмотрел в сторону улицы Святого Георга: Там же, 31–32.
донегальская кепка: Показания Мэри Барроуман, стенограмма слушаний об экстрадиции Слейтера, 26 января 1909, 36, NRS.
второй внутренний бюллетень: Цитируется в Quoted in Hunt (1951), 32–33.
В тот день руководитель отдела уголовных расследований Орд: Там же, 33.
вскоре уже Глазго полнился слухами: Там же.
«Известие о подлом преступлении»: Park (1927), 36–37.
Вечером 25 декабря 1908 года: Hunt (1951), 34.
Глава 2. Таинственный мистер Андерсон
звался Андерсоном: Hunt (1951), 36.
Она весит едва ли унцию: Обертка, взвешенная мной на почтовых весах в Государственном архиве Шотландии в 2017 году, весит 0,7 унции (около 20 граммов).
«малопристойные клубы, посещавшиеся малопристойными личностями»: Hunt (1951), 36.
Хью Камерон, клерк из букмекерской конторы: Там же.
Утром 26 декабря: Park (1927), 78.
У мисс Гилкрист на броши: Там же, 78–79.
Слейтер оставил ему брошь: Hunt (1951), 78.
должен был стать истинным «фиаско»: Sir Arthur Conan Doyle, Memories and Adventures (Oxford: Oxford University Press, 1924), 223.
«Самый фундамент, на котором зиждилось дело»: Conan Doyle (1912), 22–23; italics added.
«Беда… всех полицейских расследований»: Там же, 61.
один из четверых детей: Hunt (1951), 131.
8 января 1872 года: Письмо от LF к OS от 7 января 1912, NRS, упоминает 8 января того же года как 40-й день рождения Слейтера.
«Я получил очень слабое образование»: «Oscar Slater's Own Story: Specially Compiled from Private Documents,» Empire News, April 13, 1924.
Юный Оскар отправился в Берлин: Whittington-Egan (2001), 49–50.
«в двух или трех чистых комнатах» Hunt (1951), 130.
«обветшалый доходный дом»: Там же.
инвалид с заболеванием позвоночника: Там же.
Паулина страдала частичной слепотой: Там же.
«я не могла бы пожелать лучшего сына»: Цитируется там же, 131.
Впервые Слейтер побывал в Англии около 1895 года: Whittington-Egan (2001), 30.
«преисподняя, населенная странными обитателями»: Там же, 57.
два его предыдущих ареста: HMPP intake form, May 28, 1909, NRS.
«малопристойный мир»: Hunt (1951), 123.
«люди, которые, не будучи преступниками»: Там же.
многие оказавшиеся в Великобритании еврейские иммигранты: См., напр., Ben Braber, Jews in Glasgow 1879–1939: Immigration and Integration (London: Vallentine Mitchell, 2007), 29.
этот закон широко воспринимался: Там же, 25.
В 1190 году, во время самого жестокого погрома: Anthony Julius, Trials of the Diaspora: A History of Anti-Semitism in England (Oxford: Oxford University Press, 2010), 118ff.
«первое изгнание»: Robert S. Wistrich, «Antisemitism Embedded in British Culture,» online interview by Manfred Gerstenfeld, Jerusalem Center for Public Affairs (2008), -embedded-in-british-culture.
Только в середине XVII века: Там же.
«англичанин-мирянин»: Sir Frederick Pollock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1911), 1:407.
«и я заявляю об этом»: Jews Relief Act (1858). Текст по адресу –22/49/contents/enacted.
до сих пор единственный еврей: Рожденный в еврейской семье в 1804 году, Дизраэли был крещен в 1817-м по настоянию отца ради ассимиляции и социального продвижения. Во взрослые годы он считал себя промежуточным звеном касательно религии: «чистая страница между Ветхим Заветом и Новым», по знаменитой цитате. Цитируется в Adam Kirsch, Benjamin Disraeli (New York: Schocken Books, 2008), 32. Как отмечает Кирш, сравнение не принадлежит Дизраэли, но восходит к драматургу Ричарду Бринсли Шеридану.
с начала 1880-х годов: Braber (2007), 4.
В 1914 году количество евреев в Лондоне: Там же, 184.
«В том же году в Глазго»: Там же, 4.
«После обнаружения»: Knepper (2007), 63.
формально обсуждение началось в 1887 году: Там же.
«Преступность стала…»: Там же, 63–65; курсив мой.
«Шотландские протестанты придавали большую важность…»: Braber (2007), 18.
Первые евреи поселились: Там же, 8.
40–50 человек: Там же.
оптик, торговец писчими перьями: Там же.
«Небольшую группу евреев»: Там же, 21.
вопрос о предполагаемом участии: Там же, 23.
«было еврейского типа»: Там же, 25.
один из немногих его защитников: Там же, 29.
среди первых в Великобритании: Grant, (1973), 15.
«Бедолаги»: Conan Doyle (1924), 296.
«удобный чужак»: Gay (1993), 35 и др.
Требуется для опознания…: Цитируется в Hunt (1951), 39.
Глава 3. Странствующий рыцарь, защитник несправедливо обиженных
«индивидуальные следы»: Rosemary Jann, The Adventures of Sherlock Holmes: Detecting Social Order (New York: Twayne Publishers, 1995), 67.
«патология общества»: См., напр., Robert Peckham, ed., Disease and Crime: A History of Social Pathologies and the New Politics of Health (New York: Routledge, 2014).
«либеральный империалист»: Laura Otis, Membranes: Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century Literature, Science, and Politics (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 98.
«описывает английское общество»: Там же, 6.
Первый гражданин Бейкер-стрит: См., напр., Jack M. Siegel, «The First Citizen of Baker Street,» Chicago Review 2, no. 2 (1947): 49–55.
«Рождественский ежегодник Битона»: Основатель ежегодника Сэмюел Битон приходился мужем законодательнице вкусов и писательнице Изабелле Битон, чья книга по кулинарии и домоводству «Книга миссис Битон по ведению хозяйства» (Mrs. Beeton's Book of Household Management), впервые опубликованная в 1861 году, была путеводной для многих поколений викторианских дам из буржуазной среды.
«Маршалл Маклуан… однажды отметил»: Frank D. McConnell, «Sherlock Holmes: Detecting Order amid Disorder,» Wilson Quarterly 11, no. 2 (1987): 181–82.
«Меня часто раздражало…»: Цитируется в J. K. Van Dover, You Know My Method: The Science of the Detective (Bowling Green, Ky: Bowling Green State University Popular Press, 1994), 90.
«К нему обращались за автографами»: См., напр., Miller (2008), 158, 465; Jann (1995), 12; Michael Hardwick and Mollie Hardwick, The Man Who Was Sherlock Holmes (Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, 1964), 9.
«Время от времени, — писал один биограф»: Daniel Stashower, Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle (New York: Owl/Henry Holt, 1999), 132.
«Вовлечь людей в неприятности очень легко»: Conan Doyle (1924), 13.
страдал от эпилепсии, алкоголизма: Напр., там же.
«Мы жили, — напишет впоследствии Конан Дойль»: Conan Doyle (1924), 11.
«Чарльз в полной мере обладал…»: Miller (2008), 16–17.
Артур и его старшая сестра Аннет получили двойную фамилию: Jann (1995), xv.
череда шотландских специальных клиник: Там же, 18–21.
вышедшая замуж за Чарльза: Там же, 15.
«Миниатюрная Мэри Дойль»: Там же, 24, и A. Conan Doyle, The Stark Munro Letters: Being a Series of Twelve Letters Written by J. Stark Munro, M. B., to His Friend and Former Fellow-Student, Herbert Swanborough, of Lowell, Massachusetts, During the Years 1881–1884 (New York: D. Appleton & Company, 1895), 60.
«Впрочем, я в оправдание себе скажу…»: Conan Doyle (1924), 12.
«Я могу говорить о них со знанием дела…»: Там же, 16–17.
«Я был неукротим, полон жизни…»: Там же, 22.
Он уже мало-помалу начал расставаться: Там же, 20.
«Сверяясь… с новыми знаниями»: Там же, 31.
«Белл очень выделялся…»: Там же, 25–26.
«здоровье отца»: Там же, 30.
подражание Эдгару По и Брету Гарту: Miller (2008), 58.
команда из полусотни человек: Conan Doyle (1924), 36.
выброшенный за борт: Там же, 40.
«Инстинкт кита велит ему…»: Там же, 43.
«Кто бы променял такой миг…»: Там же.
В 1881 году Конан Дойль: Там же, 47.
помогал тушить пожар: Там же, 56–57.
«До меня добрался то ли микроб, то ли комар…»: Там же, 52.
«Были… какие-то неприятные»: Там же, 49.
«больше на привязанности и уважении»: Jann (1995), xvi.
«В первый год я заработал 154 фунта стерлингов…»: Conan Doyle (1924), 70.
Несмотря на официальное имя: Georgina Doyle, Out of the Shadows: The Untold Story of Arthur Conan Doyle's First Family (Ashcroft, B. C.: Calabash Press, 2004), 55.
«Месье Дюпен, искусный сыщик Эдгара По…»: Там же, 74–75.
Шерринфорд Холмс: Leslie S. Klinger, ed., The New Annotated Sherlock Holmes (New York: W. W. Norton & Company, 2005–6), 3:847. (Некоторые источники ошибочно указывают имя как Шеррингфорд.)
«Часто врачи, всерьез становясь писателями…»: Edmund D. Pellegrino, «To Look Feelingly: The Affinities of Medicine and Literature,» Literature and Medicine 1 (1982), 20; курсив мой.
Ормонд Сэкер: Andrew Lycett, The Man Who Created Sherlock Holmes: The Life and Times of Sir Arthur Conan Doyle (New York: Free Press, 2007), 121.
«Ухватите этот факт…»: Цитируется в Jann (1995), 15.
«Меня часто спрашивали…»: Conan Doyle (1924), 100.
«Я несколько раз решал задачи…»: Там же, 101.
В путешествиях по столицам мира…: Adrian Conan Doyle (1946), 19.
«Я всегда числил его…»: Цитируется в Ely Liebow, Dr. Joe Bell: Model for Sherlock Holmes (Madison, Wis.: Popular Press, 2007), 175.
«Не потеряв надежды, — отмечает Рассел Миллер, биограф писателя»: Miller (2008), 125.
«Осматривая пациентов…»: Otis (1999), 109.
Лекарство Коха, писал он: ACD для Daily Telegraph, Nov. 20, 1890. Цитируется в Gibson and Lancelyn Green (1986), 36.
Глава 4. Человек в донегальской кепке
В день смерти мисс Гилкрист, 21 декабря 1908 года: Hunt (1951), 85.
Слейтер уже сколько-то времени строил планы: Там же, 84ff.
Слейтер сразу же объявил своей горничной Шмальц: Там же, 85–86.
Именно за последние дни, проведенные в Глазго: Там же, 86.
К семи часам вечера 21 декабря: Там же.
десять предметов багажа: Там же, 95.
Прибыв туда в 3:40 утра: Roughead (1950), 294.
«горничная имела разговор»: Цитируется в письме ACD для Spectator, 25 июля 1914. По Gibson and Lancelyn Green (1986), 205.
два билета второго класса: Park (1927), 83.
мистер и миссис Отто Сандо: Там же.
«Заложенная брошь…»: Конан Дойль. Предисловие к Park (1927), 7–8.
Арестовать Отто Сандо…: Цитируется в Park (1927), 83.
Когда «Лузитания» 2 января 1909 года: Hunt (1951), 44ff.
«Дорогой друг Камерон!»: OS к Хью Камерону, 2 февраля 1909, NRS. Также цитируется в Toughill (2006), 53–54.
«Мерой Камероновой дружбы…»: Toughill (2006), 54.
13 января 1909 года: Hunt (1951), 45.
«во время ареста Слейтера…»: Уильям Гудхарт к Юингу Спирсу, адвокату Слейтера, 17 апреля 1909, NRS.
должностные лица из Глазго: Hunt (1951), 46.
Один из приставов: Там же, 215, n. 1.
Пристав Пинкли много времени спустя засвидетельствует: Показания Джона У. М. Пинкли на апелляции Оскара Слейтера, 1928. Цитируется в Hunt (1951), 215.
Видите ли вы здесь человека: Показания HL, стенограмма слушаний по делу об экстрадиции Слейтера, 26 января 1909, 17, NRS.
она не видела лицо злоумышленника: Hunt (1951), 26.
«Он вроде как будто слегка трясся»: Там же, 19.
Этот человек присутствует здесь в комнате?: Там же, 19–20.
«Вон тот человек, который здесь…»: показания Барроуман. Там же, 37.
«имел слегка кривой нос»: Показания Барроуман. Там же.
также признала: Показания Барроуман. Там же, 38.
«не сказать чтобы не похож»: Показания Артура Адамса. Там же, 51.
«Я никогда не сомневался в его невиновности…»: Уильям А. Гудхарт к ACD, 28 мая 1914, ML.
6 февраля 1909 года: Hunt (1951), 56.
Другая — неуверенность в финансах: Там же, 55–56.
Суд, как он считал: Эта позиция подтверждается его адвокатом Гудхартом, который в 1909 году писал: «Готовность Слейтера вернуться, разумеется, указывает на невиновность». Уильям Гудхарт к Юингу Спирсу, 17 апреля 1909, NRS.
Глава 5. Следы
«Предсказатель утверждает…»: Thomas Henry Huxley, «On the Method of Zadig: Retrospective Prophecy as a Function of Science,» in Thomas Henry Huxley, Science and Culture: And Other Essays (New York: D. Appleton, 1882), 139–40.
«ретроспективное прорицание»: Там же, 135.
«По одной капле воды…»: Arthur Conan Doyle, «A Study in Scarlet,» in Conan Doyle (1981), 23. (Артур Конан Дойль. «Этюд в багровых тонах».)
вымышленный «научный детектив»: Conan Doyle (1924), 26.
в этом-то заключается основная трудность: Литературный критик Lawrence Frank, Victorian Detective Fiction and the Nature of Evidence: The Scientific Investigations of Poe, Dickens, and Doyle (London: Palgrave Macmillan, 2009), 19, также это отмечает.
«В течение XVIII века…»: Claudio Rapezzi, Roberto Ferrari, and Angelo Branzi, «White Coats and Fingerprints: Diagnostic Reasoning in Medicine and Investigative Methods of Fictional Detectives,» BMJ: British Medical Journal 331, no. 7531 (2005): 1493.
«смотреть с чувством»: Pellegrino (1982), 19–23.
«Для меня давно уже очевидно…»: Conan Doyle (1981), 194.
«Важность бесконечно малого неизмерима…»: Dr. Joseph Bell, «Mr. Sherlock Holmes,» предисловие к Sir A. Conan Doyle, A Study in Scarlet (London: Ward, Lock & Company, 1892), 9–10; курсив мой.
В эпизоде, признанно оказавшем влияние на Конан Дойля: A [lma] E [lizabeth] Murch, The Development of the Detective Novel (New York: Philosophical Library, 1958), 177.
Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы: M. de Voltaire, Zadig (New York: Rimington & Hooper, 1929), 16–19. (Вольтер, «Задиг».)
Эдгар По называет это логическим рассуждением: Напр., Edgar Allan Poe, «The Mystery of Marie Rogêt,» in Edgar Allan Poe, Poetry and Tales (New York: Library of America, 1984), 521.
«Вы говорили себе…»: Edgar Allan Poe, «The Murders in the Rue Morgue,» in Poe (1984), 402–4.
«Научный метод…»: Van Dover (1994), 10.
«Сыщик стал особым образцом…»: Там же, 1.
«медицинско-юридическая практика»: R. Austin Freeman, «The Case of Oscar Brodski,» in The Best Dr. Thorndyke Stories, selected by E. F. Bleiler (New York: Dover Publications, 1973), 15.
«всего квадратный фут»: Там же, 16.
«ряды флаконов с реактивами»: Там же, 17.
«Нарратив детективного рассказа…»: Van Dover (1994), 30.
«Ваш Дюпен — очень недалекий малый»: Conan Doyle (1892), 49.
Глава 6. Прототип Шерлока Холмса
Его дед, сэр Чарльз Белл: Michael Sims, Arthur and Sherlock: Conan Doyle and the Creation of Holmes (New York: Bloomsbury, 2017), 17.
«По некой причине…»: Conan Doyle (1924), 25.
Он сказал невоенному пациенту: Там же.
«Он вежливо ее поприветствовал…»: Stashower (1999), 20.
«Глядите во все глаза, юноша!»: Dr. Harold Emery Jones, The Original of Sherlock Holmes (Windsor, U. K.: Gaby Goldscheider, 1980), iv — v.
однокашник Конан Дойля: Там же, i.
Джентльмены, рыбак!: Там же, v — vi.
«Развивайте точность…»: Цитируется в Liebow (2007), 116.
«Почти любое ремесло…»: Цитируется там же, 177.
«Есть ли система…»: Цитируется в Jessie M. E. Saxby, Joseph Bell: An Appreciation by an Old Friend (Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1913), 23–24.
«Двадцать лет или больше…»: «The Original of 'Sherlock Holmes': An Interview with Dr. Joseph Bell,» Pall Mall Gazette, Dec. 28, 1893. Quoted in Saxby (1913), 19.
он женился на одной из своих учениц: Alexander Duncan Smith, ed., The Trial of Eugène Marie Chantrelle, Notable Scottish Trials Series (Glasgow: William Hodge & Company, 1906), 2.
«Дорогая мама…»: Цитируется в Liebow (2007), 120.
Шантрель застраховал жизнь жены: Там же.
на прикроватном столике: Там же.
Вернувшись, она увидела: Там же.
«Белл и Литтлджон повсюду нашли свидетельства…»: Там же, 120–21.
При расследовании, проведенном газовой компанией: Там же, 121.
нашел слесаря: Там же.
был повешен: Там же.
давним поклонником которого являлся Конан Дойль: См., напр., Arthur Conan Doyle, Through the Magic Door (Pleasantville, N. Y.: Akadine Press, 1999), 259ff.
страдающий туберкулезом: Sims (2017), 197.
«смешались похвала»: Там же.
«Дорогой сэр, — писал Стивенсон»: Там же.
Глава 7. Искусство ретроспективных рассуждений
«Нынешнее криминалистское расследование»: Sir Sydney Smith, Mostly Murder (New York: Dorset Press, 1988), 30.
Многие из методов, изобретенных: Illustrated London News, Feb. 27, 1932. Цитируется в Nordon (1967), 211.
оставил после себя: «Charles Sanders Peirce,» Stanford Encyclopedia of Philosophy (2001; revised 2014), .
«Некий объект…»: Charles Sanders Peirce, неопубликованная рукопись. Цитируется в Thomas A. Sebeok and Jean Umiker-Sebeok, «You Know My Method: A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes,» в Umberto Eco and Thomas A. Sebeok, eds., The Sign of the Three: Dupin, Holmes, Peirce (Bloomington: Indiana University Press, 1983), 17.
«Абдукция отталкивается от фактов…»: Peirce, неопубликованная рукопись. Цитируется там же, 24–25.
Наблюдается факт С: N [ick] C. Boreham, G. E. Mawer, and R. W. Foster, «Medical Diagnosis from Circumstantial Evidence,» Le Travail Humain 59, no. 1 (1996): 73.
«При решении подобных задач…»: A Study in Scarlet, in Conan Doyle (1981), 83. (Артур Конан Дойль. «Этюд в багровых тонах».)
Все серьезные ножевые раны: Адаптировано из Marcello Truzzi, «Sherlock Holmes: Applied Social Psychologist,» in Eco and Sebeok (1983), 69.
«Мы, кажется, вступили в область догадок»: Conan Doyle (1981), 687; курсив мой.
«научное использование силы воображения»: Холмс цитирует физика Джона Тиндалла, автора написанного в 1870 году эссе «Научное использование воображения» (Scientific Use of the Imagination), чье глубокое влияние признавал Конан Дойль.
«цепь непрерывных и безошибочных логических заключений»: A Study in Scarlet, in Conan Doyle (1981), 85. (Артур Конан Дойль. «Этюд в багровых тонах».)
«до такой степени ненавидит»: Там же, 583.
«если принять во внимание, — отмечает Холмс»: Там же, 584.
«Холмс показал на уличный фонарь…»: Там же, 587.
«с помощью объединенной цепочки»: Там же, 594.
«Холмс… действует как семиотик»: Jann (1995), 50; курсив мой.
Глава 8. Дело об идентификации
11 февраля 1909 года: Hunt (1951), 60ff.
Чтобы избежать толпы: Park (1927), 37.
Закованному в наручники: Hunt (1951), 61.
Среди аккуратно сложенной и тщательно запакованной: Там же, 62.
Клетчатых брюк: Там же, 61
«Посреди пылкой людской ярости…»: Sir Arthur Conan Doyle, Strange Studies from Life and Other Narratives: The Complete True Crime Writings of Sir Arthur Conan Doyle, selected and ed. Jack Tracy (Bloomington, Ind.: Gaslight Publications, 1988), 33.
ненадежность свидетельских показаний: См., напр., Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham, Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness, and the Expert Who Puts Memory on Trial (New York: St. Martin's Press, 1991).
еще один ошибочный приговор: См., напр., Toughill (2006), 115–16.
«Общеизвестно…»: Conan Doyle (1912), 27.
21 февраля 1909 года: Hunt (1951), 61ff.
те, кто все-таки произвел опознание, немедленно выбирали Слейтера: Там же, 63.
«Ожидать, что шеренга…»: Park (1927), 116.
распространенная практика в те годы: WP к ACD, 2 февраля 1927, ML.
«Слейтер всех поразил…»: Hunt (1951), 66.
«Чем больше я вижу Слейтера…»: Цитируется там же, 67.
Официальное обвинение: Там же.
позже будет названа криминалистикой: Развернутую дискуссию об идеологических и методологических различиях между криминалистикой и криминологией см., напр., в Alison Adam, A History of Forensic Science: British Beginnings in the Twentieth Century (London: Routledge, 2016).
эпоха идентификации: См. Anne M. Joseph, «Anthropometry, the Police Expert, and the Deptford Murders: The Contested Introduction of Fingerprinting for the Identification of Criminals in Late Victorian and Edwardian Britain,» in Jane Caplan and John Torpey, eds., Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001), 164–83.
такого понятия, как «место преступления»: Robert Peckham, «Pathological Properties: Scenes of Crime, Sites of Infection,» in Peckham, ed. (2014), 58.
начали проводиться лишь: Adam (2016), 3.
вспомните Эстер Прин: Хотя Каин был также отмечен после убийства Авеля, целью знамения, как объясняется в Быт. 4:13–15, было не защитить людей от Каина, но защитить Каина от действий других людей. Бог, обрекший Каина на скитания по земле, счел это достаточным наказанием.
«Клеймение и прожигание уха…»: Edward Higgs, Identifying the English: A History of Personal Identification, 1500 to the Present (London: Continuum, 2011), 89.
подозреваемых обычно раздевали и осматривали: Там же.
«Объявление вне закона было смертной казнью…»: Pollock and Maitland (1911), 2:450.
«отверженная»: .
Преследовать изгнанного: Pollock and Maitland (1911), 1:476.
«Кто ты, с кем мне придется иметь дело?»: Jeremy Bentham, Principles of Penal Law (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016), 248. Цитируется в Jane Caplan, «'This or That Particular Person': Protocols and Identification in Nineteenth-Century Europe,» in Caplan and Torpey (2001), 51.
В 1870-х годах Альфонс Бертильон: См., напр., Simon A. Cole, Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), 33ff. Бертильон существенно подпортил себе профессиональную репутацию, когда взялся проводить экспертизу почерка — дело, в котором он не был специалистом, — для суда над капитаном Альфредом Дрейфусом в 1894 году. Дрейфуса осудили за измену частично в результате экспертного заключения Бертильона, впоследствии дискредитированного, о том, что Дрейфус был автором анонимного меморандума, открывавшего Германии французские военные секреты.
«То была не просто идея…»: Gina Lombroso Ferrero, Criminal Man: According to the Classification of Cesare Lombroso, Briefly Summarised by His Daughter Gina Lombroso Ferrero (New York: G. P. Putnam's Sons, 1911), xii.
работы Хэвлока Эллиса: См., напр., репринт Havelock Ellis, The Criminal (Memphis, Tenn.: General Books, 2012).
работы Фрэнсиса Гальтона: См., напр., Adam (2016), 52ff.; Cole (2001), 25ff.
«расиализация преступности»: Knepper (2007).
Пособие Гросса широко освещало следующие вопросы: Hans Gross, Criminal Investigation: A Practical Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers, trans. and ed. John Adam and John Collyer Adam (New Delhi: Isha Books, 2013), ix — xix.
всего полдесятка упоминаний: S. Tupper Bigelow, «Fingerprints and Sherlock Holmes,» Baker Street Journal 17, no. 3 (1967): 133. Как указывали некоторые исследователи литературных расследований, прозорливый Марк Твен (1835–1910) рано предсказал пользу от дактилоскопии: в «Жизни на Миссисипи» (1883) и в «Простофиле Вильсоне» (1884) убийц находят по отпечаткам пальцев.
на шкатулке: Hunt (1951), 26.
«Пусть выносят приговор! А виновен он или нет — потом разберемся!»: Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland and Alice's Adventures Underground (Cleveland: World Publishing Company, 1946), 147. (Льюис Кэррол. «Алиса в Стране чудес».)
«доступным и бросовым»: Eleanor Jackson Piel, «The Death Row Brothers,» Proceedings of the American Philosophical Society 147, no. 1 (2003): 30.
«В течение некоторого времени перед убийством…»: WP к ACD, 25 ноября 1927, ML; курсив мой.
«поистине загипнотизированный делением на классы»: Gay (1993), 429.
Глава 9. Люк в полу
в 10 часов утра: Roughead (1950), 1.
Справа от него: Toughill (2006), 71ff.
в георгианском зале суда: Whittington-Egan (2001), 79.
среди них владелец склада: Roughead (1950), 8.
в шотландской юридической практике называемые «предъявляемые изделия»: Whittington-Egan (2001), 79.
планировало представить 69 таких предметов: Roughead (1950), 2–3.
Мы знаем, как было организовано пространство: Toughill (2006), 71.
«как джинн в пантомиме»: Whittington-Egan (2001), 79.
«Свидетельства такого рода…»: Conan Doyle (1912), 40.
планировали представить их в количестве 98: Roughead (1950), 4–5.
всего 13 имен: Там же, 7–8.
«Одним из новых доводов»: Цитируется в Park (1927), 184–85.
«Показания Хелен Ламби…»: Conan Doyle (1912), 31–32.
Только походка, рост: Roughead (1950), 55–56.
Шляпа, которую ей показали: Hunt (1951), 89.
Показывали ли вам фотографию: Цитируется там же, 93.
На этот раз она дошла до того, что сказала: Там же, 89–90.
«очень напоминает»: Там же, 80.
«Для меня слишком серьезная ответственность»: Там же, 81.
Она показала, что в вечер убийства: Там же, 97–100.
Два месяца спустя: Там же, 98.
Показанная ей перед этим фотография: Там же, 91.
бегал туда-сюда: Park (1927), 147–48.
По просьбе обвинения: Roughead (1910), 108ff.
«За 33 года работы…»: M. Anne Crowther and Brenda White, On Soul and Conscience: The Medical Expert and Crime. 150 Years of Forensic Medicine in Glasgow (Aberdeen, U. K.: Aberdeen University Press, 1988), 42–44.
Тело принадлежит…: Цитируется в Roughead (1910), 110ff. Вместе с Глейстером вскрытие проводил его коллега доктор Хью Гальт.
В продолжение речи Глейстер: Там же, 108–21.
молоток Слейтера весом в восемь унций: Hunt (1951), 99.
«Я не нашел в столовой…»: Цитируется в Roughead (1950), 112.
Глейстер обнаружил пятна в количестве 25 штук: Там же, 114ff.
«скорее к соусу, чем к могиле»: Charles Dickens, A Christmas Carol: And Other Christmas Books (New York: Vintage Classics, 2012), 21. (Диккенс Ч. «Рождественская песнь».)
«В отсутствие…»: Crowther and White (1988), 47.
«Дело позднее стало…»: Там же.
Среди них был Маклин: Roughead (1950), 135–37.
Обнаружили ли вы: Цитируется там же, 104; курсив мой.
«Макклюр добился бы…»: Hunt (1951), 124–25.
Когда вы впервые встретились с ним: Цитируется в Roughead (1950), 156.
На этом этапе: Ben Braber, личное общение.
«Явными и высоко ценимыми атрибутами…»: Gay (1993), 496.
Кто вас нанял?: Цитируется в Roughead (1950), 182–83.
«Публичная профессия…»: Jann (1995), 111.
Антуан тоже обеспечила Слейтеру алиби: Roughead (1950), 187.
«У меня нет вопросов»: Цитируется там же, 188.
«никогда не слыхали о деле»: WP к ACD, 5 декабря 1927, ML.
В феврале 1909 года: Roughead (1950), xlviii.
скрытно пробирался к себе домой пешком: ACD для Spectator, 25 июля 1919. In Gibson and Lancelyn Green (1986), 206.
об этом тоже никто не сообщил: Hunt (1951), 145–46.
Глава 10. «Пока не наступит смерть»
Почти двухчасовая речь: Там же, 103.
До вчерашнего дня…: Там же, 198–99.
«дом, расположенный»: Там же, 199.
«Нам предстоит увидеть…»: Там же, 199.
Теперь я подхожу: Там же, 213–14.
Джентльмены, я закончил…: Там же, 217.
«Впрочем, в это нам углубляться…»: Там же, 220.
«Можете ли вы, положа сейчас руку на сердце…»: Там же, 235.
Его отец, преподобный Томас Гатри: Braber (2007), 24.
Гатри-старший помог основать: Там же.
убежденный сторонник умеренности: Там же.
Вы уже многое слышали…: Цитируется в Roughead (1950), 329–38.
Присяжные удалились на совещание в 16:55: Там же, 245.
«невиновен, и никогда больше так не делай»: См. Dani Garavelli, «Insight: The Jury's Still Out on 'Not Proven' Verdict,» Scotsman, Feb. 13, 2016.
избегать ситуаций, когда коллегия присяжных не смогла бы прийти к единому мнению: Peter Duff, «The Scottish Criminal Jury: A Very Peculiar Institution,» Law and Contemporary Problems 62, no. 2 (Spring 1999): 187.
В 18:05: Roughead (1950), 245.
самое горестное восклицание: Toughill (2006), 119.
Милорд…: Цитируется в Roughead (1950), 245.
Упомянутого Оскара Слейтера: Смертный приговор OS, 6 мая 1909, NRS.
«по которому подсудимого»: Park (1927), 38.
17 мая: Roughead (1950), 264.
с просьбой о смягчении приговора: Перепечатано там же, 257ff.
По отношению к узнику податель меморандума…: Перепечатано там же, 264.
подписанная более чем 20 000 человек: Там же, 257. Hunt (1951), 140.
Мэри Барроуман получила половину: Hunt (1951), 140.
отдавали в Инвернесс: Там же, 132.
«к некоторому удивлению»: Там же.
после распоряжения Слейтера: Там же, 137.
«То был любопытный компромисс…»: Philip Whitwell Wilson, «But Who Killed Miss Gilchrist?» North American Review 226, no. 5 (1928): 536.
«Если вам доведется вновь побывать…»: OS к REP, 11 марта 1911 (письмо задержано тюремными властями), NRS.
Глава 11. Жестокое холодное море
«В маленьком окне»: OS к LF, 4 июня 1914, NRS.
Как я вижу по дневнику…: Conan Doyle (1924), 37–38.
была открыта в 1888 году: Jeffrey (2013), 5.
«Нам говорят…»: PL к OS, 27 декабря 1910, NRS.
«Я лучше выберу…»: John MacLean, Accuser of Capitalism: John MacLean's Speech from the Dock, May 9th 1918 (London: New Park Publications, 1986), 26.
«попросту небольшой ящик»: MacLean (1919).
Из мебели: Jeffrey (2013), 14.
«Каждая камера обогревается…»: MacLean (1919).
«Бесконечные тоскливые дни…»: Gerald Newman, рукописное послание, без даты, ML.
Стригли заключенных: MacLean (1919).
«держали в чистом и гигиеничном состоянии»: Там же.
С самых первых дней существования: Jeffrey (2013), 18–19.
«Клинки вовсе не походили на декоративные»: Там же, 18.
8 июля 1909 года: Roughead (1950), lxi.
заключенный 1992: LF к HMPP, 27 марта 1913, NRS: «Престарелые родители заключенного Оскара Слейтера, тюремный номер 1992, крайне желают видеть признаки жизни сына и умоляют, чтобы ему позволили им писать».
Анкета Слейтера: Опросник, заполненный руководителем уголовного отдела Джоном Ордом, 28 мая, 1909, NRS.
Каждый день в пять часов утра: MacLean (1919).
«Он был спокойным…»: Газетная вырезка Уильяма Гордона, без даты [около 1925], газета неизвестна, ML.
«пинта (около 570 мл) бульона»: MacLean (1919).
«Гамаком можно было пользоваться»: Там же.
«Мой невинный Оскар…»: PL к OS, почтовый штемпель 15 декабря 1909, NRS.
«В твоем последнем письме…»: OS к PL, 11 апреля 1914, NRS.
«Не волнуйся…»: PL к OS, 30 декабря 1913, NRS.
«Ты вряд ли узнал бы Бейтен…»: PL к OS, 30 декабря 1913, NRS.
«Электрический свет очень удобный…»: OS к LF, 13 декабря 1913. NRS.
«Да! Совершенно верно»: PL к OS, 28 апреля 1914, NRS.
«Ты всегда был хорошим сыном…»: PL к OS, 21 августа 1913, NRS.
«Мы очень обрадовались…»: PL к OS, 18 сентября 1909, NRS.
Мой любимый и добрый сын…: PL к OS, 14 марта 1910, NRS.
«Это непростое дело…»: OS к доктору Мандовскому [имя неизвестно], 27 мая 1910, NRS.
изредка переписываться с адвокатами: Недатированное письмо, написанное около 1922 года, от чиновника HMPP к некоему доктору Мамроту — немецкому адвокату, знакомому с семьей Лешцинеров, — гласит: «Поскольку у тюремной инспекции не в обычае позволять юристам доступ к заключенным с целью подготовки петиций для их освобождения и нет видимых причин отказываться от этой практики ради Слейтера, я вынужден сообщить вам, что ваши письма не могут быть ему перенаправлены».
«Чтобы тебя навестить…»: PL к OS, 17 июля 1910, NRS.
«К сожалению, должен признать…»: OS к LF, 24 октября 1912, NRS.
Глава 12. Артур Конан Дойль, консультирующий детектив
«Для них пули…»: Conan Doyle (1924), 175.
сообщение об этом конфликте: A. Conan Doyle, The War in South Africa: Its Cause and Conduct (New York: McClure, Phillips & Company, 1902).
«В историческую эпоху…»: Steven Womack, предисловие к Stephen Hines, The True Crime Files of Sir Arthur Conan Doyle (New York: Berkley Prime Crime, 2001), 13; курсив оригинала.
В тот день я обедал…: Conan Doyle (1924), 386–87.
«от объятий пьяниц»: Цитируется в Miller (2008), 279–81.
Когда я застрелил крокодила…: Адриан Конан Дойль к Пьеру Нордону, 7 декабря 1959. Цитируется в Nordon (1967), 192.
«позволено лгать только в двух случаях»: Conan Doyle (1924), 153.
«Мистер Адриан Конан Дойль…»: Nordon (1967), 174, n. 4.
Этот человек обладал широтой мышления…: Adrian Conan Doyle (1946), 15.
«Это человек, который…»: Там же, 16.
моложе его лет на пятнадцать: Лекки родилась 14 марта 1874 года.
«Даже среди английских писателей-джентльменов…»: Womack (2001), 15.
В его коллекции были: Walter Klinefelter, The Case of the Conan Doyle Crime Library (La Crosse, Wis.: Sumac Press, 1968).
Несмотря на то что Конан Дойль приобрел основную часть: Там же, 6–7.
три из них были посмертно опубликованы: Conan Doyle (1988).
«Странные уроки, преподанные жизнью»: Там же, 6–7.
В 1904 году он стал: Stephen Wade, Conan Doyle and the Crimes Club: The Creator of Sherlock Holmes and His Criminological Friends (Oxford: Fonthill Media, 2013), 9.
Среди членов сообщества были также: Там же, 10.
Какие случаи там обсуждались: Peter Costello, The Real World of Sherlock Holmes: The True Crimes Investigated by Arthur Conan Doyle (New York: Carroll & Graf Publishers, 1991), 52; Wade (2013), 41ff.
«Сущий Шерлок Холмс»: Adrian Conan Doyle (1946), 16.
Камилла Сесилия Холланд: Costello (1991), 46ff.
«А ров?»: Там же, 48.
Он признал свою вину: Там же, 49.
из отеля «Лэнгем»: Там же, 104.
«Несколько попадавшихся мне задач…»: Conan Doyle (1924), 110–12.
Глава 13. Странный случай Джорджа Эдалджи
Джордж Эрнест Томпсон Эдалджи: Richard and Molly Whittington-Egan, предисловие к Sir Arthur Conan Doyle, The Story of Mr. George Edalji, ed. Richard and Molly Whittington-Egan (London: Grey House Books, 1985), 11.
Шарлотта Элизабет Стюарт Стоунхэм: Там же, 12.
«Будучи поставлен в крайне трудное положение…»: Conan Doyle (1985), 36.
В 1888 году, когда Джорджу: Там же, 37.
«К концу нынешнего года…»: Там же, 41.
украденные в деревне предметы: Там же, 42ff.
подложные объявления: Miller (2008), 259.
В некоторых письмах Джорджа Эдалджи объявляли: Nordon (1967), 118.
свидетель-эксперт на суде подтвердил: Sir Arthur Conan Doyle, The Case of Mr. George Edalji (London: T. Harrison Roberts, 1907), in Conan Doyle (1985), 58.
«Ему 28 лет…»: Цитируется в Miller (2008), 261–62.
«Многочисленные и удивительные…»: Там же, 262.
На суде в октябре 1903 года: Costello (1991), 77.
собрала 10 000 подписей: Miller (2008), 262.
В октябре 1906-го: Там же.
читал рассказы о Шерлоке Холмсе: Там же, 263.
«Читая статьи…»: Conan Doyle (1924), 216–18.
брошюра 1907 года: Conan Doyle (1907), перепечатано в Conan Doyle (1985), 34–78.
При первом взгляде…: Conan Doyle (1985), 35; курсив мой.
«Защита была настолько слабой»: Conan Doyle (1924), 218.
«У меня нормальное зрение…»: ACD для Daily Telegraph, 15 января 1907, Gibson and Lancelyn Green (1986), 125.
Теперь полиция пытается…: Conan Doyle (1985), 57–58.
«О несправедливости по отношению…»: Conan Doyle (1924), 217.
писатель тоже стал получать: Там же, 220.
«Этот факт, — отметил он»: Там же.
была опубликована полностью лишь в 1985 году: Womack (2001), 19.
министр внутренних дел Великобритании Герберт Гладстон: Герберт Гладстон был младшим сыном Уильяма Юарта Гладстона, одного из премьер-министров времен королевы Виктории.
В мае 1907 года: Nordon (1967), 123.
«Выводы, к которым она пришла…»: Там же.
«Отвратительное решение…»: Conan Doyle (1924), 219.
Джорджу Эдалджи вернули право: Nordon (1966), 126.
Эдалджи был приглашен: Miller (2008), 273.
«Конан Дойль утверждал…»: Stashower (1999), 260.
способствовали появлению в Англии: Womack (2001), 20.
Глава 14. Заключенный 1992
«Заключенный несколько взбудоражен…»: Рапорт начальника HMPP в адрес тюремной инспекции, 8 апреля 1910, NRS.
«Поведение несколько безразличное»: Там же, 2 сентября 1910.
«поведение очень безразличное»: Там же, 4 мая 1911.
Среди записей за первые годы: HMPP disciplinary record, NRS.
«Что касается Георга»: PL to OS, April 16, 1913, NRS.
«Обе девочки Фанни»: PL к OS, 22 сентября 1913, NRS.
Мой любимый невинный Оскар…: PL к OS, 18 июля 1911, NRS.
«Мне очень тяжело знать…»: OS к PL, 3 апреля 1913, NRS.
«Я обращался с просьбой о помиловании…»: OS к LF, 19 апреля 1913, NRS.
«Дорогие родители, не горюйте…»: OS к LF, 13 ноября 1913, NRS.
«Вряд ли я хорошо выполняю работу…»: OS к MP, 17 декабря 1912, NRS.
«Я не счел его»: Меморандум без подписи, HMPP, 19 декабря 1912, NRS.
Я надеюсь скоро получить свободу…: Задержанное письмо от OS к REP, 11 марта 1911, NRS.
«смотритель Полворт»: OS к MP, 24 марта 1911, NRS.
В прошлую субботу…: OS к MP, 25 марта 1911, NRS.
«Жуткое состояние»: MacLean (1919).
Когда я был в Питерхеде…: MacLean (1986), 25–26.
«неоспоримо, что тюремный опыт»: Там же, 25, n. 29.
«Что касается психического состояния заключенного…»: HMPP internal memorandum, June 4, 1911, NRS.
«Поскольку меня всюду называли»: Conan Doyle (1924), 222.
«Невозможно читать…»: Conan Doyle (1912), 7–8.
Глава 15. «Вам известен мой метод»
«Эта история ужасна…»: Conan Doyle (1924), 225.
«Я связался…»: ACD, предисловие к Park (1927), 14.
в питерхедском журнале по учету корреспонденции: Журнал находится в архивах NRS.
получил желанную возможность отвлечься: Conan Doyle (1924), 215.
«Некоторые из нас поныне сохраняют…»: ACD для Spectator, 12 октября 1912. Gibson and Lancelyn Green (1986), 176.
не выходя из дома: «The Mystery of Marie Rôget,» in Poe (1984). (Эдгар По. «Тайна Мари Роже».)
«Страховые компании не так уж часто…»: Pasquale Accardo, M. D., Diagnosis and Detection: The Medical Iconography of Sherlock Holmes (Rutherford, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1987), 109.
«Факты! Факты! Факты!»: Arthur Conan Doyle, «The Adventure of the Copper Beeches,» in Conan Doyle (1981), 322. (Артур Конан Дойль. «Медные буки».)
«О том, что его мнение…»: Hunt (1951), 141.
«Изербах»: PL к OS, 5 марта 1914, NRS.
«Работая с гранитными глыбами…»: OS к LF, 13 декабря 1913, NRS.
«Несомненно, в Бейтене вы заметили бы…»: OS к LF, 11 апреля 1914, NRS.
«Ваше письмо мне вручили…»: OS к LF, June 4, 1914, NRS.
«Мой добрый сын!»: PL к OS, 15 июня 1914, NRS.
«Вам известен мой метод…»: Напр., Conan Doyle, «The Boscombe Valley Mystery,» in Conan Doyle (1981), 214. (Артур Конан Дойль. «Тайна Боскомской долины».)
«не доверяйте общим впечатлениям»: Conan Doyle, «A Case of Identity,» in Conan Doyle (1981), 197. («Установление личности».)
«Есть еще какие-то моменты…»: Conan Doyle, «Silver Blaze,» in Conan Doyle (1981), 347. (Артур Конан Дойль. «Серебряный».)
Действия Хелен Ламби…: Conan Doyle (1912), 16–17.
«В Эдинбурге Барроуман…»: Там же, 34.
Лорд-адвокат в своей речи…: ACD для Spectator, 15 июля 1914. Gibson and Lancelyn Green (1986), 205–6; курсив мой.
«Вообразите себе чудовищное…»: Conan Doyle (1912), 59.
«Полиция так и не смогла…»: Там же, 27.
«Никаких дальнейших упоминаний»: Там же, 50.
Как убийца проник…: Там же, 64–66.
Он заранее спланировал…: Там же, 66–67.
«Если принять, что убийца…»: Там же, 62–63; курсив мой.
«Пришлось бы заметить…»: Там же, 44.
«три важных пункта»: Там же, 26.
«Лорд-адвокат говорил…»: Там же, 45–48.
«Некоторые другие заявления лорда-адвоката…»: Там же, 48–49.
«это вполне мог быть обвиняемый»: Quoted in Там же, 51.
«Это мог быть обвиняемый»: Там же, 51.
«Лорд-адвокат заявил…»: Там же, 52–53.
При таком большом количестве данных…: Conan Doyle, «The Adventure of the Blue Carbuncle,» in Conan Doyle (1981), 246–47. (Артур Конан Дойль. «Голубой карбункул».)
«Полиция в рассказах о Холмсе…»: Sebeok and Sebeok (1983), 23.
Следует задаться вопросом…: Conan Doyle (1912), 61–63 Things: Looking at Genre Through Victorian Diamonds, Victorian Studies 52, no. 4 (2010): 591–619.
«Можно сказать…»: Conan Doyle (1912), 63.
издано 21 августа 1912 года: Roughead (1950), lxii.
продавалась за шесть пенсов: Miller (2008), 295.
«После публикации…»: 2 сентября 1912; цитируется в Gibson and Lancelyn Green (1986), 175.
«Может показаться, что я изложил…»: Conan Doyle (1912), 45.
«отбросьте все невозможное»: Conan Doyle, The Sign of Four, in Conan Doyle (1981), 111; курсив оригинала. (Артур Конан Дойль. «Знак четырех».)
«я не вижу»: Conan Doyle (1912), 58.
«каждая улика против Слейтера»: ACD, предисловие к Park (1927), 8.
«Что до моего дела…»: OS к LF, 21 августа 1912.
«Рад сообщить…»: OS к LF, 9 августа 1913.
Глава 16. Крах Джона Томсона Тренча
В ноябре 1912-го: House (2002), 164.
все пятеро признали в Уорнере: Там же, 164.
«один из них со слезами»: Hunt (1951), 167.
Там его опознали еще 12 свидетелей: Там же.
убийство произошло несколькими неделями раньше: House (2002), 164–65.
«Уорнер понял, что…»: Hunt (1951), 167.
Сын шотландского крестьянина: Whittington-Egan (2001), 101.
он начинал констеблем: Hunt (1951), 158.
«многократно выказывал недюжинную отвагу»: Whittington-Egan (2001), 113.
«Непринужденные манеры…»: Hunt (1951), 159.
имел шестерых детей: Там же.
«Если упомянутый в вашем письме констебль…»: Там же, 168.
Тренч, по-видимому, расценил: Hunt (1951), 168.
«Прошу вас пока считать…»: DC к ACD, 26 марта 1914, ML.
В марте 1914 года: Hunt (1951), 168.
по следующим пяти пунктам: Там же, 168.
Упомянутый заключенный…: H. Ferguson Watson к представителям HMPP, 2 февраля 1914, NRS.
«Шериф Гарднер Миллар…»: DC к ACD, 24 апреля 1914, ML.
а не процесс ведения суда: Toughill (2006), 149.
«говорят мне, что слушания»: DC к ACD, 17 апреля 1914, ML.
«Я получил отдельные инструкции…»: JTT, заявление на суде 1914 года, цитируется в Toughill (2006), 150.
«Это первая настоящая улика»: Hunt (1951), 161.
Я племянница…: Glasgow police internal report, 23 декабря 1908, ML.
«Я звонил…»: Hunt (1951), 161.
С Ламби я до этого не говорил…: Цитируется в Roughead (1950), 271.
по имени Элизабет Грир: Toughill (2006), 154.
Джеймс умер в 1870 году: Там же, 213, 154.
У этой пары было три сына: Там же, 154.
среди предков числились: Там же, 153.
Фрэнсис Чартерис упрочил: Whittington-Egan (2001), 19.
на свадьбе которого мисс Гилкрист была гостьей: Там же, 20.
именно от него: Там же, 19.
«мисс Гилкрист заявила мне»: Glasgow police internal report, 23 декабря 1908, ML.
Конан Дойль, частным порядком считавший: Costello (1991), 117.
«С любыми обвинениями против доктора я намерен обращаться осторожно…»: DC к ACD, 9 мая 1914, ML.
23–25 апреля 1914 года: Roughead (1950), lxii.
двух десятков свидетелей: Hunt (1951), 171.
который теперь носил звание: Там же.
теперь главный инспектор-детектив: Там же, 172.
заявила, что не называла имени: HL, показания перед слушаниями 1914 года. Цитируется в Roughead (1950), 282–83.
Макбрейн показал: Там же, 289.
Маккаллум показал: Там же, 285.
Последним в тот день давал показания: DC к ACD, 24 апреля 1914, ML.
Слушания, как вы знаете…: DC к ACD, 24 апреля 1914, ML.
«Касательно манеры…»: Цитируется в Toughill (2006), 175.
«Я удовлетворен…»: Цитируется в Hunt (1951), 180.
«Слушания велись при закрытых дверях…»: ACD для Spectator, 25 июля 1914. Gibson and Lancelyn Green (1986), 204–6; курсив оригинала.
«Мы не смогли сделать больше ничего»: Conan Doyle (1924), 226.
14 июля 1914 года: Hunt (1951), 182.
сержантом в Королевском шотландском пехотном полку: Toughill (2006), 178.
В мае 1915 года: Там же.
арестовали Кука: Там же.
Суд над Куком и Тренчем: Toughill (2006), 179.
Присяжные повиновались: Там же.
Тренч с честью прошел: Roughead (1950), xxxi.
уволен из армии в октябре 1918 года: Toughill (2006), 180.
Тренч умер в 1919 году: Запись о смерти, scotlandspeople.gov.uk. Причиной были проблемы с сердцем и рак крови.
Кук умер в 1921 году: Запись о смерти, scotlandspeople.gov.uk. Причиной были бронхит и остановка сердца.
Я устал…: ACD неизвестному адресату, без даты, помечено как «частное», ML. Письмо написано явно после предъявления обвинения Тренчу и Куку; в постскриптуме Конан Дойль пишет: «Сфабрикованное полицейское преследование со стороны своего же честного инспектора… было делом отвратительным».
«Любопытно, что сейчас…»: Conan Doyle (1924), 226.
Глава 17. Не исключая каннибалов
«Общеизвестно, что…»: Газетная вырезка Уильяма Гордона, без даты [около 1925 года], газета неизвестна, ML.
«Дорогие родители…»: OS к LF, 24 июля 1919, NRS.
«Мне не нужно больше от тебя скрывать…»: AT к OS, 16 апреля 1919, NRS.
«Могу себе представить, дорогой Оскар…»: AT к OS, 24 февраля 1920, NRS. Более раннее письмо, сообщающее Слейтеру о смерти родителей, не сохранилось.
Жаль, что ты…: AT к OS, 7 октября 1920, NRS.
«Добрая Мальхен…»: OS к AT, без даты, NRS.
Конечно, я буду писать тебе…: AT к OS, 20 марта 1922, NRS.
«Мы часто о тебе думаем…»: EL к OS, 15 августа 1922, NRS.
Мой дорогой Оскар!: PL к OS, 3 августа 1914, NRS.
от подкладки пальто: Hunt (1951), 187.
Годы спустя Адриан Конан Дойль: Hardwick and Hardwick (1964), 75.
просторная викторианская вилла: Miller (2008), 272.
«дворецкий, повар»: Там же, 381.
«Важность бесконечно малого неизмерима»: Bell (1892), 10.
поездок на фронт: Miller (2008), 331ff.
«Время от времени…»: Conan Doyle (1927), 13–14.
«Дело это не очень трудное…»: Conan Doyle (1924), 337–38.
У близкой подруги…: Там же, 338.
власти отказали: Miller (2008), 322.
объединило 200 000 гражданских лиц по всей стране: Conan Doyle (1924), 331.
«Наша дисциплина и выучка…»: Там же, 331–33.
В 1914 году, после того как: Miller (2008), 323.
«Те, кто в поздние годы…»: Там же, 356.
«Сколь тщательным и долгим…»: Conan Doyle (1924), 396–401.
К 1920-м годам он почти безоглядно уверовал: Arthur Conan Doyle, The Coming of the Fairies (New York: George H. Doran, 1922). Красноречивый телеграфный адрес для «Медиумического книжного магазина и музея» (Psychic Bookshop and Museum) — компании, основанной Конан Дойлем для распространения спиритуалистических верований, — состоял из слов «ectoplasm, sowest, London» (эманация, юго-запад, Лондон). ACD неизвестному адресату, без даты, 1929 год, на бланке Psychic Book Shop, Library & Museum, ML.
В Виндлсхэме Конан Дойль…: Miller (2008), 381.
Однако даже более мягкие критики: Whittington-Egan (2001), 161.
«Я столько месяцев жду…»: AT to OS, Nov. 28, 1923, NRS.
«Ты пишешь мне в письмах…»: OS to AT, Jan. 12, 1926, NRS.
«Макс часто говорит…»: EL to OS, March 12, 1924, NRS.
«Я только что вернулась с кладбища…»: EL to OS, Sept. 8, 1924, NRS.
перевели в плотницкую мастерскую при тюрьме: В письме к своей сестре Мальхен в начале 1926 года Слейтер написал, что в Питерхеде он работал плотником «последние полтора года». OS to AT, Jan. 12, 1926, NRS.
«Я не знаю, есть ли в мире существо…»: OS к Samuel Reid, 5 июля 1924, NRS.
Глава 18. Похищенная брошь
«После тщательного анализа…»: Цитируется в Hunt (1951), 188.
«Атмосфера важности…»: Adrian Conan Doyle (1946), 29–30.
Конан Дойль ответа не удостоился: Hunt (1951), 188.
с которым переписывался: Переписка между Конан Дойлем и Парком находится в коллекции ML. Первое известное письмо в ней, от WP к ACD, датировано 25 сентября 1914 года.
«Можете быть уверены…»: Цитируется в Hunt (1951), 188; курсив оригинала.
«Министр по делам Шотландии уполномочил меня…»: Там же, 188–89.
«Вы удивитесь…»: Erna Meyer к OS, 15 сентября 1925, NRS.
Я с изумлением…: OS к Erna Meyer, 5 декабря 1925, NRS.
«Мы получили…»: Käthe Tau к OS, 24 января 1926, NRS.
«Среди прочего…»: OS к Käthe Tau, 21 июня, 1926, NRS.
судя по государственным меморандумам: British government memorandums, May 27, 1924; May 28, 1924; July 8, 1924; July 14, 1924, NRS.
«По-видимому, избавиться…»: Там же, 14 июля 1924.
«Бедняга Слейтер говорил нам…»: WP к ACD, 1 декабря 1927, ML. Парк встречался со Слейтером вскоре после его освобождения.
переписка с Конан Дойлем: Переписка между WR и ACD сохранена в ML.
«Этот странный, терзающий сам себя фанатик…»: Hunt (1951), 190.
Уильям Парк был примечателен…: Там же, 166.
не раз посылал ему деньги: WP to ACD, Nov. 25, 1927, ML. Письмо Парка, в частности, гласит: «Я получил ваш чек на 25 фунтов стерлингов. Нельзя с вас столько тянуть. Сделанное вами невозможно исчислить; за всю истории Британии найдется мало деяний прекраснее. Лично для меня главная неприятность — кризис имеющихся у меня акций лучших мексиканских месторождений, которые пошли прахом… Я вас не оставлю, что бы ни случилось, хотя я сам сейчас в бедственном положении. Публика, я надеюсь, придет на помощь и с запозданием воздаст должное вам и Слейтеру».
вышла в июле 1927 года: Roughead (1950), lxii.
Как указал Парк: Park (1927), 90ff.
«Теперь, на виду у всего мира…»: Там же, 90.
Ответ, поясняет Парк: В своей книге Парк не давал прямых цитат из этого документа, но привел их в переписке с Конан Дойлем.
перед смертью: Toughill (2006), 189–90.
В изначальной формулировке: Там же, 190–91; курсив мой.
«Ясно, что…»: Conan Doyle (1927), 5.
«Нет ни одной улики…»: Там же, 6.
«Кто виновен…»: Там же, 10.
«И наконец, мы вправе спросить…»: Там же, 14–15; курсив оригинала.
«Воистину это…»: Там же, 18.
Глава 19. Ворота Питерхеда
стали переходить: См., напр., Jann (1995), 125.
В сентябре 1927 года: Hunt (1951), 193.
«Я занялся делом плотнее…»: Цитируется там же, 193.
«Каждый день Палмер обрушивался…»: Там же, 193–94.
23 октября: Там же, 195.
«одним из самых эффектных»: Цитируется там же, 195.
предположительно считалась умершей: В Conan Doyle (1927), 13, ACD по ошибке включил имя Ламби в список главных участников дела Слейтера, умерших с тех пор.
Слова, произнесенные и впоследствии аннулированные…: Цитируется в Hunt (1951), 195–96.
«Что за история!»: Открытка ACD к писателю J. Cuming Walters, без даты, ML.
«Она уличная…»: WP к ACD, 31 октября 1927, ML.
С помощью Палмера: Hunt (1951), 196.
Я, Мэри Барроуман…: Там же, 197–98.
«Оскар Слейтер отсидел…»: Там же, 199.
был тайно вызван в Питерхед: Там же, 199.
в три часа пополудни: Там же.
Глава 20. Больше света, больше правосудия
«Лучший план…»: Там же, 199.
«Я устал…»: Там же, 200.
В полиции он поинтересовался: Там же, 201.
«Дорогой мистер Оскар Слейтер!»: Там же, 200.
«Сэр Конан Дойль…»: OS к ACD, без даты [осень 1927], ML.
он был уполномочен рассматривать дела: Hunt (1951), 202.
16 ноября 1927 года: Там же, 203.
Закон был принят: Там же.
нанятый его сторонниками Крейги Атчисон: В 1929 году Атчисон (1882–1941) стал первым социалистом, назначенным на должность лорда-адвоката Шотландии — во время первого суда над Слейтером этот пост занимал Александр Юр. Сын и тезка Атчисона (1926–2009) был известным художником.
«Многие юристы считали…»: Michael McNay, «Craigie Aitchison Obituary,» Guardian, Dec. 22, 2009. (Некролог, из которого взята цитата, был посвящен сыну и тезке Атчисона.)
Обжалование дела Оскара Слейтера: Там же, 208–9.
в том же зале суда: Там же, 208.
Коллегия из пяти судей: Там же.
для газеты Sunday Pictorial: Там же, 217.
«В данных обстоятельствах…»: Hunt (1951), 212.
телеграфировал участникам: Там же, 213.
«Я думаю, его ум…»: Там же, 213.
«Меня тянуло подписать…»: Там же, 213.
«Я очень хотел бы увидеть…»: WP к ACD, 27 января 1928, ML.
«Она теперь скорее умрет…»: WP к ACD, без даты, ML.
«Эта женщина…»: Цитируется в WP к ACD, 5 декабря 1927, ML.
«Вытирая мыльные руки о передник…»: Whittington-Egan (2001), 176.
«Я хочу отречься»: HL, открытое письмо, 18 декабря 1927, NRS.
«Ламби — переменчивая негодяйка…»: WP к ACD, 19 декабря 1927, ML.
Судебная процедура по обжалованию дела продолжилась: Hunt (1951), 213.
Доктор Адамс умер: Roughead (1950), 312.
«Учитывая виденные им увечья…»: Там же, 315.
Судебный пристав Джон Пинкли: Там же, 319–22.
«Могли ли Ламби или Барроуман…»: Там же, 320–22.
«Три дня я сидел…»: Цитируется в Hunt (1951), 216–17.
судебное постановление по четырем пунктам: Там же, 220–26.
Зрители видели, как Слейтер: Там же, 220.
«Нет подтверждений тому…»: Там же, 226; (курсив автора) italics added.
«Слейтер не сразу осознал…»: Там же.
«Я, Оскар Слейтер…»: Там же, 226.
«Дорогой сэр Артур!»: Там же, 226–27.
Конан Дойль, удовлетворенный вердиктом: Там же, 227.
«Мое участие в деле…»: Там же, 227.
Глава 21. Рыцарь и мошенник
«Я вполне могу понять…»: Hunt (1951), 231–32.
4 августа: Там же, 232.
«не человек, а презренное перекати-поле…»: Conan Doyle (1912), 43.
«Либеральный империалист…»: Otis (1999), 98.
«благородный идеал невинно пострадавшего…»: Conan Doyle (1924), 226.
«бессознательно поддался…»: Van Dover (1994), 30.
«Чтобы не поступить с вами несправедливо…»: ACD к OS, 9 августа 1928, ML.
«Вы, вероятно, сошли с ума…»: ACD к OS, 14 августа 1928, Hunt (1951), 233.
«На ранней стадии…»: ACD для Empire News, 5 мая 1929, Hunt (1951), 235–36.
В сентябре 1928 года: Telegraph, 14 сентября 1929, ML.
«Пусть он называет меня…»: Daily Mail, осень 1929 года [точная дата не читается], ML. Также частично цитируется в Hunt (1951), 236–37.
«Охотиться за деньгами [!]» : Daily Mail, осень 1929 года [точная дата не читается], ML. Также цитируется в Hunt (1951), 237.
«Оскар Слейтер сегодня приветственно пожал мне руку…»: Daily Mail, осень 1929 года [точная дата не читается], ML.
Конан Дойль обратился: Evening News, 13 сентября 1929.
В октябре 1929 года: Hunt (1951), 238.
«В то время»: Conan Doyle (1930), 445.
«друг Конан Дойль…»: Martin Booth, The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan Doyle (New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's Minotaur, 1997), 170.
«У меня было много приключений…»: Цитируется в Adrian Conan Doyle (1946), 7.
7 июля 1930 года: Miller (2008), 476.
Эпилог. Что с ними стало
этот взгляд разделяли и некоторые авторы: Напр., Costello (1991).
Другие авторы указывали: Напр., Toughill (2006).
шайке профессиональных воров: Whittington-Egan (2001).
преступное сотрудничество: Напр., Ted Ramsey, Stranger in the Hall (Glasgow: Ramshorn Publications, 1988).
«Кто-то ведь убил мисс Гилкрист…»: Roughead (1929), lix.
«Я не вижу смысла…»: Conan Doyle (1930), 446.
она вернулась в Шотландию: Whittington-Egan (2001), 179.
Она умерла в Лидсе: Там же.
Мэри Барроуман, которая: Там же, 316–17.
«Через многие годы после суда…»: House (2002), 180.
Барроуман умерла в 1934 году: Whittington-Egan (2001), 316.
Семидесятитрехлетний Артур Адамс: Там же, 314. Адамса нашли в его доме умершим своей смертью 3 января 1942. В последний раз его видели живым 31 декабря.
По примечательной прихоти судьбы: Там же, 315.
В 1969 году член глазговского городского магистрата: Grant (1973), 58.
Впрочем, в 1999 году: Whittington-Egan (2001), 266.
«шотландский гулаг…»: Scraton et al. (1991), 65.
«Женюсь на негритянке…»: «Женюсь на негритянке, говорит Оскар Слейтер», The New York Times, Nov. 28, 1929, 21; перепечатки из статьи в Associated Press, помеченной «London, Nov. 27, 1929».
после смерти первой жены, жившей отдельно от него: Whittington-Egan (2001), 195.
ненадолго интернировали: Там же, 197.
Не в силах выносить имя: Там же, 198.
«После войны…»: Там же, 197.
27 июля 1942 года: .
сестра Слейтера Феми: База данных жертв Холокоста, .
его любимая сестра Мальхен: Там же.
Об авторе
Маргалит Фокс — заслуженный автор The New York Times. Как сотрудник знаменитого отдела некрологов газеты написала прощальные статьи о некоторых видных фигурах современной культуры, в том числе об одной из первых феминисток Бетти Фридан, о писательнице Майе Энджелоу и детском авторе Морисе Сендаке. За работу в The New York Times получила в 2011 и 2015 годах премию Нью-Йоркского клуба женщин-репортеров Front Page. Фокс также является автором книг «Говорящие руки. Что говорит об уме язык жестов» (Talking Hands: What Sign Language Reveals About the Mind, 2007) и «Тайна лабиринта. Как была прочитана забытая письменность» (The Riddle of the Labyrinth: The Quest to Crack an Ancient Code, 2013; русское издание: Corpus, АСТ 2016). Эта книга, дающая хронику расшифровки таинственной письменности бронзового века, известной как линейное письмо Б, была признана журналом The New York Times Book Review одной из лучших книг года и в 2014 году получила международную премию Уильяма Сарояна. Работа писательницы была отмечена в бестселлере Стивена Пинкера «Чувство стиля» (The Sense of Style by Steven Pinker, 2014) — пособии по владению пером. В 2016 году Институт Пойнтера назвал Фокс в числе шести лучших писателей за всю историю The New York Times.
Фокс получила степень бакалавра и магистра лингвистики в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и степень магистра на факультете журналистики в Университете штата Колумбия.
Она живет на Манхэттене с мужем, писателем и критиком Джорджем Робинсоном.
Facebook.com/conandoyleforthedefense
Twitter: @margalitfox
Иллюстрации
Джонатан Корум
Джонатан Корум
Квартира мисс Гилкрист
Джонатан Корум
Марион Гилкрист в среднем возрасте и в поздние годы
Слева: музей питерхедской тюрьмы
Справа: Уильям Рафхед. «Суд над Оскаром Слейтером» (1910)
Западная Принцева улица. Дверь мисс Гилкрист — слева, дверь Адамсов — справа
На ступенях, ведущих в квартиру мисс Гилкрист, осталось два загадочных отпечатка
Это и предыдущее фото: Государственный архив Шотландии, HH15/20/1/6
Передняя мисс Гилкрист. Обратите внимание на три замка на входной двери
Столовая, место убийства мисс Гилкрист
Это и предыдущее фото: Государственный архив Шотландии, HH15/20/1/6
Рисунок пропавшей броши мисс Гилкрист, сделанный ювелиром
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/9
Визитная карточка для одной из фальшивых личностей Слейтера
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/17
Еще одна визитная карточка с одним из псевдонимов Слейтера
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/14.
Оскар Слейтер, европейский денди, октябрь 1905 года
Уильям Рафхед. «Суд над Оскаром Слейтером» (1910)
Хелен Ламби в 1909 году
«Эта женщина, — заявил один из сторонников Слейтера, — хранит тайну».
Городской совет Глазго; архивы, TD1560/6/23
Этот обрывок бумажной обертки с адресом «Оскару Слейтеру, эсквайру, для передачи А. Андерсону» изначально навел полицию на след Слейтера
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/12
Книга регистрации постояльцев в гостинице, на предпоследней строке подпись: «Оскар Слейтер, Глазго»
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/43
Письмо Слейтера, написанное в 1909 году из «Могил» в Нью-Йорке глазговскому другу Хью Камерону. Камерон немедленно показал это письмо полиции
Государственный архив Шотландии, JC34/1/32/16
Мэри Барроуман в сопровождении родителей прибывает для дачи показаний на суде по делу Слейтера
Коллекция музеев и библиотек Глазго CSG CIC; Библиотека Митчелла, особые коллекции
Суд над Оскаром Слейтером. Слейтер сидит на скамье подсудимых между двумя полицейскими
Уильям Рафхед. «Суд над Оскаром Слейтером» (1910)
Журнал надзирателей, тюрьма на Герцогской улице в Глазго, 1909 год, вскоре после вынесения смертного приговора Слейтеру. «Выглядел крайне расстроенным и сказал, что лучше бы уже умер», — говорится в записи от 7 мая
Государственный архив Шотландии, HH12/11
Отряд заключенных Питерхедской тюрьмы под конвоем отправляется на работу. Середина 1930-х годов
Принадлежащий тюрьме поезд вывозил гранит, добываемый заключенными, из находящегося неподалеку карьера
Это и предыдущее фото: Музей Питерхедской тюрьмы
До и после: Оскар Слейтер (вверху) по прибытии в Питерхедскую тюрьму в 1909 году и (внизу) при освобождении в 1927 году
Оба фото: Государственный архив Шотландии, HH15/20/1/6
Артур Конан Дойль и его отец, Чарльз Алтамонт Дойль, 1860-е годы
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Молодой врач. Конан Дойль по окончании медицинского факультета, 1881 год
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Преподаватель Конан Дойля на медицинском факультете, доктор Джозеф Белл, чьи способности диагноста казались сверхъестественными. Он был живым прототипом Шерлока Холмса
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Джордж Эдалджи, англичанин индийского происхождения, юрист. Расследование в связи с вынесенным ему ошибочным приговором стало первым случаем явного вмешательства Конан Дойля в реальное уголовное дело
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Тайное послание Конан Дойлю, которое в 1925 году бывший узник тюрьмы вынес во рту, приведет к освобождению Слейтера
Городской совет Глазго; архивы, TD1560/1/1
Полицейский Джон Томсон Тренч из Глазго лишился карьеры после того, как высказал сомнения по поводу дела Слейтера
Музей Питерхедской тюрьмы
Конан Дойль и (частично) Виндлсхэм, его просторный дом в Южной Англии
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Конан Дойль и Крейги Атчисон, ныне считающийся величайшим шотландским адвокатом по уголовным делам, на пересмотре дела Слейтера в 1928 году
Коллекция Артура Конан Дойля — наследство Ланселина Грина, городской совет Портсмута
Мэри Барроуман в конце 1920-х годов, примерно во время освобождения Слейтера. «Она уличная проститутка, была в тюрьме», — утверждал один шотландский журналист
Музей Питерхедской тюрьмы
Снова щеголь — Оскар Слейтер после освобождения, конец 1920-х годов
Уильям Рафхед. «Суд над Оскаром Слейтером» (1950)
Над книгой работали
Переводчик Ирина Майгурова
Научный консультант Илья Савельев
Редакторы Юлия Быстрова, Наталья Нарциссова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры С. Чупахина, М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Арт-директор Ю. Буга
Дизайн обложки Nathan Burton
Примечания редакции
1
Альфред Дрейфус, капитан французской армии, еврей по происхождению, в 1894 году на волне антисемитизма был арестован по ложному обвинению в государственной измене. После приговора его отправили на Чертов остров во Французской Гвиане, где находилась печально знаменитая тюрьма. Одним из самых стойких защитников Дрейфуса был писатель Эмиль Золя, чье гневное открытое письмо «Я обвиняю!», опубликованное в 1898 году на первой странице одной из парижских газет, упрекало правительство в антиеврейских настроениях и в итоге стало одним из поводов к пересмотру дела Дрейфуса. В 1899 году Дрейфус получил помилование, в 1906 году был полностью оправдан. — Здесь и далее примечания автора, если не указано другое.
(обратно)2
Цитата в переводе Н. Треневой. — Прим. пер.
(обратно)3
Цитата в переводе Н. Треневой. — Прим. пер.
(обратно)4
В пересчете на нынешние деньги примерно 1,3 млн фунтов стерлингов, или 2 млн долларов.
(обратно)5
На сегодняшний день более 250 000 фунтов стерлингов, или почти 400 000 долларов.
(обратно)6
В архивных записях Прайор иногда упоминается как Мари или Мей.
(обратно)7
Монета в полсоверена равнялась половине фунта. Ее ценность в 1908 году эквивалентна нынешним 55 фунтам стерлингов, или 70 долларам.
(обратно)8
Сейчас около 4000 фунтов стерлингов, или 6000 долларов.
(обратно)9
Слейтер в ту пору был 36 лет от роду, среднего роста, с короткими усами и горбоносый.
(обратно)10
Шотландский юридический термин, обозначающий получение или перепродажу краденых вещей или незаконное укрывательство преступника.
(обратно)11
Несмотря на то что Филипс был строго религиозным иудеем, он именовался «преподобным» и имел звание священника. Такое титулование религиозных деятелей, не посвященных в сан раввина, имело хождение среди британских евреев в конце XIX века и позже.
(обратно)12
Такие классификации существовали и в ХХ веке. Так, после японского налета на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года в США повсеместно можно было встретить листовки, которые учили отличать живущих в США китайцев от японцев. Журнал Life 22 декабря опубликовал статью под заголовком «Как отличить япов от китайцев», которая начиналась так: «При первом всплеске эмоций, спровоцированном японскими атаками на их страну, граждане США продемонстрировали огорчительную неосведомленность относительно того, как отличить китайца от япа. Невинными жертвами в городах по всей стране стали многие из 75 000 американцев китайского происхождения, чья родина является нашим верным союзником… В попытке хотя бы частично устранить такую путаницу Life представляет вам примерный перечень антропометрических признаков, отличающих дружественных китайцев от враждебных чужаков-японцев». Такими признаками, продолжали авторы статьи, являются (для китайцев) «пергаментно-желтый цвет лица», «более высокая спинка [носа]», «отсутствие румянца», «более легкие лицевые кости», «редкая бородка», «более длинное и узкое лицо» и (для японцев) «землисто-желтый цвет лица», «более плоский нос», «иногда румянец на щеках», «массивные скулы и челюсть», «густая борода», «более широкое и круглое лицо». Статья подразумевала, что читатели, которые не должны избивать американцев китайского происхождения, могут себе позволить это в отношении американцев японского происхождения.
(обратно)13
Артур и его старшая сестра Аннет получили двойную фамилию Конан Дойль в честь бездетного двоюродного деда, которого звали Майкл Конан.
(обратно)14
Вставная цитата взята из автобиографического романа Конан Дойля о молодом враче «Письма Старка Мунро» (1895.).
(обратно)15
Несмотря на официальное имя Луиза, она всю жизнь стойко предпочитала вариант Луиз.
(обратно)16
Для верного Джона Ватсона писатель изначально придумал имя Ормонд Сэкер.
(обратно)17
В мае 1915 года, во время Первой мировой войны, «Лузитания» будет торпедирована и затоплена германской подводной лодкой; это событие попадет в заголовки мировой прессы и спровоцирует антигерманские выступления по всей Великобритании.
(обратно)18
Термин «шериф» в этом значении применяется к представителю судебной власти в Шотландии, осуществляющему контроль над местным судом.
(обратно)19
Цитата в переводе Н. Треневой. — Прим. пер.
(обратно)20
Готовясь писать эту книгу, я заказала подержанный экземпляр сборника эссе Гексли «Науки и культура» 1882 года. Когда мне его доставили, маленький томик в ветхом переплете и с пожелтевшими страницами раскрылся на трогательном напоминании о широкой аудитории научных работ автора, которые были предназначены для обычных наемных работников. На половинке титульного листа безупречным почерком XIX века была выведена чернильная, поблекшая от времени надпись: «Собственность Фреда П. Хопкинса, скотные дворы и бойни, Чикаго».
(обратно)21
Цитата в переводе Н. Дмитриева. — Прим. пер.
(обратно)22
Цитата в переводе Р. Гальпериной. — Прим. пер.
(обратно)23
Презрительная реплика Холмса «Ваш Дюпен — очень недалекий малый», произнесенная в «Этюде в багровых тонах» [цитата в переводе Н. Треневой. — Прим. пер.], — явно шутка: Конан Дойль необычайно восхищался Эдгаром По и на протяжении всей жизни признавал, что он многим обязан рассказам о Дюпене.
(обратно)24
Конан Дойль, отдавая должное обыденному языку, был склонен использовать слово «дедукция» как общий термин для любого типа логических умозаключений.
(обратно)25
Цитата в переводе Н. Треневой. — Прим. пер.
(обратно)26
Эта цитата и две последующие в переводе Н. Волжиной. — Прим. пер.
(обратно)27
Эта цитата и две последующие в переводе М. и Н. Чуковских. — Прим. пер.
(обратно)28
«Местный прокурор» — уникальная должность в Шотландии, существующая поныне. В обязанности такого прокурора входит как расследование, так и обвинение; должность некоторым образом схожа с должностью окружного прокурора в США.
(обратно)29
Поскольку положение женщин в ту эпоху было и без того ниже, чем у полноценных законных граждан, с формальной точки зрения их нельзя было объявить вне закона. Однако суд, рассматривая дело, в котором подозреваемым была женщина, мог добиться того же эффекта, объявив «отверженной», по сути превратив ее в нечто вроде бесхозной вещи.
(обратно)30
Слово «пенитенциарный» в качестве синонима слова «тюремный», употреблявшееся в этом значении с начала XIX века, воплощает собой идею о месте наказания и размышления. В том же значении, только с более агрессивным смыслом, выступает слово «исправительный», появившееся в английском языке в середине XVIII века.
(обратно)31
И все же даже Гросс не был в этом отношении совершенно чист. Он демонстрировал определенную неприязнь к тем, кого называл «кочующими племенами», особенно к цыганам, и его книга содержит устаревшие стереотипные характеристики цыган, якобы склонных к воровству, отравлениям и краже детей.
(обратно)32
Дактилоскопия в викторианское и эдвардианское время была настолько неисследованной, что весь холмсовский канон содержит всего полдесятка упоминаний о ее использовании для судебных целей — явное указание на то, что Конан Дойль не очень чтил дактилоскопию как диагностический метод.
(обратно)33
Цитата в переводе Н. Демуровой. — Прим. пер.
(обратно)34
Игорное заведение в Глазго.
(обратно)35
Мы знаем, как было организовано пространство, поскольку до 1920-х годов в судах Великобритании разрешалась съемка.
(обратно)36
В отличие от Англии, где словом «subway» называют подземный пешеходный переход, а словом «underground» — подземную линию метро, в Шотландии словом «subway», как и в США, называют метро. Система подземного сообщения в Глазго, по старшинству третья в мире после лондонской подземки и будапештского метро, открылась в 1896 году.
(обратно)37
На этом этапе, как указывает историк Бен Брейбер, судья лорд Гатри должен был велеть присяжным не учитывать показания о характере Слейтера, поскольку они не относятся к рассматриваемому преступлению. Лорд Гатри не только этого не сделал, но и в собственном последующем напутствии к присяжным еще больше упирал на гипотетическое сутенерство Слейтера.
(обратно)38
Когда в рассказе 1891 года «Скандал в Богемии» при описании актрисы Ирэн Адлер — единственной женщины, сумевшей очаровать Холмса, — Конан Дойль вкладывал в уста Холмса слова «эта юная особа», он мог не сомневаться, что его читатели отлично знают смысл этой характеристики.
(обратно)39
В действительности имя Слейтера появилось в газетах лишь 26 декабря — в тот день, когда он отплыл в Америку на борту «Лузитании».
(обратно)40
Цитируемые здесь выдержки из обращения лорда Гатри к присяжным взяты из официальной расшифровки стенограммы, сделанной во время суда и долгое время считавшейся утраченной. Лишь спустя годы после суда над Слейтером стало известно, что при передаче Уильяму Рафхеду копии обращения для книги «Суд над Оскаром Слейтером», впервые опубликованной в 1910 году и повсеместно считавшейся официальным отчетом о деле, лорд Гатри существенно изменил смысл речи (с риторической точки зрения пересмотренная версия содержала более сильные выпады против Слейтера, чем произнесенное в суде обращение). Рафхеду впоследствии удалось получить копию официальной стенограммы, и четвертое издание книги, вышедшее в 1950 году, содержит обе версии обращения лорда Гатри к присяжным. Здесь приводятся выдержки из настоящей речи лорда Гатри.
(обратно)41
Ко времени суда над Слейтером все эти факты уже были опубликованы в шотландской прессе.
(обратно)42
Если бы дело слушалось в Англии, при разделившихся мнениях присяжных Слейтеру было бы гарантировано еще одно судебное рассмотрение дела.
(обратно)43
Министр по делам Шотландии (Secretary for Scotland, с 1926 года называемый Secretary of State for Scotland) в британском правительстве был главным официальным лицом, ответственным за дела Шотландии.
(обратно)44
Главный порт Шетландских островов в составе Шотландии, около 180 миль к северу от Питерхеда.
(обратно)45
Подразумеваются попытки семьи нанять адвоката для Слейтера, которые в итоге закончились ничем.
(обратно)46
В 1911 году 51 книгу о реальных преступлениях Конан Дойль приобрел из коллекции литератора Уильяма Гилберта из знаменитого творческого дуэта — авторов комических опер конца XIX века Гилберта и Салливана.
(обратно)47
Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office) — государственный орган, отвечающий за дела внутри страны, в его компетенцию входят юридические дела Англии и Уэльса.
(обратно)48
Брат Слейтера, зажиточный землевладелец.
(обратно)49
Тюремное название для одиночного заключения.
(обратно)50
В рапорте не указано, от кого были эти письма и каково их содержание.
(обратно)51
Цитаты в переводе Ю. Жуковой. — Прим. пер.
(обратно)52
Конан Дойль, конечно, подразумевает не «только». Второе возможное объяснение странного поведения Ламби, как он прекрасно понимал, состояло в том, что она была замешана в преступлении или как минимум знала убийцу. В печати Конан Дойлю приходилось выражаться сдержанно, однако из его частной переписки ясно, что этот последний вариант он считал вполне правдоподобным.
(обратно)53
Последующие цитаты из рассказа даны в переводе М. Чуковской. — Прим. пер.
(обратно)54
Цитата в переводе М. Литвиновой. — Прим. пер.
(обратно)55
По завершении Первой мировой войны, после того как существенная часть Силезии была отдана Польше, Бейтен стал известен как Бытом, а Бреслау — как Вроцлав.
(обратно)56
Вероятно, подразумевается Телеграфная улица в Лондоне. Слейтер жил в Лондоне в первые годы XX века.
(обратно)57
Макдональд будет премьер-министром Великобритании в 1929–1935 годах.
(обратно)58
В списке жертвователей была и писательница Дороти Сэйерс, автор детективных произведений, пожертвовавшая три гинеи — три фунта и три шиллинга.
(обратно)59
В настоящее время около 560 000 фунтов стерлингов, или 800 000 долларов.
(обратно)

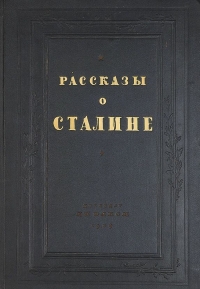


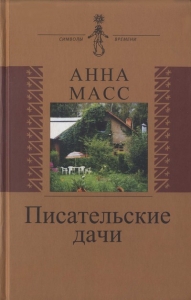

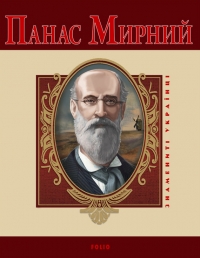
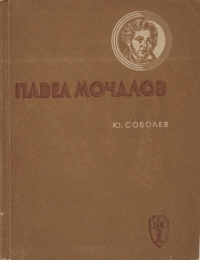



Комментарии к книге «Конан Дойль на стороне защиты», Маргалит Фокс
Всего 0 комментариев