Хелен Келлер ДЕВУШКА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ История о деревьях, науке и любви
Все, что я пишу, посвящается моей матери
Чем больше вещей проходило через мои руки, чем больше их названий и предназначений мне доводилось узнать, тем радостнее и увереннее становилось во мне чувство единения с миром вокруг.
Пролог
Все любят океан. И постоянно спрашивают, почему я не изучаю его, ведь живу на Гавайях. Ответ всегда один: потому что в океане только и есть что пустота и одиночество. На суше живого вещества в шестьсот раз больше — в основном благодаря растениям. В океане типичное растение — это одноклеточная водоросль, срок жизни которой ограничен примерно двадцатью днями. На суше же это дерево весом две тонны, которое проживет больше сотни лет. Отношение биомассы растений к биомассе животных в океане меньше единицы, то же соотношение на суше стремится к тысяче. Количество растений ошеломляет: только на территории охраняемых лесов в западной части Соединенных Штатов произрастает 80 миллионов деревьев. В целом по Америке на одного человека их приходится более двухсот. Люди обычно живут среди растений, не замечая их. Я же — с тех пор, как открыла для себя эти цифры, — не замечаю ничего, кроме растений.
Так что давайте прервемся на минуту, чтобы вы могли выглянуть в окно.
Что вы там видите? Вероятно, то, что люди могут создать сами: других людей, машины, здания и тротуары. Всего несколько лет, затраченных на разработку дизайна, строительство, подготовку котлована, ковку, выемку грунта, сварку, укладку кирпичей, установку окон, проведение труб и электричества, покраску, — и вот человечество уже воздвигло стоэтажный небоскреб, который отбрасывает тень длиной 300 метров. Впечатляет, правда?
Теперь посмотрите в окно еще раз.
Видите что-нибудь зеленое? Если да, то у вас перед глазами одна из немногих вещей, которые человечество создать не способно. То, что предстало вашему взгляду, возникло где-то рядом с экватором больше 400 миллионов лет назад. Может, вам даже повезло увидеть дерево? Оно было сконструировано природой около 300 миллионов лет назад. Добыча полезных веществ из атмосферы, деление клеток, шпаклевка поверхности воском, закладка системы водоснабжения, покраска — и спустя каких-то несколько месяцев на свет появляется лист во всем своем несовершенном совершенстве. На одном дереве приблизительно столько же листьев, сколько волос у вас на голове. Впечатляет, правда?
Теперь сосредоточьтесь на отдельном листочке.
Человечество не знает, как создать лист, но знает, как его уничтожить. За последние пятьдесят лет мы вырубили больше 50 миллиардов деревьев. Когда-то треть земной поверхности была покрыта лесами, но каждые десять лет мы стираем с ее лица 1 % этого мирового леса — площадь, сопоставимую по размерам с Францией. И он никогда уже не вырастет снова. Франция за Францией исчезали с лица Земли на протяжении десятилетий. Это означает, что каждый день триллион листьев лишается источника пропитания. Но, похоже, никого это особенно не волнует. А должно бы — по той самой причине, по которой мы волнуемся так часто: умер кто-то, кто мог бы еще жить и жить.
«А что, кто-то правда умер?» — спросите вы.
Возможно, мне удастся вас убедить. Понимаете ли, я вижу невероятно много листьев, смотрю на них — и задаю вопросы. Начинаю всегда с цвета: какой именно передо мной оттенок зеленого? Отличается ли верхняя поверхность листа от нижней? Центральная часть от краев? Кстати, о крае листа: какой он? Ровный? Зубчатый? Насколько этот лист насыщен влагой? Может, он поникший? Сморщенный? Или полный сил? Каков угол между пластинкой листа и черенком? Большой ли это лист? Больше моей ладони? Меньше ногтя? Он съедобный? Ядовитый? Много ли солнечного света он получает? Как часто омывается дождем? Здоров этот лист или болен? Он критически необходим растению или нет? Он живой или отмерший? И почему?
Теперь ваша очередь задавать вопросы о своем листе.
И знаете что? После первого же из них вы станете ученым. Кто-нибудь непременно возразит вам, что для занятий наукой нужно владеть математикой, физикой или химией. Но он будет неправ. Это все равно что утверждать, будто домохозяйке сначала необходимо научиться вязать, а тому, кто штудирует Библию, — выучить латынь. Конечно, это тоже очень полезные навыки, но на их освоение у вас еще будет время. Начинается же все с вопроса — вопроса, который вы уже задали. Видите? Все отнюдь не так сложно.
Теперь, как ученый ученому, я могу рассказать вам несколько историй.
Часть первая КОРНИ И ЛИСТЬЯ
1
В мире нет ничего совершеннее логарифмической линейки. Ее полированная поверхность приятно холодит губы, а на каждом из концов посверкивает прямой угол — самый безупречный из сотворенных Господом. Потяни за края, и вот у тебя в руках уже не линейка, а причудливая рапира, которую так же легко снова сложить обратно. С ней управится даже маленькая девочка — достаточно использовать бегунок как рукоять. В моих воспоминаниях эта игра неразрывно связана с историями, которые мне рассказывали в раннем детстве; а потому и по сей день, представляя себе Авраама, измученного агонией выбора и уже готового принести в жертву юного беспомощного Исаака, я вижу в его занесенной руке логарифмическую линейку.
Мое детство прошло в отцовской лаборатории, где я играла под столами до тех пор, пока не подросла достаточно, чтобы играть уже на них. Именно здесь, в недрах муниципального колледжа в сельской глуши Миннесоты, мой отец на протяжении сорока двух лет преподавал введение в физику и геологию. Он любил свою лабораторию — и мы с братьями заразились этой любовью.
Стены лаборатории были собраны из шлакоблоков, покрытых густой, слегка мерцающей кремовой краской; если закрыть глаза и сосредоточиться, под ней можно было нащупать грубоватую текстуру цемента. Помню, как пришла к выводу, что прорезиненные черные пластины обшивки держатся на клею, — однажды я измерила их рулеткой, растягивавшейся на добрых 30 метров, и не нашла ни одной дырки от гвоздя. Еще там стояли длинные рабочие столы, за которыми, по пятеро в ряд, рассаживались студенты. Черные столешницы — на ощупь холоднее могильных плит — тоже делались на века: им не страшны были ни кислота, ни удар молотком (хотя пробовать не рекомендую). На них спокойно можно было стоять, и даже острый камень не оставлял на поверхности царапин (тоже не рекомендую).
Напротив столов находились распоры с блестящими серебристыми раструбами. Чтобы повернуть их ручки на 90 градусов, приходилось тянуть изо всех сил; а когда это все-таки удавалось, тот, который был помечен ярлычком «газ», оставался безжизнен: он не был подключен. Из раструба же с подписью «воздух» начинал вырываться такой свист, что к нему немедленно хотелось приложиться ртом (и вновь не рекомендую). Здесь всегда было чисто и на первый взгляд пусто, но в ящиках таилось потрясающее разнообразие магнитов, проводов, стекол и металла. Все это для чего-нибудь требовалось — разобраться бы только для чего. В шкафу возле двери можно было найти лакмусовую ленту — как ленту фокусника, только лучше: она не просто побуждала задавать вопросы, но и давала ответы. Кусочек ленты меняет цвет — и вот ты уже видишь разницу между каплей слюны и каплей воды, брызгами пива или мочи. Фокус не работал только с кровью — увы, непрозрачной (так что и смысла нет пробовать). Все это, конечно, не предназначалось для детей — это были серьезные штуки для взрослых. Но, поскольку мне выпало родиться тем особенным ребенком, чей отец — хранитель большого кольца со множеством разномастных ключей, оборудование превращалось в игрушки всякий раз, когда он соглашался взять меня с собой. А он никогда, никогда не отказывал — если попросить как следует.
Я помню темные зимние вечера и лабораторию, которая, казалось, принадлежала только нам с отцом. Мы шествовали по ней, будто герцог и его сюзерен-принц — слишком погруженные в дела замка и начисто позабывшие об остальных владениях, скованных морозом. Папа готовился к занятиям, а я разбирала каждый запланированный опыт или его демонстрацию — причем в обратном порядке, чтобы на следующий день, когда сюда придут мальчишки из колледжа, у них был доступ ко всему необходимому. Мы осматривали оборудование и чинили то, что вышло из строя; отец учил меня разбирать приборы на части и вникать в принцип их работы, чтобы суметь вернуть к жизни, когда они рано или поздно откажут. Именно он помог мне понять: не так страшно сломать что-то — страшно не знать, как это починить.
В восемь вечера мы отправлялись домой: к девяти я уже должна была быть в постели. Сперва мы заходили в маленький, лишенный окон папин кабинет, единственным украшением которого служила слепленная мной глиняная подставка для карандашей. Оттуда мы забирали пальто, шапки, шарфы и другие вещицы, которые в изобилии вязала мне мама — возможно, потому, что у нее самой в детстве таких не было. Пока я сражалась с жесткими ботинками, пытаясь натянуть их на вторую пару носков, отец затачивал затупившиеся за вечер карандаши, и терпкий запах теплой мокрой шерсти мешался с ароматом стружки. Потом папа быстро застегивал пальто, надевал перчатки из оленьей кожи и говорил мне пониже надвинуть шапку, чтобы она закрывала оба уха.
Он всегда покидал здание последним: дважды проходился по коридору, сперва проверяя, что все внешние двери заперты, затем выключая свет, лампу за лампой; я семенила следом, чувствуя, как позади наступает темнота. Наконец мы оказывались у черного входа, и папа позволял мне дотянуться до выключателя, чтобы погасить два последних светильника. После этого можно было выходить на улицу. Захлопнув дверь, он еще дважды проверял, крепко ли она заперлась.
Холод принимал нас в свои объятия, и мы замирали на погрузочной площадке, глядя в морозное небо на точки света, который был порожден много лет назад огнем настолько горячим, что невозможно даже и представить; огнем, до сих пор пылающим на другом конце галактики. Имена, которые люди дали созвездиям над нами, были мне незнакомы, и я никогда не спрашивала о них — хотя уверена, что отец знал каждое и мог многое о них рассказать. У нас давно уже сложилась традиция молчать, преодолевая расстояние до дома. Молчаливое единение — вот что удается семьям скандинавов вполне естественно; возможно, это удается им лучше всего.
Отцовский колледж располагался на западной окраине маленького городка, который растянулся на шесть километров между двумя стоянками для грузовиков. Мы с тремя старшими братьями и родителями жили в большом кирпичном доме к югу от Главной улицы, в четырех кварталах к западу от тех мест, где в 1920-х рос мой отец, и в восьми кварталах к востоку от района, где в 1930-х росла моя мать, — все это почти в полторы сотне километров к югу от Миннеаполиса и в восьми к северу от границы с Айовой.
Наш путь домой пролегал мимо больницы, где доктор, который когда-то помог мне появиться на свет, теперь брал из моего горла мазки на стрептококковые инфекции; мятно-голубой водонапорной башни — выше ее в городе построек не было — и здания старшей школы, все преподаватели которой когда-то учились у моего отца. Когда мы проходили под кровельным желобом пресвитерианской церкви — где у папы с мамой в 1949-м состоялось первое свидание на пикнике воскресной школы, свадьба в 1953-м и мои крестины в 1969-м и где наша семья проводила каждое воскресное утро без исключения, — отец брал меня на руки и приподнимал, чтобы я могла отломить от карниза толстую сосульку. Всю оставшуюся дорогу я пинала ее, будто шайбу, а она позвякивала, каждые десять шагов ударяясь о заледеневшие сугробы по обочинам.
Мы шли по расчищенным вручную тротуарам мимо надежно утепленных домов, в которых обитали другие семьи, не меньше нашего подкованные в искусстве молчания. Почти в каждом из них жили наши знакомые. С песочницы и до выпускного рядом со мной были сыновья и дочери тех самых девчонок и мальчишек, с которыми в детстве играли мои родители; ни один из нас не мог вспомнить времени, когда мы еще не были знакомы, — пускай тщательно воспитанная сдержанность и не позволяла нам чересчур откровенничать. Только в семнадцать лет, уехав из дома в колледж, я обнаружила, что мир полон незнакомцев.
С противоположного конца города доносился тяжкий вздох усталого монстра: верный знак, что на часах восемь двадцать три и от завода, как и каждый вечер, отходит поезд. Я слышала, как сжимаются, а затем расслабляются огромные железные тормоза и цепочка пустых вагонов-цистерн уползает к северу, в сторону Сент-Пола, где каждый из них наполнят 30 000 галлонов соляного раствора. Утром мы услышим, как поезд возвращается: измученный монстр снова будет вздыхать, пока его груз перекачивают в бездонный резервуар с солью, необходимой заводу по производству бекона.
Бегущие с севера на юг железнодорожные пути изолировали один из уголков нашего маленького города; над ним высилось здание, возможно, самой впечатляющей на Среднем Западе скотобойни. По ее мостику каждый день проходило 20 000 животных — их забивали ради мяса.
Моя семья была одной из немногих не занятых на заводе, но, если копнуть поглубже, выяснялось, что наши родственники там все же работали. Прадедушка и прабабушка, как и остальные, приехали сюда из Норвегии в волну массовой эмиграции, начавшуюся примерно в 1880 году. Больше мне о предках ничего не было известно — как и прочим обитателям нашего городка. Я подозревала, что, если они переехали в самое холодное место на Земле и начали рубить головы свиньям, значит, в Европе дела шли не очень хорошо, однако меня ни разу не посетило желание поинтересоваться подробностями.
Своих бабушек я никогда не видела — они скончались до моего рождения, но могла вспомнить дедушек. Один из них умер, когда мне было четыре, второй — в мои семь. Припомнить хотя бы один случай, когда кто-то из них обращался ко мне напрямую, не удавалось. Отец был в своей семье единственным ребенком, а вот у мамы, кажется, было больше десяти братьев и сестер, со многими из которых мне так и не довелось встретиться. Между нашими визитами к дядям и тетям проходили годы — хотя многие из них жили в том же городке. Даже то, что трое моих старших братьев один за другим выросли и покинули дом, не стало для меня значительным событием: мы и раньше могли не общаться по несколько дней, попросту не зная, что сказать друг другу.
Колоссальная отчужденность между членами типичной скандинавской семьи закладывается рано и увеличивается с каждым днем. Можете представить, каково это — расти в сообществе, где никому нельзя задать личного вопроса? Где к числу таких вопросов относится даже «Как дела?», а потому на него необязательно отвечать? Где тебя учат всегда ждать, когда собеседник первым заговорит о том, что его тревожит, — хотя и его, и тебя воспитали так, что вы никогда не заговорите об этом сами? Возможно, таково наследие предков-викингов, которых молчание защищало от ненужных домашних расправ долгими темными зимами, когда запасы подходили к концу.
Ребенком я полагала, что такой уклад царит во всем мире. Каково же было мое удивление, когда, уехав из Миннесоты, я встретилась с людьми, которые легко делились друг с другом душевным теплом и повседневным вниманием — такими для меня желанными. Мне пришлось заново учиться жить в мире, где люди молчат в обществе незнакомцев, а не тех, кого знают давным-давно.
Итак, мы пересекали Четвертую улицу (или, по версии отца, Кенвуд-авеню — он учил названия в 1920-х, задолго до того, как улицам присвоили номера, и так и не сумел приспособиться к новым порядкам) и теперь уже могли разглядеть парадную дверь нашего большого кирпичного дома. Мама мечтала жить в таком, когда была маленькой, поэтому после свадьбы они с папой восемнадцать лет копили на него деньги. Несмотря на быстрый шаг — поспеть за отцом всегда было непросто, пальцы замерзали настолько, что потом непременно болели, отогреваясь. Даже самые теплые варежки в мире не защищают руки после того, как температура опускается ниже определенного значения, поэтому я всякий раз радовалась окончанию прогулки. Папа поворачивал тяжелую железную ручку, толкал дубовую дверь плечом — и мы входили в дом, где тоже царил холод, но уже иного рода.
В прихожей я садилась, чтобы возобновить борьбу с ботинками (теперь их нужно было снять), потом начинала стаскивать пальто и свитера. Папа вешал нашу одежду в шкаф с обогревом, где она будет ждать меня, сухая и теплая, на следующее утро, когда придет время отправляться в школу. Из коридора можно было расслышать, как на кухне мама загружает посудомойку, как клацают, сталкиваясь, ножи для масла, когда она кидает их в ящик для серебра и потом с треском захлопывает его. Мама вечно злилась — хотя я никогда не понимала почему. С присущей детям эгоцентричностью я убеждала себя: это потому, что я что-то не то сказала или сделала. В будущем, обещала я, начну следить за словами.
Поднявшись наверх, я переодевалась во фланелевую пижаму и забиралась в кровать. Окна спальни выходили на замерзший пруд, где в следующую субботу, если потеплеет, можно будет весь день кататься на коньках. На полу лежал шерстяной серо-голубой ковер, стены были оклеены обоями с узором дамаск. Изначально комната предназначалась для двух девочек-близняшек: два встроенных стола, два туалетных столика… Когда мне не спалось, я часто сидела у окна, обводя пальцем контуры морозного кружева на замерзшем стекле и стараясь не смотреть на пустое место возле второго окна, которое должна была бы занимать моя сестра.
В том, что мои детские воспоминания полны холода и темноты, нет ничего удивительного — ведь росла я в месте, где земля покрыта снегом девять месяцев в году. Погружение в зиму, а затем возвращение из ее мира задавало ритм всей нашей жизни. Ребенком я полагала, что люди по всему свету точно так же постоянно наблюдают за смертью лета и их вера в то, что оно непременно вернется, то и дело подвергается испытанию в ледяном горниле.
Год за годом я смотрела, как первые, еще неуверенные сентябрьские снежинки превращаются в метель, достигающую своего крещендо в декабре, — а потом растворяются в глубоком ледяном безмолвии конца февраля, на смену которому приходит жалящая атака апрельской снежной крупы. Наши хеллоуинские и пасхальные костюмы шились с таким расчетом, чтобы их можно было надеть под зимний комбинезон, а на Рождество мы натягивали слои шерсти, бархата и снова шерсти. Единственное летнее развлечение, которое осталось у меня в памяти, — это наша с мамой возня в огороде.
В Миннесоте весенняя оттепель приходит внезапно: замерзшая земля вдруг оттаивает под лучами солнца, изнутри напитывая водой рыхлую почву. В первый день весны можно было запустить в нее пальцы и легко вытащить большой мягкий ком грязи, похожий на свежий шоколадный кекс. Из него, радостно извиваясь и тут же прячась обратно, высовывались толстые розовые черви. В почве южной Миннесоты нет ни грамма глины: плодородный слой на протяжении сотен тысяч лет лежит здесь поверх известняка роскошным черным одеялом, лишь иногда смываемый ледниками. Эта земля богаче любой специально подготовленной и удобренной почвы, которую можно купить в хозяйственном магазине; в таком райском саду взойдет что угодно, не нужно даже поливать и удобрять: дождь и дождевые черви сделают всю работу — вот только урожайный сезон недолог, а потому нельзя терять ни минуты.
Мою маму огород интересовал только с точки зрения пользы. Ее любимцами были стойкие жизнелюбивые овощи вроде листовой свеклы и ревеня: можно не сомневаться, что они взойдут сами по себе и будут давать с каждым разом все больше урожая, даже если часто его собирать. Возиться с салатом-латуком или мелкими помидорами у нее не хватало ни времени, ни желания — им она предпочитала редиску и морковь, которые, не требуя особых забот, спокойно находили все им необходимое под землей. Даже цветы мама выращивала лишь самые неприхотливые: пионы — их бутоны размером с мячик для гольфа превращались потом в огромные, с капусту, розовые цветки; кожистые тигровые лилии и мясистые синие ирисы — германские касатики, луковицы которых выпускали свои ростки каждую весну, несмотря ни на что.
Каждый год первого мая мы с мамой по одному высаживали семена в почву, чтобы спустя неделю выкопать те, которые не взошли, и заменить их новыми — после чего процедура повторялась. К концу июня наши посадки уже давали бурные всходы, а мир вокруг казался таким зеленым, что невозможно было даже представить его иным. В июле листья покрывались росой, а воздух становился настолько влажным, что провода линий электропередачи гудели и потрескивали у нас над головами.
Однако ярче всего я помню не то, как наш сад выглядел или пах, а то, какие он издавал звуки. Вам это может показаться невероятным, но на Среднем Западе действительно можно услышать, как все растет. Если погода хорошая, початок кукурузы прибавляет за сутки пару сантиметров, и слои листовой обертки, в которую он заключен, слегка расходятся под этим напором, непрерывно шелестя. Этот-то шелест и можно расслышать в тихий августовский день, стоя среди высоких стеблей. Когда же мы занимались садом, я прислушивалась к ленивому гулу пчел, которые перемещались от цветка к цветку, точно пьянчужки между кабаками, к звонким отрывистым трелям овсянки, оценивающей новую птичью кормушку, к шороху наших лопаток, вонзающихся в землю, и к полуденным гудкам с завода.
Мама верила: для любого дела есть верный и неверный способ, причем второй предполагал, что все придется переделывать — вероятно, несколько раз. Она знала, каким стежком пришивать пуговицы на рубашке (разные — разным, в зависимости от того, как часто их будут расстегивать); знала, как нужно собирать по понедельникам ягоды бузины, чтобы в среду, когда мы будем протирать их через дуршлаг (предварительно проварив во вторник), ножки от ягод не забили дырки. Всегда продумывая свои действия на два шага вперед в любом из возможных направлений, мама никогда не сомневалась в себе, и вскоре я пришла к выводу, что в мире нет ничего, чего бы она не умела.
Если задуматься, моя мать знала, как делать — и делала — многое из того, в чем уже не было острой необходимости с тех пор, как миновала Великая депрессия, ограничения военного времени были сняты и все наши кошмары, по заверениям президента Форда, остались в прошлом. Собственное путешествие «из грязи в князи» представлялось ей победой, одержанной в тяжелой борьбе с чем-то враждебным. Мама была уверена: ее дети должны продолжить этот бой, чтобы заслужить свое наследие, а потому продолжала готовить нас к трудностям, которые нам так и не довелось испытать.
Глядя на нее, трудно было представить, что эта обходительная, хорошо одетая женщина когда-то была грязным, голодным, напуганным ребенком. Ее выдавали только руки — странно огрубевшие для того образа жизни, который она теперь вела. Чутье подсказывало мне: попадись кролик, опустошавший наш сад, моей матери, она без размышлений свернула бы ему шею.
Когда растешь среди людей, которые предпочитают молчать, каждое сказанное ими слово остается в памяти. В детстве мама была самой бедной и самой умной девочкой округа Мауэр. В выпускном классе старшей школы она даже удостоилась поощрительной премии девятого ежегодного национального отбора научных талантов, который проводила компания «Вестингауз». Признание ума девушки, выросшей в деревне, стало неожиданностью, и, пусть такой приз и считался поощрительным, мама оказалась в хорошей компании. Среди прочих номинантов 1950 года были Шелдон Глэшоу, получивший впоследствии Нобелевскую премию по физике, и Пол Коэн, в 1966 году удостоенный медали Филдса — самой престижной награды в области математики.
Увы, поощрительная премия подразумевала лишь годовое почетное членство в Академии наук штата Миннесоты, а не студенческий грант, на который так надеялась мама. Несмотря на это, она все же переехала в Миннеаполис и некоторое время пыталась совместить изучение химии в Университете Миннесоты с необходимостью зарабатывать на жизнь. Вскоре ей пришлось смириться с тем, что невозможно посещать дневные лабораторные занятия и одновременно работать няней столько часов, чтобы этого хватало на оплату обучения. В те времена университетская программа была рассчитана на мужчин; как правило на мужчин с деньгами или по крайней мере на мужчин, у которых было чуть больше вариантов трудоустройства, чем просто няня с проживанием. Мама вернулась в родной город, вышла замуж за отца, родила четверых детей и посвятила двадцать лет жизни их воспитанию. Когда младший ребенок пошел в детский сад, она воскресила свою мечту о степени бакалавра и снова подала документы в Университет Миннесоты. Теперь она могла учиться только заочно — и выбрала английскую литературу. Поскольку большую часть дня маме приходилось приглядывать за мной, она быстро начала вовлекать меня в учебный процесс.
Мы вместе продирались сквозь дебри поэзии Чосера, и я научилась пользоваться услугами нашего верного спутника — словаря среднеанглийского языка. В другой год мы целую зиму отмечали все символы в «Путешествии пилигрима в Небесную страну» на отдельных карточках — и видеть, как их стопка становится толще самой книги, было особенно приятно. Мама накручивала волосы на бигуди под поэмы Карла Сэндберга, которые звучали в нашем доме снова и снова, и заодно обучала меня каждый раз по-разному вслушиваться в отдельные слова. Благодаря творчеству Сьюзен Зонтаг я узнала, что само значение слова — это лишь специально сконструированный концепт, и овладела искусством кивать и притворяться, будто все понимаю.
Мать втолковывала мне, что чтение — это работа, а каждый параграф требует определенных усилий, — так я научилась воспринимать сложные книги. Впрочем, вскоре после того, как я пошла в детский сад, мне открылась еще одна истина: умение читать эти книги сулило лишь неприятности. Меня то и дело наказывали за то, что я опережала всю группу и не старалась выбирать слова и быть «милой». Не понимая причины, я одновременно боялась и обожала своих наставниц, зная лишь, что жажду их внимания, — а будет это похвала или наказание, не имело значения. Будучи маленькой, но очень решительной, я отважно ступила на извилистый и неровный путь к самой себе, уже сознавая, что делаю больше, чем предпочли бы окружающие.
Дома же, пока мы с мамой вместе читали или возились в саду, меня не покидало странное ощущение: между нами чего-то недоставало — какой-то нежности, существующей обычно между матерями и дочерями. Мне никогда не удавалось сформулировать свои ощущения точнее, и ей, полагаю, тоже. Думаю, мы все же любим друг друга — в свойственной нам упрямой манере, — но утверждать не возьмусь, ведь мы никогда об этом прямо не говорили. Роли матери и дочери были для каждой из нас экспериментом, и мы никак не могли поставить его правильно.
В возрасте пяти лет я выяснила, что не являюсь мальчиком. Кем я в таком случае являюсь, было пока не ясно — но этот кто-то явно был хуже и слабее. Пока я играла в лаборатории, мои братья — на пять, десять и пятнадцать лет старше меня — развлекались в реальном мире: гоняли на машинках в клубе скаутов, строили ракеты и запускали их в небо. На уроках труда им доверяли большие и важные инструменты из числа тех, что обычно крепятся к стене или потолку — настолько они велики. Мы вместе смотрели фильмы о Карле Сагане, мистере Споке, Докторе Кто и Профессоре, однако никто не замечал на заднем плане медсестру Чапел или Мэри-Энн. И я все чаще сбегала в лабораторию отца, к своей единственной возможности свободно исследовать мир механизмов.
Это было логично: из всего семейства именно я больше всего походила на папу (или же мне так казалось). Различие между нами было одно и чисто внешнее: отец выглядел именно так, как и полагается ученому. Высокий, бледный, гладко выбритый, худой настолько, что его можно было бы назвать костлявым, он носил брюки цвета хаки, белую рубашку, очки в роговой оправе и отличался хорошо заметным кадыком. В пять лет я решила, что на самом деле выгляжу именно так, даже если всем вокруг кажется, будто перед ними маленькая девочка.
Чтобы не нарушать эту маскировку, я честно проводила время ухаживая за собой и обмениваясь с подружками сплетнями о том, кто кому нравится или не нравится. Я могла часами прыгать через скакалку, шить себе одежду и из ничего состряпать что угодно тремя разными способами. Но поздно вечером мы с отцом всегда уходили в лабораторию, уже пустую, но еще залитую светом. Там я превращалась из маленькой девочки в серьезного ученого, как Питер Паркер превращался в Человека-Паука (только наоборот).
Однако, как бы мне ни хотелось походить на отца, я сознавала, что рождена стать продолжением своей несокрушимой матери: второй попыткой, новым шансом прожить ту жизнь, которую она заслужила, но которой так и не дождалась. Я окончила школу на год раньше, чтобы получить стипендию в Университете Миннесоты, где в разное время учились мама, папа и все мои братья.
Начала я с литературы, но быстро поняла, что мое сердце отдано науке. Особенно заметно это было в сравнении: на занятиях по научным дисциплинам мы действительно занимались делом, а не просто садились в кружок и сотрясали воздух. Мы делали что-то своими руками — и получали конкретные результаты почти каждый день. Эксперименты в лабораториях были так хорошо подготовлены, что проходили всегда идеально и с неизменными красивыми результатами, и чем больше мы их проводили, тем к более сложному и крупному оборудованию и более мудреным реактивам нас допускали.
Научные лекции освещали актуальные проблемы общества, а не уводили нас в мир отживших политических систем, защитники и противники которых умерли еще до моего рождения. На них мы не говорили о книгах, которые были написаны с целью проанализировать другие книги, являющиеся, в свою очередь, пересказом еще более древних произведений; нет, они были посвящены тому, что происходит здесь и сейчас, и будущему, которое еще только возможно. Я никогда не умела пускать дело на самотек — это качество, помноженное на мое стремление перевыполнить любую работу, всегда делало меня неудобной для прежних учителей; однако именно его теперь поощряли мои профессора. Они приняли меня — пускай я и была девушкой — и заверили в том, что я и так давно подозревала: мой истинный потенциал проистекал в первую очередь из стремления бороться, а не из обстоятельств моего прошлого и настоящего. Я будто снова оказалась в отцовской лаборатории — в безопасной гавани, где мне разрешалось играть со всем, с чем захочется.
Люди похожи на растения: в своем росте они стремятся к свету. Я выбрала науку потому, что она давала мне самое необходимое — дом в наиболее буквальном его значении: безопасное место.
Взросление — долгий и болезненный процесс для любого из нас. Единственное, в чем я никогда не сомневалась: однажды у меня будет своя лаборатория, потому что она была у отца. В нашем городке папа был не просто каким-то ученым — он был Ученым с большой буквы У, и это слово описывало не род его занятий, а самую суть. Мое желание пойти по его стопам зародилось глубоко внутри и было полностью интуитивным: в детстве мне не доводилось ни слышать об ученых-женщинах, ни встречаться с ними или хотя бы видеть по телевизору.
Теперь этот ученый — я, и это все еще немного странно, но, положа руку на сердце, я никогда не была кем-то другим. За прошедшие годы я вдохнула жизнь в три собственные лаборатории: создав их с чистого листа, подарила тепло и душу трем пустым комнатам, каждая из которых оказывалась больше предыдущей. Мое нынешнее обиталище почти идеально: оно находится в благословенном Гонолулу, в чудесном здании, увенчанном радугами и цветами гибискуса. И все же я чувствую, что никогда не перестану желать большего и строить что-то новое. Пусть моя лаборатория на плане университета обозначена как «комната Т309» — это «лаборатория Джарен», и она останется ею, где бы ни находилась. Она носит мое имя, потому что это — мой дом.
Моя лаборатория. Место, где всегда горит свет. Окон здесь нет, но они и не нужны: она полностью автономна, этакий маленький замкнутый мир. Только мой — и такой понятный, населенный лишь небольшим количеством знакомых между собой людей. Моя лаборатория — это место, где мои мысли живут на кончиках пальцев; где я всегда что-то делаю; где нахожусь в вечном движении: стою, хожу, сижу, приношу, держу, взбираюсь и ползаю на четвереньках. Моя лаборатория — место, где я не могу уснуть, потому что в мире столько вещей гораздо интереснее сна! Здесь всем важно, чтобы я не поранилась. На страже моей безопасности стоят многочисленные правила и предупреждения. Я дисциплинированно надеваю перчатки, очки и закрытые туфли — доспех, призванный уберечь от опасных ошибок. Только в лаборатории все мои нужды удовлетворены имеющимся. Шкафы забиты тем, что может однажды пригодиться; все, что здесь можно найти, — не важно, насколько оно маленькое или бесформенное, — попало сюда не просто так, пусть даже его предназначение пока и не установлено.
Именно здесь чувство вины за все, что я не успела сделать, уступает гордости за то, что я делаю. То, что я опять не позвонила родителям, не заплатила по кредиту, не вымыла тарелки и не побрила ноги, меркнет в сравнении с благородным научным порывом. В своей лаборатории я снова могу быть ребенком, играть с лучшим другом, смеяться и быть смешной — или же всю ночь работать над исследованием камня из незапамятных времен, потому что к утру мне нужно выяснить, из чего он сделан. Стоит повзрослеть, как на тебя сваливается множество непонятных и неприятных вещей: налоговые декларации, страховка на машину, цитологические мазки, — но все это не имеет значения, когда я работаю в лаборатории. Телефонов тут нет, поэтому я не мучаюсь оттого, что кто-то мне не звонит. Дверь заперта, и я знаю каждого, у кого есть ключ. У внешнего мира нет возможности проникнуть внутрь, а это означает, что здесь я наконец-то могу быть собой.
Моя лаборатория — как храм, где я понимаю, во что верю. Гул машин сливается в радостный гимн, стоит войти внутрь. Я знаю, кого могу встретить — и как они себя поведут. Будет тишина и будет музыка, время приветствовать друзей и время оставлять их наедине с собственными мыслями. Здесь жизнь подчинена определенным ритуалам; часть из них я понимаю, другие нет. В лаборатории царит мое лучшее «я», которое стремится справиться с любой задачей. Сюда приходят в особенные дни, как в церковь. По праздникам, когда весь остальной мир замирает, у меня открыто. Это островок безопасности и надежное убежище, пристанище на рабочем фронте, место, где можно спокойно осмотреть раны и подлатать доспехи. Я выросла в лаборатории — как и в церкви, — поэтому они навсегда со мной.
Лаборатория — это и место, где я пишу. С годами я далеко продвинулась в том редком прозаическом жанре, который подразумевает сжатие результатов десятилетней работы пяти человек до шести страниц научной публикации, написанной на языке, который мало кто понимает и на котором никто не говорит. Статья описывает детали моей работы с точностью лазерного скальпеля, но ее утонченная красота — своего рода подделка, манекен нулевого размера, призванный продемонстрировать великолепие платья, которое на живом человеке обречено смотреться гораздо хуже. В этих публикациях нет сотен необходимых сносок или таблиц с данными, которые пришлось месяцами переделывать после того, как готовившая их студентка магистратуры внезапно уволилась, бормоча по дороге к двери, что не желала бы моей жизни. Один из параграфов я писала пять часов: в самолете по дороге на похороны, в реальность которых не могла поверить. Даже черновик этой статьи благодаря моему ребенку был исчеркан цветными карандашами и заляпан яблочным пюре еще до того, как на нем просохла после печати краска.
Пусть в моих научных публикациях скрупулезно рассказано о растениях, когда-то покрывавших Землю, экспериментах, прошедших как по маслу, и подтвержденных данных, они преступно умалчивают о других важных вещах. Например, о целых садах, превратившихся в перегной, плесень и труху; электрических сигналах, которые никак не хотели стабилизироваться, и картриджах для принтера, которые мы реанимировали в ночи самыми зверскими методами. Я с удручающей ясностью сознаю: будь на свете способ добиться успеха, минуя стадию отчаяния, кто-нибудь уже непременно сделал бы это, упразднив необходимость экспериментов, — но журнала, в который я могла бы написать о том, как моя наука создается и руками, и сердцем, по-прежнему не существует.
Неизбежно наступает утро: восемь часов. Пора менять реактивы, выписывать чеки, покупать билеты на самолет. Я опускаю голову и заполняю очередной научный отчет, пока в горле комом копятся невысказанные боль, гордость, сожаление, страх, любовь и тоска. Двадцать лет работы в лаборатории подарили мне две истории: ту, которую я должна написать, и ту, которую я бы написать хотела.
Наука так глубоко убеждена в собственной ценности, что ей невыносима идея выбрасывать какой бы то ни было хлам. Это утверждение справедливо даже для моего отца и его логарифмических линеек, аккуратно сложенных в хранящуюся в подвале коробку с наклейкой «Линейка логарифмическая стандартная [25 см] 30 центов». Их тридцать: именно столько необходимо, чтобы у каждого студента была своя; ученые могут позволить себе многое, но никогда не делятся инструментами. Эти древние линейки уже никогда никому не понадобятся: они безнадежно устарели и были вытеснены сначала калькуляторами, потом компьютерами, а с некоторых пор — телефонами. На коробке нет имени, только карточка с описанием содержимого. Помнится, я смотрела на нее и по какой-то неведомой причине мечтала, чтобы на ярлычке отец написал мое имя. Но эти линейки никому не принадлежали — они просто были. И уж конечно, они никогда не принадлежали мне.
* * *
В 2009-м мне исполнилось сорок. К тому моменту я уже четырнадцать лет была профессором. В том же году нам удалось совершить прорыв в химии изотопов и построить аппарат, который мог работать бок о бок с нашим масс-спектрометром.
Возможно, у вас в ванной стоят весы, достаточно точные, чтобы отличить человека массой 80 килограммов от человека массой 83 килограмма. У меня же есть прибор, позволяющий отличить атом с двенадцатью нуклонами от атома с тринадцатью нуклонами. Более того, у меня таких приборов два. Именно они называются масс-спектрометрами; каждый стоит полмиллиона долларов. Университет купил их для меня в явной надежде, что теперь я смогу делать удивительные и невозможные ранее вещи, которые только укрепят нашу научную репутацию.
Согласно моим весьма грубым подсчетам, отныне и до самой смерти я должна буду совершать примерно четыре невозможных открытия в год, чтобы хоть как-то рассчитаться с университетом. Ситуация осложняется тем, что деньги на все остальное — реактивы, мерные стаканчики, листы для заметок, тряпочки для полировки масс-спектрометра — я должна доставать сама. Делается это с помощью письменных или устных запросов в федеральные или частные фонды, которые в масштабах страны стремительно иссякают. Но это еще не самая большая проблема: зарплата всех сотрудников лаборатории (кроме меня) должна обеспечиваться так же. Было бы здорово гарантировать стабильность дольше чем на полгода сотруднику, который пожертвовал всем ради науки и трудится восемьдесят часов в неделю, — но ученые, увы, живут в совершенно ином мире. Если вы читаете это и хотите нас поддержать, пожалуйста, позвоните. И да, было бы безумием не включить это предложение в текст.
К 2009-му я и моя команда уже три года работали над созданием аппарата, который мог бы выделять оксид азота из газов, высвобождающихся в результате детонации самодельной взрывчатки. Готовый аппарат мы закрепили бы на переднем конце масс-спектрометра, который и произведет необходимые измерения. Таким образом, мы надеялись предложить новый метод криминалистической экспертизы химических последствий террористической атаки, поскольку число нейтронов в каждой субстанции уникально — как и отпечаток пальца. Идея была в том, чтобы сравнить и, возможно, связать химический отпечаток того, что осталось после взрыва, с химическими веществами, найденными на поверхностях, где взрывчатку собирали: например, на кухонном столе.
В 2007-м нам повезло продать эту мысль Национальному научному фонду: тогда как раз были обнародованы данные о том, что больше половины смертей в Афганистане — результат детонации самодельных взрывных устройств. Проект выиграл внушительный грант — я никогда не видела цифру с таким количеством нулей. Конечно, мне хотелось изучать рост растений, но наука войны всегда оплачивалась лучше, чем наука просвещения. Мой коварный план заключался в том, что сорок часов в неделю лаборатория посвятит исследованию взрывчатки, а оставшиеся сорок будет тайно ставить собственные эксперименты в биологии растений.
Этот подход незамедлительно дал свои плоды в виде смертельно уставших сотрудников, впадавших в отчаяние от каждой почти-неудачи или обычной задержки. Химическая реакция, над которой мы работали, оказалась мудреной и требовала усилий. Извлечь азот из продуктов взрыва не составляло труда, но преобразовать присоединенный к нему кислород было гораздо сложнее, чем мы предполагали. Проблема возникла и с тем, чтобы в процессе отслеживать нейтроны. Мы анализировали разные вещества, но стоило им оказаться в масс-спектрометре, как выборка результатов оказывалась практически идентичной. Это сводило с ума. Если бы эксперимент ставился на человеке, это было бы все равно что показывать ему зеленый или красный фонарь и каждый раз слышать «зеленый» — независимо от того, какой фонарь горит на самом деле.
Вопрос: когда вы выставите сбитый с толку предмет исследований за дверь и начнете сначала, на этот раз с другим испытуемым? Правильный ответ — если вы упрямы так же, как я, — «никогда». Мы начали работать медленнее и осторожнее в надежде исключить неточности, которые могли быть результатом небрежности и не создали бы проблем в эксперименте более отлаженном. Вскоре выяснилось, что на выполнение задач, по прогнозам занимающих не более двух часов, на деле требуется четыре дня (а на правильное выполнение — все восемь). И вот эти лабораторные изыскания нужно было втискивать между ежедневным поливом, удобрением и отслеживанием роста доброй сотни растений.
Я навсегда запомню вечер, когда наш анализатор взрывчатых веществ наконец синхронизировался с масс-спектрометром и тот начал выдавать положенные нормированные значения. Это был типичный вечер воскресенья — тот поздний час, когда тебя уже начинает преследовать предчувствие неотвратимого понедельника. Я, как всегда, была погружена в наши финансы. Проект близился к завершению, и можно было точно предсказать день, когда финансирование иссякнет окончательно. Сидя в офисе, я изучала цены на реактивы и колдовала над центами, пытаясь превратить их в доллары, — но все мои усилия лишь отсрочивали неизбежное банкротство не более чем на несколько месяцев.
Тут дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Билл, мой партнер по лаборатории. Рухнув в сломанное кресло, он швырнул на стол какие-то бумаги.
— Теперь я готов это сказать. Чертов агрегат работает, и притом отменно! — провозгласил он.
Полистав пачку принесенных им выборок, я без особенного удивления отметила, что теперь различные газы дают различные — и точные — значения. Обычно я объявляю эксперимент успешным задолго до того, как это признает Билл. Он же рвется провести еще один комплекс испытаний и еще одну калибровку, прежде чем заявить об окончательной победе.
Мы обменялись улыбками, зная, что справились — снова. Весь этот проект был яркой иллюстрацией тому, как строится наша совместная работа. Сначала я возвожу воздушный замок и украшаю его, пока он не становится категорически недостижимым; потом составляю бизнес-план и продаю его правительственным органам; затем закупаю сырье и вываливаю все материалы Биллу на стол. Наступает его черед брать все в руки и строить первый, второй и третий прототип, не переставая клеймить идею как несбыточную. К пятой сборке его детище начинает выглядеть многообещающе, к седьмой оно уже работает (если включать его, надев голубую рубашку и повернувшись лицом к востоку), а мы начинаем чувствовать приближение успеха.
С этого момента проект вступает в фазу, когда я тружусь в лаборатории днем, а он — ночью. Мы бесконечно обмениваемся твитами, SMS и сообщениями в Facebook, обсуждая мельчайшие детали полученных результатов, пока наш личный монстр не начинает демонстрировать точность и аккуратность, доступные разве что зингеровской швейной машинке моей бабушки. Потом Билл проводит еще одно испытание батарей — хотя лучше парочку, а еще лучше три, — и вот тогда все наконец готово. Здесь снова подключаюсь я: нужно провести ревизию процесса, сочинить историю о том, как мы в два счета заставили наше детище работать, и дать инвесторам понять, насколько это будет удачное вложение средств. Каждый новый фискальный год цикл повторяется, причем мы ставим перед собой все более амбициозные цели, достижение которых имеющийся бюджет покроет едва ли наполовину — и то если мы потуже затянем пояса.
Трудно придумать что-то более невинное, чем финальный массив честно собранных и интерпретированных данных, — и все же, суммируя их, мы с Биллом каждый раз чувствуем себя Бонни и Клайдом, которым снова удалось выйти сухими из воды. Вот тебе, вселенная!
В тот вечер я торжествующе воздела руки к потолку, а потом запустила пальцы в спутанные волосы, пытаясь массажем заставить работать извилины в мозгу — эта привычка осталась у меня с магистратуры.
— Знаешь, мы с тобой уже не в том возрасте, чтобы проводить тут все вечера. — Покосившись на часы, я поняла, что мой сынишка давно уснул, не дождавшись матери.
— Как назовем аппарат? — Биллу, все еще окрыленному успехом, не терпелось придумать новому прибору забавное имя, которое затем превратится в еще более забавную аббревиатуру. — Думаю, можно окрестить его «КОТ», если взять за основу реакцию диспропорционирования, катализируемую никелевым катализатором.
Ни один писатель в мире не относится к словам так трепетно, как ученые. Терминология — наше все: мы качественно определяем объекты, опираясь на устоявшиеся названия, описываем их общепризнанными терминами, изучаем каждый по-своему, а потом пишем о них с помощью кода, на освоение которого уходят годы. Фиксируя свои достижения, мы «выдвигаем гипотезы», но никогда не «предполагаем»; «делаем выводы», а не «заключаем» просто так. Слово «важный» представляется нам слишком неточным, а потому бессмысленным — но, если к нему добавить «исключительно», это может принести дополнительные полмиллиона финансирования.
Право ученого назвать новый вид, минерал, атомную частицу, состав или галактику расценивается как величайшая честь и наиболее почетная обязанность, стремиться к которым должен каждый. В любой научной отрасли существуют строгие правила и традиции присвоения имен. Хотите попробовать? Начнем со сбора и анализа всех данных о вашем открытии. Добавим к ним щепотку информации о мире, в котором вы живете. Возьмем только самое запоминающееся — из него предстоит выбрать то, что вызывает у вас улыбку и служит отсылкой одновременно к вечному и скоротечному. Теперь окрестите свое детище и продолжайте верить (вопреки доводам здравого смысла), что хоть часть придуманного вами неуклюжего названия сохранится в веках.
Однако в ту ночь мой мозг успешно притворялся мертвым — лишь бы не принимать участия в лексических экзерсисах. По правде говоря, мне хотелось только добраться до дома и упасть спать.
— Можем назвать его «четыре миллиона восемьдесят тысяч долларов налогоплательщиков», потому что именно столько мы потратили на чертову штуковину, — фыркнула я, обращаясь скорее к распечаткам с бюджетом лаборатории, которые никак не желали идти на мировую. В данный момент предстояло решить, кого, черт возьми, просить о деньгах после того, как мы закончим работу над этим проектом. За прошедший год мы исчерпали все свои обычные ресурсы, а денежные вливания со стороны правительственных организаций почти иссякли. Хоть мне и нравится работа ученого, все же нужно признать: я устала от необходимости решать проблемы, которые к сегодняшнему дню и проблемами-то не должны быть.
Билл понаблюдал за мной еще пару секунд, потом хлопнул себя по коленям и поднялся на ноги:
— Пожалуй, обойдемся без названия, я просто нацарапаю на нем твою фамилию. Этого будет достаточно.
Наши взгляды встретились, и каждый увидел в глазах другого отражение тех пятнадцати лет, что мы провели за совместной работой. Я кивнула, пытаясь найти правильные слова благодарности, но Билл уже развернулся и вышел из кабинета.
Его сильные стороны компенсируют мои слабости; вместе мы — полноценная личность, обе половинки которой получают часть необходимого из окружающего мира, а часть — от партнера. В тот вечер я вновь дала себе мысленную клятву во что бы то ни стало найти финансирование и обеспечить Биллу достойную зарплату. Как и раньше, я просто обязана была найти выход, потому что где-то в соседней комнате он одновременно со мной сейчас включит радио (пусть и настроенное на другую волну) и вернется к работе — точно так же чувствуя, что не одинок.
2
Как и у большинства людей, у меня было «свое» дерево, воспоминание о котором живо еще с детских времен, — голубая ель (Picea pungens), вызывающе зеленая даже в долгие и тоскливые зимние месяцы. Помню, как яростно она топорщила острые иголки, защищаясь от белого снега и серого неба, — идеальная модель для взращиваемого во мне стоицизма. Летом я обнимала ее, лазила по веткам и вела долгие беседы, воображая, будто ель знает обо мне все. Еще мне нравилось считать себя невидимкой, когда я пряталась под нижними ее лапами и наблюдала за муравьями, которые таскали туда-сюда опавшие иглы, — вылитые грешники в одном из кругов ада. Став старше, я узнала, что ель меня не замечала; мне объяснили также, как она получает пищу из воздуха и воды. Забираясь на нее, я в лучшем случае создавала небольшую вибрацию ствола, а сломанные ветки доставляли моей подруге не больше неприятностей, чем мне самой — вырванный волосок. В остальном же ничего не изменилось: еще несколько лет я спала в трех метрах от этой ели, отделенная от древесной подружки одним оконным стеклом. Лишь позже, уехав в колледж, я постепенно оставила позади и ее, и свое детство.
С той поры прошло немало лет. Я узнала, что мое дерево когда-то тоже было ребенком. Зародыш, из которого оно выросло, годами лежал на земле, рискуя либо прождать слишком долго, либо, наоборот, слишком рано покинуть семя. Любая ошибка привела бы его к гибели в утробе кипящего мира, который не прощает промахов и даже самый крепкий лист за пару дней превращает в перегной. Мое дерево было и подростком — оно пережило десять лет бурного роста без оглядки на будущее. Между десятью и двадцатью годами оно вытянулось вдвое и часто болело, готовясь к новым испытаниям и ответственности, которая приходит с такой высотой. Оно силилось не ударить в грязь лицом перед старшими товарищами — и то и дело затыкало их за пояс, нагло захватывая случайный клочок солнечного света. Сосредоточившись на росте, оно не могло породить семена, но уже было готово к появлению нужных гормонов. Свой год оно проводило так же, как и любой другой подросток: резко пускалось в рост весной, выпускало к лету новые иголки, осенью простирало вширь корни и неохотно вступало в скучную зимнюю пору.
С точки зрения подростка, взрослые деревья влачат существование столь же бессмысленное, сколь и долгое. В ближайшие пятьдесят, восемьдесят, возможно, даже сто лет — никаких развлечений, кроме попыток не упасть, непрерывного тяжелого труда (а как еще назвать необходимость отращивать по утрам новые иголки вместо опавших?) и еженощного выключения энзимов. Больше никаких выбросов питательных веществ, сигнализирующих о захвате новых подземных территорий, — разве что надежный и изрядно потрепанный центральный корень уныло доползет наконец до появившихся прошлой зимой трещин. Взрослые деревья каждый год становятся чуть толще, но ничем, кроме новых годичных колец, больше похвастать не могут. С трудом добытые жизненные соки бродят в их ветвях, лениво раскачивающихся над головами вечно голодного молодняка. Благоприятное соседство, богатая водой и всем необходимым почва и, главное, много света — вот идеальные условия для того, чтобы дерево полностью реализовало свой потенциал. В условиях менее подходящих им не суждено достичь даже половины высоты своих более удачливых сородичей. Никакого бурного подросткового роста, только выживание.
За восемьдесят с чем-то лет мое дерево наверняка несколько раз болело. Убежать от лавины животных и насекомых, с энтузиазмом пытающихся превратить его если не в убежище, то в еду, оно не могло — а потому научилось защищаться. В арсенале его были острые колючки и ядовитый сок. Самому большому риску подвергались корни — уязвимые, плотно укутанные покрывалом из перегноя. Защита была хороша, но за нее пришлось заплатить ресурсами, которые могли пригодиться для целей более приятных. Каждая капля сока — так и не родившееся семечко. Каждая колючка — лист, не увидевший свет.
В 2013-м моя ель совершила ужасную ошибку. Решив, что зима закончилась, она расправила ветви и выпустила множество новых сочных иголочек, готовясь приветствовать лето. Но май пришел с небывалой весенней пургой; снега за выходные выпало очень много. Обычно для хвойных деревьев метель не страшна — но когда к весу новых побегов добавился вес снега, ветви не выдержали: сначала погнулись, а затем сломались, оставив лишь голый ствол. Мою бедную ель подвергли эвтаназии: родители срубили ее и выкорчевали корни. Я узнала об этом много месяцев спустя из телефонного разговора в разгар солнечного дня. Нас разделяло больше шести тысяч километров; там, где я теперь жила, снега не было вовсе. Какова ирония: стоило мне полностью осознать, насколько живым было дерево моего детства, как оно погибло. Однако гораздо важнее, что оно было не просто живым — у него была биография, так похожая на мою и так от моей отличавшаяся, свои поворотные моменты сюжета. Мое дерево сполна использовало отведенное ему время, и это время изменило его.
То же самое время изменило и меня, мое восприятие детского образа дерева и мое восприятие восприятия елью самой себя. Наука дала мне понять: все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, и именно радость открытия — ключ к тому, чтобы прожить счастливую жизнь. Еще я узнала, что единственный способ сохранить воспоминания — это скрупулезно фиксировать происходящее. Если не делать этого, все, что когда-то было, а сейчас исчезло, окажется забыто. Даже мое любимое дерево, которое должно было пережить меня, но не смогло.
3
Семена умеют ждать. Большинству из них приходится откладывать свой рост минимум на год, а для вишневой косточки и отсрочка в сотню лет — не проблема. Чего именно ждет каждое конкретное семечко, известно только ему самому. Убедить его пойти на риск и пустить первые ростки может только уникальное сочетание нужной температуры, влажности и света, а также множества других факторов. Все это — ради единственной попытки вырасти.
Но даже в своем ожидании семена живы. Желудь, лежащий на земле, и возвышающийся над ним трехсотлетний дуб — одинаково живые. Оба они не растут — только ждут: один — полного расцвета, второй — грядущей смерти. Вы входите в лес и поднимаете голову, поражаясь колышущимся в поднебесье кронам: они так высоко, что вам никогда не дотянуться. Под ноги вы, скорее всего, не смотрите; а ведь именно там, под вашей подошвой, прячутся сотни семян — живых и ждущих. Вопреки здравому смыслу, они надеются на единственный шанс, который может и не выпасть на их долю. Больше половины из них умрет, так и не дождавшись. Пройдет еще много лет, умрет еще множество семян. Их гибель не имеет значения: любая береза, укрывающая вас своей сенью, из года в год порождает еще четверть миллиона новых семян. На каждое дерево, что вы видите в лесу, приходится как минимум сотня других — спрятанных в земле, живых и всем своим существом стремящихся быть.
Семена кокоса — размером с человеческую голову. Они могут пересечь Атлантический океан, упав в воду возле побережья Африки, чтобы прорасти на острове Карибского архипелага. По сравнению с ними семена орхидеи совсем крошечные: миллион весит примерно как канцелярская скрепка. Но любое из них, маленькое или большое, — это лишь питательная среда, призванная сохранить зародыш: набор из нескольких сотен клеток, рабочий проект настоящего растения со сформированными корнями и побегами.
Внутри семени ожидающий развития зародыш сложен вдвое; но стоит ему пойти в рост, как он распрямляется, принимая ту форму, которая была заложена в него много лет назад. Твердая оболочка персиковой косточки, семени кунжута или горчицы, скорлупа ореха — это всего лишь способ удержать его внутри. У себя в лаборатории мы избавляемся от этих оков, добавив немного воды — этого всегда достаточно. Почти каждое семя тут же начинает расти. Как заправский Щелкунчик, я расколола сотни скорлупок и все же каждый раз с изумлением смотрю по утрам на зеленые ростки. Множество сложных вещей оказываются поразительно простыми, когда есть кто-то, кто тебе помогает. В правильном месте и в нужных условиях мы прорастаем, становясь тем, чем нас задумала Природа.
Однажды ученые решили вырастить цветок лотоса (Nelumbo nucifera). Когда вскрытую ими оболочку семени подвергли радиоуглеродному анализу, оказалось, что зародыш внутри провел в торфяном болоте в Китае целых две тысячи лет. Все это время внутри его теплилась надежда на будущее, а кругом зарождались и исчезали цивилизации. И наконец долгое ожидание маленького цветка было вознаграждено — он смог пустить корни в лаборатории. Интересно, где он цветет сейчас.
Каждое новое начало — это финал долгого ожидания. У каждого из нас есть только один шанс стать собой. Каждый из нас одновременно невозможен и неизбежен. Каждое могучее дерево когда-то было семечком, которое умело ждать.
4
Первый эксперимент, поставленный не в рамках рутинных лабораторных занятий, я провела, когда мне было девятнадцать. И все ради денег.
За время учебы в Университете Миннесоты я сменила не меньше десяти подработок. Проведя в Миннеаполисе в общей сложности четыре года, я работала по двадцать часов в неделю (в каникулы это время увеличивалось), чтобы жить не только на стипендию. В моем послужном списке можно найти должность корректора в университетской газете, секретаря декана факультета сельского хозяйства, оператора программы удаленного обучения и техника, который полирует предметные стекла. Я давала уроки плавания, собирала библиотечные книги и сопровождала богатых посетителей к их местам в Аудитории Нортропа. Но все это меркнет по сравнению с моими рабочими буднями в больничной аптеке.
Устроиться в университетский госпиталь мне помогла одногруппница из класса по химии, которая сама там работала. По ее словам, в аптеке хорошо платили да к тому же позволяли брать две восьмичасовые смены подряд, получая благодаря этому сверхурочные за вторую смену. Ее начальник взял меня по знакомству, посвятив изучению моей характеристики обескураживающе мало времени; вскоре я уже оказалась счастливой обладательницей двух комплектов бирюзовой формы.
На следующий день после занятий я впервые отправилась на новую работу, а в два тридцать уже была готова заступить на смену с трех до одиннадцати. Трудиться мне предстояло на цокольном этаже больницы — в главной аптеке, где хранились, сортировались и отслеживались все лекарства, когда-либо выданные пациентам. Это была огромная, полностью самостоятельная организация с собственной стойкой информации, погрузочной площадкой, несколькими комнатами для хранения и локерными холодильниками с разной температурой. Все эти помещения окружали находившуюся в центре гигантскую открытую лабораторию — размером, как мне тогда казалось, с ангар. Здесь всегда толклось множество людей, которые смешивали индивидуальные препараты, необходимые для комплексного лечения. Помощник провизора объяснил, что свою карьеру мне предстоит начать с должности курьера: по требованию доставлять внутривенные болеутоляющие на посты медсестер.
В те времена врач запрашивал необходимое лекарство через бумажную форму, которую лично приносил в аптеку. После этого в лаборатории брали нужное болеутоляющее и впрыскивали крошечную дозу в маленький пакет с жидкостью, который немедленно обрастал целым облаком различных документов. Каждый раз, когда этот пакет переходил от одного работника к другому, на всех бумагах нужно было ставить штамп с датой и временем получения и подписью. Точная формула лекарства и его количество дважды проверялись провизором со степенью доктора фармакологии (аналог доктора медицины в данной области), после чего пакет наконец передавался курьеру. Тот ставил на нем свою подпись, добирался до нужного поста и вручал груз медсестре, следившей за пациентом. Еще одна подпись — и страдающий все-таки получал лечение.
Передав необходимое лекарство, курьер должен был проверить ящик с исходящими запросами от других докторов. Обнаружив в нем новые заявки, он отправлялся с ними обратно в лабораторию. Тот факт, что, несмотря на срочность, один из этапов этого квеста требовал моей подписи, порождал отдельную фантастическую вселенную, в которой я мимоходом облегчала страдания, спасала души и прославляла жизнь в целом. Мне, как и любой девушке, получившей «отлично» за курс научных дисциплин, советовали пойти на факультет медицины — и я даже начала рассматривать эту возможность, вопреки всему надеясь получить бóльшую стипендию на обучение.
Работа курьера позволяла обойти все помещения больницы и многое узнать об особенностях каждого поста медсестер, пусть даже изрядная часть маршрутов и сводилась к хорошо известной дороге из лаборатории в отделение хосписа. Я научилась выполнять свои обязанности, часами общаясь с людьми только при помощи взгляда и подписи на документах. Кругом были толпы, горел яркий свет и шумели механизмы, но я оставалась в полной изоляции; остальной мир тревожил меня не больше, чем звук собственного дыхания.
Я обнаружила также, что можно настроить подсознание на обработку определенной задачи, в то время как сознание занято исполнением служебных ритуалов. Еще во время собеседования я то и дело с тоской поглядывала на главную лабораторию, где усердно трудились специалисты. Они забирали и вводили пробы, внимательно изучали содержимое флаконов, распаковывали стерильные пробирки. На мой вопрос, чем они заняты, провизор ответила: «В основном готовят антиаритмики и препараты для лечения инфаркта».
На следующее утро я сообщила своему преподавателю английской литературы, что собираюсь писать курсовую по теме «Использование и символизм слова "сердце" в романе "Дэвид Копперфилд"». Однако подъем, который я при этом испытала, быстро сошел на нет, стоило мне пролистать книгу в попытках вычленить все случаи использования слов «сердце», «сердечный», «сердобольный» и им подобных, которых там оказались сотни только в первых десяти главах. Тогда я решила посвятить свое исследование лишь наиболее значимым употреблениям — но и этот подход поставил меня в тупик на тридцать восьмой главе и следующей цитате: «Но я не могу описать, как в сокровенных глубинах моего сердца я тайно ревновал даже к Смерти»[1]. Я все думала и думала об этих словах, но так и не смогла ни к чему прийти, а в два часа наступило время отправляться на работу.
В тот вечер мне пришлось ходить до отделения хосписа и обратно раз десять или даже двадцать. Руки выполняли необходимое, глаза вели меня. Было уже довольно поздно, когда где-то в моем мозгу зародилась мысль: нам, работникам больницы, платят за то, чтобы следовать за Смертью, пока та сопровождает хрупкие, измученные тела, преодолевающие самые тяжелые километры, и тащит за собой тех, кто их до сих пор любит. Моя работа заключалась в том, чтобы встречать эту группу странников на перевалочных станциях и обеспечивать их свежими припасами в дорогу. Стоило усталым путникам скрыться за горизонтом, мы поворачивались к ним спиной, готовясь принять следующую измученную семью.
Ни доктора, ни медсестры, ни я никогда не плакали: перепуганные мужья и убитые горем дочери проливали достаточно слез за всех нас. Беспомощные перед всепоглощающей силой Смерти, мы все равно склонялись над пробирками в аптеке, вводили 20 миллилитров облегчения в резервуар слез, снова и снова благословляли его, а потом несли, словно ребенка, в хоспис и предлагали в дар. Лекарство вливалось в ослабевшую вену, родственники придвигались ближе, и океан их боли хотя бы на время уменьшался. Когда смена закончилась, я обнаружила, что страница льется из меня за страницей — в то время как раньше сидение перед монитором показывало себя занятием абсолютно бесполезным. Я запоминала сложные отрывки, а потом позволяла подсознанию корпеть над их осмыслением, пока тело трудилось в больнице.
На протяжении восьмичасовой смены каждому работнику полагалось брать три двадцатиминутных перерыва. Для курьеров это означало необходимость согласовывать графики, чтобы все не отдыхали одновременно. Это правило научило меня соизмерять продолжительность и глубину погружения в собственные мысли. Так я взяла под контроль умение возвращаться в реальный мир. Я могла часами действовать на автоматизме, затем «включаться» на двадцать минут и снова возвращаться в режим автопилота так же легко, как если бы переливала воду из одного полупустого ведра в другое.
Отведенное на отдых время я проводила в крошечных внутренних дворах среди больничных корпусов, наслаждаясь роскошью естественного света и некондиционированного воздуха. Однажды утром я лежала на траве, задрав ноги, и считала окурки, ожидая, пока кровь снова прильет к верхней части тела. «Утреннее солнце позлащало коньки крыши и окна с частым переплетом, и знакомый мне мир и покой словно коснулись своими лучами моего сердца», — процитировала я наизусть пятьдесят вторую главу и тут заметила, как моя руководительница заглядывает во двор, чтобы кивком позвать внутрь. На секунду я испугалась, что потеряла счет времени, но часы заверили: до окончания перерыва еще пять минут. В лаборатории выяснилось, что вместе с ней меня ждет и старший фармацевт, причем оба выглядели очень серьезными.
— Почему ты выносишь препараты не через главную дверь?
— Потому что пользуюсь запасной лестницей.
— Но по ней нельзя попасть в переход, который ведет к хоспису, — возразила моя руководительница.
— Можно, если идти через погрузочную площадку кафетерия.
— И лифтом ты не пользуешься? — Старший фармацевт был явно удивлен.
— Ну да, чтобы не ждать лишний раз. Я засекала время, так правда быстрее. А там, наверху, кто-то ведь ждет и мучается от боли.
Мои кураторы переглянулись, закатили глаза и вернулись к своим делам.
Я была не до конца откровенна, когда сказала, что мной движет только желание быстрее разносить препараты. На самом деле мне необходимо было двигаться, чтобы сжигать бесконечную энергию, которая кипела внутри меня в том возрасте. Случалось, она накатывала такими мощными волнами, что даже мешала спать. Работа в больнице давала мне место, где я могла получать деньги, дело, которое нуждалось в исполнении, и повторяющиеся задания, которые позволяли держать мысли в узде.
Ближе к концу дневной смены обычно выяснялось, что один из ночных курьеров приболел и не выйдет на работу. Это давало мне возможность отработать дополнительные часы, если уже было ясно, что уснуть все равно не удастся. Рано или поздно я приползала домой — не всегда сонная, но хотя бы измотанная и притом обогатившаяся на целый зарплатный чек. Цитируя главу десятую, «ракушки и камушки на морском берегу… осеняли мое сердце покоем». К тому же я делала что-то важное (или по крайней мере верила в это).
Однажды днем — где-то спустя месяц после того разговора о маршрутах доставки — старший фармацевт, завидев меня, крикнула: «Лидия, она пришла!» Обернувшись ко мне, она пояснила: «Лидия научит тебя готовить пакеты». Так закончилась моя карьера на посту курьера. Лидия поднялась с места и покосилась на начальницу. На лице ее не отражалось особенной радости по поводу моего повышения, но я нутром чуяла: эти уроки лишь временное препятствие, которое необходимо преодолеть на пути к существенной прибавке к зарплате.
— Сходи и забери выгрузку! — сипло скомандовала Лидия — больше для того, чтобы позлить старшего фармацевта. Меня же охватило возбуждение, и «сердце… екнуло, предвкушая еще одно удовольствие» (цитируя двадцатую главу). Теперь мне не придется разносить внутривенные препараты — я буду их готовить и передавать кому-то другому, чтобы тот все проверил и отправил по назначению. В голове мигом закрутились яркие картинки: вот я сижу у собственного рабочего стола и подгоняю под свой рост табурет, а вот с важным видом шествую к столу с заготовками или уверенно выбираю флакон с концентратом вещества — как выбирает один из многочисленных лаков для ногтей богачка, собираясь сделать маникюр. Я уже видела, как занимаю место, выпрямляю спину, расправляю плечи и начинаю творить волшебство: уверенно и быстро, потому что, в конце концов, от этого зависит чья-то жизнь.
— Возьми-ка это и собери волосы, — прервала мои грезы Лидия, помахав передо мной аптечной резинкой. — И привыкай ходить без макияжа. Ты-то, наверное, уже решила, что я всегда так кошмарно выгляжу? — продолжила она с невеселой улыбкой.
Распущенные волосы, лак для ногтей, украшения — все это в аптеке запрещено. Любая чуждая поверхность может стать источником заражения, поэтому я тоже начала придерживаться того слегка измотанного «естественного стиля», который часто присущ сотрудникам больницы. Ему я следую и по сей день.
Наш кадровый резерв состоял наполовину из студентов программ предпрофессиональной подготовки, а наполовину из специалистов, однако я не могла отнести себя ни к тем, ни к другим. Как и прочие студенты, я ходила на занятия и сдавала экзамены, а со специалистами меня роднило то, что я работала как проклятая — просто потому, что мне нужно было свое место. Лидию же в лаборатории называли «пожизненный сотрудник»: она пришла сюда задолго до нас всех. Пока я собирала рюкзак, она предупредила старшего фармацевта, что собирается начать с объяснения мне разницы между препаратами, которые хранились на складе в соответствии с химическими формулами. Однако, когда мы прошли мимо склада и направились во внутренний двор, я не особенно удивилась.
Лидию мы знали благодаря двум особенностям: тому, как она использовала свои перерывы, и тому, как работала после них. В первые же полтора часа смены она брала сразу все позволенные нам двадцатиминутные передышки и отправлялась выкуривать те три пачки сигарет, которые теоретически выкурила бы за следующие восемь часов. Выкурить шестьдесят сигарет за шестьдесят минут — задача, требующая особого уровня концентрации. Так что, хотя найти Лидию во дворе не составляло труда, поговорить с ней в это время у вас все равно не вышло бы: данное занятие поглощало ее полностью. В последующий час она демонстрировала исключительное внимание и высокую производительность — а вот через пять часов ее разумнее было обходить по широкой дуге, поскольку любая мелочь выводила ее из себя. В заключительные двадцать минут смены даже фармацевты избегали сталкиваться с Лидией, пока она сидела на своем месте, сжимая в трясущихся руках иглу и неотрывно глядя на часы.
Это могло показаться странным, но тех, кто заканчивал вечернюю смену вместе с ней, Лидия настойчиво предлагала подбросить домой. Единственное объяснение ее внезапного великодушия, которого нам удалось добиться, сводилось к бессвязному бормотанию про «чертовых маньяков». Мне тяжело было представить себе маньяков, в одиннадцать вечера караулящих возле госпиталя стайку усталых студенток-медсестер, учитывая двадцатиградусный мороз на улице. Однако в этой части страны январские вечера не располагали к отказу от поездки на машине — по какой бы то ни было причине.
Выскочив из насквозь прокуренного салона Лидии, по концентрации дыма напоминавшего газовую камеру, нужно было сразу на пороге сбрасывать униформу — иначе вся квартира немедленно пропитывалась вонью сигарет, превращалась в зал шахтерских собраний и оставалась им, пока запах не выветривался. Лидия все это время ждала в машине: она не уезжала, пока не зайдешь в квартиру и не мигнешь ей лампочкой. «Включи и выключи свет несколько раз, если кому-то внутри нужно оторвать яйца», — инструктировала она нас.
«Нет, она не заменила мне мать, этого никто не смог бы сделать, но она заполнила пустоту в моем сердце», — вспомнила я отрывок из четвертой главы и улыбнулась самой себе.
Тогда, в первый час моей работы в аптечной лаборатории, мы с Лидией вышли во двор и сели на металлические стулья возле одного из столиков. Она достала из-за отворота носка пачку Winston Lights и трижды постучала ею о ребро ладони. Затем передала мне, а сама прикурила от общей зажигалки, свисавшей на цепочке с ветки маленькой березы, которая выживала среди цемента. Закинув ноги на стол, Лидия закрыла глаза и глубоко затянулась. Я не курила, а потому начала забавляться с пачкой ее сигарет, вываливая их в руку и ссыпая обратно.
Лидия казалась мне тогда древней — значит, было ей около тридцати пяти. Судя по ее поведению, как минимум тридцать четыре из них были непростыми. Я также подозревала, что ей не везло в любви: будь она замужем, идеально вписалась бы в когорту тех женщин, которые сидят на кухне с чашкой джина в руках, ожидая возвращения детей из школы. В тридцать шестой главе этот образ был сформулирован куда точнее, чем удалось бы мне: «Она напоминала хищного зверя в неволе, который, снедаемый безысходной тоской в сердце, влачит свою цепь все по одной и той же тропе».
Лидия, как ни странно, заинтересовалась мной и спросила, откуда я родом. Услышав название города, она заметила: «Ага, знаю такой. Это тот, где огромная свинобойня. С ума сойти, да ты выбралась прямо из подмышки Среднего Запада». Я только пожала плечами. «Что ж, есть только одно место хуже, и это та замерзшая дыра, где выросла я», — подытожила Лидия. Бросив на землю тлеющий окурок, она посмотрела на часы и зажгла следующую сигарету.
Следующие пять минут прошли в тишине. Наконец она вздохнула и спросила: «Хочешь вернуться?» Я снова пожала плечами, и мы обе поднялись на ноги. «Просто повторяй за мной, ясно? Я буду все делать медленно, ты справишься», — сказала Лидия, и на этом моя подготовка к работе фармацевтом закончилась. Я все еще не вполне понимала, как готовить стерильный препарат, который можно вводить в вену безнадежного больного, но, видимо, в этом мне предстояло разобраться по ходу дела.
Способ оказался не из худших: сидя рядом с Лидией, я аккуратно копировала все ее движения. Техника стерильного смешивания больше напоминала танец рук, чем изготовление чего-то. Нужно помнить, что в окружающем воздухе — как на улице, так и в помещении — витает множество крошечных организмов, которые с радостью напали бы на наши внутренности. Обычно они нас не беспокоят, потому что не могут подобраться к самому главному: мозгу и сердцу. Наша кожа — достаточно прочная и цельная защита, а те места, где в ней есть отверстия, — глаза или ноздри, нос или уши — покрыты дополнительным слоем слизи или ушной серы.
Однако это означает, что каждая игла в больнице может вытянуть счастливый билет — точнее, счастливую бактерию, которая, оправившись после стресса инъекции, обнаружит себя в весело бегущем кровяном потоке, а затем, например, в почках. Там она размножится и начнет производить небывалое количество токсинов, с которыми нам будет сложнее бороться — ведь они уже внутри, возле органов. И такая бактерия — лишь одна из опасностей. Есть еще вирусы и дрожжи, способные навредить по-своему. Стерильная игла — наша лучшая защита от их натиска.
Когда медсестра делает вам укол или берет кровь на анализ, все происходит очень быстро — игла входит и тут же выходит из тела, после чего ранка мгновенно затягивается, а на случай новой атаки на ее месте воздвигаются новые барьеры. Чтобы вместе с лекарством в организм не проникли бактерии, медперсонал использует шприцы с заостренным носиком, которые стерилизуются и запечатываются в специальный пластиковый пакет, а кожу дополнительно протирают медицинским спиртом (изопропанолом). Это позволяет устранить все чужеродные организмы, которые иначе могут проникнуть внутрь во время укола.
Иначе дело обстоит при внутривенном введении лекарств. Медсестра также дезинфицирует кожу и вводит иглу, но та остается на месте часами, становясь — вместе с трубкой и пакетом с раствором — продолжением вены, частью кровеносной системы. Чтобы лекарство бесперебойно поступало в организм, пакет закрепляется над головой, а если доктор решит, что это необходимо, медсестра еще включает помпу с небольшим напором. Содержимое пакета смешивается с вашей кровью, а вся лишняя жидкость отводится в специальную камеру, известную как мочевой пузырь.
При таких условиях у бактерий гораздо больше точек для проникновения и дальнейшего действия. Теперь инфекция может притаиться не только на острие иглы: в ее распоряжении вся внутренняя поверхность пакета и трубки (а ведь есть еще сам раствор!) — площадь, почти в сто раз превышающая объемы шприца. Это значит, что стерильно должно быть не только само устройство, но и все его части, которых мы касаемся, пока готовим раствор. То же правило относится к химическим его составляющим, которые нужно сначала синтезировать, а потом сохранить, — на каждом этапе все должно быть стерильно.
Главный плюс капельниц — они позволяют врачам быстро и на продолжительный период обеспечить ваше тело лекарством. Во время остановки сердца у вашего мозга нет возможности два часа ждать кислород, пока сердце мается в длинной очереди на получение лекарства (которое сначала попадает в желудок и кишечник — если вам вообще каким-то чудом удалось проглотить нужную таблетку). Дело за малым: в обстановке полной стерильности смешать литр жидкости и действующее вещество, исходя из веса и состояния пациента. В отделении скорой помощи или реанимации на это есть около десяти минут. Но не волнуйтесь: где-то там отчаянно невыспавшийся подросток и его насквозь прокуренная наставница готовы в любой момент прийти на помощь.
* * *
Для начала нужно создать стерильное рабочее пространство. Трудно поверить, но бактерии, дрожжи и других мелких врагов можно отфильтровать, пропуская воздух через сетку, ячейки которой в триста раз меньше диаметра человеческого волоса. Когда я готовлю препараты для внутривенных вливаний, то сижу перед стеной, сквозь сетку в которой проходит направленный на меня поток воздуха. Благодаря ему зона между мной и стеной оказывается очищена от примесей, так что здесь можно открывать, смешивать и снова запечатывать стерильные предметы.
Надев перчатки, я первым делом щедро заливаю все рабочие поверхности изопропанолом из бутылки с пульверизатором, отмываю стол и руки, снова и снова протираю все бумажными салфетками, а затем оставляю влажные от медицинского спирта поверхности сохнуть в потоке стерильного воздуха (обычно это значит, что вся лишняя жидкость летит мне в лицо).
Заказ на препарат — наклейку размером пять на пять сантиметров с именем пациента, его полом, указанием места и шифра смеси необходимых компонентов — я получаю из телетайпа. Запечатанный литровый пакет с жидкостью, формой и весом напоминающий упаковку свиного филе, беру из стопки, подготовленной техником. Он «накачивает пакеты», заполняя их либо обычным физраствором, либо раствором Рингера — то есть тем же физраствором, только обогащенным. Назван он в честь Сиднея Рингера, которому в 1882 году удалось запустить сердце мертвой лягушки, несколько раз погрузив его в жидкость с таким составом. Прочитав заказ, я беру пакет, снимаю с наклейки защитный слой и приклеиваю ее вверх тормашками, чтобы текст можно было прочитать, когда пакет перевернут и повесят над головой пациента.
Затем мы вместе с пакетом отправляемся к столу с заготовками, где я выбираю концентраты необходимых препаратов и пополняю собственный запас тех, которые приходится использовать особенно часто. Все они разлиты по маленьким флакончикам с резиновой притертой пробкой и цветной маркировкой, позволяющей быстрее в них ориентироваться. Пробки запечатаны алюминием, так что в безжалостном свете лабораторных ламп стекло и металл ослепительно блестят. Некоторые из этих драгоценных бутылочек и вправду бесценны, хотя содержат лишь крошечную каплю жидкого белка, выделенного из тел героических добровольцев или несчастных животных. Каждая из этих миниатюрных емкостей — целый день или даже неделя сдерживания жестокой опухоли. Возможно, этого хватит, чтобы давний враг внезапно отступил и исчез, — во всяком случае мне нравится так думать во время работы.
Вернувшись на место, я раскладываю перед собой в ряд все необходимое. Пакет с раствором, в который вводятся медикаменты, — слева; он развернут так, чтобы стерильный воздух дул на точку, через которую я буду делать инъекцию вещества. Теперь мне удобно читать текст на наклейке: в соответствии с ним я расставляю препараты слева направо в порядке их введения. Рядом с каждым флаконом кладу шприц, по размеру подходящий указанному на наклейке количеству вещества. Затем проверяю всю инсталляцию еще раз — слева направо, сверяя слова на рецепте с надписями на флаконах, но не целиком, а по первым трем буквам, чтобы сэкономить время.
Глубокий вдох — и я тянусь к пачке спиртовых салфеток, запечатанных в тонкий слой фольги (как я предпочитаю). Потом решительно беру пакет и снимаю печать с порта для инъекций, который находится на дальнем его конце. Разорвав обертку салфетки, кладу ее перед пакетом, стерилизую резиновую прокладку, через которую войдет игла, и протираю ее, стараясь, чтобы руки не перекрывали поток воздуха от стены. Теперь черед первого флакона — с ним нужно провести те же процедуры, используя другую салфетку.
Левой рукой перевернув флакон, правой я снимаю колпачок со шприца. Держу я их крепко, но отчего-то касаюсь пальцами только задней части — как будто передняя должна быть открыта свету. Линейка на боку флакона находится на уровне глаз, чтобы я могла отследить точное количество набранной жидкости. Затем я снимаю его с иглы, потянув вверх левой рукой и одновременно расслабляя мышцы правой — чтобы не потерять ту капельку препарата, которая остается на кончике иглы в момент их разъединения.
Аккуратно отложив флакон, я подношу руку со шприцем к передней части пакета и ввожу внутрь его содержимое (игла в этот момент направлена на меня). Потом, вынув иглу — теперь она бесполезна, возвращаю поршень шприца на отметку, показывающую, сколько в нем было препарата, и кладу шприц на поднос возле рабочего стола. Запечатываю флакон с уже введенным медикаментом и ставлю на тот же поднос рядом со шприцем. После чего повторяю весь цикл, пока не использую каждую из стоящих передо мной бутылочек. После этого пакет нужно снова запечатать пластиковой крышечкой и положить на тот же поднос, развернув в сторону от иголок.
Сняв перчатки, я беру ручку и проставляю в углу наклейки свои инициалы, подтверждая, что несу частичную ответственность за что-то там. Теперь поднос отправляется в очередь на проверку к старшему фармацевту, который скрупулезно сверяет каждый ярлык, каждый шприц и каждый флакон, чтобы убедиться: пакет действительно содержит именно то, что было заказано. Если в процессе обнаружится ошибка, пакет списывают, рецепт перепечатывают, задача переходит в категорию «срочная» и за дело берется опытный специалист — так называемый «бессрочник».
То, что это мой первый день в лаборатории, не играет никакой роли. Тренировочных пакетов не бывает. Есть только два варианта — сделать все правильно или ошибиться. Во время работы за нами наблюдают, чтобы убедиться: никто не выбирает себе рецепты попроще, а содержимое флаконов расходуется полностью и лишь затем открывается новый. Нам постоянно напоминают: любая ошибка может стоить кому-то жизни. Количество заказов намного превышает наши возможности, мы все время отстаем от графика. Чем больше сотрудников заболеет, тем меньше нас останется в лаборатории, тем быстрее придется делать свое дело оставшимся и тем значительнее окажется отставание.
Нет времени рассуждать о том, что эта жуткая, отвратительная система не работает, или акцентировать внимание на том, что мы не преступники и не машины. Есть только бесконечная череда заказов, оставленных такими же измученными людьми, которым не на кого больше рассчитывать.
Работа в больнице приводит тебя к мысли: в мире есть только два типа людей — те, кто болен, и те, кто не болен. Если ты из второй категории, заткнись и помогай. Прошло уже двадцать пять лет, а я все еще не вижу причин отказываться от этого взгляда на жизнь.
* * *
За лабораторным столом Лидия была великолепна — возможно, потому, что занималась этим шестьдесят часов в неделю на протяжении почти двадцати лет. То, как она сортировала, стерилизовала и вводила, напоминало движения балерины, которой удалось преодолеть гравитацию. Я наблюдала за тем, как порхают над столом ее руки, и думала, как «легко и охотно, без единой книжки (мне казалось, он знает все наизусть)», цитируя седьмую главу, она это делает. В тот первый день Лидия подготовила не меньше двадцати пакетов — иногда не открывая глаз. Я ни разу не видела, чтобы она ошиблась. Похоже, это был своего рода транс, потому что у ее мозга не было ни малейшего шанса получить достаточно кислорода для осознанной работы. Худшее, что мы могли сделать, — это чихнуть или еще как-то распространить жидкости своего организма в стерильном пространстве. Для Лидии каждый выдох неизбежно заканчивался кашлем — но только не во время работы, когда она демонстрировала такой уровень контроля над дыханием, который обычному человеку и не снился.
Первые часа два я провела за подготовкой пакетов с простыми электролитами; потом начальница непрозрачно намекнула, что пора переходить к более сложным рецептам, поскольку лаборатория сильно отстает от очереди запросов. Тогда я взяла заказ на простой бензодиазепиновый пакет, но запаниковала, вводя препарат. Я прекрасно понимала, что слишком большая доза седативного гарантированно избавит пациента от всех тревог — причем раз и навсегда. Чувствуя себя загнанным в ловушку зверем, я поддалась было порыву притвориться, что все хорошо, и положить пакет на поднос в очереди, как ни в чем не бывало, — но быстро поняла, насколько это безумная мысль. Пришлось под мрачным взглядом старшего фармацевта отнести пакет к раковине, вскрыть его скальпелем и слить содержимое. После этого я вернулась к Лидии и предложила устроить перерыв.
— Не думаю, что справлюсь, — созналась я, стоило нам выйти во двор. — Это самая напряженная работа, с которой мне приходилось сталкиваться.
Лидия усмехнулась:
— Ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Мы же не нейрохирурги, в конце концов.
— Да, они-то на пятом этаже работают. — Я знала эту шутку, курьеры повторяли ее друг другу по несколько раз в день. — И все-таки: что если у меня не получится? Я в половине случаев даже не могу вспомнить, правильно все сделала или нет.
Оглядевшись по сторонам, Лидия придвинулась ближе ко мне.
— Давай-ка я тебе кое-что расскажу о стерильности, — негромко произнесла она. — Иголки, конечно, лизать не стоит, но, если у тебя на руках есть что-то, что может убить пациентов, — оно их убьет.
Я не нашлась что на это ответить. Лидия тем временем сочла вопрос исчерпанным; теперь нам оставалось только сидеть в тишине, пока она курила.
— Господи, у меня голова раскалывается, — сказала я наконец, массируя виски. — Лидия, ты никогда не задумывалась, что творят с нашими легкими все эти пары спирта?
Не вытаскивая изо рта сигарету, она наградила меня взглядом, в котором ясно читалось осознание крайней степени моей тупости. После чего, глубоко затянувшись, спросила:
— Сама-то как думаешь?
Вернувшись в лабораторию после перерыва, я бросилась в бой и взяла заказ на сложный пакет для химиотерапии, твердо решив преуспеть в первый день хотя бы в чем-то. Все получилось, и у меня был повод гордиться собой, пока рядом не возникла старший фармацевт. Не скрывая ярости, она сунула мне под нос флакон интерферона.
— Ты только что угробила весь пузырек, — прошипела она. За несколько минут до того я действительно ввела дозу иммуномодулятора из этого флакона, а потом просто убрала его с рабочего стола, забыв запечатать. Это значило, что теперь остатки содержимого не стерильны. Одним движением я лишила нас медикамента на сумму не меньше тысячи долларов и создала повод для очередного бюрократического ада. Такого стыда я не помнила с тех пор, как раздраженный учитель застукал меня за чтением страниц, которые еще не были заданы классу. Протагонист собственной седьмой главы, я подняла глаза, чувствуя, как «лицо у меня пылает, а раскаяние гнетет мне сердце».
Лидия немедленно учуяла возможность и вклинилась между мной и кипящей от злости начальницей:
— Ей просто нужен перерыв, она весь день на посту. Пойдем, девочка, подышим свежим воздухом.
Так начался наш очередной перерыв.
Едва выйдя во двор, я упала в кресло и обхватила голову руками.
— Не знаю, что буду делать, если меня уволят, — пробормотала я, старательно давя подступающие слезы.
— Уволят? Ты этого боишься? — хмыкнула Лидия. — Господи, расслабься. Ни разу не видела, чтобы из нашей дыры кого-то увольняли. Ты, возможно, не заметила, но тут люди сами уходят раньше, чем их выгонят.
— Я не могу уйти сама, — созналась я. — Мне нужны деньги.
Лидия закурила сигарету и глубоко затянулась, не переставая изучать меня взглядом.
— Ага, — печально констатировала она. — Мы с тобой не из тех, кто уходит.
Она протянула мне пачку сигарет — в шестой раз за день, и я в шестой раз за день отказалась.
Когда тем вечером Лидия высадила меня у дома, я спросила, о чем она думает в те долгие часы, которые мы проводим в лаборатории.
Лидия обдумала мой вопрос и после паузы ответила:
— О бывшем муже.
— Дай угадаю — он в тюрьме?
— Да если бы. Этот засранец в Айове.
Мы сидели и смеялись над шуткой, древней, как сама Миннесота, а в голове у меня эхом отзывалась цитата из седьмой главы: «Мы смеемся, несчастные собачонки, мы смеемся, бледные, как полотно, и душа у нас уходит в пятки».
Если заказов становилось поменьше, а я уставала от необходимости сидеть на месте, можно было сходить в банк крови — спросить, не нужно ли отнести пару литров в отделение скорой помощи. Это позволяло мне выплеснуть немного энергии: ждать, пока все заинтересованные лица проверят номер группы и тип пакетов, приходилось долго. Лично я проводила это время, расхаживая туда-сюда по коридору.
«Бессрочника», работавшего за стойкой с трех до одиннадцати, звали Клод. Он был не так стар, как Лидия, но в моих глазах все равно казался пенсионером — ведь было ему двадцать восемь. Клод завораживал меня. Он был единственным из моих знакомых, кто отсидел в тюрьме, однако остался при этом самым безобидным и милым парнем на свете. Превратности судьбы оставили на нем неизгладимый след, но не заронили зерен обиды или недовольства — возможно, потому, что концентрация внимания у него была как у золотой рыбки. «Трудно найти в больнице работу проще, чем за стойкой банка крови», — сообщал мне Клод с застенчивой гордостью.
Он говорил, что на этой должности нужно помнить только, как размораживать кровь, проверять кровь и выкидывать кровь. Каждая смена начиналась с того, что Клод вывозил несколько поддонов, на которых высились ряды похожих на кирпичи пакетов, из камеры глубокой заморозки в комнату с температурой +5°. Полученная от доноров кровь сразу после регистрации замораживается и отправляется в хранилище. Чтобы воспользоваться ею, нужно медленно разморозить пакет. Таким образом, поддоны, вывезенные из холодильника, будут доступны только через три дня.
Покончив с этой задачей, Клод еще семь часов оставался за стойкой в ожидании заказов на кровь. Перед тем как поставить свою подпись в документах о выдаче, он должен был проверить и перепроверить группу на пакете и в листе с запросом, а иногда и позвонить в операционную для большей уверенности. Мне он говорил, что есть «то ли четыре, то ли шесть» разных групп крови, так что, если выдать неверный пакет, можно «израсходовать его понапрасну, убив кого-нибудь». Тревожило, что эти последствия в его восприятии сливались.
Наблюдая за тем, как Клод собирал дряблые желтоватые пакеты с плазмой в стопки по три, я то и дело вспоминала мясницкие лавки, выстроившиеся вдоль главной улицы моего родного города. Особенно живо в памяти вставал мясной прилавок, за которым мистер Кнауэр собирал мне куски по записке от мамы. С ними я отправлялась домой, чтобы помочь приготовить ужин для семьи. Ближе к концу смены Клод должен был выкинуть все неиспользованные размороженные пакеты — галлоны и галлоны крови — в отсек для опасных материалов, где их сжигали вместе с прочим медицинским мусором. Мне это казалось бессмысленной тратой драгоценного ресурса. Однажды я не удержалась и вслух пожалела о том, что добросердечные граждане тратят столько времени и сил на то, чтобы сдать кровь, — а кто-то горстями выкидывает ее в помойку.
— Не принимай близко к сердцу, — посоветовал Клод. — Большинство доноров — бродяги, которые в обмен получают печеньки.
Ребята из банка крови были печально известны привычкой западать на курьеров — поэтому я не слишком обрадовалась, обнаружив, что нравлюсь Клоду.
— А я тут услышал, что вернулось несколько карет скорой помощи, и сразу начал ждать твоего прихода, — заметил он однажды, когда я принесла заказ.
Пришлось быстро ввернуть в разговор упоминание моего воображаемого бойфренда-художника, продуманного до малейших деталей как раз на такой случай.
— Если у тебя есть парень, зачем же работаешь здесь? — спросил Клод.
Тут я поняла, что его понимание отношений между полами гораздо глубже моего, и отговорилась тем, что у художников вечно нет ни гроша. В остальном же «бойфренд» был великолепен; в моих фантазиях он имел слегка встревоженный вид, который делал его удивительно похожим на Тэда Уильямса, выходящего к бите на одном из снимков с матча звезд 1941 года.
— То есть тебе ему и ночной горшок покупать приходится? — поинтересовался Клод то ли с сарказмом, то ли без. Ответа на это я придумать не смогла и сделала вид, что не расслышала.
Я старалась брать смены с одиннадцати вечера до семи утра, которые приходились на вторник и четверг, — готовя, а затем доставляя тележку с пакетами медикаментов для отделения психиатрии. Там требовались составленные на основе физраствора внутривенные препараты, содержащие седативное средство — дроперидол. Их использовали в качестве наркоза во время проведения электросудорожной терапии, известной медперсоналу как ЭСТ, а всем остальным — как «шоковая терапия». Дважды в неделю ранним утром пациентов готовили к процедуре, укладывали на каталки и выстраивали в коридоре в порядке очереди — после чего одного за другим привозили в тихую комнату, где команда докторов и медсестер проводила им электростимуляцию части головы, внимательно следя за жизненными показателями. Все это время больной находился под наркозом, пакет с которым привозила я.
Благодаря такому графику самыми светлыми днями в отделении становились среда и пятница. Пациентов, которых, казалось, давно оставил разум, можно было увидеть сидящими на кроватях в прогулочной одежде; некоторые даже ненадолго встречались со мной взглядом. Самыми же темными оказывались воскресенье и понедельник: больные раскачивались из стороны в сторону, расцарапывали себя ногтями или стонали, лежа в кроватях. Присматривавшие за ними сестры выглядели одновременно невероятно умелыми — и абсолютно беспомощными.
Впервые оказавшись за прочно запертыми дверями психиатрического отделения, я испытала иррациональный ужас. Не знаю, что внушило мне мысль, будто здесь обитают некие злые души, готовые напасть в любой момент. Едва попав внутрь, я осознала: это просто место, где все происходит очень медленно. Тех, кто тут лечился, отличало от обычных больных одно — для их ран время остановилось, так что, казалось, они никогда уже не смогут исцелиться. Сам воздух отделения был пропитан болью такой густой и такой осязаемой, что посетитель вдыхал ее, как влажный летний туман. Вскоре стало ясно: защищаться придется не от пациентов, а от моего же растущего к ним равнодушия. В пятьдесят пятой главе был фрагмент, который сперва показался мне непонятным, однако удивительно четко описал открывшуюся моим глазам картину: «Их взгляд обращен внутрь, и они питаются своими собственными сердцами, а их сердца — плохая пища».
Проведя в лаборатории пару месяцев, я научилась отлично «заряжать» пакеты, не только успевая за Лидией, но иногда и обгоняя ее. Старший фармацевт постепенно перестал находить в моей работе ошибки, и через некоторое время новообретенная уверенность превратилась в скуку. Испытывая себя, я придумывала разнообразные ритуалы, призванные сэкономить время: от последовательности препаратов на столе до количества шагов к телетайпу. Изучая фамилии на наклейках, я начала узнавать пациентов, которым день за днем требовались одни и те же медикаменты. Теперь мне доверяли и маленькие пакеты, требовавшие сложных слабых растворов и предназначенные для недоношенных детей. Вместо имени и фамилии на таких заказах значилось только «маленький мальчик, Джонс» или «маленькая девочка, Смит».
Иногда мне передавали «заказ на вскрытие», распечатанный вторым, чаще молчавшим телетайпом. Он сообщал, что пациент, нуждавшийся в лекарстве, умер, поэтому пакет больше не понадобится. Если во время работы старший фармацевт стучал меня по плечу и передавал такую наклейку, я вставала, подходила к раковине, разрезала (или «вскрывала», отсюда и название) пакет и выливала его содержимое. Затем, на обратном пути, нужно было взять следующий заказ. Однажды «заказ на вскрытие» пришел для пакета пациента химиотерапии, чье имя я каждый день сама выуживала из списка. Я замерла и огляделась, чувствуя, что хотела бы отдать последний долг — да вот только кому?
Время шло, и моя вера в самое важное на свете дело начала сменяться ощущением бессмысленности всей нашей цепочки специалистов, которая поддерживала этот бесконечный ежедневный круговорот заказов и препаратов. С такого, намного более мрачного ракурса казалось, будто больница — лишь место, где людей изолируют и накачивают лекарствами, пока они либо не умрут, либо не выздоровеют. Только и всего. Нельзя никого исцелить. Можно только следовать рецепту, а потом ожидать, что получится.
Как раз в тот момент, когда я достигла пика разочарования, один из преподавателей предложил мне долгосрочный контракт в своей лаборатории, где я могла учиться и работать одновременно. В одночасье у меня появилась финансовая возможность обеспечивать себя до самого выпуска. Так что я перестала спасать чужие жизни — вместо этого меня ждало спасение жизни собственной. Спасение от перспективы сойти с дистанции, вернуться домой и там связаться с каким-нибудь парнем. От свадьбы, сыгранной в провинциальном городке, и от неизбежных детей, которые, став старше, начнут ненавидеть меня за попытки реализовать через них свои амбиции. Вместо этого я выбрала долгий и одинокий путь взросления под потрепанным знаменем первооткрывателя, который хоть и не уповает уже на землю обетованную, но все еще надеется, что там, где он окажется в конце концов, будет лучше, чем здесь.
Предупредив о грядущих переменах отдел кадров, я в тот же день отправилась на перерыв вместе с Лидией. Дымя сигаретой, она убеждала меня не покупать «шевроле» — эти машины не годятся для женщин-водителей. То ли дело «форд»: она ездит на них всю жизнь, и хоть бы один сломался. Дождавшись паузы, я рассказала Лидии о приглашении на другую работу и о своем уходе из лаборатории. Даже проработав тут всего полгода, я начала понимать, какое это адское место — как Лидия и говорила мне с самого первого дня.
С пророческим пафосом заявив, что однажды у меня будет своя лаборатория — даже более крупная, чем та, где мне предстояло работать, — я пообещала брать на работу только людей, разделяющих мою научную страсть, и закончила эту пламенную речь маленьким крещендо: цитатой из десятой главы. Вполне очевидно, говорила я, что «я буду охотней работать в своем доме, чем у кого-нибудь чужого».
Я знала, что Лидия меня слышит, а потому немало удивилась, когда она лишь отвела взгляд и глубоко затянулась, ничего не ответив. Затем, стряхнув пепел с кончика сигареты, она продолжила рассуждать о машинах ровно с того места, на котором остановилась. С работы мы обе вышли в одиннадцать часов, но, подождав немного, в тот вечер я отправилась домой пешком.
Ночь выдалась ясной и такой морозной, что снег под ногами поскрипывал. Через несколько домов меня обогнала машина Лидии, и я ощутила новый укол одиночества. «Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает», — процитировала я по памяти главу тридцать пятую. Затем проводила взглядом огонек единственного рабочего поворотника на знакомой машине, пониже пригнула голову, защищаясь от ветра, и молча продолжила путь домой.
5
Нет большего риска, чем тот, на который идет первый корешок. Да, при определенном везении он потом найдет воду — но сперва станет якорем, который навсегда прикует зародыш к месту и лишит его мобильности, какой бы иллюзорной она ни была. Выпустив первый корешок, растение больше не может тешить себя надеждой (пусть и призрачной) найти менее холодное, менее сухое и менее опасное место. Теперь ему придется встречать заморозки, засуху и жадные жвала вредителей, не имея возможности бежать. У этого маленького проростка всего одна попытка угадать, какими окажутся грядущие годы, десятилетия, даже века для того кусочка земли, где он решил осесть. Оценив текущее освещение и влажность, росток соотносит их с перспективами, а потом с головой ныряет в работу — причем буквально.
В ту минуту, когда первый участок зародыша (он называется «подсемядольное колено») покидает оболочку семени, на карту ставится абсолютно все. Корень углубляется в землю раньше, чем росток устремляется к небу, — поэтому зеленая ткань на несколько дней или даже недель будет лишена возможности производить пищу. Создание корневой системы истощает последние запасы семени. Ставка в этой игре — жизнь, поражение означает смерть, а вероятность успеха ничтожно мала — один шанс на миллион.
Зато победа дает все. Если корень находит необходимое, он становится стержневым и превращается в якорь, способный крушить грунт и на протяжении многих лет перемещать за день многие галлоны воды — причем лучше, чем любой рукотворный насос. От него отходят боковые корни, которые переплетаются с корнями соседнего растения. Они способны предупреждать об опасности, взаимодействуя так же, как нейроны через синапсы мозга. «Зона покрытия» корневой системы дерева примерно в сотню раз больше, чем поверхность всех его листьев, вместе взятых. Целиком уничтожьте надземную часть растения — и оно все равно упрямо вернется к жизни благодаря одному уцелевшему кусочку корня. Не единожды и даже не дважды.
Глубже всего забираются корни деревьев акации (род Acacia). При строительстве Суэцкого канала шипастые корни маленькой воинственной акации встретили рабочих на глубине «12 метров», «40 футов» или «30 метров» — в зависимости от того, какому источнику вы доверяете: Томасу (2000), Скену (2006) или Рейвену с соавторами (2005). Полагаю, все они включили эту историю в свои учебники по ботанике, чтобы рассказать читателям что-то о гидравлике, но вместо этого подарили мне размытое и туманное ложное воспоминание.
Представьте: 1860 год, толпа мужчин в истрепанной одежде истово роет землю и на глубине 30 метров натыкается на живой корень. Так и вижу, как они стоят, хватая ртами зловонный воздух, медленно преодолевая удивление и сознавая, что корень этот принадлежит какому-то растению высоко у них над головами. Думаю, акация тоже была немало удивлена, когда ее корневая система, надежно скрытая под камнями, внезапно оказалась на свету. Это привело к колоссальному выбросу гормонов — сначала локальному, а потом затронувшему каждую ее клеточку.
Подумайте: пока строители Суэцкого канала ворочали землю и камни, прокладывая на первый взгляд невозможный путь между Средиземным и Красным морями, бесстрашное растение прокладывало собственный поражающий воображение путь вглубь земли. Они нашли акацию, которая годами пробивалась сквозь те же землю и камни, раз за разом терпела поражение, но в конце концов добилась ошеломительного успеха.
В этом моем воспоминании о 1860-м рабочие поздравляют друг друга и собираются вокруг корня, достаточно длинного, чтобы с ним могли сфотографироваться все желающие. Потом они разрубают его пополам.
6
Ученые заботятся о себе подобных — по мере сил и возможностей. Когда преподаватели заметили искренний энтузиазм, с которым я трудилась в лабораториях, мне посоветовали поступать в аспирантуру. Я подала документы в самые известные университеты. Их согласие означало бы не только бесплатное образование, но и стипендию, которая покроет расходы на аренду жилья и питание на протяжении всего периода обучения. При одной мысли об этом голова начинала кружиться от восторга. По счастью, именно так устроено обучение в аспирантуре для ученых и инженеров: до тех пор, пока цель твоей работы совпадает с целями проекта, финансируемого государством, тебя поддерживают на уровне прожиточного минимума.
Так что на следующий день после того, как Университет Миннесоты выдал мне диплом бакалавра с отличием, я пожертвовала всю свою зимнюю одежду филиалу Армии спасения на Лейк-стрит, свернула на Гайавата-авеню, доехала до Международного аэропорта Миннеаполиса, села там в самолет и улетела в Сан-Франциско. А оказавшись в Беркли, не столько познакомилась с Биллом, сколько узнала его.
Летом 1994-го мне пришлось отправиться в почти бесконечную полевую экспедицию по Центральной Калифорнийской долине, где я выступала в роли помощника инструктора для студентов-магистрантов. Обычный человек вряд ли будет разглядывать грязь дольше тех двадцати секунд, которые необходимы на поиск упавшей в нее вещи, — но эти ребята обычными не были. День за днем на протяжении без малого шести недель они выкапывали в земле пять — семь ям и часами медитировали над ними, после чего снимались с лагеря и повторяли ту же процедуру уже на новом месте. Любая мелкая особенность любой такой ямы подлежала классификации и систематизации; в итоге студенты должны были научиться регистрировать малейшие трещинки, образованные корнями каждого из растений, — причем использовать для этого соответствующие рубрики каталога Службы охраны природных ресурсов.
В процессе работы участникам экспедиции надлежало опираться на определитель почв США «Ключи к таксономии почв» — справочник объемом шестьсот страниц, напоминающий маленькую телефонную книгу, но и вполовину не столь интересный. Где-то там, в городе Уичито (думаю, он подойдет), Совет государственных агрономов ежегодно собирается, чтобы предложить новые толкования «Ключей» и заново утвердить их, как если бы это был священный арамейский текст. Во вступлении к изданию 1997 года есть невероятно трогательный пассаж о непревзойденных научных достижениях Международного комитета по изучению низкоактивных глин, из-за которых и возникла необходимость переиздания. Однако этот том, подчеркивалось далее, предназначен только для экстренных случаев, поскольку Международный комитет по водонасыщенным почвам вот-вот представит результаты собственных исследований и до 1999 года выйдет еще одна, обновленная версия. Впрочем, в 1994-м мы по-прежнему пользовались изданием «Ключей» от 1983-го — наивные дети, даже не подозревающие, какие сенсации готовит для нас Международный комитет агромелиорации.
Вместе с десятком студентов мы набивались в яму, которую сами же перед этим и выкопали, и начинали процесс обучения. Программа была составлена так, чтобы впоследствии они могли вступить в тайный мир государственных агрономов, служащих, лесничих заповедников или получить другую прикладную профессию, связанную с землей. Кульминацией наших почвоведческих экзерсисов было выявление «наиболее эффективных форм использования», под которыми подразумевалось возведение «жилого объекта», «коммерческого объекта» или «объекта инфраструктуры», — а студенты должны были его обосновать. К четвертой неделе такой жизни даже выгребная яма начинает казаться шикарным местом по сравнению с тем, куда ты уже успел засунуть голову, а единственным спасением видится залить весь ландшафт асфальтом и превратить его в бесконечную парковку. Возможно, некоторые участки Соединенных Штатов приобрели свой нынешний облик именно таким путем.
У меня ушло около недели, чтобы заметить: один из наших старшекурсников — парень, похожий на молодого Джонни Кэша и упакованный в джинсы и кожаную куртку даже в сорокаградусную жару, — всегда оказывается в стороне от группы, один на один с собственной ямой. Куратором этого потока был мой научный руководитель; моя же роль помощника сводилась в основном к тому, чтобы перемещаться от ямы к яме, проверять, как идут дела, и отвечать на вопросы практикантов. Изучив список, я пришла к выводу, что студента-одиночку зовут Билл, и рискнула нарушить его уединение:
— Как успехи? Есть ли у вас вопросы?
— Не-а, все в порядке, — отмахнулся он от моей помощи, даже не подняв глаз.
Постояв над ним еще около минуты, я ушла к другой группе, оценила их работу и кое-что прокомментировала. А спустя полчаса заметила, что Билл копает себе новую яму — предварительно засыпав и аккуратно заровняв холмик над предыдущей. Заглянув в его записи, я увидела скрупулезно заполненные рубрики и дополнительные уточнения в отдельной колонке справа. В графе сверху почва была отмечена как подходящая для «инфраструктуры», а рядом разборчиво было приписано: «Строительство исправительного центра для подростков».
— Вы золото ищете? — пошутила я, остановившись рядом и надеясь завязать беседу.
— Нет. Мне просто нравится копать, — объяснил он, не прерывая своего занятия. — Я когда-то жил в такой дыре.
То, как флегматично Билл упомянул об этом факте своей биографии, давало понять: это не метафора.
— И мне не нравится, когда кто-то смотрит в затылок, — добавил он.
Я предпочла проигнорировать намек и продолжила наблюдать за тем, как он копает, — отмечая и неожиданно большой объем земли, который выбрасывался наверх с каждым подходом, и силу, скрывавшуюся в сухощавой фигуре. Лопата у него тоже была странная: прямо-таки старый гарпун с уплощенным концом — меч, перекованный в лемех.
— Откуда у вас эта лопата? — поинтересовалась я, решив сначала, что Билл нашел ее в той груде хлама, которую я вытряхнула из недр нашей кладовой с оборудованием.
— Это моя, — ответил он. — Но не торопитесь с выводами, пока не прокопаете ею пару километров вглубь.
— Хотите сказать, что привезли лопату из дома? — Я не смогла сдержать удивленного смеха.
— А то! Не мог же я оставить эту штуку без присмотра на целых шесть недель.
— Мне нравится ваш ход мыслей, — кивнула я, понимая, что тут помощь и правда не требуется. — Дайте знать, если появятся сложности или вопросы.
Я уже собиралась уйти, но тут Билл наконец поднял взгляд:
— На самом деле у меня есть вопрос. Скажите, почему эти кретины все еще там ковыряются? Мы выкопали уже, наверное, сотню ям. Как они умудряются так долго выискивать долбаных червей?
— Полагаю, «не видит того их глаз, не слышит ухо», — ответила я.
Билл смотрел на меня добрых десять секунд, прежде чем поинтересоваться:
— И как это, черт подери, понимать?
— Мне-то откуда знать. — Я пожала печами. — Это из Библии. Понимать не обязательно, никто же не понимает.
Билл еще с минуту сверлил меня подозрительным взглядом — а затем, убедившись, что продолжения не будет, вернулся к раскопкам.
Тем же вечером, когда приготовленный совместными усилиями ужин разделили на всех участников трапезы, я села за стол напротив Билла. Он тем временем сражался со своим недожаренным цыпленком.
— Н-да, — заметила я, изучив содержимое тарелки. — Не думаю, что смогу это съесть.
— Ужасно, правда? — поддержал он меня. — Зато бесплатно и добавки сколько захочешь.
— «Как пес возвращается на блевотину свою», — провозгласила я, осеняя себя крестным знамением.
— Аминь, — согласился с полным ртом Билл и отсалютовал мне банкой газировки.
С того дня у нас вошло в привычку искать друг друга. Оказалось, наблюдать за происходящим вместе очень удобно. Мы держались с краю, оставаясь частью группы, но отстраняясь от ее основной активности. Сидеть бок о бок часами, почти не раскрывая рта, — вот самое естественное и комфортное времяпрепровождение.
Вечерами я читала, а Билл счищал грязь с лезвия своего старого складного ножа, проводя по его краям лопаточкой. Он уже объяснил мне — весьма подробно, — почему копать лучше не лопатой, а ножом, особенно если речь идет об очень глинистой почве.
— О чем твоя книга? — спросил он как-то раз.
Я в тот момент читала новую биографию Жана Жене, чье творчество заворожило меня еще в 1989 году, когда я попала на постановку пьесы «Ширмы» в Миннеаполисе. Для меня Жене являл собой идеальный пример писателя от природы, творца ради творчества, который не пытался вступить в диалог и не искал признания, а когда оно все же пришло, отказался его принять. К тому же он не получил образования и следовал своему внутреннему голосу, а не копировал подсознательно сотни прочитанных книг. Меня не отпускало желание понять, как ранние годы Жене подготовили его успех, успев также выработать к нему иммунитет.
— Она о Жане Жене, — осторожно сказала я, понимая, что рискую показаться заучкой. Однако на лице Билла не отразилось осуждения, только легкое любопытство, и я рискнула продолжить: — Он был одним из величайших писателей своей эпохи, обладал невероятной фантазией, но, даже став знаменитым, так до конца этого и не понял.
Не встретив сопротивления, я заговорила о том, что волновало меня больше всего.
— В юности Жене то и дело попадал в тюрьму по разным бессмысленным обвинениям, поэтому выработал альтернативное видение морали, — объясняла я, удивляясь, насколько приятно, оказывается, обсуждать с кем-то прочитанное. Эти посиделки на свежем воздухе и рассуждения об умершем писателе наводили меня на мысли о семье, от которой я ушла уже очень далеко — в любом из возможных смыслов. Билл, счищающий грязь с ножа, так и вызывал воспоминания о летних днях в мамином саду. — Жене работал мальчиком по вызову, грабил клиентов, а в тюрьме писал книги. Странно, что, даже разбогатев, он продолжал ходить в магазины и красть оттуда вещи, которые были ему не нужны. Однажды залог за него вносил сам Пабло Пикассо. Все это не имело никакого смысла.
— Для него наверняка имело, — возразил Билл. — Любого спроси — окажется, что он делает какую-нибудь ерунду, сам не зная почему. Просто чувствует, что должен.
Я задумалась над его словами.
— Эй, ребята! Хотите холодненького? — прервал нас доброжелательный подвыпивший студент с гитарой наперевес. В руках у него была банка того пива, которое можно купить по шесть долларов за ящик, даже находясь посреди бескрайнего ничего.
— Нет, не хотим. Эта дрянь по вкусу как моча, — буркнул Билл.
— По-моему, пиво вообще не слишком вкусное, но это просто бьет все рекорды, — попыталась я смягчить его резкость.
— Такое дерьмо даже Жан Жене красть бы не стал, — бросил мне Билл через плечо, и я ответила улыбкой — это была шутка, понятная только нам двоим.
Студенты, сидевшие напротив маленькой группкой, склонились друг к другу и обменялись парой слов, а потом захихикали, поглядывая на нас. Мы с Биллом синхронно закатили глаза. Это был первый, но далеко не последний раз, когда окружающие неправильно истолковывали природу нашей с ним близости.
На следующей неделе нас ждал визит в цитрусовый сад и знакомство со всем многообразием механизмов для сбора урожая с деревьев — это было потрясающе. Не менее познавательным оказался и визит на упаковочную фабрику, где ряды женщин стояли возле конвейеров и выбирали из потока ярко-зеленых фруктов те, что были слишком велики или имели странную форму, — все это со скоростью десять штук в секунду. Когда гид торжественно объявил, что перед нами процесс сортировки лимонов, вид у всей группы был весьма ошарашенный. Проще было поверить, что это бильярдные шары — с таким громким стуком они ударялись о бортики конвейера.
Посещение фабрики сопровождалось громогласным рассказом о том, как замечательно здесь работать и как здорово, что сотрудники живут совсем рядом с производством, — а у меня из головы не шел странный городок, который, должно быть, вырос здесь благодаря этому. Потом гид провел нас в «камеру созревания», похожую на вагон без окон и сверху донизу забитую зелеными фруктами. Здесь выдерживалась температура +5°. Ночью, рассказывали нам, дверь запечатают и в камеру запустят этилен — газ, заставляющий собранные лимоны забыть про внутренний график и вызреть за десять часов. В соседней комнате уже лежали тысячи абсолютно одинаковых фруктов — таких идеально желтых, что их кожица казалась пластиковой.
После окончания экскурсии мы столпились на парковке.
— А я-то думал, что знаю все о скуке. В жизни больше не пожалуюсь на школу, — проворчал Билл, подпрыгивая на месте, чтобы согреться после визита в холодные комнаты с фруктами. Беседа у нас шла о сортировке лимонов.
— Все эти ряды конвейеров вгоняют меня в депрессию. Я выросла в городе, где таких были километры, — ответила я, потирая руки и вздрагивая от воспоминаний о поездке на скотобойню в третьем классе. — Впрочем, на наших конвейерах товар скорее разбирали, а не собирали…
— Ты работала на заводе?
— Нет, повезло сбежать в колледж. Я уехала из родительского дома в семнадцать. — Я аккуратно выбирала слова, сдерживая стремление довериться Биллу.
— А я свалил от своих в двенадцать. Недалеко, правда, — только во двор.
Я кивнула, как будто это было совершенно обычным делом:
— Там-то ты и жил в дыре?
— Скорее в подземном укреплении. Положил там ковер, провел электричество, все удобства. — Несмотря на небрежный тон, я различала в его словах скрытую гордость.
— Звучит неплохо. Хотя вряд ли я смогла бы в таком спать.
— Я же из Армении, — пожал плечами Билл. — Мы привыкли прятаться под землей.
Тогда я этого не поняла, но это была мрачная шутка — отсылка к резне, которую его отец пережил еще ребенком, спрятавшись в колодце. В тот день были убиты все его близкие. Позже я узнала, что Билла преследовала память о погибших родственниках. Именно они постоянно вынуждали его строить, планировать, запасать и — главное — выживать.
— Армения — это где? Я даже не знаю.
— В основном — нигде. В этом-то и проблема.
Я снова кивнула, чувствуя тяжесть его слов, но еще не понимая их значения.
Ближе к концу поездки я подошла к своему научному руководителю, когда тот занимался подготовкой оборудования для следующего дня.
— Думаю, нам стоит пригласить Билла на работу в лабораторию.
— Того странного парня, который вечно сам по себе?
— Да, его. Он самый умный в группе. И он нам пригодится.
Профессор взглянул на меня и вернулся к сортировке инструментов.
— Ну да. И вы точно это знаете, потому что?..
— Я не знаю точно. Но я чувствую.
Он уступил — как и всегда:
— Хорошо, но с бумагами разбирайтесь сами. На мне и так слишком много всего, так что Билл будет вашим протеже. И сами подыщите ему дело, договорились?
Я с благодарностью кивнула. Внутри меня кипело восторженное ожидание будущего — хотя понять происхождение этого чувства было невозможно.
Спустя три дня наша экспедиция все-таки закончилась и мы вернулись в город. Мне предстояло развезти студентов и их снаряжение по домам. Билл оказался последним, поэтому до нужной ему станции метро мы добрались поздно ночью.
Здесь я наконец решилась рассказать ему про свою идею.
— Слушай, не знаю, насколько тебе это интересно, но я могла бы пристроить тебя в исследовательскую лабораторию, где сама работаю. За деньги и все такое.
Никакой реакции. Билл опустил глаза, потом мрачно сказал:
— Ладно.
— Ладно, — кивнула я.
Билл продолжал сидеть в машине, разглядывая свои ноги, — хотя я ожидала, что он сейчас попрощается и выйдет. Потом он поднял голову и еще несколько минут смотрел в окно машины, пока я гадала, что его тут держит.
Наконец Билл повернулся ко мне и спросил:
— А чего мы не едем в лабораторию?
— Сейчас? Ты хочешь поехать туда сейчас? — дружески улыбнулась я.
— Ну, больше мне все равно ехать некуда, — бодро отрапортовал он. После чего добавил: — И лопата у меня уже есть.
Как и всегда в такие странные минуты, мне на память пришла сцена из «Больших надежд» Диккенса. Я вспомнила Эстеллу и Пипа в самом конце истории, когда они стоят в запущенном саду, уставшие, но полные надежд, готовые перестраивать разрушенный дом. Оба они не знали, что делать дальше, но будущее их не было омрачено тенью новой разлуки.
7
Первый настоящий лист — это новая идея. Как только зародыш из семени прочно закрепился в земле, его приоритеты меняются. Теперь вся энергия уходит на то, чтобы тянуться вверх. Имевшиеся в семени ресурсы почти исчерпаны, и растению отчаянно необходимо выбраться на свет, чтобы запустить жизненно важные процессы. Пока это самое маленькое растение в лесу, оно должно работать усерднее остальных, влача свое существование в тени — до поры до времени.
У зародыша внутри семени сложены две семядоли: крошечные готовые листочки. Они похожи на запасное колесо автомобиля: малы, неудобны и годятся, только чтобы добраться до ближайшей заправки. Когда росток выпускает их, семядоли начинают фотосинтез столь же эффективный, как прогревание очень старого мотора очень холодным зимним утром. Природой они скроены кое-как — и только и способны, что дотянуть до того момента, когда растение будет готово произвести на свет свой первый настоящий лист. Как только это происходит, временные семядоли чахнут и опадают; оказывается, они даже и не были похожи на листья, которые придут им на смену.
Первый настоящий лист — отпечаток весьма условного шаблона, оставляющего практически бесконечный простор для импровизации. Закройте сейчас глаза и представьте колючий лист остролиста, звездчатый — клена, сердцевидный — плюща, треугольный — папоротника или пальчатый — пальмы. Теперь прибавьте к этому тот факт, что на дубе, например, может быть 100 000 листьев, каждый из которых не является точной копией соседнего; более того, некоторые в два раза больше прочих. Каждый дубовый листок на планете Земля — уникальный оттиск одного и того же грубого и весьма условного штампа.
Все листья в мире — это бесчисленные миллионы вариаций простого механизма, созданного для единственной работы. Механизма, который держит на крючке человеческий род. Листья создают сахар. Во всей нашей бескрайней вселенной только растения способны вырабатывать его на основе неживой неорганической материи. Любой сахар, попавший в вашу пищу, изначально сформировался внутри листа. Если ваш мозг перестанет постоянно получать глюкозу, вы умрете. Задумайтесь: ваша печень при необходимости способна производить глюкозу из белков или жиров, но и они были получены ею из растительного сахара, съеденного другим животным. Это замкнутый круг: прямо сейчас внутри синапсов вашего мозга мысли о листьях блуждают благодаря энергии, полученной из этих самых листьев.
Лист — это насыщенная пигментом ткань, пронизанная паутиной жилок, которые состоят из сосудов двух типов. По одним из этих сосудов вода бежит к листу от почвы, чтобы при участии света распасться на нужные вещества. Энергия, полученная в процессе распада, склеивает выделенные из воздуха элементы будущего сахара. Затем по другим сосудам этот сахаристый сок переносится из листа вниз, к корням, где проходит процесс сортировки — и сок либо перерабатывается немедленно, либо откладывается на черный день.
Чтобы увеличиться, лист удлиняет цепочку клеток вдоль центральной жилки; а вот клетки по краям сами решают, когда им перестать делиться. От верхушки начинает расходиться кружево более мелких жилок, которые вплетаются в уже существующее полотно и снова сходятся у стержня, — таким образом, лист растет от края к черенку. Как только эта самая смелая часть листа заканчивает формироваться, растение наконец ставит лошадь перед телегой и начинает перегонять сахар вниз — туда, где он позволит образовать новые корни, которые, в свою очередь, добудут больше воды, обеспечивающей рост новых листьев, а в них образуется еще больше сахаров… И так уже на протяжении 400 миллионов лет.
Иногда растение решает, что неплохо бы создать новый тип листьев, — и это меняет все. Взгляните на колючки кактуса чоллы. Они загнуты, как рыболовные крючки, и достаточно остры и прочны, чтобы проткнуть даже грубую кожу черепахи. Именно благодаря им поток воздуха вокруг кактуса замедляется, а вместе с ним падает и скорость испарения влаги. Именно эти колючки дают стеблю тень, и именно на них выпадает роса. Фактически они и есть листья кактуса — хотя роль фотосинтезирующих зеленых органов достается его раздутому от воды стеблю.
Предположительно, идея не расправлять лист, а скрутить его в жесткую колючку вроде тех, что можно увидеть на кактусе чолла, пришла растению достаточно недавно — в последние десять миллионов лет. Благодаря ей в иссушенных зноем местах появились и пышным цветом расцвели особые растения, способные прожить там долгую жизнь и ставшие единственной съедобной зеленью на много километров вокруг. Это ни с чем не сравнимое достижение. Всего одно новое решение — но оно позволило растению открыть для себя совершенно другой мир и прекрасное бытие под новыми небесами.
8
Становление ученого — очень долгий процесс. Наиболее рискованная его часть — когда вы осознаёте само понятие «настоящего ученого» и делаете первые шаги по этой тропинке, которая потом превратится в дорогу, затем — в шоссе и однажды (возможно!) приведет вас домой. Настоящий ученый не ставит общеизвестные эксперименты: вам предстоит придумать и провести собственные опыты, чтобы получить совершенно новые данные. Когда диссертация написана примерно наполовину, вы вдруг понимаете, что следовать чужим указаниям больше не удастся — пора принимать самостоятельные решения. Это, возможно, самый сложный и страшный момент для многих студентов: часто они бросают аспирантуру, не желая или не умея перестроиться.
Я поняла, что стала ученым, когда стояла посреди лаборатории и наблюдала за восходом солнца. Я была уверена, что обнаружила кое-что весьма необычное, и ждала возможности сделать телефонный звонок, не опасаясь разбудить собеседника. Мне страшно хотелось рассказать кому-нибудь о своем открытии — хоть я и не знала точно, кому лучше звонить.
Моя диссертация была посвящена Celtis occidentalis, более известному как каркас западный. Это дерево встречается в Северной Америке так же часто, как ванильное мороженое, и внешность имеет столь же непримечательную. На нашем континенте оно абориген: его широко высаживали в городах, пытаясь возместить ущерб, который Новый Свет понес при завоевании европейцами.
На протяжении сотен лет жуки — и люди, конечно, тоже — прибывали в Штаты на кораблях, которые бросали якорь в портах Новой Англии. В 1928 году группа исключительно живучих шестиногих переселенцев покинула Нидерланды, чтобы обосноваться под корой бесчисленных вязов. При этом они заразили каждое дерево смертельным грибком. В ответ на угрозу вязы начали перекрывать один свой сосуд за другим, пытаясь остановить распространение инфекции, — и медленно умерли от голода, поскольку все питательные вещества так и оставались в корнях. Даже сегодня голландская болезнь вязов продолжает бушевать в США и Канаде, каждый год поражая сотни тысяч деревьев и доводя общее количество жертв до миллионов.
С каркасом западным совсем другая история: он переносит и ранние морозы, и долгие засухи, потеряв едва ли пару листьев. О величественной красоте раскидистых вязов, достигающих порой 20 метров в высоту, каркасам не приходится и мечтать. Самые высокие из них поднимают свои кроны всего на десять метров, но и от места, где растут, требуют немного. Уважение к ним прямо пропорционально их скромности.
Мне же каркасы западные были интересны из-за своих плодов, похожих на первый взгляд на клюкву[2]. Однако стоит сорвать один такой и попытаться раздавить в руке, как это сходство улетучивается: под тонким сочным слоем плоды каркаса твердые как камень. Возможно, даже тверже — косточка их по прочности не уступает устричной раковине. Это настоящая крепость для семени с зародышем, которому на пути к взрослению придется, возможно, выживать в желудке животных, пережидать дожди и метели и годами сражаться с коварными грибками. В раскопе, сделанном археологами, можно найти множество окаменевших плодов каркаса западного, поскольку каждое дерево за свою жизнь успевает породить миллионы семян. Я надеялась, что их анализ позволит выяснить, какими были средние летние температуры на Среднем Западе в период между оледенениями.
На протяжении как минимум 400 000 лет ледники то вытягивали свои языки подальше от Северного полюса, то снова отступали обратно. В те короткие промежутки времени, когда Великие равнины не были покрыты льдом, на них плодились, мигрировали и искали новые источники пищи многие животные и растения. Но насколько тепло там было в то время? Похоже ли было лето между наступлениями ледников на знойное и изматывающее современное лето — или же его тепла едва хватало, чтобы избежать снегопада? Если вам доводилось жить на Среднем Западе, вы знаете, что это важный вопрос; но еще важнее он был для людей, которые кормились дарами земли, укрывались звериными шкурами, а за обедом охотились по несколько часов.
Мы с научным руководителем могли подобрать множество химических реакций, чтобы установить температуру, при которой сформировались эти, теперь окаменелые, косточки. Трудность состояла в том, что каждая косточка была еще окружена остатками окаменевшего плодового сока, — а наша гипотеза температур, при которых плоды становились камнем, была абсолютно новой и недостаточно продуманной, чтобы давать простые ответы. Тогда я разработала комплекс экспериментов, призванных разбить главную проблему на ряд отдельных, более мелких вопросов. Первым делом предстояло выяснить, как именно формируется семя каркаса западного и из чего оно состоит.
Для этого я взяла под наблюдение несколько деревьев, растущих в Миннесоте и Северной Дакоте, чтобы сравнить их поведение в холодной и (условно) теплой среде обитания. В течение года я планомерно собирала с них урожай, возвращалась в лабораторию и делала с каждого из сотен плодов тончайшие срезы. Все они описывались и фотографировались под микроскопом.
Изучая срезы при увеличении в триста пятьдесят раз, я обнаружила, что гладкая поверхность семени каркаса напоминает медовые соты, доверху заполненные чем-то твердым и сыпучим. Взяв за образец строение косточки персика, я вымочила несколько ягод каркаса в кислоте, способной растворить как минимум бушель персиковых косточек, а потом начала изучать то, что уцелело. Все наполнение из ячеек «сот» исчезло, обнажив белый кружевной скелет. При нагреве этой белой решетки в вакууме до 1500 градусов выделился углекислый газ; значит, в ее состав входили какие-то органические соединения — еще один загадочный слой.
Итак, дерево создало семя, сплело вокруг него сеть волокон, закрыло эту сеть своеобразным скелетом, а промежутки заполнило тем же материалом, из которого сложены персиковые косточки. Этим оно защитило свое детище и увеличило его шансы прорасти, стать взрослым деревом и породить еще девяносто поколений новых деревьев (при определенном везении). Если мы хотим получить из окаменелых семян каркаса данные о климате, царившем на Земле много лет назад, именно эти кружевные скелеты дадут нам всю необходимую информацию. Как только я пойму, из чего сделана эта важнейшая часть плода, я добьюсь цели.
Каждый камень формируется по-своему, по-своему они и распадаются на части. Один из способов распознать различные минералы, входящие в состав любого из них, — взять образец, как следует растолочь его и просветить рентгеновскими лучами. Каждая крупинка соли в солонке при ближайшем рассмотрении окажется идеальным кубом. Измельчите одну крупинку в мелкую пыль — она превратится в миллионы крошечных идеальных кубиков. Причина проста: именно эту форму образуют ионные кристаллы соли — складываются в кубическую структуру, которая повторяется бесчисленное количество раз. Разрушить ее можно только по линиям наименьшего сопротивления, а значит, распадется она на все новые и новые кубы, повторяющие ионную конструкцию оригинала вплоть до самых мельчайших компонентов.
У разных минералов и химические формулы разные: по ним можно проследить отличия в количестве и виде входящих в их состав атомов — и то, как эти атомы между собой связаны. В свою очередь, это отражается в форме образуемых кристаллов, сохраняющейся, даже если камень растолочь в порошок. Если в вашем распоряжении есть хотя бы щепотка пыли, оставшейся от уродливого, но сложного по составу булыжника, выделите в ней частицы характерной формы, и вы сможете вычислить его химическую формулу.
Но как увидеть форму этих крошечных частиц? Способ существует. Представьте себе волну, разбивавшуюся об основание маяка. Когда она отступит, на поверхности океана останется рябь: ее размер и характер расскажут и о маяке, и об ударившей в него волне, — рябь помнит эту информацию. Если мы наблюдаем за ней из стоящей на якоре лодки, то по разошедшимся по воде кругам сможем различить маяки с квадратным и круглым основаниями (разумеется, при условии, что нам известны размер волны, ее сила, время и направление движения). Тот же прием используется для определения формы частиц минеральной пыли: нужно направить на них очень маленькие электромагнитные волны (также известные как рентгеновские лучи) и посмотреть, как они отражаются (этот процесс называется дифракцией). Специальная пленка ловит пики этих отраженных волн, а расстояние между ними и их сила позволяют воссоздать форму того, от чего они были отражены.
Осенью 1994 года я запросила доступ к лаборатории рентгенодифракционного анализа, которая находилась на противоположном конце кампуса от моей. Мне выделили несколько часов, в течение которых я могла использовать рентгеновский аппарат. Результатов этих исследований я ждала с тем же радостным возбуждением, с которым люди ждут бейсбольного матча: сбыться могут самые смелые мечты, но, вероятно, далеко не сразу.
Поразмыслив, я решила использовать оборудование ночью, хотя до последнего сомневалась в правильности этой идеи. Дело в том, что в той же лаборатории работал странный парень, уже получивший степень; его мрачный вид каждый раз выбивал меня из колеи. Любой взгляд или вопрос мог спровоцировать у него вспышку гнева — причем особенно угрожающе он взирал на лиц противоположного пола, которым случалось проходить мимо. Это ставило меня перед нелегким выбором. Приди я днем, мы точно столкнемся в лаборатории — но вокруг будут другие люди и я смогу использовать их в качестве живого щита. Ночью я, скорее всего, смогу поработать одна, но, если он вдруг решит туда заглянуть, я окажусь беззащитной. В конце концов я все же забронировала время на полночь, однако прихватила с собой большой разводной ключ. Как именно его можно использовать в целях защиты, мне придумать так и не удалось, но сама его тяжесть в заднем кармане придавала уверенности в себе.
Оказавшись в лаборатории, я первым делом покрыла предметное стекло закрепляющей эпоксидной смолой, а потом распылила на него пудру, полученную после измельчения косточки каркаса западного. Готовое стекло отправилось в аппарат; я аккуратно все настроила и включила рентген. Выставив ленту самописца, я тихо понадеялась про себя, что чернил внутри хватит на сегодняшний прогон, и устроилась рядом, чтобы наблюдать и ждать результата.
Когда в лабораторном эксперименте что-то идет не так, можно хоть землю с небом поменять местами — это все равно не поможет. И, напротив, есть опыты, которые просто невозможно провести неправильно, даже приложив к этому все усилия. Мне повезло: данные рентгеновского анализа при каждом повторе показывали один четкий и однозначный пик ровно под одним и тем же углом дифракции.
Мы с научным руководителем ожидали увидеть множество мелких острых пиков — но на ленте был только длинный широкий росчерк чернил, говорящий о том, что на предметном стекле находится опал. Я стояла и смотрела на ленту самописца, понимая, что эти данные невозможно понять неправильно — даже если вы очень постараетесь. Это был опал. Я точно это знала, я могла обвести это слово в кружок и расписаться в его правдивости. Глядя на работающий прибор, я думала о том, что теперь обладаю знанием, которое еще час назад было абсолютно никому не доступно, и постепенно сознавала, насколько сильно изменилась сейчас моя жизнь.
В тот момент во всей нашей стремительно расширяющейся вселенной я была единственным существом, знавшим, что принесенная мной в лабораторию пыль состоит из опала. Во всем этом немыслимо огромном мире, населенном невероятным множеством людей, я вдруг стала не просто маленькой и незначительной, но — особенной; не только забавным и неповторимым набором генов, но и личностью, обладающей неповторимым знанием. Благодаря тому, что я сумела увидеть и понять, я узнала кое-что о самом Творении. Пока я не позвоню кому-нибудь и не поделюсь своим открытием, информация о том, что в основе защитной структуры семени дерева каркаса лежит опал, принадлежит только мне. Важна она или нет — другой вопрос. Пока же я просто стояла и впитывала это озарение. Так перевернулась новая страница моей биографии: мое первое научное открытие было бесценно, как бесценна самая дешевая пластиковая игрушка в ту минуту, когда тебе ее дарят.
В лаборатории я была всего лишь гостем, а потому старалась ничего не трогать — просто стояла и смотрела в окно, ожидая восхода солнца. Кажется, по моим щекам скатилась пара слез, но почему? Из-за того, что я не принадлежала никому как жена и мать? Или из-за того, что не чувствовала себя ничьей дочерью? Или оттого, насколько прекрасна была единственная линия на ленте самописца, на которую я теперь могла указать и сказать, что это мой опал?
Вся моя жизнь и работа вели к этому моменту. Разгадав загадку каркаса западного, я доказала что-то самой себе — и наконец узнала, в чем заключается настоящая работа исследователя. Это был восхитительный день — и один из самых одиноких. Где-то глубоко внутри я понимала, что смогу стать хорошим ученым, но шанс стать такой же женщиной, как все мои знакомые, утрачу при этом навсегда.
Пройдут годы, и я выработаю для себя новые представления о нормальности, справедливые внутри моей лаборатории. У меня появится брат — роднее тех, с кем я связана кровными узами; человек, которому можно позвонить в любое время дня и ночи и сплетничать так откровенно, как я не позволяла себе с подружками. Всю оставшуюся жизнь мы будем вместе расширять границы собственных представлений об абсурде — и то и дело напоминать друг другу об особенно забавных его проявлениях. Я выращу новое поколение студентов: многие придут за обыкновенным человеческим вниманием, но некоторые действительно раскроют тот потенциал, который я в них вижу…
Однако в тут ночь я вытирала слезы, недоумевая, почему плачу над событием, которое большинству людей покажется незначительным или даже откровенно скучным. За окном, заливая лучами кампус, медленно разгоралось солнце. Интересно, был ли тогда на свете другой человек, для которого этот рассвет оказался таким же прекрасным?
Разумеется, мне еще до полудня скажут, что в этом открытии нет ничего особенного. Другой ученый — старше и мудрее — объяснит, что полученный результат он давно предполагал. Пока он будет рассуждать о том, что все мои наблюдения — это не настоящее открытие, а лишь подтверждение очевидного, я буду вежливо слушать и соглашаться. Потому что его слова не имеют значения. Ничто и никогда не лишит меня этой ошеломляющей радости от встречи с маленькой тайной, которую вселенная раскрыла мне одной. Инстинктивно я понимала, что, узнав однажды маленькую тайну, смогу потом раскрыть и большую.
Солнце поднималось все выше, рассеивая туман над Заливом, а с ним рассеивалось и мое сентиментальное настроение. Я отправилась обратно к зданию, где обычно работала. Прохладный воздух пах эвкалиптом — этот аромат всегда будет напоминать мне о жизни в Беркли, хотя в то утро кампус казался вымершим.
В лаборатории я с удивлением обнаружила сперва включенный свет, а потом и Билла, который восседал посреди комнаты на старом садовом стуле и неотрывно пялился в противоположную стену. Объяснялся его отсутствующий взгляд просто — Билл слушал радиопередачу на маленьком переносном приемнике.
— Привет! Нашел этот стул на помойке за McDonald's, — сообщил Билл, заметив меня. — По-моему, прикольный.
С этими словами он поерзал на стуле и еще раз окинул его довольным взглядом.
Я была искренне рада встрече — иначе мне пришлось бы еще часа три ждать собеседника.
— Мне нравится. Можно тоже на нем посидеть?
— Не сегодня. Может быть, завтра. — Билл секунду поразмыслил. — А может, и нет.
Я невольно задумалась, как же нелепо звучит все, что исходит из уст этого парня.
А потом, вопреки вбитым в меня законам скандинавского общества, решила поделиться с Биллом своим открытием — и величайшим в жизни достижением на тот момент.
— Видел когда-нибудь рентгенографию опала? — спросила я, протягивая ему бумаги.
Билл потянулся к приемнику и вытащил из него батарейку: кнопка выключения давно не работала. Потом поднял на меня взгляд:
— Я знал, что сижу здесь не просто так, а потому, что чего-то жду. Видимо, я ждал именно этого.
* * *
Теперь, когда я знала, что в косточках каркаса западного содержится опал, мне предстояло рассчитать температуру, при которой он формируется внутри плода. Хотя скелет косточки и в самом деле содержал опал, в ячейках этой структуры находилось рассыпчатое вещество арагонит (модификация карбоната кальция) — минерал, входящий в том числе в состав панциря улитки. Чистый арагонит легко получить в лаборатории: нужно просто смешать два перенасыщенных раствора, и кристаллы будут конденсироваться внутри него, как туман в облаке. Изотопный состав кристаллов жестко связан с температурой, а это значит, что по соотношению изотопов кислорода (изотопной подписи) единственного кристалла можно установить точную температуру, при которой образовалась упомянутая смесь. Этот опыт я могла поставить идеально сто раз из ста. Его невозможно провалить. Моей же задачей было убедиться, что утверждение верно и для дерева, точнее — для процесса внутри его плода, где смешивались древесные соки и зарождались кристаллы арагонита.
Эту идею мой научный руководитель развернул на пятнадцати страницах запроса на грант от Национального научного фонда; независимые эксперты ее одобрили и рекомендовали к финансированию. Поэтому весной 1995-го я отправилась обратно на Средний Запад в поисках идеального для исследований дерева. Выбор мой пал на три взрослых каркаса, растущих на берегах реки Саут-Платт неподалеку от Стерлинга, Колорадо. От места, где я могла переночевать и где мне всегда были рады, дотуда было меньше суток езды. Сидя под бескрайним, невообразимо голубым небом, я размышляла, как особенности реки в сочетании с особенностями плодов, вызревших этим летом, позволят мне вычислить среднюю температуру за нужный период. Окончательно уверившись в успехе и огородив подопытных канатом, я наблюдала за ними, как будущий отец наблюдает за беременностью жены: с восторгом ожидания, но не имея возможности принять непосредственное участие. Обстановка накалилась до предела, когда стало ясно: ни один каркас в зоне видимости в это конкретное лето ни цвести, ни плодоносить не собирается.
Поверьте, ничто так не подчеркивает человеческую беспомощность, как отказавшееся зацветать дерево. Я не привыкла к людям — не говоря уж о вещах! — которые не соглашались делать то, что мне нужно, а потому тяжело переживала поражение. Единственным моим другом в округе Логан был парень по имени Бак — кассир из винного магазина на перекрестке шоссе. Вместе мы пытались разобраться, почему так вышло. Я приходила в магазин не столько за пивом, сколько чтобы остыть под кондиционером, — но Бак быстро счел меня «своей» и ворчливо заметил, что я держусь «очень неплохо для старушки». Истолковав это как разрешение, я стала там практически завсегдатаем. Лето проходило, Бак веселился, что ему в лотерею везет больше, чем мне с деревьями, — однако избегал чересчур над этим подшучивать, хотя я по поводу его гипотетических выигрышей раньше не сдерживалась.
Бак вырос на одном из здешних ранчо, поэтому меня не отпускало смутное ощущение, будто он причастен — хотя бы косвенно — к бунту моих деревьев и несет за них определенную ответственность.
— Почему они не цветут? — вопрошала я. — Почему именно в этом году?
Я внимательно изучила все данные о местном климате и не нашла в погоде ничего подозрительного.
— Такое случается время от времени. Кто-нибудь из местных мог бы тебя предупредить, — отвечал Бак, демонстрируя мрачное сочувствие, редко присущее ковбоям.
Я была убеждена, что это знак и моей научной карьере вскоре придет конец. В голове уже мелькали панические видения скотобойни, где я стою у конвейера, обрезая челюсти у свиных голов — одну за другой, точно так же, как на протяжении почти двадцати лет делала мама кого-то из моих школьных друзей.
— Меня не устраивает это объяснение, — возражала я Баку. — Должна быть другая причина.
— Нет у деревьев никаких причин, они просто делают так, и все, — бурчал Бак. — Хотя даже не делают — они просто есть. Черт, в отличие от нас с тобой, они вообще не живые.
Похоже, это был предел. Что-то во мне или в моих вопросах вызвало у него ужасное раздражение.
— Да господь милосердный, — добавил Бак с явной досадой. — Это просто деревья!
В тот день я ушла из магазина, чтобы больше в него не вернуться.
В Калифорнию я прибыла на щите и в отчаянии.
— Если бы у меня была машина, которая точно не развалится по дороге, я бы предложил съездить туда и поджечь одно из твоих деревьев, — сказал Билл, сосредоточенно высыпая остатки чипсов из пакета в одну из лабораторных воронок. — Оно бы горело, а остальные смотрели. Потом мы спросили бы их, не захотелось ли им внезапно все-таки зацвести. Возможно, они и согласятся.
Билл прочно обосновался в нашей лаборатории. Каждый день он появлялся там примерно в четыре пополудни и оставался с нами на восемь или десять часов — в зависимости от того, как хотелось ему самому и насколько нам нужна была помощь. Тот факт, что платили ему за десять часов в неделю (а не в день), нимало его не смущал. К тому же Билл с удивительным спокойствием внимал моим многочасовым рассуждениям о деревьях — а я продолжала говорить о них каждый вечер, пока мы над чем-то работали. Когда настала пора ехать в Колорадо в последний раз, Билл настоятельно предложил мне взять пневматическое ружье и провести пару дней, паля из него по листьям и веткам.
— Я вроде не лесничий, но даже мне это кажется неуместным, — отказалась я. — Да и вообще, как это поможет?
— Тебе сразу станет легче, — сочувственно пояснил Билл. — Поверь мне.
То лето в Колорадо стало одним большим провалом по сбору данных, но оно же и преподало мне самый важный урок в освоении науки: суть эксперимента не в том, чтобы заставить окружающий мир исполнять твои желания. Осенью, зализывая раны, я взрастила на пепелище новую цель. Отныне я буду изучать растения иначе: не снаружи, а изнутри. Я пойму, почему они сделали то, что сделали, и попытаюсь проникнуть в их логику: пользы от этого всяко будет больше, чем если полагаться на собственные домыслы.
Каждый вид, существовавший на Земле в прошлом или настоящем, — от одноклеточных микробов до огромных динозавров, маргариток, деревьев и даже людей, — должен для продолжения жизни справиться с пятью задачами: ростом, размножением, восстановлением, накоплением ресурсов и самозащитой. Мне было двадцать пять, и я уже догадывалась, что с размножением у меня могут возникнуть трудности. Нелегко было поверить, что фертильность, потенциал, время, желание и любовь сойдутся в нужный момент вместе, — но большинство женщин как-то же справлялись. В Колорадо я так зациклилась на том, чего мои деревья не делали, что совершенно упустила из виду то, что они все-таки делали. Возможно, цветы и плоды тем летом уступили место чему-то другому, а я даже не обратила внимания. Деревья всегда что-то делают — постоянно держа в голове этот факт, я приближалась к решению проблемы.
Мне необходимо было перестроить свое восприятие: научиться видеть жизнь глазами растений, поставить себя на их место и разобраться, как они функционируют. Конечно, войти в их микрокосм не получится, но насколько близко к нему можно подобраться? Я попыталась вообразить новую науку об окружающей среде — основанную не на антропоцентричном видении мира, в котором в числе прочего есть растения, а на вселенной растений, где существуем и мы сами. В памяти тут же начали всплывать лаборатории, где я когда-то работала, удивительные аппараты, реактивы и микроскопы, приносившие мне столько радости… Что из области точных наук понадобится мне на выбранном пути?
Оригинальность такого подхода искушала; да и что могло меня остановить, кроме страха осуждения за «ненаучность»? Если признаться окружающим, что я исследую, «каково быть растением», кто-то отмахнется, расценив мои слова как шутку, — но другие захотят стать частью этого приключения. Возможно, упорная работа возместит нестабильность научной почвы под нашими ногами. Я ни в чем не была уверена, но уже чувствовала легкое покалывание, которое позже перерастет в волну азарта, несущую меня по жизни. Это была новая идея, мой первый настоящий лист. И, как и любое другое отважное семечко, я надеялась придумать что-нибудь, пока расту.
9
Любое растение можно разделить на три компонента — лист, стебель и корень. Все стебли устроены одинаково: это связка проводящих трубок, единство микроскопических протоков, несущих воду от корней вверх, а питательные сахара от листьев — обратно вниз. Деревья в этом смысле уникальны, потому что их стебли могут достигать в длину почти 100 метров и сделаны из того удивительного вещества, которое мы называем древесиной.
Древесина прочна, легка, отличается гибкостью, не токсична и не боится воды; за тысячи лет существования человеческой цивилизации мы так и не придумали строительного материала лучше. Деревянный брус крепок, как железный, но при этом остается в десять раз более гибким и почти в десять раз менее тяжелым. Даже в эпоху высокотехнологичных предметов, созданных руками человека, мы продолжаем строить дома из досок и бревен. За последние двадцать лет в одних только Соединенных Штатах на стройках использовали такое количество брусьев, что из них можно было бы сложить мост от Земли до Марса.
Люди рубят деревья, распиливают бревна на доски, сколачивают те гвоздями в кубические конструкции, а потом живут и спят внутри. Самим же деревьям стволы нужны совершенно для другого — в первую очередь чтобы сражаться с остальными растениями. Одуванчик и нарцисс, папоротник и инжир, картофель и сосна — все, что растет на земле, вечно конкурирует за два ценнейших ресурса: свет, идущий сверху, и воду, поступающую снизу. В состязании между двумя растениями всегда побеждает тот участник, которому удастся подняться выше и пробраться глубже, чем другому. Только представьте, каким преимуществом в этой борьбе обладают деревья: они вооружены жесткой, но гибкой и легкой, но прочной древесиной, которая отделяет — и одновременно связывает — листья и корни. Неудивительно, что они выигрывают эту битву вот уже больше 400 миллионов лет.
Древесина на редкость практичный материал, изобретенный однажды Природой и с тех пор сохранившийся неизменным. От центра (или сердцевины) ствола расходится сеть трубок ксилемы (древесины), которая транспортирует воду от корней вверх, и флоэмы (луба), которая проводит сладкий сок от листьев вниз. Между ксилемой и флоэмой формируется камбиальное кольцо из делящихся клеток (камбий). Дерево растет в толщину за счет камбия, который наиболее активно работает весной, замедляет работу к осени и прекращает делиться зимой. Так образуются годичные кольца — именно их мы видим на спиле ствола. Проводят воду только молодые сосуды древесины. Когда в них отпадает необходимость, они все равно сохраняются в стволе, принимая роль его опоры.
Спил — биография дерева, по которой, в частности, можно узнать его возраст: каждый год камбиальный слой создает новое кольцо древесины. Скрыто в нем и много другой информации, но ключ к этому коду ученые пока не подобрали. Нам известно, что необычно толстое кольцо может означать как исключительно хороший период в жизни дерева, сопровождавшийся бурным ростом, так и обычный всплеск гормонов, характерный для взросления или вызванный контактом с пыльцой из неизвестного источника. Если какое-то кольцо с одной стороны шире, чем с другой, значит, дерево потеряло ветку: это нарушает равновесие, и клетки ствола начинают размножаться активнее, чтобы восстановить баланс и поддержать вес кроны.
Потеря одной из «конечностей» для дерева не редкость. Жизнь множества ветвей обрывается еще до того, как им удается как следует вырасти — в основном по вине внешних сил: ветра, молний или банальной силы притяжения. Если избежать проблем невозможно, нужно запастись тактикой по их решению, а в этом деревья — настоящие специалисты. Камбию понадобится год на то, чтобы закрыть «рану» новой прочной оболочкой. Еще несколько лет он будет накладывать на это место слои защитных клеток — и вот уже на поверхности незаметно даже шрама.
В Гонолулу, на пересечении Маноа-роуд и Оаху-авеню, раскинулось огромное дерево саман, также известное как дождевое дерево (Pithecellobium saman). На высоте почти 16 метров его ветви образуют над шумным перекрестком гигантский шатер. В кроне нашли приют орхидеи: они гнездятся там кустиками, напоминающими верхушки ананасов, а нагие корни спускают вниз. Между ними перепархивают дикие попугаи, которые шумно хлопают лимонно-желтыми крыльями и осыпают ругательствами снующих внизу пешеходов.
Дождевое дерево, как и многие выходцы из тропических лесов, постоянно в цвету: крупные сферы нитевидных шелковистых лепестков розового и желтого цвета круглый год тянутся к туристам, которые спешат к знаменитым водопадам Маноа — но задерживаются здесь, чтобы сделать несколько снимков. В фотоальбомах по всему свету можно найти фотографии дождевого дерева с перекрестка Маноа-роуд и Оаху-авеню. Тысячи и тысячи кадров запечатлели попытки охватить его величественную крону, раскинувшуюся на 700 квадратных метров и унизанную цветами.
С точки зрения туристов, это дерево находится в идеальной форме: они не видели его не реализовавшим свой потенциал или вынужденным расти как-то иначе для компенсации потерянных «конечностей». Если его когда-нибудь спилят, мы сможем взглянуть на годичные кольца, посчитать узлы и узнать, скольких веток оно лишилось за последний век. Но пока оно высится на своем перекрестке, мы видим только ветви, которым повезло выжить, и не скорбим о потерях.
Каждый кусочек дерева в вашем доме — например, мебель или стропила — когда-то был частью организма, стремившегося навстречу солнцу. Приглядитесь к структуре этих предметов — возможно, вы различите очертания годичных колец. Они могут рассказать вам про пару лет из жизни этого дерева. Каждое хранит память, как шли в те годы дожди, дули ветра и восходило солнце, — но поделится своими воспоминаниями только с тем, кто умеет слушать.
10
Остаток 1995-го миновал быстро. Я сдала архисложный устный экзамен, который шел три часа и по итогам которого меня допустили к написанию диссертации; после этого мне не оставалось ничего, кроме как сесть и все-таки ее написать. С этой задачей я тоже разделалась быстро, надолго погружаясь в работу и печатая под монотонное бормотание телевизора, который не давал чересчур задумываться о собственном одиночестве. Степень мне присудили почти сразу же после окончания диссертации. Четыре года, что были потрачены на ее получение, пролетели в мгновение ока. Я понимала, что должна быть в два раза активнее и дальновиднее своих конкурентов-мужчин, а потому начала искать профессорскую ставку еще на третьем курсе — и преуспела, получив предложение в быстро развивающийся государственный вуз, Технологический институт Джорджии. Начинался следующий этап моей карьеры (по крайней мере так твердили все вокруг).
В мае 1996-го Билл получил диплом бакалавра на той же пафосной церемонии, где мне вручили докторский диплом. Мы оба пришли туда без семьи и родных, поэтому в какой-то момент обнаружили себя неловко жмущимися в углу, пока остальных выпускников обнимали, поздравляли и фотографировали их близкие. Спустя час мы поняли, что бесплатный бокал шампанского не стоит этой пытки, и отправились обратно в лабораторию. Там мантии были сняты, скомканы и брошены в угол, на смену им пришли привычные белые халаты, и все сразу встало на свои места. Вечер только начинался: было девять часов, еще даже не пик работы.
Мы решили заняться пайкой стекла — нашим любимым полночным развлечением. Задача заключалась в том, чтобы запечатать крошечный объем чистого углекислого газа в тридцать стеклянных трубок. Они понадобятся в качестве эталона при работе с масс-спектрометром: в каждой будет содержаться известное вещество, с данными которого я смогу сравнивать другие образцы. Изготовление их занимает прилично времени, а запасы приходится пополнять примерно раз в десять дней. Как и многое, что происходит в лаборатории, эта работа выполняется незаметно, остается неизменно скучной, но при этом требует аккуратности и не терпит ошибок.
Устроившись рядом, Билл работал над первым этапом — плавил конец стеклянной трубки. Для этого в его распоряжении была ацетиленовая горелка: пламя выставлялось на малую мощность и усиливалось потоком чистого кислорода. В целом похоже на навороченный гриль-барбекю, только пламя вырывается из одного маленького отверстия, поэтому раструб важно отвернуть от лица. При этом свет от горелки настолько яркий, что может повредить глаза, — так что мы с Биллом работали в затемненных очках.
При комнатной температуре стекло твердое и хрупкое, но при нагреве до нескольких сотен градусов превращается в ослепительно сияющую тянучку. При контакте с ним легко воспламеняются бумага и дерево — настолько высока температура. Всего одна капля, случайно попавшая на кожу, прожжет вашу руку до кости, и остудить ее сможет только хлынувшая кровь. Правила университета вряд ли позволяли студентам принимать участие в таких опасных работах, но Билл мгновенно обучился всему, что я ему показала, затем плавно переключился на починку поломанного, а после этого перешел к профилактическому обслуживанию лаборатории — исключительно по собственной инициативе. У нас больше не осталось для него поручений, а я не видела причин удерживать его от выполнения более сложных задач — потому и обучила паять стекло.
За работой я думала о том, что ждет меня впереди, — и неизменно видела будущее, в котором провожу один вечер в неделю за изготовлением индикаторных трубок. Постепенно увядая и седея, я буду наблюдать за танцем иголки измерительного датчика — такого же, какой стоит передо мной сейчас. Было что-то мрачное и одновременно успокаивающее в этой мысли. Одно я знала точно: другого будущего я и представить не могу.
Вынырнув из мечтаний, я бросила взгляд на показания датчика. Игла не шевелилась — значит, газа больше не осталось: он весь перекочевал в трубку и будет заморожен в этой ловушке. Запечатав расплавленный конец, я установила образец так, чтобы раскаленная часть трубки постепенно остывала, пока ее содержимое оттаивает.
Затем я обернулась к поглощенному работой Биллу и заговорщицким тоном предложила:
— Включим радио?
Болтовня ведущих оживила бы монотонность нашего занятия приятным фоновым шумом. Обычно в лабораториях это запрещено, особенно при выполнении опасной и кропотливой работы. Нельзя отвлекать часть мозга от выполняемой задачи, если каждое движение в процессе важно для сохранения безопасности и обеспечения успеха, — так нас учили.
— Давай, конечно, — немедленно согласился Билл. — Только чур не Национальное. Не хочу, чтобы мне выедали мозг страданиями рыбаков из местечка, которое я даже на карте найти не могу. Своих проблем хватает.
Я подумала, что понимаю, о чем он, но промолчала. Не так давно я подбрасывала его до обшарпанного многоквартирного дома рядом с самым криминальным районом Окленда, так что знала: хоть он официально и не бездомный, место для жилья у него не самое привлекательное. Мы проводили вместе кучу времени, однако Билл оставался для меня загадкой. Я могла с уверенностью сказать: нет, он не принимает наркотики, не прогуливает занятия и не мусорит на улицах — последнее на самом деле удивительно, учитывая его грубоватые манеры, — но не более того.
Поэтому я просто сняла защитные очки и присела за радиоприемником, перебирая частоты в поисках какого-нибудь ток-шоу. Регулятор был сломан и плохо слушался, частоты приходилось выставлять вручную, иначе они не переключались. Последнее, что я тогда услышала, — невероятно громкий и резкий хлопок, как будто у меня в голове разорвалась петарда. После этого на пять минут воцарилась абсолютная тишина. Ни звука. Не слышно было даже дыхания, гула систем кондиционирования или пульсации крови в голове. Ничего.
Я в ужасе вскочила и увидела, что мое рабочее место и все вокруг него усыпано осколками стекла. Билла нигде не было — я осталась одна. В панике выкрикнув его имя, я поняла, что не слышу собственного голоса, и перепугалась еще больше. Однако в следующую секунду из-за стойки показалась голова Билла; глаза у него были размером с блюдца. Услышав звук, похожий на выстрел, он нырнул под стол и прятался там, пока я его не окликнула.
В ту же секунду я поняла, что произошло. Дело было в индикаторной трубке, с которой я работала. Замечтавшись, я продержала иглу внутри слишком долго, и в трубке оказалось больше углекислого газа, чем она могла вместить. Когда она была запечатана, замороженный газ начал согреваться, расширился и просто разорвал контейнер на части. При этом взрывная волна задела уже подготовленные трубки, которые Билл сложил вместе, — таким образом уничтожив результат нескольких дней работы и усеяв всю комнату градом острых осколков.
В задней панели приемника застряло немало такой «шрапнели»: в основном крошечные кусочки, среди которых попадались и довольно большие фрагменты. Если бы я в тот момент не склонилась к ручке управления, этот стеклянный дождь, несомненно, попал бы мне в глаза. Меня охватил иррациональный страх: на минуту показалось, что сейчас все в комнате взорвется. Я начала бешено оглядываться по сторонам, постепенно сознавая: мы в безопасности — как минимум потому, что все имеющееся стекло и так уже взорвалось. Тревога отступала, слух возвращался, а с ним пришла и страшная боль, огнем обжигавшая голову при каждом, пусть и едва различимом звуке. Казалось, мои барабанные перепонки оголены, а из ушей вот-вот пойдет кровь.
«Мне здесь не место, — подумала я. А через секунду: — Что, черт возьми, я тут делаю?»
Я все испортила. Это было ужасно.
Билл выключил горелки и обошел лабораторию, методично отсоединяя все приборы. Я продолжала стоять на месте, не зная, как быть дальше. Ощущение было такое, будто вместе с запасами индикаторных трубок взорвался и весь мой мир.
«Ученые не попадают в такие ситуации. Только полная дура могла так облажаться», — твердила я себе, не в силах даже поднять на Билла глаза.
— Я выйду покурить? — нарушил молчание Билл. Голос его звучал абсолютно спокойно, что только усиливало чувство нереальности происходящего.
Я кивнула и поморщилась. Уши болели просто невыносимо.
Билл скрипуче прошагал по битому стеклу, градом усыпавшему пол, к двери. Там он остановился и обернулся ко мне:
— Идешь?
— Я не курю, — жалобно пробормотала я.
Билл кивком указал на коридор:
— Ничего, я тебя научу.
Мы вышли на улицу, миновали несколько зданий по направлению к Телеграф-авеню и уселись на бордюре, поеживаясь в легких футболках от ночной прохлады. Билл зажег сигарету. По Беркли тут и там бродили привычные для этого времени суток персонажи, некоторые — увлеченно беседуя с самими собой.
Я подтянула колени к груди и прикусила костяшки пальцев: привычка, старательно скрываемая от остальных. В лаборатории меня обычно спасали перчатки, но сейчас бороться с тревогой не было сил. Я кусала правую руку, пока не почувствовала, что на губах стало солоно от крови. Этот вкус и боль успокаивали меня, так что я продолжала снова и снова вгрызаться в саднящую кожу между костяшками. Пройдет несколько месяцев, и я стану профессором — но в ту ночь казалось, что у меня никогда и ничего уже не получится.
Билл затянулся.
— У нас была собака, которая грызла лапы, — сообщил он.
— Да, знаю, это ужасно. — Меня накрыло чувством стыда. Сжавшись в комок, я прижала кулаки к животу, чтобы удержаться от соблазна.
— Отличная собака, — продолжил он. — Нам пофиг было. Такая замечательная псина могла делать, что ее душе угодно.
Я уткнулась головой в колени и закрыла глаза. Так мы и сидели в молчании, пока Билл докуривал свою сигарету.
Спустя какое-то время мы вернулись в лабораторию и аккуратно собрали все осколки. Я была рада, что инцидент произошел поздно ночью, — но испытывала вину, думая о том, как именно избежала наказания за столь серьезную ошибку.
— Уже решил, чем займешься в следующем году? — спросила я Билла, пока мы заметали битое стекло. Узнав, что он получил по почвоведению диплом с отличием, я ничуть не удивилась и решила, что его уже ждет подходящая должность: наш отдел славился умением пристраивать выпускников.
— Пока план такой, — невозмутимо начал Билл. — Я выкапываю во дворе у родителей еще одну яму и переезжаю в нее жить.
Я кивнула.
— Там я буду курить, — добавил он. — Пока не кончатся сигареты.
Я снова кивнула.
— Потом, наверное, сяду и буду грызть руки.
Я колебалась недолго.
— Тогда как насчет того, чтобы переехать в Атланту и помочь мне построить лабораторию? Я даже смогу платить тебе зарплату. То есть почти уверена, что смогу.
Билл серьезно обдумал мое предложение.
— А радио можно будет с собой взять? — спросил он, указывая на испещренный дырками пластиковый приемник, который мы уже почти собрались выкинуть в мусорный бак за зданием.
— Конечно, — ответила я. — У нас таких будет целая куча.
* * *
Два месяца спустя мы погрузили все наши пожитки в мой пикап — они легко в нем поместились — и двинули в Южную Калифорнию, к семье Билла. Мы договорились, что я уеду в Джорджию первая, чтобы успеть к началу осеннего семестра, а он останется в родительском доме и присоединится ко мне через несколько месяцев.
Родители Билла оказались исключительно гостеприимными хозяевами — они встретили меня как давно потерянную и вновь обретенную дочь. Отцу Билла на тот момент было около восьмидесяти, и он оказался просто кладезем потрясающих историй. Всю свою жизнь он проработал независимым режиссером-документалистом, фиксируя на пленку свидетельства армянского геноцида, от которого был вынужден бежать вместе с семьей еще ребенком. Благодаря финансированию Национального агентства по поддержке искусства над этими фильмами работала вся семья. В детстве Билл и его братья осваивали мастерство членов съемочной группы, путешествуя за отцом по Сирии. Дома, недалеко от Голливуда, они монтировали отснятый материал и помогали ухаживать за огромным садом. Отец Билла отвечал за то, чтобы все шло в рост, а мать следила, чтобы я ела апельсины только с лучшего дерева.
В ночь накануне отъезда я лежала на кровати в комнате сестры Билла, смотрела в потолок и думала о будущем. На следующее утро мне предстоит миновать Барстоу, выехать на трассу 40 и навсегда проститься с Калифорнией. Это будет не первый раз, когда я оставлю за плечами знакомое и привычное, чтобы никогда больше не вернуться. Так я уехала из дома в колледж и из колледжа в университет: все вокруг были уверены, что я к этому готова. Все, кроме меня. Однако в этот раз — впервые — там, куда я еду, ко мне присоединится настоящий друг. Я уже понимала, как это важно, чтобы вознести Богу искреннюю благодарность.
* * *
Первого августа 1996 года я официально получила право называться старшим преподавателем Технологического института Джорджии. Предполагалось, что я буду вести себя соответственно, вот только мне было всего двадцать шесть, и я понятия не имела, что в таком случае требуется делать. Бывали дни — и немало, когда я по шесть часов готовилась к часовому аудиторному занятию. Наградой за эти мучения была возможность засесть в кабинете, выбирая и заказывая реактивы и оборудование — будто счастливая невеста, составляющая список подарков. Когда все заказы наконец были доставлены, из них получилась целая картонная гора в подвале. На почте при получении на всех коробках писали «Джарен». Прислонившись к стене, я разглядывала эту башню, на каждом кирпичике которой значилась моя фамилия двадцатью разными почерками, — прекрасная картина! Билл должен был приехать в январе, тогда нам и предстояло все разложить и расставить — создать свою чудесную страну, о которой мы так часто грезили в Калифорнии. Мне хотелось вскрыть коробки вдвоем, но ожидание это было сравнимо с тем, которое мучает ребенка рождественским утром. Я то и дело вытягивала из стопки какую-нибудь коробку, трясла ее, пытаясь угадать, что внутри, даже начинала распаковывать — но потом одергивала себя и возвращала на место.
Младшим курсам я читала геологию, старшим — геохимию. Это оказалось гораздо труднее, чем можно было предположить. Думаю, в течение первого семестра я сделала в домашних работах ошибок больше, чем все мои студенты. В конце концов за мной закрепилась репутация доброго и всепрощающего преподавателя, готового всем поставить «отлично». Меня это устраивало, ведь я была ненамного старше своих студентов и младше многих аспирантов. В таких условиях тяжело казаться жесткой. К тому же мне все равно не слишком нравились курсы лекций: самые важные знания я получила, работая руками.
Несмотря на это, я честно исполняла обязанности лектора: писала на доске уравнения, раздавала и собирала тетради с домашней работой, отсиживала приемные часы и принимала экзамены. Но больше всего меня занимало приближение нового года, когда мы с Биллом начнем строить мою — и только мою! — первую лабораторию.
Встречать его в аэропорт Атланты я приехала на час раньше нужного — да так и застряла у лент выдачи багажа, завороженная их движением. Неожиданно позади раздался знакомый голос:
— Эй, Хоуп, я тут.
Обернувшись, я увидела Билла, который стоял через два транспортера от меня. Компанию ему составляли четыре тяжелых старомодных чемодана без колесиков или ремней.
— Ой, привет!
Очевидно, я ждала не у той ленты выдачи. Быстро оглядевшись в попытке скрыть смущение, я поняла, что не помню, узнавала ли вообще номер нужной. Не помнила я и того, как парковала машину, хотя в руках у меня был талон на парковку с нацарапанным моим почерком номером места — С2. Такое случалось со мной довольно часто: фрагменты жизни выпадали из памяти тут и там, и, как бы я ни старалась скрыть проблему, ситуация ухудшалась. Я даже обратилась с ней к врачу, который посвятил мне целых сорок пять секунд, сказал, что я слишком много работаю, и выписал многократный рецепт на легкое успокоительное.
— Ты изменилась, — заметил Билл.
Он был прав: я мало спала и довольно сильно потеряла в весе. На самом деле я всегда была легковозбудимой, но чувствовала, что сейчас дело не в этом.
— У меня новая фишка. Называется «тревожное расстройство», — сообщила я, сделав страшные глаза. — Им страдают более двадцати пяти миллионов американцев.
Это была цитата из брошюрки, которую дал мне доктор.
— Ясно. — И Билл, осмотревшись по сторонам, добавил: — Так вот, значит, какая Атланта. Боже, что мы вообще тут делаем?
— Это наша последняя надежда на мир! — пафосно ответила я слоганом из «Вавилона-5», стараясь, чтобы голос прозвучал как у актера закадровой озвучки, а потом рассмеялась собственной шутке. Билл даже не улыбнулся.
Мы прошли по галерее к парковке и отыскали мой автомобиль. Забросив поклажу в багажник, Билл устроился на пассажирском сиденье.
— Никогда раньше не забирался так далеко на восток, — сказал он. — Здесь хотя бы сигареты продают?
Я передала ему нераспечатанную пачку Marlboro Lights, уже несколько месяцев болтавшуюся в сумке.
— Прости, я так и не научилась курить. Зато с этой штукой у нас почти гармония. — Я потрясла перед ним пузырьком лоразепама.
— Каждому свое, — пробормотал Билл, закуривая. Затем опустил стекло и выкинул спичку в окно.
Едва вдохнув дым от его сигареты, я почувствовала, как знакомый запах приносит спокойствие. Билл искренне обрадовался, обнаружив, что слово «зима» на Юге почти ничего не значит. Пока мы ехали с открытыми окнами (и не пристегивая ремней) все дальше по окружной автостраде, навстречу ломаному силуэту Атланты на горизонте, внутри меня разгоралось чувство глубокой и в то же время простой радости: я не одна.
Прошло несколько минут, прежде чем стало ясно: я понятия не имею, куда везу Билла. В памяти сразу всплыл вечер двухгодичной давности, когда мы точно так же возвращались из экспедиции и его нужно было отвезти домой последним.
— Пока ты ищешь себе жилье, мой диван в твоем полном распоряжении, — предложила я.
— Нет, спасибо. Высади меня потом где-нибудь в центре, я разберусь, — ответил Билл. — Прямо сейчас я хочу только увидеть новую лабораторию.
— Ясно, — кивнула я. — Тогда едем.
Добравшись до университета, я оставила машину на парковке возле нашего здания, известного как «старый инженерный корпус», — хотя отдел инженеров давно уже съехал из него в поисках лучших мест. Там мы вместе спустились по лестнице и прошли в подвал, в комнату, которой предстояло стать нашей лабораторией. Поворачивая в замке ключ, я с трудом сдерживала восторг.
Правда, стоило двери распахнуться, я поняла, что показать-то мне особо и нечего. Это была комната без окон площадью 55 квадратных метров; взглянув на нее глазами стороннего человека, я с кристальной ясностью осознала, как мало она напоминает то сияющее, напичканное самой современной техникой помещение, которое я описывала Биллу в прошлых калифорнийских мечтах.
По-новому оглядев доставшуюся нам обшарпанную комнатку, которую давно не ремонтировали, а потом окончательно забросили, я вдруг заметила, что обшивка пестрит дырами и кое-где порвана. Выключатели отвалились и свисают на перепутанных проводах точно лианах. Разводка электросети клубком лежит у наших ног. Все, включая мигающие лампы дневного света, было покрыто слоем плесени. Вместо панелей на стенах виднелись высохшие следы того, что когда-то было клеем. Возле вытяжного шкафа отвратительно пахло прогорклым формальдегидом, что само по себе было плохим знаком, поскольку вытяжной шкаф нужен в первую очередь для того, чтобы не дать работникам лаборатории вдыхать (а значит, и чувствовать) запах реактивов.
Я покосилась на Билла, чувствуя непреодолимое желание извиниться за это безобразие. Экскурсия только началась, а мне уже было нечего больше предложить человеку, который преодолел такое расстояние по моей просьбе. Эта комната ничуть не походила на нашу лабораторию в Беркли — и вряд ли надеялась когда-нибудь к ней приблизиться.
Билл снял пальто и бросил его в угол. Затем глубоко вздохнул, взъерошил обеими руками волосы и медленно повернулся, считая розетки. Последовательно задержался взглядом на трансформаторе и стабилизаторе напряжения, которые оказались бессистемно размещены в одном из углов, потом подметил ярко-красный рубильник аварийного отключения питания.
— Вот это вообще замечательно, — обрадовался Билл, указав на него. — Эта штука даст нам стабильные двести двадцать вольт. То, что нужно для масс-спектрометра. Просто идеально, — добавил он, чтобы я точно прониклась.
У нас было только это: первое помещение под лабораторию и два комплекта ключей от него. Может, это и была дыра, но это была наша дыра. Меня поразило, что Билл не стал сравнивать ее с образом из наших фантазий, а просто оценил то, что нам досталось, и то, сколько придется в нее вложить. Несмотря на пропасть между былыми мечтами и нынешней реальностью, он готов был полюбить эту новую жизнь. И я дала себе слово, что попытаюсь тоже.
11
Такое случается очень редко, но все же случается: одно дерево может находиться в двух местах одновременно. Иногда подобные деревья разделяет больше полутора километров — и все же они остаются одним и тем же организмом, копией более точной, чем однояйцевые близнецы. Они идентичны вплоть до мельчайшего гена. Да, если вы спилите оба дерева и посчитаете кольца, окажется, что одно из них намного младше другого. Но проследите строение их ДНК — вы не найдете отличий. Все потому, что раньше они были одним и тем же деревом.
Взгляните на иву. Она легко вскружит вам голову — эта Рапунцель мира растений, что спустила вниз свои лиственные косы и ждет на берегу как раз кого-то вроде вас, кто придет скрасить ее одиночество. Но не думайте, что ваша ивовая принцесса такая уж особенная. Велика вероятность, что у нее есть сестра-близнец. Прогуляйтесь вверх по течению — возможно, там вы найдете еще одну иву. Вполне возможно также, что это будет та же самая ива, пусть она и замерла в другой позе, выросла выше и толще и на протяжении многих лет покоряла сердца совсем других принцев.
Впрочем, жизнь ивы гораздо больше напоминает историю Золушки, чем Рапунцель: ей тоже приходится трудиться усерднее, чем сестрам. Существует известное исследование, в ходе которого ученые на протяжении года сравнивали темпы роста нескольких деревьев. Пекан и конский каштан отлично стартовали, но сдулись уже через несколько недель. Тополь показал себя лучше: он непрерывно рос на протяжении четырех месяцев. Но победила в состязании ива. Она неторопливо обошла остальных и продолжала расти целых полгода — всю осень, пока не уперлась в железные ворота зимы. Все участвовавшие в исследовании ивы прибавили в итоге по 1,2 метра. Это оказалось почти вдвое больше, чем у их ближайших соперников.
Для растения свет — синоним жизни. Пока дерево растет, его нижние ветви постепенно отмирают, оказываясь в тени новых. Ива наполняет такие ветки запасами ресурсов, утолщает и укрепляет их, а потом высушивает основание, так что они легко и безболезненно отваливаются и падают в реку. Спустя время одна из миллионов этих веточек обнаружит себя вынесенной на берег, пустит корни — и вот уже то же самое дерево растет вдали от себя самого. Ветка станет стволом, выкованная трудностями, которых не ожидала. Каждая ива сбрасывает больше 10 000 таких «разведчиков» ежегодно — а это 10 % кроны! За несколько десятилетий одна или две из них успешно пустят корни ниже по реке и превратятся в идентичного клона родителя.
Хвощи (Equisetaceae) — старейшее из существующих на Земле семейств растений. На данный момент их сохранилось около пятнадцати видов, причем все они жили на нашей планете на протяжении 395 миллионов лет. Они видели, как поднимаются к небесам вершины первых деревьев, как началась и закончилась эпоха динозавров, как зацвели — а потом незаметно покорили весь мир — первые цветковые растения. Один из видов хвощей — гибрид E ferrissii — не может размножаться сам, но, как и ива, способен к воспроизведению своими частями, сломанными и прижившимися в другом месте. Это древнее, хоть и стерильное, растение можно найти где угодно от Калифорнии до Джорджии. Может быть, оно, подобно новоиспеченному доктору наук, нарочно пересекло страну, чтобы осесть в прогрессивном техническом институте среди магнолий, сладкого чая и душной ночной темноты, полной светлячков и тревог о будущем? Но нет. Equisetum ferrissii отправился в путешествие на своих условиях — как самостоятельное живое существо, которое просто оказалось однажды в новом месте и там решило сделать все, что от него зависит.
Часть вторая ДЕРЕВЬЯ И ПОЧКИ
1
Юг Америки — райский сад для растений. Летом здесь жарко, но это не имеет значения, ведь дожди щедро орошают землю, а солнце светит по расписанию. Южные зимы скорее освежающие, чем прохладные, заморозки редки. Воздух влажный настолько, что люди в нем задыхаются, зато для растений это как амброзия: они могут расслабиться, раскрыть все поры и впитывать влагу прямо из атмосферы, зная, что испарение не способно этому помешать. На Юге все растет как нигде буйно. Тополь, магнолия, дуб, пекан, фундук, каштан, бук, болиголов, платан, амбра, кизил, американский лавр, вяз, липа, нисса раскидывают свои кроны над зарослями триллиума, ноголиста, лавра, дикого винограда и устрашающе плодовитого ядовитого плюща. Мягкие зимы дают растениям возможность безболезненно сбросить листву и лениво подготовиться к весеннему взрыву роста. В феврале весь Юг окутывает марево первых листьев, каждый из которых за последующее трудовое лето станет больше, толще и зеленее. Осенью поспеет обильный урожай, семена разлетятся в поисках нового дома, деревья начнут готовиться к зиме — и листья наконец облетят.
Если собрать их в кучу и внимательно изучить, станет очевидно: у основания каждого черенка — чистая и аккуратная линия отрыва от ветки. Все потому, что листопад — это постановка гениального режиссера. Сначала за дело берется зеленый пигмент: он отступает за узкий слой клеток, который отмечает границу между черенком и веткой. Спустя некоторое время этот слой перестанет получать влагу и сделается слабым и хрупким. Теперь веса листа будет достаточно, чтобы оторвать его от места крепления. На то, чтобы расстаться с результатами работы, занявшей целый год, у дерева уходит всего неделя. Оно сбрасывает листву как платье — едва надетое, но уже признанное негодным. Можете вообразить, чтобы вы выбросили все нажитое за год, потому что уверены в будущем и знаете: заменить потерянное удастся за пару недель? Деревья же отважно швыряют свое имущество на землю, где на него радостно набрасываются гниение и разложение. Растения лучше всех святых и мучеников знают, как сохранить на небесах сокровища грядущего дня, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
На юге Америки бурный рост присущ не только флоре. Между 1990-м и 2000-м объем годовых подоходных налогов, собранных в штате Джорджия, увеличился почти вдвое. Сюда пришли такие гиганты, как Coca-Cola, AT&T, Delta Air Lines, CNN, UPS, и тысячи других известных компаний, которые разместились в окрестностях Атланты. Часть полученного дохода была передана университетам — это позволило обеспечить растущую популяцию необходимым образованием. Учебные корпуса появлялись тут и там, как грибы после дождя; вместе с ними росло количество преподавателей и студентов. Казалось, в 1990-х в Атланте могло вырасти что угодно.
2
В те ранние годы мы с Биллом проводили все вечера, отстраивая и перестраивая первую лабораторию Джарен — точно маленькие дети, которые снова и снова переодевают любимую куклу. Сначала мы поставили гипсокартонную перегородку, разделившую помещение на две комнаты, каждая площадью меньше 27 квадратных метров. Потом забили их под завязку аппаратурой: масс-спектрометр, элементный анализатор, четыре вакуумных компрессора. Затем перебрали вытяжной шкаф, так что теперь он надежно защищал даже от самой опасной кислоты — плавиковой. Билл придумал и смастерил экономящие место ящики под каждым столом и внутри шкафов — это позволило разместить в лаборатории все необходимое (и даже кое-что из того, в чем не было нужды).
Инстинктивно мы готовились к трудностям: Билл был уверен, что они не заставят себя ждать. Так что сперва мы нанесли визит в Армию спасения и вышли оттуда со старым походным снаряжением (для лаборатории) и любительскими картинами маслом (для моего кабинета). Следующей остановкой стал государственный склад списанных предметов, где каждый мог забрать любое оборудование из горы старья, от которого отказались государственные учреждения, — достаточно было предъявить разрешение на работу в Джорджии. Там наши запасы пополнились четырьмя 35-миллиметровыми кинокамерами, чернильным мимеографом и двумя полицейскими дубинками. Мы ведь собирались провести ближайшие пятьдесят лет в статусе ученых, верно? Кто мог знать, что именно понадобится в столь отдаленной перспективе?
Один из вечеров 1997 года запомнился мне особенно ярко, хотя по сути он мало чем отличался от десятков остальных, уже миновавших или грядущих. Было начало декабря, и я вошла в лабораторию с традиционным приветствием:
— С наступающим! Как дела?
Из-под масс-спектрометра показалась голова Билла.
— Эльф сегодня не появлялся, если ты об этом! — прокричал он, пытаясь перекрыть гул компрессора, который подражал в тот момент старой машине с плохим стартером. — Эта чертова штуковина оставит меня глухим!
— Что? Не слышу! Говори громче!
Эльфом мы называли старшего студента магистратуры из большой и чрезвычайно занятой лаборатории на дальнем конце кампуса. Билл окрестил ее «мастерская Санты» из-за царившей там атмосферы: стоило оказаться внутри, как тебя окружали бегущие куда-то студенты, у которых не было даже времени поздороваться. Для этой лаборатории мы готовили множество образцов газа. Обычно их забирал именно Эльф.
— Если хотят, чтобы мы работали бесплатно, пусть хотя бы соблюдают график, — проворчала я.
Билл пожал плечами.
— Для эльфов нынче горячее время, — пошутил он, кивнув на календарь.
На самом деле меня это не особенно тревожило: я только что передала соавтору отредактированную копию рукописи и наслаждалась тем, что она больше не оттягивает руки.
— Как насчет «обеда»? — жизнерадостно спросила я.
— Почему бы и нет, — кивнул Билл, и мы переместились в комнату к микроскопам. — В конце концов, я это заслужил.
Реба, моя собака породы чесапик-бей-ретривер (30 килограммов живого веса), потянулась и поднялась с подстилки в углу, при виде меня яростно замолотив хвостом от радости.
— Привет, девочка! Ты голодная? — Я наклонилась погладить ее по голове и почесать выдающуюся затылочную кость, которую мы между собой называли Плавником Зверя.
Однажды по пути из Калифорнии в Джорджию я заблудилась, пока пыталась выехать на трассу 15 и затем на трассу 40. Дорогу я решила спросить у обитателей фургончика с табличкой «ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ» (дело происходило неподалеку от Даггет-роуд, которая пересекает с юга на север восточную часть Барстоу). Присев возле стайки головастых коричневых малышей, я спросила, кто из них готов поехать со мной в Атланту; нескладная пестрая девчонка тут же сунулась ко мне с самым серьезным видом и попыталась забраться на колени. Так я лишилась чека на $50, зато внезапно обзавелась собакой.
Как и я, Реба провела лучшую часть своего детства в лаборатории: спала под стульями и клянчила у Билла кусочки его обеда, который состоял обычно из консервированного тунца и крекеров. Когда к нам приходили новые студенты, мы с Биллом вполне серьезно обсуждали, удастся ли им сравняться с Ребой в уме. Сама она отказывалась принимать участие в этих спорах. Потому ли, что расценивала их проявлением непрофессионализма или просто понимала — сравнения тут неуместны, мы тоже не могли договориться. Возможно, играло роль и то и другое.
Итак, я отодвинула в сторону три микроскопа и освободила место для маленького переносного телевизора, который обычно стоял на шкафу. Через несколько минут, в 23:00, начиналось «Шоу Джерри Спрингера». Едва я поставила попкорн в микроволновку и открыла две банки с диетической колой, в комнате появился Билл с девятью замороженными чизбургерами из McDonald's — тремя для меня, тремя для себя и тремя для Ребы. Когда община кампуса устраивала их распродажу по 25 центов, Билл купил сразу штук сорок, после чего мы, к своей радости, обнаружили: физические свойства этого блюда практически не меняются, если его сначала заморозить, а потом разогреть.
Наше меню объяснялось тем, что Калифорнию мы покидали в серьезных долгах — в результате непохожих, но одинаково бессмысленных трат, сделанных несколько лет назад. Разумеется, мы поклялись расплатиться по ним, как только обзаведемся «настоящей работой». Вскоре мы с Биллом оказались подопытными в увлекательном долгосрочном эксперименте, целью которого было выяснить, на какую минимальную сумму можно прожить неделю. Именно поэтому замороженный фастфуд стал главной составляющей нашей диеты.
Пока мы ужинали перед телевизором, одетый в подгузник мужчина на экране вдохновенно требовал, чтобы ему позволили вести образ жизни «взрослого ребенка» согласно первой поправке к конституции. Для придания веса своим словам он размахивал перед камерой бутылочкой.
— Все бы отдала, чтобы оказаться на шоу Джерри, — мечтательно пробормотала я.
— Ты это уже говорила, — напомнил Билл, не переставая жевать. Картинка сменилась: теперь мы наблюдали, как любимая, она же нянечка, меняет герою памперс.
— У меня есть дурацкая идея, — сообщила я после того, как мы убрали остатки ужина. — Давай сегодня вечером займемся образцами для себя, а не для других!
— Это настолько безумно, что может сработать, — подыграл Билл. — Но сначала нужно совершить ритуал Проветривания Зверя.
Мы втроем вышли на улицу и уставились на звезды, пока Билл докуривал свою сигарету.
— Эта пачка стоила больше двух долларов, — посетовал он. — Требую прибавки к жалованью.
Все дворы и здания кампуса освещались по ночам круглую неделю, что придавало ему на выходных особенно заброшенный вид. Пока в университете кипела жизнь, он никому не принадлежал, напоминая жужжащий улей, в который приходят и уходят люди. Но в пятницу вечером все выглядело иначе. В это время университет принадлежал нам. Просто задумайтесь о том, что в радиусе 80 километров нет больше ни души — и вот уже любая шалость кажется вполне позволительной. Ритм этих пятничных ночей — истинное сердцебиение честной и скромной живой науки; но он же объясняет, почему открытия и непослушание — две стороны одной монеты.
— Тусклая монетка-пенни прячется в кармане, — напела я, пока мы чистили фильтр компрессора.
— На нее ты кофе купишь и себе и маме, — продолжил Билл. — Ну, если тебе кто-нибудь одолжит еще три чертовых доллара и восемьдесят четыре цента.
Прошлую неделю мы провели занимаясь выделением органического углерода — занятие гораздо более увлекательное, чем может показаться. Дело в том, что на протяжении примерно 200 миллионов лет по нашей планете стадами бродили динозавры. Очень немногие из них уцелели — окаменели в грязи и иле, как те, останки которых были обнаружены землевладельцами в Монтане пару лет назад. Тогда кости аккуратно извлекли и исключительно тщательно описали, обработали специальным клеем и показали публике, а потом отдали на изучение. Однако были там и другие окаменелости — не столь интересные внешне, но, возможно, более значимые по содержанию.
Каждое коричневое пятно внутри каждой окаменелости может быть отпечатком растения, которое существовало в ту эпоху и обеспечивало населявших Землю гигантов едой и кислородом. Эти пятна не способны рассказать о строении или структуре своего первоисточника, их бессмысленно фотографировать или выставлять в музее. Но мы можем получить из них кое-какую информацию о химическом составе — если, конечно, сумеем ее выделить и изучить.
Живые растения отличаются от неживых камней тем, что очень богаты углеродом. Мы с коллегами предположили, что углерод, выделенный из пятен на окаменелых останках динозавров, может позволить рассуждать о новой разновидности ископаемых. Химический состав газа позволит получить некоторую информацию о растении — пусть даже нам никогда не узнать, какой формы были листья, оставившие это пятно.
Чтобы высвободить органический углерод — и только его! — из камня, мы собираем газ, выделяющийся в процессе горения образца. При работе с жидкостями мы разливаем их по мензуркам, чтобы иметь возможность смешивать только нужные вещества. Газы же разделяются с помощью стеклянного аппарата под названием вакуумный компрессор (да, это его я случайно взорвала несколько лет назад).
Работать с вакуумной аппаратурой — все равно что играть на оргáне: у обоих множество клавиш и рычагов, причем нажимать на них нужно в правильный момент и в строго определенном порядке. Задействованы при этом обе руки, которые часто выполняют совершенно разные задачи — поскольку захват и высвобождение газа управляются по отдельности. Когда день окончен, и орган, и вакуумную установку нужно с любовью и вниманием выключить и отправить на покой; оба они в своем роде произведения искусства. По сути, принципиальное отличие между ними только одно: орган не взорвется тебе в лицо, если нажать не на ту кнопку.
— Аргх, ненавижу эту штуковину! — прорычал Билл и заткнул уши, пока наш самый шумный в мире компрессор запускался с надсадным механическим кашлем.
— Знаю, но новый стоит тысячу двести долларов.
— Может, нам кто-нибудь что-нибудь должен? Ну, или Санте письмо напиши!
— Черт, да ты гений! — воскликнула я безо всякой иронии.
Билл имел в виду «профессора Санту» (руководителя Эльфа), который все активнее задействовал наши ресурсы. Началось это с того, что я решила обзавестись полезным знакомством с влиятельным человеком. Прочитав ряд его работ по химии кислорода, я предложила провести несколько пробных тестов изотопов кислорода бесплатно — после чего проект начал расти словно снежный ком (в ту зиму каламбуры так и сыпались у меня с языка). Профессор нашел полученные результаты «очень интересными» и переориентировал всю свою мастерскую на изготовление дополнительных образцов. Мы наивно согласились помочь — поскольку явно недооценили количество экспериментов с кислородом, которые можно провести, постукивая у конвейера деревянной кувалдой и при этом напевая.
Чуть раньше я потратила немало усилий и времени на секретные имейлы Эльфу, добиваясь введения определенных инструкций для его лаборатории. Согласно моим требованиям, все их образцы до передачи «в доставку» должны были быть помечены зелеными или красными чернилами и объединены в комплекты по десять с помощью серебристой клейкой ленты. Мои труды были вознаграждены, когда у нас накопилось достаточно трубок с образцами, и Билл наконец оценил шутку.
Изучив журнал анализа образцов, мы обнаружили: пользователь с кодовым именем Рудольф заказал около трех сотен тестов, прекрасно зная, что стоимость каждого равна $30. На основании этих расчетов мы решили попросить «дорогого Санту» о новеньком блестящем компрессоре — и даже красочно вообразили, как спустимся в лабораторию рождественским утром, а там, прямо под печью для сжигания отходов, уже лежит наш подарок, перевязанный большим красным бантом.
— Начни с того, что мы хорошо вели себя весь год, — потребовал Билл.
— Ладно, ты иди за словарем, а я за официальными бланками. Все должно быть по высшему разряду. — Я собиралась получить от процесса максимум удовольствия.
— Надеюсь, в администрации есть цветные мелки, — пробормотал в ответ Билл.
Однако затем я принялась искать в сумочке ключи от шкафа с канцелярскими принадлежностями, нашла вместо них почти полную упаковку жевательных конфет и немедленно решила устроить перерыв.
— Это определенно лучшее, что могло с нами случиться! — провозгласила я.
Естественно, мы сразу бросили все дела, уселись на пол и начали делить между собой сладости, устраивая потасовку из-за каждой оранжевой конфетки и откладывая синие, ежевичные, для Ребы (она их обожала).
Впереди нас ждали выходные — пятьдесят шесть часов, казавшиеся бесконечными. На рассвете нам предстоит торжественно вступить во владение офисным холодильником, но в остальном — полная свобода действий. Возможно, мы подберем отмычку к токарной мастерской и вдоволь нагуляемся между гигантскими пилами, дрелями и сварочными аппаратами, ощущая себя в только нам принадлежащем музее. Возможно, устроим закрытый показ «Седьмой печати» в главной аудитории, раз уж там есть проектор. И, возможно, в тот год в целом мире и был человек счастливее меня, но в такие пятничные вечера я не могла себе этого представить.
3
У растений бессчетное множество врагов. Почти все живое на Земле рассматривает зеленый лист в качестве обеда; целые деревья заканчивают жизнь в чьих-то желудках, не успев даже проклюнуться из семени. Причем убежать от бесчисленной армады нападающих — этой вечной угрозы — они не могут. В недрах лесной подстилки процветают приспособленцы, для которых любое растение, живое или мертвое, — источник пищи. Грибы, возможно, худшие представители этого вражеского клана. Белая и черная гниль — организмы, способные проникнуть куда угодно и обладающие силой, которой нет больше ни у кого: они могут уничтожить сердцевину даже самого твердого дерева. Четыреста миллионов лет вся древесина на нашей планете (за исключением отдельных окаменелых щепочек) перерабатывалась и возвращалась к своему началу — и это заслуга единственной группы грибов, перемалывающей лесной хребет и кости. Несмотря на это, именно среди них можно найти лучших — и единственных — друзей деревьев.
Представляя себе гриб, вы наверняка думаете о той его части, которую видите над землей. Однако это все равно что, думая о мужчине, представлять себе только его пенис. То, что мы называем грибами — от самых вкусных до смертельно ядовитых, — всего лишь половой орган, часть сложного и скрытого от глаз целого. Под каждым из них раскинулась паутина грибницы: иногда на километры, пронизывая бесчисленные комья почвы и связывая собой рельеф. Плодовое тело гриба лишь ненадолго появляется над поверхностью, но протянувшаяся под землей сеть, которая служит ему якорем, живет гораздо дольше — и в мире куда более темном и богатом необходимыми веществами. Лишь немногие из царства грибов (около 5000 видов) сознательно заключили перемирие с растениями. Их грибницы охватывают и переплетают корни деревьев, разделяя с ними заботу о доставке воды к стволу. Они же помогают добывать из почвы редкие металлы, например марганец, медь и фосфор, а потом преподносят их корням, как волхвы — свои бесценные дары младенцу.
Опушка леса — нейтральная территория: зеленые лесные обитатели никогда не переступают эту черту, и на то есть причины. Вероятно, в паре сантиметров от границы уже недостаточно воды и солнца, слишком сильный ветер или мороз для того, чтобы там могло вырасти еще одно дерево. И все же изредка леса расширяются и высылают разведчиков. Это случается не чаще раза в несколько столетий: маленькое семечко проникает на недружелюбную территорию, и для него начинаются тяжелые годы в нужде. Такие семена всегда вооружены — им помогает симбиоз со спрятанной под землей грибницей. Да, первому колонизатору предстоит бороться со множеством неблагоприятных факторов, но не в одиночку: благодаря грибам маленькое деревце получит вдвое более активную корневую систему.
За это, разумеется, приходится платить. В первые годы бóльшая часть полученного деревом сахара будет уходить напрямую в паутину грибницы, спрятанную у его корней. Несмотря на тесную связь, растение и гриб остаются самостоятельными, а сети грибницы не нарушают целостность корневой системы, но помогают ей трудиться. Их объединяет общее дело жизни. Каждый становится спасительным якорем для другого. Так они будут работать вместе, пока дерево не вытянется достаточно, чтобы бороться за солнечный свет с растущими позади собратьями.
И все же почему они вместе, грибы и деревья? Мы не знаем. Гриб без труда может выжить где угодно, но почему-то связывает себя с растением, предпочитая эту дружбу более легкой и независимой жизни. Он приспособился находить поток чистого сахара, идущий от корней дерева, — необычную концентрированную питательную смесь, не похожую ни на какую другую пищу в лесу. Возможно, гриб просто чувствует, что не одинок, когда оказывается частью симбиоза?
4
Забавная штука — почва: не что-то отдельное, самостоятельное, а продукт проникновения друг в друга двух непохожих миров. Она рождается, когда соприкасаются биосфера и геосфера — своеобразное граффити на границе разных реальностей.
Еще в Калифорнии мы с Биллом решили, что будем обучать студентов почвоведению иначе, чем наши профессора учили нас. Вместо того чтобы заставлять их заполнять бесчисленные бланки и каталожные карточки, мы расскажем, откуда берется почва и как она появляется. Мы предложим студентам по-настоящему взглянуть на нее, потрогать, нарисовать и собственными словами описать увиденное. Новый учебный план выглядел так: мы выбираем место и копаем — копаем глубоко! — забираясь в нутро земли, пока она не предстанет перед нами полностью обнаженной. Мы выставим напоказ все, что таилось во тьме, и вынудим ее раскрыть все секреты.
Обычно мы легко можем определить, что из окружающего нас мира — живое: зеленый лист, копошащийся червь или пьющий воду корень. Под землей же лежит холодный твердый камень, древний, как холмы справа и слева от вас, и столь же неподвижный. Неживой. Все, что находится между этими двумя полюсами — живым и неживым, — мы называем почвой. В ее верхних слоях влияние живого очевидно: темно-коричневые остатки мертвых растений, увядшие и гниющие, здесь перемешиваются с жидкостью — всепроникающей и пропитывающей все вокруг. В нижних слоях правит камень. Столетиями вода понемногу точила его, превращая в пасту. Та высыхала, намокала и сохла снова, чтобы стать пористой, будто губка, — ничего общего с лежащей под ней скалой. Но есть и пространство посередине, где эти два мира соприкасаются и порой расцветают такими яркими красками, что любой, кому случится ехать через южную Джорджию, ахнет от изумления.
Билл оказался прирожденным и неутомимым проповедником Почвы: у него был истинный дар замечать малейшие различия в химическом составе, оттенках цвета и текстурах, увидеть которые изнутри ямы удавалось только ему. В его памяти хранились описания десятков видов почв; он на лету мог сравнить то, что открывалось его взгляду, с любой записью своего мысленного каталога — причем в мельчайших подробностях. Эти знания обрушивались на вас, стоило ему открыть рот; я не раз слышала, как он прочувствованно объясняет собеседникам в ирландских пабах (будучи абсолютно трезвым!), что больше всего в работе ему нравится отыскивать новые сочетания цветов, скрытые под землей.
Летом 1997 года мы взяли пятерых студентов в полевую экспедицию, чтобы научить их составлять карты и описания почв. Для четверых это был первый опыт такого рода; пятый — студент, много и часто помогавший нам в лаборатории, — ехал во второй раз. Он нравился и мне, и Биллу, поэтому мы приглашали его в каждую из наших исследовательских и обучающих вылазок.
Лучший способ избежать жалоб на качество еды во время походов — заставить всех их участников кашеварить по очереди. Наш студент охотно вызвался быть первым. Желая произвести впечатление, он захватил с собой какие-то банки, коробки, специи и мешок картошки, которую собирался почистить и сварить. Проблема была лишь в том, что приступить к готовке ему удалось только около одиннадцати вечера — после того, как мы наконец добрались до места стоянки.
Кто пытался вскипятить воду на открытом огне, знает: это мучительно долгий процесс. Так что я растерялась, когда наш повар снял картошку с огня и немедленно взгромоздил на освободившееся место еще один котелок с холодной водой. Вместо того чтобы просто размять вареную картошку вилкой (по нашим стандартам это уже была высокая кухня!), он начал делать пюре, добавляя привезенную с собой муку мелкого помола. С тревогой отметив, что процесс приготовления ужина, кажется, пошел на второй круг, я спросила, что происходит.
— Я делаю венгерские картофельные кнедлики, — объяснил он. — Такие готовила моя бабушка. Поверьте, вам понравится.
Поесть нам удалось только в три утра.
— Думаю, теперь мы будем называть тебя Кнедлик! — воскликнула я, когда мы все-таки приступили к еде, и наш повар просиял: ему нравилось, что эта шутка будет понятна только нам.
— Не буду я звать его Кнедликом, — пробурчал Билл, старательно изображая грубого мужлана. Он устал, проголодался и явно был не в настроении.
Теплый ночной воздух был абсолютно неподвижен; где-то неподалеку распевался хор лягушек — до нас доносилось их кваканье. Мы ели в полном молчании, набивая рты восхитительными кнедликами, которых хватило бы на роту солдат. Когда пришло время собирать пустые тарелки, Билл первым торжественно произнес: «Отличный получился ужин, Кнедлик!» Не помню, как звали того студента на самом деле: с того вечера к нему никто не обращался по имени, и оно стерлось из памяти за прошедшие годы. Однако за все это время мне не довелось есть ничего вкуснее тех картофельных кнедликов.
В тот раз мы ковырялись в земле округа Аткинсон, который, возможно, кому-то покажется ничем не примечательным. Мы же прозвали его Нирваной: почвы тут были превосходными — никакого сравнения с остальными сорока девятью штатами и пятью континентами, где мы бывали. Как и многие другие учебные площадки, эту мы обнаружили, проезжая мимо на машине и выглянув в окно. Если двигаться через Джорджию на юго-восток — от плато Пидмонт возле Атланты к Атлантическому океану, — в какой-то момент оказываешься у реки красной пыли. Наверное, в несбывшемся сне геологических пластов она могла бы стать горами.
Мы ехали по шоссе 82 в сторону болота Окефеноки и вдруг увидели в кремово-песчаной канаве пятна насыщенного абрикосового цвета, как будто кто-то разлил там ведра краски. В те времена Билл то и дело тянулся к сигаретам, поэтому у нас вошло в привычку часто останавливаться и изучать окрестности. Уже подъезжая к Уиллакоочи, мы поняли, что «краска» на самом деле представляет собой полосчатую железистую формацию, залегающую в оксисоли — редком типе почвы, и немедленно решили сделать там остановку в рамках курса почвоведения.
Приехав со студентами на нужное место, мы начинаем с того, что выгружаем лопаты, кирки, брезент, сита, реактивы и большую доску, к которой прилагаются разноцветные мелки. Затем роем почвенную яму, все глубже и глубже, пока не упремся в скалу, — причем стараемся в процессе стоять только с одной стороны, чтобы все видели одно и то же: почвенный разрез. Когда яма становится достаточно глубокой, ее расширяют в «раскоп», способный вместить трех человек и позволяющий судить о протяженности почвенных слоев и их свойствах. Такая подготовка занимает не один час, а когда мы сталкиваемся с толстым слоем глины или чрезмерной влажностью, — еще и здорово выматывает физически.
Мы с Биллом обычно копаем вместе, это своего рода вальс: один «ведет», второй «подхватывает». Иными словами, первый копающий рыхлит землю киркой, а второй подхватывает грунт лопатой. Когда лопата полна, ее передают наверх, чтобы высыпать, а вниз спускают другую. Это отличает наши ямы от тех, которые роются под застройку: дно должно быть чистым, а все, что вытащили из раскопа, ссыпается рядом, чтобы у участников экспедиции был полный обзор. Мы стараемся избегать уплотнения почвенного разреза, но студенты то и дело толкутся возле ямы, чтобы понаблюдать. В результате их приходится отгонять так же, как мы гоняем бурундуков, заглянувших в лагерь. Иногда мы призываем на помощь добровольцев (ими обычно оказываются ребята, выросшие на фермах), но большинство студентов копать не любят. Раньше они часами толпились у нас над головами, глядя, как мы работаем, — чем вызывали ужасное раздражение; а сейчас обычно разбредаются в стороны, пытаясь незаметно поймать сигнал мобильной сети.
Когда почвенный разрез виден целиком, снизу доверху, мы достаем «булавки» (старые железнодорожные костыли, выкрашенные в ярко-оранжевый) и размечаем ими те границы слоев, которые можем различить. Здесь между мной и Биллом то и дело вспыхивают споры о том, как преломляется солнечный свет и стоит ли считать ту или иную мелочь существенной, или же это просто игра теней. Мы так долго и упорно переубеждаем друг друга, что начинаем напоминать адвокатов на затянувшемся заседании суда, где нет судьи — только скучающие присяжные.
Иногда определить границы почвенных слоев не сложнее, чем в шоколадно-ванильном слоеном пироге; в других случаях они так же условны, как градации красного на картине Пита Мондриана. На этих данных основываются все последующие выводы, однако разметка и границы почвенных горизонтов остаются самой субъективной частью исследования, к которой у каждого ученого свой подход. Некоторые — я, например, — воспринимают пейзаж как основу для концептуального искусства, предпочитая наблюдать картину целиком и не ограничивать взгляд строгими правилами. Нас называют «объединители», потому что в процессе работы мы стремимся связать воедино все обнаруженные детали.
Другие — и Билл в их числе — похожи на импрессионистов в своей уверенности, что с каждым «мазком» нужно работать отдельно: иначе не составить представления о целом. Они — «делители», потому что разделяют мельчайшие детали, разнося их во время работы по категориям. Единственный способ по-настоящему толково проанализировать почву — это посадить объединителя и делителя в одну яму и предоставить им выяснять отношения до тех пор, пока они не сойдутся на том единственном, что устроит обоих (и потому будет верным). Предоставленный сам себе, объединитель будет три часа копать, за десять минут разметит горизонты и отправится заниматься другими делами. Предоставленный сам себе делитель выкопает яму, и больше вы его не увидите, потому что он свернется внутри калачиком и впадет в созерцательный транс. Именно поэтому они приносят пользу только во взрывоопасном дуэте. Вместе они составляют великолепные карты — но, возвращаясь из экспедиции, обычно отказываются друг с другом разговаривать.
После того как исследователям наконец удается прийти к соглашению по поводу разметки, из каждого слоя берется образец, который затем помещается на брезент и подвергается великому множеству химических экспериментов, позволяющих определить его кислотность, содержание солей, питательные характеристики и постоянно растущий список других качеств. В конце дня вся информация переносится на доску в виде графиков или рисунков, а участники начинают обсуждать, как сумма видимых и химических свойств почвы влияет на ее плодородность. «Плодородность» — это, несомненно, самый внушительный и неточный термин, существующий во всех науках вместе взятых.
В идеале образовательная экспедиция длится около недели. Каждый день ее участники описывают новые образцы, а потом преодолевают 200 километров, чтобы встать лагерем на новой точке. Пяти дней и примерно 1000 километров достаточно, чтобы студенты поняли, как сильно разнятся почвы в зависимости от ландшафта, и настроились на необходимость думать и исследовать, что критически пригодится им в работе. К концу поездки они либо влюбляются в наше дело, либо проникаются к нему лютой ненавистью — а это уже позволяет им определиться со специальностью в целом.
Пять дней в грязи дают студентам больше, чем год в аудитории, — а значит, во время подобных вылазок я делаю нечто гораздо более важное и нужное. Поэтому мы с Биллом отмотали сотни и тысячи километров в полевых экспедициях.
Билл — самый терпеливый, заботливый и внимательный учитель из тех, кого я встречала. Если понадобится, он часами может сидеть со студентом, чтобы помочь ему или ей выполнить всего одно задание. Он не боится самого сложного, что выпадает на учительскую долю: не просто излагает факты из учебников, а становится за устройство и своими руками заставляет его работать, показывая, как его можно сломать, а потом починить. Студенты звонят ему в два часа ночи, если им что-то не удается, и измученный Билл возвращается в лабораторию (впрочем, нередко он и не успевает оттуда уйти). Вдобавок он без устали подтягивает более слабых учеников — даже после того, как я отчаялась и записала их в число безнадежных лодырей.
Конечно же, ребята двадцати лет от роду воспринимают все это как должное. Лишь единицы в итоге осознают, что их диссертация — в немалой степени заслуга Билла. Существует также самый быстрый и простой способ вылететь из моей лаборатории: нужно открыто проявить к Биллу неуважение. Меня можно называть как угодно, но он — куратор студентов, и их поведение должно этому статусу соответствовать. Сам же Билл на каждого из своих подопечных жалуется с неизменным насмешливым презрением — только для того, чтобы на следующий день кинуться спасать их от самих себя.
Примерно в пять вечера того дня в южной Джорджии — технически, это был тот же день, когда мы ели кнедлики, — яма была закопана, а наше оборудование собрано. В Уэйкроссе мы сделали остановку, чтобы пополнить запасы горючего и конфет. Пока шел спор, где лучше — в баре Hershey или в Starbursts, — к нам подошел Кнедлик и сказал:
— Не хочу больше смотреть на Стаки. Надоело. К тому же он, по-моему, пугает Ребу.
В каждой полевой экспедиции мы выделяли время на одно «развивающее» занятие, и Кнедлику не хотелось опять ехать в место, куда мы заезжали обычно, работая в этой области. Имя Стаки носил окаменелый пес, выставленный в музее «Мир южных лесов», — экспонат куда более необычный, чем может показаться. Согласно проведенной палеонтологической экспертизе, это останки собаки, которая, «вероятно, погнавшись за добычей», забежала в полый древесный ствол, застряла в нем и погибла. Дерево окаменело, а собака внутри мумифицировалась, воспроизведя в вечности сценку из «Тома и Джерри».
Лично меня Стаки завораживал. Мне нравилось воображать его Креонтом, который с гримасой тоски и раскаяния прорывается в гробницу Антигоны. Однако стоило задуматься, как стало очевидно: Реба и правда всегда отказывалась подходить к этому жуткому экспонату. Наверное, с ее точки зрения это был бедный Йорик собачьего мира, чей вид и запах вызывали неприятные подозрения о месте собаки в нашем мире. Мысленно я пообещала себе извиниться перед Ребой позже. Сейчас же она кружила возле мусорных баков, хорошо заметная благодаря одной из моих ярко-оранжевых футболок: мы натянули ее на собаку, подъезжая к шоссе, чтобы не потерять из виду.
— Даже не знаю, — с сомнением протянула я. — Билл вот хотел к Стаки.
— Ну-у, мне там нравится, но твоя древнегреческая болтовня вечно портит все удовольствие, — заметил Билл, явно отказываясь принимать чью-либо сторону. — И кстати, с каждым нашим приездом ты начинаешь нести эту чушь все раньше и раньше.
— Ладно. Какие тогда предложения? Куда поедем вместо музея? — спросила я Кнедлика, и Билл метнул в меня гневный взгляд, недовольный, что я сморозила такую глупость и предоставила выбор студенту. Однако традиция требовала от нас изобразить восторженных туристов, прежде чем вернуться домой.
— А как насчет того места с билбордов? «Обезьяньи джунгли» или как их там? Звучит вроде круто, — предложил Кнедлик.
Я забросила рюкзак в грузовичок и свистнула, подзывая Ребу.
— Значит, едем в «Обезьяньи джунгли». Все на борт! — окликнула я группу.
— Действительно, почему бы и нет? Всего-то восемь часов пути, — проворчал Билл, все еще пытаясь пронзить меня взглядом. Я ответила ему милой улыбкой; убедившись, что это не шутка, он тоже забрался в машину.
Когда мы собираемся в дальние поездки, именно Билл садится за руль. Он отличный водитель — и умеет вписаться в движение на трассе, пристроиться за самой большой фурой и следовать за ней на безопасной дистанции столько, сколько получится. Меня он на место водителя не пускает, потому что для таких переездов нужно обладать особым терпением, а мое внимание рассеивается, и асфальт под колесами начинает казаться куда мягче, чем есть на самом деле. Поэтому я сажусь рядом и часами болтаю, смеша Билла невероятными сюжетами. Это непростая работа, особенно когда мы в пути не первый час.
Я привыкла думать, что Билл не разгоняется свыше 80 км/ч потому, что чувствует ответственность за студентов. Только ознакомившись с перечнем машин, которые ему случалось водить, я поняла: он просто не знал, что они способны развивать бóльшую скорость. Однако на наши автомобильные привычки это не повлияло: я и сейчас готова отправиться с Биллом в любую точку мира, если уверена, что смогу достаточно долго развлекать водителя. Так что, когда мы решили не ехать к Стаки, ему оставалось только выбраться на шоссе и устремиться на юг.
Спустя десяток съездов к северу от границы с Флоридой перед нами появился огромный рекламный щит, на котором красовались всего два слова, напечатанные ярко-розовой краской: «ГОЛАЯ ЗАДНИЦА». Они поставили меня в тупик.
— Что это значит? — недоумевала я вслух. — Это бар? Стриптиз-клуб? Магазин видеокассет? Что?
— По-моему, все очевидно: если ты съедешь с трассы, неподалеку обнаружится некто с голой задницей, — ответил Билл.
— Да, но это будет мужчина? Женщина? Крот? Эти слова вообще к чему-то отсылают? Или предполагается, что ты сам останешься с голой задницей?
— Это наверняка какой-то шифр, — вмешался один из студентов, известный насмешками над всем, что находилось южнее линии Мэйсона — Диксона[3]. — И означает он что-то нездоровое.
— Слушай, если ты сворачиваешь с трассы при виде такого билборда, то автоматически попадаешь в число тех парней, кому вообще не важно, кто там окажется голым в итоге, — объяснил Билл. — Ты просто видишь слова «голая задница», давишь на тормоза и сворачиваешь с маршрута.
Один из наших политически сознательных студентов попытался подлить масла в огонь:
— Почему вы думаете, что такое место привлекает именно парней?
Билл в ответ только помотал головой, не сводя глаз с дороги и не считая нужным удостаивать этот вопрос ответом.
К счастью, вскоре наше внимание было привлечено уже совершенно другим щитом. «Покори "Обезьяньи джунгли"! — призывала надпись. — Здесь люди заперты в клетке, а обезьяны разгуливают на свободе!» Мы заерзали в предвкушении.
— Видимо, мы уже близко, — с надеждой предположил кто-то из студентов.
— По крайней мере мы во Флориде, — пожал плечами Билл. И действительно, за окном мелькнул знак, отмечающий границу и приветствующий нас в Солнечном штате. «Обезьяньи джунгли» находились неподалеку от Майами — то есть еще где-то в семи часах пути.
Когда мы наконец прибыли туда в час ночи и остановились на парковке, место показалось нам не особенно дружелюбным. Впечатление усугубляли тяжелая цепь, продетая в ручки двери, и полное отсутствие света. Билл первым выпрыгнул из машины, чтобы прочитать объявление на входе и, как он выразился, вдохнуть немного жженых сушеных листьев Nicotiana tabacum. Студенты высыпались следом, как горох из мешка: кто-то сразу откатился в сторону, подальше от нас, остальные столпились рядом. Вернувшись к группе, Билл предложил разбить палатки на клочке травы перед главным входом — и лечь спать до половины десятого утра, когда аттракцион начинал работу.
Затянувшись, он подытожил:
— Думаю, они все равно нас разбудят, когда будут открываться.
— Мы окажемся первыми в очереди! — радостно добавил Кнедлик.
— Не уверена, что это хорошая идея, — вмешалась я. — Разве обезьяны не орут по утрам, как петухи?
— Это ты нам скажи, — буркнул Билл, затаптывая окурок. — Ты же спишь с мартышкой.
Он явно имел в виду моего парня, с которым мы бесконечно сходились и расходились и который действительно не блистал умом. Я усмехнулась, и Билл взялся разгружать наш переносной холодильник. Потом он сразу начал ставить мою палатку, отложив до поры свою — верный знак того, что он не хотел никого обидеть. Чтобы показать, что и не думала обижаться, я перебрала содержимое холодильника, пытаясь придумать что-нибудь на ужин.
— Похоже, у нас сегодня ужин на палочке, — сообщила я, не найдя ничего впечатляющего.
— Прекрасно, — одобрительно отозвался Билл, в рекордные сроки управившийся с палаткой. — Мой любимый ужин, — добавил он безо всякой иронии, после чего вытащил охапку деревяшек и занялся костром.
Перед каждой поездкой мы взяли в привычку навещать деревообрабатывающую мастерскую при кампусе и перетаскивать в мой фургон обрезки дерева, которые иначе попали бы в измельчитель. Потом мы пополняли запасы картона в перерабатывающем центре студенческого городка. Затем, на выезде из города, покупали растопку для камина — одно горючее полено на каждую ночь — и гору случайной еды, после чего считали себя полностью экипированными для экспедиции. С помощью этих нехитрых материалов мы каждую ночь разводили «костер Энди Уорхола»: «вечное» полено использовалось как зажигалка для остальных материалов, и пламя получалось ослепительно-ярким. На таком огне даже можно было готовить — правда, при двух условиях: у вашей кофты рукава из негорючего материала и вы не против, если еда останется в середине сырой и холодной.
«Ужин на палке» — разновидность трапезы, подразумевающая, что все участники находят себе палки, нанизывают на них что душе угодно, поджаривают это на костре и съедают. Единственное правило: если нашел действительно удачное сочетание, нужно приготовить свое «блюдо» на всю группу или хотя бы попытаться повторить и поделить на всех результат. Кнедлик в ту экспедицию был в ударе и умудрился запечь груши в банке из-под колы (для этого ее пришлось разорвать пополам и весьма изобретательно прикрепить к палке). Согласно общему мнению, его груши в соусе из шоколадок Hershey's стали венцом нашей походной стряпни (не считая легендарных кнедликов, конечно), так что по спальным мешкам все разошлись довольными.
Я задремала, но ненадолго: вскоре меня бесцеремонно разбудил слепящий свет фонарика и чей-то низкий голос. Высунувшись из палатки, я спросила:
— Чем могу помочь, офицер?
Патрульный явно ожидал увидеть перед собой немытого пьяного мужчину, а потому появление опрятной и адекватной женщины его немало удивило. Он поинтересовался, что мы тут делаем; я в ответ в подробностях рассказала все о нашей полевой экспедиции, особенно подчеркнув, что как педагог обязана была исполнить желание одного из наших талантливых студентов, предложившего посетить прославленные «Обезьяньи джунгли» до того, как его краткая юность минет безвозвратно.
Как это часто бывает в подобных ситуациях, пока я соловьем разливалась о прекрасных и не имеющих себе равных почвах Флориды, скептицизм представителя власти сменился радушием. Через пару минут он уже готов был и постоять на страже, пока мы спим, и сопроводить нас в обратный путь, когда мы отправимся в Атланту. Я с благодарностью отклонила его предложения, заверив, что непременно наберу из таксофона 911, если нам что-то понадобится в дороге. На том мы и распрощались.
Когда он уехал, из своей палатки выглянул Билл:
— Отличная работа. Это было впечатляюще.
Я посмотрела на звезды и глубоко вдохнула влажный воздух.
— Черт. Обожаю Юг.
Удивительное гостеприимство южных штатов проявило себя и на следующее утро, когда на кассе «Джунглей» всю нашу группу пропустили внутрь за $57 — ровно столько наличности мы с Биллом смогли наскрести по карманам. Едва мы миновали фойе и заглянули в двери, ведущие к «Джунглям», как нас оглушили страшные вопли. Их источником оказалась разношерстная ватага обезьян, бóльшая часть которой решила поприветствовать нас лично.
— Господь милосердный, я как будто в лабораторию вернулся, — сказал Билл, морщась. Я знала эту гримасу: она означала приближение мигрени.
Мы оказались в огромном дворе комплекса зданий, напоминающих ближайшую к вам автоинспекцию и по архитектуре столь же изысканных. Над нами был раскинут купол из мелкоячеистой проволочной сетки — в некоторых местах явно не раз порванный и залатанный снова. Как и обещала реклама на щите, посетители вида Homo sapiens должны были передвигаться по коридору, ограниченному стальными прутьями.
«Обезьяньи джунгли» и правда оказались копией моей лаборатории. Чем больше я об этом думала, тем очевиднее становилось сходство. Да, возможно, здесь градус безумия был чуточку выше — но в остальном происходящее в вольере мало отличалось от того, что творилось в процессе исследовательской работы. Три яванские макаки, ломавшие голову над какой-то проблемой, которую не могли ни решить, ни забыть, бросились к нам в надежде, что мы знаем ответ. Белорукий гиббон безжизненно висел на сетке над нашими головами; пребывал он в объятиях сна, смерти или где-то между этими состояниями, сказать было невозможно. Две маленькие беличьи обезьянки, похоже, оказались в специально для них написанной пьесе Сэмюеля Беккета и теперь страдали наполовину от созависимости, наполовину от отвращения. Иронично, что две другие беличьи обезьянки, судя по всему, ладили очень хорошо.
Позади них высоко на ветке сидел одинокий ревун, который оглашал окрестности собственным переложением Книги Иова на обезьяний язык. Периодически он вскидывал руки к небу, как бы требуя у него объяснения, почему праведники должны страдать. Краснорукий тамарин скрючился и потирал ладони, явно замышляя недоброе. Две очаровательные мартышки дианы, отрешившись от этого царства скуки, тщательно чистили друг другу шерстку. Несколько утомленных капуцинов прочесывали периметр, раз за разом маниакально проверяя пустые кормушки в поисках изюма, который совершенно точно был там еще минуту назад.
— Человек человеку волк, а мартышка мартышке мартышка, — изрекла я.
Тут мне на глаза попался Билл. Он стоял в дальнем конце двора нос к носу с паукообразной обезьяной: их разделяла только потрепанная сетка. У обоих была одинаковая прическа — взлохмаченная темно-каштановая пакля, отдельные пряди которой торчали в разные стороны, поскольку уже пару недель удостаивались максимум пары движений расческой. Лица их покрывала идентичная щетина, спины были мягко сгорблены, а полурасслабленные руки — готовы в любой момент прийти в движение. Ясные блестящие глаза обезьяны были широко распахнуты; судя по выражению мордочки, этот обитатель вольера пребывал в постоянном шоке от происходящего.
И Билл, и обезьянка были очарованы друг другом: остальной мир, казалось, перестал для них существовать. Наблюдая за ними, я почувствовала в животе специфическую щекотку — верный признак близящегося приступа смеха, который не остановить и после того, когда он уже перестанет радовать.
— Я будто в чертово зеркало смотрюсь! — наконец провозгласил Билл, не отводя взгляда от своего визави, и я все-таки сложилась пополам, задыхаясь от хохота.
Когда Билл с обезьянкой нагляделись, мы двинулись в последнюю комнату зверинца, где в цементной норе, так похожей на камеры заключенных, прозябала огромная горилла по имени Кинг. Вся его многокилограммовая туша то и дело растекалась по кафелю, когда Кинг начинал равнодушно возить по лежащему перед ним листу бумаги цветным мелком. Стены комнаты были украшены законченными «картинами», каждая из которых явно была создана тем же способом; вместе они демонстрировали на удивление последовательный художественный подход.
— Зато у него своя выставка, — заметила я.
Табличка на стене сообщала посетителям, что в родной Африке гориллам угрожает множество опасностей — от браконьеров до болезней, и все же трудно было вообразить уголок Конго более неприглядный, чем нынешнее обиталище Кинга во Флориде. Согласно второй табличке (в ней сквозили извиняющиеся нотки), рисунки Кинга можно было приобрести в сувенирном магазине: часть полученных с этих продаж доходов пойдет на улучшение и расширение жилища гориллы. Уверена, если бы у Кинга был револьвер, он бы без промедления вышиб себе мозги; однако ему дали только мелок, и, принимая это во внимание, он еще неплохо справлялся. Дожидаясь, пока студенты скормят обезьянам остатки изюма, я мысленно поклялась больше не жаловаться на свое относительно безоблачное существование.
— Надеюсь, бедолаге скостят срок, — вздохнул скучавший на другом конце комнаты Билл.
— Я бы не рассчитывала. Заведение явно взяло его на полную ставку, раз уж он приносит деньги.
Билл покосился на меня.
— Я вообще-то не про гориллу.
В сувенирном магазине мы опустили последние монеты в пластиковую коробочку для пожертвований, но покупать рисунки Кинга не стали, хотя могли расплатиться картами.
— Я, может, и не разбираюсь в искусстве, зато точно знаю, что мне нравится, а что нет, — объяснил Билл, равнодушно отворачиваясь от представленных работ.
На парковке я посоветовала студентам воспользоваться туалетом, поскольку нам предстояла долгая дорога, а сама погрузилась в мечты о том дне, когда получу повышение, закажу футболку с надписью «Я ВАМ НЕ МАМОЧКА» и начну носить ее на работу.
Стоило нам погрузиться в фургончик и захлопнуть двери, я тут же скинула походные ботинки и открыла банку диетической колы для Билла.
— Итак, — начала я самым приторным менторским тоном из имевшихся в моем арсенале, — мы отправились в «Обезьяньи джунгли», чтобы узнать побольше об их обитателях, но в процессе узнали кое-что и о себе.
— Да я, черт возьми, там себя встретил, — пробормотал Билл, выворачивая шею, чтобы выехать задним ходом с парковки.
Когда мы вырулили на трассу 95, я закинула ноги на бардачок и привычно приготовилась дирижировать тем, как мы будем убивать время. По первоначальному плану нам следовало обсудить, были «Обезьяньи джунгли» джунглями с обезьянами или для них, — но я отказалась от этой идеи, бросив взгляд в зеркало заднего вида и заметив, что Кнедлик уже спит как младенец.
5
Жизнь любого лиственного дерева подчинена планированию «бюджета». Каждый год у него есть всего несколько коротких месяцев — с марта по июль, чтобы укрыться в новом шатре из собственных листьев. Если он окажется недостаточно велик, в освободившемся уголке тотчас появится конкурент, который медленно, но верно начнет отвоевывать у дерева его место под солнцем, и то погибнет. Хочешь протянуть еще десять лет — добейся успеха в текущем году. Повторять до бесконечности.
Давайте взглянем на скромное, ничем не примечательное дерево из тех, что, возможно, живут на вашей улице. К примеру, декоративный клен высотой с фонарный столб — застенчивое соседское деревце, ростом вчетверо меньше своего царственного лесного собрата. Когда солнце в зените, наш маленький клен отбрасывает на землю тень площадью примерно с парковочное место. Если мы соберем все его листья и разложим их, как ковер, площадь покрытия увеличится до трех парковочных мест. Придавая каждому листу особое положение, дерево формирует из них некое подобие мозаики, по которой солнечные лучи скользят вниз, будто по лестнице. Посмотрите: листья на верхушке любого дерева меньше по размеру, чем на нижних ветвях. Это позволяет ловить свет даже у основания — если подует ветер и раздвинет верхние ветви. Приглядитесь еще раз, и вы увидите, что нижние листья темнее по цвету: в них больше пигмента, который позволяет впитывать свет из более слабых солнечных лучей, вынужденных пробиваться через тень. Моделируя свою крону, дерево оценивает каждый листик в ней и выбирает его позицию относительно всех прочих листьев. Хороший бизнес-план поможет дереву преуспеть и стать самым большим и старым на вашей улице. Но это сложная задача, а успех стоит дорого.
Собранные вместе, листья нашего маленького клена будут весить примерно 16 килограммов. Каждый грамм этого веса — вещества, полученные (и весьма торопливо!) из воздуха или почвы на протяжении нескольких коротких месяцев. Из атмосферы растение забирает углекислый газ, который превращается в сахара и волокна. Нам с вами 16 килограммов кленовых листьев не покажутся сладкими, но на самом деле в них содержится достаточно сахарозы, чтобы сделать три ореховых пирога — это самая приторная штука, которую я сейчас смогла вспомнить. А в волокнистом каркасе этих листьев хватит целлюлозы почти на триста листов бумаги — примерно столько мне понадобилось на распечатку рукописи этой книги.
Единственный источник энергии для нашего дерева — солнце: фотоны света стимулируют пигменты внутри листа. После этого зарядившиеся электроны выстраиваются в невообразимо длинную цепочку, по которой передают друг другу биохимическую энергию через всю клетку — туда, где она сейчас необходима. Пигмент растения называется хлорофилл: это большая молекула, формой похожая на ложку. В той ее части, которая похожа на черпак, находится единственный бесценный атом магния. Для того чтобы хлорофилл смог зарядить энергией 16 килограммов листьев, требуется столько же магния, сколько содержится в четырнадцати аптечных таблетках, — причем он сначала должен сформироваться в глубинах почвы, а это долгий геологический процесс. Магний, фосфор, железо — все эти и многие другие микроэлементы наше дерево может получить только из очень слабых растворов, поток которых путешествует между крохотными гранулами минералов, скрытых в почве. Чтобы соединить все питательные вещества, необходимые 16 килограммам листьев, дерево должно сначала впитать из земли, а затем испарить как минимум 8000 галлонов воды. Это целая цистерна. Двадцать пять человек выпьют столько за год. Так что можете начинать беспокоиться, когда уже снова пойдет дождь.
* * *
Жизнь любого университетского профессора, занимающегося наукой, подчинена планированию бюджета на три года. Каждые три года ему — то есть мне — приходится выпрашивать у государства новый контракт. Деньги, которые перечисляются в рамках этого гранта, обеспечивают зарплату сотрудников, на них покупаются материалы и оборудование для экспериментов и из них же оплачиваются все поездки, если таковые необходимы для исследования. Обычно университеты помогают новым преподавателям «стартовать» с определенной (весьма ограниченной) суммой, выделенной из дискреционного фонда (научный эквивалент слову «приданое»), чтобы поддержать их до заключения первого самостоятельного контракта. Если новичку не удается найти финансирование в первые два-три года, он — то есть я — не сможет продолжать делать то, чему учился, а следовательно, и выиграть стипендию, необходимую, чтобы сохранить место. Если хочешь и через десять лет иметь работу — добейся успеха сейчас, выбора нет. Ситуацию осложняет то, что в природе попросту не существует достаточного количества государственных контрактов на исследования.
Я занимаюсь тем, что иногда называется «исследования из любопытства». Это значит, что в результате моей работы нельзя получить рыночный продукт, полезное изобретение, необходимое лекарство, разрушительное оружие или хотя бы какую-то материальную выгоду. Если это и произойдет, то лишь в очень отдаленном будущем, и применить полученные данные по назначению доведется уже не мне. Естественно, что по сравнению с другими проектами приоритет моих исследований достаточно низок. Для таких, как я, есть только один значительный источник финансовой поддержки — Национальный научный фонд (ННФ).
Национальный научный фонд — государственная организация Соединенных Штатов; предоставляемое ею финансирование — это деньги налогоплательщиков. В 2013-м его бюджет составил $7,3 миллиарда. Для сравнения: федеральный бюджет, выделенный министерству сельского хозяйства (людям, ответственным за контроль над импортом и экспортом продуктов), превосходил его в три раза. При этом правительство каждый год тратит на космическую программу вдвое больше, чем на все остальные отрасли науки вместе взятые: в том же 2013-м бюджет NASA составил более $17 миллиардов. Впрочем, эта несправедливость начинает казаться мелкой, если учесть неравенство затрат на исследования и военные разработки. Министерство внутренней безопасности, созданное в ответ на события 11 сентября 2001 года, располагает бюджетом, который впятеро больше всего бюджета ННФ, а один только «дискреционный» бюджет министерства обороны почти в шестьдесят раз превышает эту сумму.
Побочный эффект «исследований из любопытства» — множество вдохновленных молодых людей. Мы любим свой предмет до умопомрачения и не знаем большего счастья, чем прививать эту любовь другим: как и все существа, ведомые любовью, мы приумножаем число себе подобных. Возможно, вам доводилось слышать рассуждения, что в Америке недостаточно ученых и поэтому страна постоянно рискует «оказаться в отстающих» (что бы это ни значило). Заявите об этом любому ученому, и он рассмеется вам в лицо. Последние тридцать лет бюджет США на исследования, не связанные с обороной, просто заморожен. С точки зрения финансов у нас не «недостаточно ученых», у нас их слишком много — причем из университетов каждый год выпускаются все новые и новые. Америка может сколько угодно твердить, что ценит науку, но я скажу вам одно: платить за нее она не имеет ни малейшего желания. Например, экология уже сейчас демонстрирует последствия многолетнего неправильного использования ресурсов: фермерство вымирает, целые виды исчезают, лесов вырубается все больше… Этот список можно продолжать бесконечно.
И все же $7,3 миллиарда — это огромная куча денег. Правда, нужно принять во внимание, что эта сумма выделяется на все «исследования из любопытства»: не только биологические, но и на разработки в области геологии, химии, математики, физики, психологии, социологии и в тех отраслях техники и компьютерных наук, которые со стороны кажутся эзотерикой. Моя сфера интересов — растения и то, как им удалось добиться такого успеха и продержаться так долго, — относится к программе палеобиологии. В 2013-м на исследования в ее рамках было выделено $6 миллионов. Это весь годовой бюджет всех палеонтологических работ Америки — и ребята, которые выкапывают кости динозавров, предсказуемо отхватили себе бóльшую его часть.
И все же $6 миллионов — это огромная куча денег. Предположим, нам удастся договориться и каждый палеобиолог в каждом штате получит грант. Если разделить $6 миллионов на пятьдесят штатов, получится по $120 000 на контракт. Эта цифра близка к реальной: каждый год ННФ выдает по тридцать — сорок грантов примерно по $165 000 каждый. Значит, в любой момент времени в Америке есть около сотни палеобиологов, получивших финансирование. Этого недостаточно, чтобы ответить на многочисленные вопросы об эволюции — особенно если ограничиться исследованием таких популярных в культуре существ, как динозавры и шерстистые мамонты. К тому же в Америке гораздо больше сотни профессоров палеобиологии — а значит, все остальные лишены возможности делать ту работу, для которой их готовил университет.
И все же $165 000 — это огромная куча денег (по крайней мере для меня). Но на что ее хватит? К счастью, большую часть года моя зарплата обеспечивается университетом (преподавателям крайне редко платят за то время, когда они не работают, — то есть за все лето), но обязанность обеспечивать Билла лежит уже на моих плечах. Если я решу платить ему $25 000 в год (в конце концов, у него за плечами двадцать лет опыта!), нужно будет запросить дополнительные $10 000 на компенсационные выплаты, и итоговая сумма составит уже $35 000.
Вот еще один интересный факт: за те исследования, которые проводят его сотрудники, университет весьма успешно взимает с государства налог. Значит, сверх тех $35 000, которые я уже запросила, потребуется еще $15 000 — их мне увидеть не удастся, поскольку они сразу уйдут в университетскую казну. Эта сумма называется «накладные расходы» (или «косвенные издержки»), а налог, который я упомянула выше, составляет примерно 42 %. В зависимости от университета цифры могут отличаться, но, хотя в отдельных престижных вузах налог достигает 100 %, я ни разу не слышала, чтобы где-то он опускался ниже 30 %. Предполагается, что эти суммы уходят на оплату счетов за кондиционер, починку питьевых фонтанчиков и поддержание работоспособности туалетов (здесь я вынуждена отметить: в здании, где находится моя лаборатория, все перечисленное функционирует от случая к случаю).
Так или иначе, затраты на услуги Билла за три года составят в соответствии с этой печальной схемой $150 000. От гранта остаются жалкие $15 000: они уйдут на реактивы и оборудование, необходимое, чтобы три года ставить сложнейшие высокотехнологичные эксперименты, либо на оплату труда студентов, либо на поездки (не важно, в полевую экспедицию, на мастер-класс или конференцию). И да, не забудьте: потратить из этой суммы можно только $10 000, остальное — налоги.
В следующий раз, когда встретите ученого, спросите его — меня, — беспокоится ли он за правильность результатов исследования. Тревожит ли его неразрешимость изучаемого вопроса или вероятность, что в процессе работы были пропущены важные данные. Может быть, его лишает сна мысль о путях, которые остались непройденными, и о лежащих в конце их ответах? Спросите меня, ученого, что меня беспокоит. Это не займет много времени. Я посмотрю вам в глаза и отвечу одним словом: «Деньги».
6
Лиана добивается успеха, забираясь повыше. Ее бесчисленные семена, дождем падающие с вершин деревьев, легко дают побеги, но редко пускают корни. Гибкие, зеленые, они отчаянно ищут то, за что можно зацепиться, — какую-нибудь опору, которая даст им столь необходимые силы. Побеги лиан пробиваются к свету, не считаясь с ценой. Они не играют по правилам лесной жизни, пуская корни в одном месте и разворачивая листья в другом, обычно чуть в стороне. Это единственное растение на земле, которое разрастается больше вширь, чем вверх. А еще оно ворует. Крадет пятнышки солнечного света, не занятые другими, перехватывает редкие капли дождя. Симбиоз, в котором каждый помогает партнеру, не для них: лианы растут, пользуясь любой возможностью. Мертвый носитель для них ничем не хуже живого.
Единственное уязвимое место лиан — их слабость. Все они жаждут забраться к кронам деревьев, но не обладают достаточной прочностью, чтобы сделать это вежливо. Побег стремится к солнцу, не наращивая древесину, а лишь на чистой наглости и неприкрытом самодовольстве. Плющ выпускает тысячи подвижных зеленых отростков, созданных специально, чтобы оборачиваться вокруг кого и чего угодно — лишь бы оно было достаточно прочным и выдержало новый побег, пока он не найдет опору получше. Это растение-перебежчик, как никто способное к импровизации. Если отросток дотянется до почвы, он превратится в корень. Дотянувшись до камня, точно такой же росток выпустит присоски и закрепится понадежнее. Все лианы легко превращаются именно в то, чем удобнее быть здесь и сейчас, и делают все необходимое, лишь бы воплотить свои намерения в жизнь.
Однако они не злобны — просто безнадежно амбициозны. На Земле нет растений более упорных и трудолюбивых. Всего за один солнечный день лиана может вытянуться на 30 сантиметров; среди изученных видов у них самая высокая скорость передачи воды по стеблю. И не поддавайтесь иллюзии, которую создают осенью красные или коричневые листья ядовитого плюща: он не умирает, просто мухлюет с разными пигментами. Лианы — вечнозеленые, их жизнь проходит без выходных и долгих зимних каникул, которые устраивают себе лиственные деревья. К тому же они не цветут и не тратят силы на семена, пока не выбираются из лесного шатра навстречу солнцу — таким образом выбирая для размножения лишь сильнейших из выживших.
В наш век господства человека самые сильные растения становятся еще сильнее. Лианы не могут покорить здоровый лес: чтобы начать действовать, им нужно чужое вмешательство. Какой-то катаклизм должен обнажить участок почвы, повалить ствол, создать солнечное пятно, которое они займут. Люди — непревзойденные мастера по части таких вмешательств: мы вспахиваем, прокладываем дороги, сжигаем, рубим и копаем. Углы и трещины наших городов благоприятствуют только одному виду растений — сорнякам, способным быстро расти и агрессивно размножаться.
Растение, живущее там, где ему не место, всего лишь несносно; растение же, процветающее на чужом месте, — сорняк. И речь сейчас не о нахальстве их семян (все семена нахальны); нет, я имею в виду их поразительный успех. Люди активно создают новый мир, выжить в котором могут только сорняки, — а потом с гневом и изумлением обнаруживают, что их все больше. Это парадоксальное отношение давно потеряло смысл: в мире растений уже началась революция, и лазутчики легко берут верх над аборигенами на каждом кусочке планеты, к которому прикоснулась рука человека. Мы тщетно пытаемся истребить сорняки, но это не остановит революцию. И это не та революция, которой нам хотелось бы, но та, которую мы спровоцировали.
Подавляющее большинство лиан, произрастающих в Северной Америке, — инвазивные виды, семена которых были случайно привезены из Европы и Евразии вместе с чаем, тканями, шерстью и другими нужными товарами. Многие из них, попав к нам в XIX веке, добились на новом месте невероятных успехов. Избавившись от орд насекомых, которые веками терроризировали их на родине, в Новом Свете лианы буквально начали процветать без всяких ограничений.
Лиана, известная нам под названием кудзу (Pueraria montana), была привезена в Филадельфию в качестве подарка от Японии на столетие Декларации независимости в 1876 году. С тех пор она разрослась настолько, что занимает территорию размером с Коннектикут. Толстые ленты кудзу вьются параллельно шоссе, пересекающим юг Америки. Она процветает в придорожных канавах, куда мы выбрасываем банки из-под пива и сигаретные окурки, потому что сама является живым мусором мира растений. При этом кудзу то и дело оказывается там, где ей не рады, заслоняя нам милые розовые цветки кизила. Если бы мы вдруг решили бороться с ней и вырвали один из побегов, то быстро обнаружили бы, что единственный стебель кудзу может вырасти до 30 метров длиной — вдвое выше любого леса! Но эта лиана — паразит, она не может иначе. Пока кизил цветет на своем месте в ожидании нового чудесного лета, кудзу продолжает расти со скоростью 25 миллиметров в час. Она ищет себе следующее временное пристанище.
7
После визита в «Обезьяньи джунгли», где нам было явлено откровение (мы все — обезьяны в вольере), многое в моей жизни встало на свои места. Когда я уезжала из лаборатории на семинары и конференции, только мудреные электронные письма от Билла не давали мне забыть, за что я люблю свою работу. Пока я вынужденно кисла в обществе рыхлых мужчин среднего возраста, относившихся ко мне как к шелудивой собаке, которая пробралась в дом через подвальное окно, эти письма прочной цепочкой связывали меня с лабораторией. «И все же есть место, где я — часть целого», — напоминала я себе, стоя в зале очередного «Марриотта» в компании собственной тарелки: казалось, я вшивая или прокаженная, а потому не могу присоединиться к сердечным похлопываниям по спине и историям о том, как собирали масс-спектрометры в былые времена.
Возвращаясь после таких поездок в университет, я каждый раз бралась за работу с удвоенным усердием. Постепенно я начала выделять одну ночь в неделю (обычно это была среда), чтобы привести в порядок документы: пока я изнывала на заседаниях, посвященных возможному устареванию грифельных досок, бумажный хаос безнаказанно рос. Благодаря картонным стенам, отделявшим мой кабинет от комнаты отдыха, каждое утро с десяти до половины одиннадцатого я имела удовольствие выслушивать рассуждения о том, что женщины-преподаватели и секретари отделов — естественные враги научного сообщества, а также измышления о моей собственной сексуальной ориентации и возможных травмах детства. Тем же нехитрым способом я узнала, что, хотя мне просто необходимо носить пояса, я все же лучше одной из своих коллег, которая никогда не сбросит набранный за время беременности вес, если и дальше будет столько работать.
Однако, сколько бы усилий я ни прикладывала, прогресса не было видно. Душ стал роскошью, доступной раз в две недели. На завтрак и обед я открывала банки с заменителем еды, которые складировала под рабочим столом. Однажды пришлось даже стащить у Ребы сахарную косточку: я планировала погрызть ее во время семинара, чтобы никто не заметил урчания в животе. Акне, которое не беспокоило меня в подростковом возрасте, неожиданно решило взять реванш за упущенное время и дебютировало на лице с таким оглушительным успехом, что я целыми днями яростно кусала ногти. Единственное же, в чем я убедилась во время своих недолгих романов, — жизнь точно отправит меня на свалку для неудачников в любви. Впрочем, ни один из парней, с которыми я встречалась, все равно не мог понять, почему я постоянно торчу на работе, — не говоря уж о том, чтобы часами слушать рассуждения о растениях. Абсолютно все шло не так и не туда и не имело ни малейшего отношения к тому, какой мне рекламировали взрослую жизнь.
Я обитала тогда на окраине города — там, где заканчивается Атланта и начинается южная Джорджия: снимала трейлер, за которым расстилались три акра девственных земель округа Ковета, и доплачивала за привилегию ухаживать за престарелой кобылой по имени Джеки. На мой взгляд, это стоило тридцати пяти минут дороги до работы: я всегда хотела лошадь, учеба официально осталась в прошлом, мне платили за то, что я делала, — словом, все складывалось наилучшим образом для того, чтобы воплотить давнюю мечту в жизнь. Джеки оказалась очень милой: одно ее присутствие успокаивало меня и давало душевные силы; к тому же она быстро подружилась с Ребой. Меня не устраивало только, что и мой сосед с западной стороны, и хозяин трейлера резко перестали быть дружелюбными и начали вести себя странно, стоило мне распаковать сумки и обосноваться.
При заселении меня удивило, что самодельный гараж для трейлера забит стопками кассет с домашним видео и коробками с ними же. Хозяин заявил, что не может держать их дома, но привел этому весьма размытое объяснение. В ответ я пожала плечами и захлопнула дверь, раз уж это помещение мне все равно было не нужно. Но чем дольше я о нем размышляла, тем сложнее становилось придумать невинную причину прятать от жены и детей такое неимоверное количество видеозаписей. К тому же хозяин завел привычку внезапно появляться на пороге и рассказывать, как его удивило, что такая милая девочка решилась жить так далеко в лесах — совершенно одна и без ружья под рукой.
Сосед выступал в том же ключе. Периодически он заглядывал ко мне по вечерам, чтобы напомнить: вероятно, его внешность вводит в заблуждение, но полученная им фельдшерская подготовка позволяет избавить девушку вроде меня от одежды меньше чем за сорок пять секунд — возникни у него такая необходимость. На основании этого я сделала логичный вывод: если видишь в Джорджии человека в комбинезоне, но без футболки, вряд ли за этим последует что-то хорошее.
Спустя год на индикаторной панели моего фургона зажглась сигнальная лампочка «проверить двигатель». Не имея ни малейшего представления, что это может значить, я восприняла сигнал посланием свыше, обменяла свою развалюху на подержанный джип, погрузила в него собаку и переехала в город. Там я нашла жилье в районе Атланты Хоум Парк — узкую, вытянутую в длину квартиру в полуподвале, которую Билл тут же окрестил крысиной норой. «Нора» прилегала к складу заготовок при сталелитейном заводе, который подарил мне немало новых знаний. Например, выяснилось, что в процессе производства целые пачки стальных листов необходимо сбрасывать с высоты четырех метров через равные промежутки времени. И непременно ночью. Множество влажных южных вечеров я провела на крыльце, глядя на огонек сигареты Билла, который мерцал в темноте среди прочих ночных огней, и пытаясь придумать план Б — пока безжалостный барабан из стали неутомимо выстукивал на заднем плане мелодию грядущей менопаузы.
Жилище Билла оказалось еще удивительнее — хотя он принимал это с гораздо большим равнодушием и стойкостью, чем я. Оказалось, месячная плата за аренду душного «клоповника» в Атланте почти в два раза ниже, чем за аналогичный «клоповник» в Калифорнии; однако, обойдя десять квартир и познакомившись с южными клопами, он был уже готов не просто выбросить белый флаг, но и признать поражение. В конце концов Билл купил грязно-желтый микроавтобус, и я помогла ему перенести вещи с незабываемыми ощущениями человека, чей друг садится в машину и переселяется… а никуда, собственно, не переселяется, поскольку намерен теперь жить в машине.
Не успели мы отъехать на квартал по направлению в никуда, как услышали глухой удар и возмущенный кошачий вопль, которые означали, что рядом «Котосфера». Так мы называли местную экосистему бродячих котов — по аналогии с проектом «Биосфера» Колумбийского университета в Аризоне. «Котосфера» представляла собой старый дом, населенный исключительно самостоятельными представителями кошачьего племени. Обычно они патрулировали окрестности, обращая подчеркнуто мало внимания на пересекавшие их маршруты автомобили. Я заставила Ребу пригнуться на заднем сиденье, отлично понимая, что в стане врага, обладающего численным превосходством, собачье высокомерие может привести к беде.
— Я этим кошкам никогда не нравился, — задумчиво сказал Билл. — Так и мечтали меня выжить.
И он, высунув голову из окна, прокричал:
— Покедова, твари пушистые! Не сможете больше гадить мне в ботинки!
Так начался период, когда Билла стало очень сложно найти: мобильные телефоны тогда встречались не у каждого, а постоянного адреса у него теперь не было. Когда его не оказывалось в лаборатории, я просто садилась в машину и начинала кататься по городу, проверяя места, где он обычно останавливался. Если мне удавалось найти микроавтобус, его хозяин тоже обнаруживался поблизости.
— Здорóво. Хочешь чего-нибудь горячего? — не меняя ленивой позы, поприветствовал меня Билл, когда я вошла в кафе, которое он называл своей гостиной. Находилось оно по соседству с общественной прачечной (его «подвалом»), и по воскресеньям Билла можно было найти именно там. В то утро он удобно устроился в мягком кресле возле газового камина, с «Нью-Йорк Таймс» в одной руке и двойным латте в другой.
— Опять подстригся. Ненавижу, когда ты так делаешь, — заявила я.
— Ничего, отрастут, — заверил меня Билл, потирая голову. — Просто был вечер субботы, и я… сама понимаешь.
В жизни Билла было немало того, чего он предпочитал любой ценой избегать, и визиты в парикмахерскую определенно входили в этот список. Одна мысль о том, чтобы подпустить к себе кого-то настолько близко, приводила его в ужас — поэтому с тех пор, как мы встретились в Калифорнии, Билл успел отрастить копну блестящих черных волос, придававших ему сходство с Шер. Со спины его часто принимали за женщину, а проходившие мимо мужчины нередко бросали на него заинтересованные взгляды — которые быстро сменялись удивлением и смущением, стоило им заметить лохматую бороду и мужественную челюсть. Естественно, это только усиливало социальную паранойю Билла, поэтому вскоре после переезда в микроавтобус он обзавелся беспроводной электрической бритвой вроде тех, которые можно найти в настоящей парикмахерской. Спустя месяц он позвонил мне в три часа ночи и радостно сообщил, что обрил голову.
— Это так круто! — вещал он с горячностью неофита. — Я чувствую такую свободу! Длинные волосы — удел идиотов. Теперь мне очень жаль тех, кто их носит.
— Не могу сейчас разговаривать, — пробормотала я и поспешно бросила трубку. Идея кардинальных перемен в Билле мне не нравилась, а уж бритье наголо и вовсе казалось чем-то непереносимым. Останется ли он собой без своих волос?
Я знала, что это глупо, и все же чувствовала потребность не встречаться с ним несколько дней. Конечно, скоро мы увидимся и я справлюсь — просто не прямо сейчас. Повторяя себе, что это станет слишком сильным потрясением, я продолжала увиливать и залегла на дно. Билл, разумеется, заметил это и пришел в смущение.
В конце концов он снова позвонил мне из автомата посреди ночи. Стоило мне взять трубку, как он сказал:
— Я не стал выкидывать волосы. Тебе станет легче, если ты их увидишь?
Я обдумала его предложение и поняла, что это действительно может сработать.
— Стоит попробовать. Заедешь за мной?
Когда его микроавтобус остановился у дома, я забралась внутрь, избегая смотреть Биллу в глаза.
— Они в водохранилище, — пояснил он, сворачивая на Ховел-Милл-роуд.
Каждый вечер Билл сталкивался с непростой задачей: где припарковать микроавтобус, чтобы переночевать? Проблема усложнялась тем, что машина дышала на ладан и остановиться по сути означало заглохнуть намертво.
Вдобавок у микроавтобуса не было задней передачи — поэтому парковаться надо было так, чтобы иметь потом возможность выехать передом. Если же перед тобой успевал припарковаться кто-то еще, ты не мог сдвинуться с места, пока не уедут они. Первой передачи у микроавтобуса тоже не было, так что для старта необходим был легкий уклон, а чтобы завести машину утром, нужно было сначала ее подтолкнуть. Самым паршивым оказалось то, что стартер не работал при теплом двигателе, — поэтому, где бы ты ни остановился, нужно было подождать минимум три часа, пока мотор остынет и можно будет снова его запустить. Заправка также была сопряжена с риском, поскольку выключать двигатель на это время было нельзя. Обычно я без страха наблюдаю, как люди заливают в бак топливо, — однако, когда Билл начинал размахивать заправочным пистолетом над искрящим двигателем, при этом не выпуская сигарету изо рта, у меня неизменно учащался пульс.
Около четырех часов утра мы наконец добрались до смотровой площадки водохранилища — хотя, если говорить начистоту, смотреть с нее было абсолютно не на что. Билл заехал на небольшой холмик и остановил машину (но не двигатель) так, чтобы ее бампер был направлен чуть вниз.
— Тут нормально? — спросил он, положив руку на ключ зажигания. Это был код: на самом деле, прежде чем заглушить мотор, он интересовался, готова ли я провести здесь ближайшие три часа.
— Мы ушли к водохранилищу, чтобы жить разумно, — тем же кодом согласилась я, исказив цитату из Торо. Билл называл водохранилище «местечком для уик-эндов», поскольку технически оно представляло собой водоем, обсаженный деревьями, и практически не патрулировалось в выходные. В безжалостном дневном свете водохранилище являло собой уродливый квадратный резервуар, обнесенный четырехметровым, кое-где насквозь проржавевшим забором. Вокруг боролись за жизнь несколько старых потрепанных деревьев, увитых и задавленных кудзу.
Билл выключил зажигание, вытащил ключи и махнул ими вперед:
— Волосы там.
— Где? — переспросила я, не вполне понимая, куда он показывает.
— Там, — повторил Билл и кивнул на большое амбровое дерево, которое росло в паре метров от машины.
Я выбралась наружу и подошла ближе, уже догадавшись, что он имеет в виду пустое дупло в стволе.
— Просто протяни руку, — подбодрил меня Билл.
Я остановилась и какое-то время размышляла.
— Нет, — решила я наконец. — Наверное, не буду.
— Да что не так-то? — с раздражением поинтересовался Билл. — Как будто для парня сбрить волосы и спрятать их в дупле дерева на окраине города — это странно. Боже, да ты ненормальная.
— Знаю, знаю. Дело не в тебе, а во мне, — уступила я, а потом замолчала, разбираясь со своим подсознанием. Найдя наконец лучшее объяснение, на которое была способна, продолжила: — Мне просто не нравится, что такую огромную часть тебя можно вот так легко отрезать и выбросить.
— Бу-бу-бу, — передразнил меня Билл, хотя в голосе его звучало напряжение. — Естественно! Мне это тоже не нравится. Именно поэтому я их тут и спрятал. Святые угодники, я же не варвар какой-нибудь.
С этими словами он сам сунул руку в дупло и извлек оттуда огромную охапку черных волос. Затем поднял ее над головой, под свет жужжащей флуоресцентной лампы, которая венчала изрисованный граффити столб, и потряс этой копной. Я молча на нее уставилась.
— Они великолепны, — заключила я в итоге — вполне искренне. Меня действительно впечатлило и то, какими блестящими были эти волосы, и их количество. Со стороны казалось, наверное, что Билл машет кому-то на прощание, используя вместо положенного в таких случаях платочка дохлую кошку.
Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Теперь, сбривая волосы, Билл каждый раз запихивал их в то же дупло; иногда, поздно ночью, мы наносили им визит. Это был очень умиротворяющий ритуал, хотя я была уверена: рано или поздно один из нас сунет туда руку и будет укушен недовольным енотом.
В Ночи Посещения Волос мы обычно усаживались на берегу водохранилища и сочиняли детскую книжку о жизни Билла (последняя, по нашему общему мнению, являла собой изумительно неподходящий материал для такого рода литературы). Этот шедевр должен был называться «Прожорливое дерево». Главным в нем был образ древа-родителя, которое медленно пожирало своих отпрысков, не в силах противостоять растущей алчности. В середине книги Мальчик, едва достигший пубертатного возраста, приходил к Дереву, чтобы найти в его ветвях укрытие от жестокого мира взрослых. «Вижу, у тебя на груди начали расти волосы, — сказало ему Дерево, а потом буднично приказало: — Сбрей их и отдай мне».
К концу истории Мальчик превращался в старика, облысевшего от тревог и из-за возраста. «У енотов снова родились малыши. Мне нужно больше волос», — сказало Дерево. Мальчик виновато покачал головой: «Прости, но у меня их нет — теперь я лысый старик». «Тогда сунь руку в дупло, и пусть еноты ее грызут, — предложило Дерево. — На это сгодится даже рука старика». «Хорошо, — согласился Мальчик. — Давай встанем рядом, я на тебя обопрусь, и они ее немного погрызут». Книга заканчивалась описанием мучительного жертвоприношения.
— За нее мы точно получим медаль Кальдекотта[4], — заявила я однажды ночью после особенно продуктивного обсуждения.
Не прошло и полугода с тех пор, как Билл поселился в микроавтобусе, когда однажды он постучал в мою дверь в половине четвертого утра. Я впустила его и принесла кофе, который как раз начала варить перед его приходом.
В то лето все шло не так.
— Непросто это — жить в автобусе, — то и дело повторял Билл с усталым вздохом.
К половине девятого утра штат Джорджия разогревался до тридцати двух градусов, а значит, долго спать в машине было просто невозможно. Билл подошел к делу изобретательно: на принадлежавшей кампусу парковке Р3 он нашел место, где микроавтобус можно было поставить боком под сенью огромной ивы, которая обеспечивала ему и тень, и прохладу. Все окна, включая ветровое стекло, он закрыл алюминиевой фольгой — отражающей стороной наружу. Благодаря этому в машине можно было находиться хотя бы до тех пор, пока солнце не поднимется достаточно высоко.
Я сталкивалась с ним примерно в половине восьмого, когда он, пошатываясь, бродил по лаборатории с мензурками, наполненными водой. По его словам, он «пропекся» еще около часа назад и теперь, как обычно, «снимал корочку». Эти иссушающие ночи только усугублял тот факт, что после шести вечера Билл ничего не пил: туалета у него не было, а идею пользоваться кустами он открыто высмеивал.
— Я еще не так низко пал, — надменно отвечал он на подобные предложения.
В ту ночь, когда Билл явился ко мне на порог, его сон был весьма неожиданно прерван. Мы долго удивлялись, почему никто не замечает странный микроавтобус, постоянно припаркованный на Р3. Оказалось, в итоге его все-таки заметили — полицейские, патрулирующие кампус. Настала ночь, когда Билл, спавший в луже собственного пота, проснулся оттого, что кто-то энергично колотил по ветровому стеклу. Снаружи слышалась сирена патрульной машины, разбавляемая стаккато раций. Билл откатил в сторону дверь.
В тот момент он вряд ли выглядел образцовым гражданином. Накануне он собрался побрить голову, но одолел только половину — потом сели батарейки в бритве. В результате прическа Билла наводила на мысли о только что сбежавшем буйнопомешанном. В микроавтобусе воняло, как всегда воняет в таких тесных помещениях, а на пассажирских сиденьях были разложены внутренности переносного телевизора, который Билл разобрал, чтобы поколдовать над проводами. Пока он щурился от слепящего света фонарика, бестелесный голос спросил:
— Сэр, не могли бы вы показать удостоверение личности?
Когда полицейские убедились, что в машине нет ничего опасного, Билл продемонстрировал им свои водительские права, удостоверение университета, паспорт и даже пакет на молнии, в котором хранилась уже сбритая часть волос. Вскоре после этого мне позвонили из полиции с просьбой подтвердить, что Билл является моим сотрудником.
— Мы нашли его спящим в микроавтобусе на парковке кампуса, — объяснил офицер по телефону.
— Все верно, парковка Р3, — ответила я. — Под ивой.
Выяснив, что Билл не представляет ни для кого угрозы и не замышляет ничего, что нарушало бы закон, офицеры принялись извиняться за испорченную ночь. У них не было другого выбора, кроме как разбудить его — такая уж работа, понимаете. Билл заверил их, что не держит зла.
— Если что, сразу за холмом находится телефон экстренной связи, — с отеческой заботой напомнил ему один из офицеров. — Обязательно позвоните, если вам что-то понадобится.
После того как они уехали, Билл оделся и пришел ко мне, подозревая, что я захочу услышать объяснение ночному звонку.
— Не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным. — Я была очень расстроена. — Ты именно тот человек, на которого можно повесить что угодно, если им захочется… Странный тип, который периодически засовывает части тела в дупло.
— Да ладно тебе, мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики, не создаю проблем. И вообще излучаю нормальность, — возразил Билл, и я вынуждена была с ним согласиться. Ни один из нас никогда не связывался с наркотиками — даже в Беркли. Мы и пиво-то во время полевых экспедиций не пили, а это было неслыханной праведностью в среде ученых, занимавшихся науками о земле. Да, недавно я сделала несколько ксерокопий, воспользовавшись факультетским доступом другого человека, но иных прегрешений за мной в этом семестре не числилось.
— Ну, ты постоянно богохульствуешь, — заметила я, не желая уступать. Билл согласился, что это, черт возьми, правда. — И посмотри на себя: ты же вылитый Голова-ластик, они могли закрыть тебя за одно это.
Устав злиться и беспокоиться, я сменила гнев на милость.
— Ладно, знаю, что это моя вина. Все потому, что плачу тебе меньше прожиточного минимума. Но я не могу… По крайней мере пока. Уверена, скоро — очень скоро! — мы получим большой грант.
Я задумалась, что бы еще сказать, чтобы эти слова не звучали совсем уж пустым обещанием.
— В любом случае это была последняя капля. Я устала ночей не спать из-за волнения. Нужно найти тебе жилье. — Я мучительно напрягла мозги в поисках выхода. — Денег я дам.
В итоге Билл сам нашел жилье. Через неделю он переехал в лабораторию — и теперь спал в одном из наших кабинетов, которым никто не пользовался и куда избегали даже заходить. Дело в том, что в этой комнатке не было ни окон, ни вентиляции, а потому в ней собирались все запахи, идущие от людей во всем здании. Они накапливались в плитах потолка, а те постоянно источали этот редкий букет ароматов. Билл называл комнатку Парилкой, потому что внутри всегда было на пять градусов жарче, чем в остальной прогретой и плохо проветриваемой лаборатории.
Там Билл соорудил кровать и тумбочку под прикрытием старого стола и завел привычку спать в футболке и штанах цвета хаки (этот комплект получил название «пижака»), чтобы немедленно вскочить, если в комнату заглянет секретарь или уборщик, и заверить их, будто только на минутку прилег в процессе проведения долгого лабораторного эксперимента. План был хорош, но не учитывал, что Парилка находится возле главного входа, — поэтому Биллу не удавалось поспать после 9:00, когда в здание врывались орды студентов и принимались хлопать дверями. Он заменил и смазал нужные петли, но это не особенно помогло. После того как мы однажды засиделись почти до утра, Билл пристроил на крыльце знак «Двери сломаны, пользуйтесь, пожалуйста, задним входом» — но это помогло только до тех пор, пока кто-то не сообразил позвать администраторов, которые не нашли никаких проблем.
Теперь холодильники с биологическими образцами были забиты замороженными обедами, а запасы свежих продуктов обитали в холодильнике секретарей, пока те не пожаловались на три гигантских арбуза: как выяснилось, в тот день они продавались за гроши в местном супермаркете. В целом Билл остался доволен всем, кроме одного: у него не было своего душа. Раковину для швабр в кладовке уборщика он превратил в некое подобие биде — но тогда приходилось оставлять открытой дверь, чтобы его случайно не заперли внутри. Как бы мы ни старались, придумать убедительное объяснение, почему он находится там в три часа ночи, не получалось, а сложившаяся ситуация только подкармливала его паранойю.
Однажды около одиннадцати утра сработала пожарная тревога, и, выходя из кабинета, я заметила среди эвакуировавшихся Билла: босиком, в пижаке, волосы торчат в разные стороны, во рту — зубная щетка. Оказавшись на улице, он первым делом направился к стоявшему на подоконнике вазону с геранью и сплюнул в него зубную пасту.
Я подошла и окликнула его:
— Чувак, ну и ну. Ты сейчас просто Лайл Ловетт на гастролях.
Билл принялся щелкать почти пустой зажигалкой, пытаясь извлечь из нее последнюю искру.
— Если бы лодка была у меня, я бы уплыл в океан, — напел он, не выпуская изо рта сигарету.
Поскольку ему буквально было некуда идти, Билл работал в лаборатории по шестнадцать часов в день. Он всегда был рядом — и вскоре превратился в советчика и утешителя для всех и каждого. Билл помогал студентам чинить велосипеды, менял масло в их стареньких машинах, проверял за ними налоговые декларации и объяснял, куда идти, чтобы выполнить свой гражданский долг и принять участие в суде присяжных (все это — бесконечно ворча). Студенты же изливали ему душу в очаровательной манере, присущей всем девятнадцатилетним («Прикиньте, в шкафу нашей комнаты в общаге есть встроенная гладильная доска!», «Я буду ассистентом продюсера на студенческой радиостанции! В той передаче в 3:45 по воскресеньям, где ставят пост-регги-панк», «И вот на День благодарения мой отец заявляет, что никогда не слышал о Гертруде Стайн, и я такой: бо-оже, кто все эти люди»). Билл слушал их без малейшего суждения, но не считал нужным говорить о себе в ответ. Впрочем, студенты были слишком поглощены своей новой взрослой жизнью, чтобы это заметить.
Обычно Билл не делился со мной историями студентов, но для особенно замечательных делал исключение. Так случилось с Карен, нашей лаборанткой. Исследовательский опыт ей нужен был, чтобы резюме, которое она планировала подать в ветеринарную школу, выглядело посолиднее. Она мечтала работать с животными, находящимися под угрозой исчезновения, — помогать тем из них, кого спасли из клеток, вернуться в естественную среду обитания. Летом Карен ушла из лаборатории, потому что ей предложили желанную практику в зоопарке Майами. Там ей предстояло выяснить две вещи. Во-первых, по большей части обязанности сотрудника зоопарка заключаются в проведении ежедневных гигиенических процедур. Во-вторых, хуже животного, которое никак не реагирует на эту заботу, может быть только животное, которое принимает ее со всей страстью.
Как стажер Карен оказалась в самом низу карьерной лестницы, поэтому ее отрядили работать в вольер с приматами. Главной ее задачей было наносить противовоспалительный крем на обезьяньи гениталии — важно было ежедневно смягчать их нежную кожу, поскольку обезьяны активно пользовались тем, что дала им природа. В сознании подопечных Карен ее образ быстро связался с возможностью разрядки, и они начали толпой набрасываться на нее, едва завидев. Мы с Биллом с трудом сдерживались, пока слушали эту историю — так она была хороша, — но оказалось, что дальше события приняли еще более увлекательный оборот. Карен обнаружила, что только очень стойкая обезьяна может сохранять неподвижность, пока ей втирают в гениталии антибиотик. Большинство же с горячностью откликались на все проводимые манипуляции.
Пластиковый доспех, выданный зоопарком, был призван защищать Карен от страстных объятий подопечных и делал ее почти вдвое шире, но все равно не был на 100 % эффективен. Благодаря знаниям, полученным на занятиях по поведению животных, она сообразила познакомить обезьян с концепцией «воронки наслаждения», однако у такого подхода оказался побочный эффект: теперь первым, что она видела по утрам, был отряд обезьян, выстроившихся вдоль сетки вольера по стойке «смирно». Это зрелище заставило ее пересмотреть свои взгляды на карьеру в области ветеринарного дела. Вернувшись после стажировки в лабораторию, Карен решила, что ботаника, возможно, не такая уж скучная наука.
Несмотря на то что мы дневали и ночевали в кампусе, не все его обитатели были нам знакомы. Например, на еженедельный семинар педантично приходил потрясающе бледный парень, который всегда садился в самом конце крайнего ряда. У него была белая кожа и длинные белые волосы, хотя выглядел он максимум на средний возраст. Появлялся он всегда в последний момент и исчезал тоже первым, не принимая участия в разговорах после занятия и не интересуясь предложенными напитками. Мы видели его только на этом семинаре, где он не раскрывал рта и не пытался ни с кем взаимодействовать. В конце концов мы решили, что он обитает на университетском чердаке, после чего к парню прицепилось прозвище Страшила Рэдли — в честь одного из героев романа «Убить пересмешника». Как-то я решила проследить за ним, улизнув, пока все задавали вопросы, — но он незаметно растворился в толпе, торопящейся к выходу.
Я строила вокруг Страшилы бесчисленные теории — что он подумал про каждый семинар, в чем может быть специалистом, везет ему в жизни или нет, — а потом сочиняла хитрые планы, чтобы вывести его на чистую воду, ворваться в личное пространство и все разузнать. Билл не проявлял к этим идеям никакого интереса.
Как-то ночью он спокойно сидел на ступенях здания, а я в очередной раз болтала о Страшиле, указывая на светящееся окно третьего этажа. Билл послушно посмотрел на окно, потом перевел взгляд на звезды, глубоко затянулся, выдохнул облачко дыма и сказал:
— Послушай, Глазастик. Он такой, какой есть. Думаю, что не хочу знать о нем больше. Достаточно того, что он живет там, наверху, и придет спасти нас, если случится что-то плохое.
С этими словами Билл растер сигарету об асфальт, посмотрел на меня и, сняв свою флисовую куртку, протянул мне. Только надев ее, я поняла, что замерзла.
8
Кактус живет в пустыне не потому, что ему там нравится, а потому, что пустыне пока не удалось его убить. Заберите оттуда любое растение и поселите в другом месте — оно станет расти гораздо лучше. В этом смысле пустыня очень похожа на бедные районы: ни у кого из их обитателей просто нет возможности переехать. Здесь слишком мало воды, слишком много света, а температура слишком высока — где еще можно встретить столько исключительных неудобств, возведенных в абсолют! Биологи не особо интересуются изучением пустыни: в растениях их, как и все человечество, интересуют в основном съедобность, лечебные свойства и древесина. У здешних аборигенов этих качеств нет. Так что ботаники, исследующие флору пустыни, — редкость. Эти люди приучены к тем же невзгодам, что и любимые ими растения. У меня же, например, кишка тонка день за днем выносить подобные мучения.
Для обитателей пустыни угроза жизни не является чем-то из ряда вон выходящим — это неотъемлемая составляющая их повседневного существования. Экстремальные условия — часть ландшафта; растение не может их избежать или изменить в лучшую сторону. Выживание кактуса зависит от того, сможет ли он раз за разом выдерживать убийственные периоды засухи. Если вы когда-нибудь увидите ферокактус пурпуровый (ferocactus wislizenii), достающий вам до колена, знайте: скорее всего, ему больше двадцати пяти лет. В пустыне кактусы растут медленно — в те годы, когда вообще растут.
У круглого ферокактуса есть складки, похожие на меха аккордеона, — именно в их глубине скрыты поры, которые впускают воздух и испаряют воду. Когда засуха становится невыносимой, кактус отбрасывает корни, чтобы почва не выпила через них накопленную воду. Так он может прожить четыре дня, причем не переставая расти. Если дождь так и не пойдет, кактус начинает сжиматься. Иногда этот процесс занимает несколько месяцев — пока не сомкнутся все складки. Их ребра формируют жесткий колючий щит, который защищает лишенное корней тело растения. В таком виде кактус может сидеть и годами ждать спасения, постоянно терзаемый солнцем. Когда наконец придут дожди, понадобится всего двадцать четыре часа, чтобы он вернулся к полноценной жизни — если, конечно, еще на это способен. Иногда оказывается, что кактус уже мертв.
Существует около сотни видов, известных под названием «воскресающие растения». Они не родственники, но каким-то образом освоили один и тот же фокус. У воскресающих растений листья превращаются в жесткие иссохшие коричневые полоски и годами кажутся мертвыми — чтобы немедленно ожить, получив доступ к воде. Происходит это благодаря их необычным (и случайно приобретенным) биохимическим свойствам. Дело в том, что по мере засыхания в листьях концентрируется сахароза, практически чистый сахар. Этот сироп поддерживает и сохраняет лишившиеся зеленого хлорофилла листья.
Воскресающие растения обычно очень маленькие, не больше ладони: уродливые, крошечные, бесполезные и очень своеобразные. При дожде их листья набухают, но еще долго, в течение сорока восьми часов, не зеленеют; это то время, которое требуется для запуска процесса фотосинтеза. Во время пробуждения растение живет только на концентрированном сахаре, его насыщенном укрепляющем растворе: за день по его жилам проходит объем сахарозы, который обычно накапливается за год.
Эти малыши совершают невозможное: они продолжают жить, не имея зеленых листьев. Разумеется, подобное чудо недолговечно — через несколько дней начинается фотосинтез, и все возвращается на круги своя. К тому же за такие фокусы приходится платить свою цену, а рано или поздно любое воскресающее растение окончательно засохнет и умрет по-настоящему. Но на краткий звездный миг оно единственное может то, на что не способно большинство растений на земле: расти и не быть зеленым.
9
На пике мании ты видишь обратную сторону смерти. Ее начало всегда внезапно и поглощает тебя полностью, даже если ты через это уже проходил. Сперва тело начинает ощущать, что где-то вот-вот зародится и расцветет новый мир. Кажется, что позвонки отделяются друг от друга, а ты сам становишься выше и тянешься к солнцу. Сердце бьется в каком-то невероятно долгом оргазме, и ты ничего не слышишь за ревом крови, пульсирующей в голове. Следующие двадцать четыре, сорок восемь, семьдесят два часа тебе придется кричать, чтобы различить собственный голос за этим шумом. Ничто вокруг не звучит достаточно громко, не светит достаточно ярко, не двигается достаточно быстро. Мир видится тебе словно через «рыбий глаз», зрение затуманено, а по краям его вспыхивают искры. Тебе будто ввели огромную дозу анестетика, и все тело слегка покалывает — после оно станет отстраненно дряблым и чужим. Твои поднятые руки — свежие лепестки великолепной лилии, расцветающей в полную силу. Вдруг приходит осознание, потрясающее до глубины души: тот дивный новый мир — это ты сам.
В разгар ночи больше не темно — кто вообще придумал, что ночи темные? Эта темнота — лишь одна из многих, неизъяснимо простых деталей мира, в которые ты привык верить, но которые теперь исчезают под натиском всепоглощающего триумфа. Вскоре ты перестаешь различать день и ночь, потому что сон тебе не нужен. Не нужна еда и вода, даже шапка, защищающая от погоды, — для чего все это? Но тебе необходимо бежать, необходимо чувствовать прикосновение воздуха к коже. Сбросить бы рубашку и бежать, чтобы чувствовать ветер, — ты пытаешься объяснить человеку, который тебя держит, что это нормально нормально нормально, но он не понимает, а лицо у него такое, будто кто-то умер, и тебе жаль его, потому что он не понимает, как замечательно и хорошо хорошо все хорошо.
И вот ты объясняешь ему, а он не понимает, и ты повторяешь снова и снова разными словами, но он не слушает на самом-то деле, а только твердит: «У тебя от этого что-нибудь есть?» и «Почему бы тебе не выпить таблетку?», и ты объясняешь, что тебе не нужны таблетки, чтобы это чувствовать, а он не понимает а он не понимает и ты зло приказываешь ему уйти уйти уйти. И он наконец уходит. Но это не страшно, ведь ты ничего такого не имела в виду, и потом все прояснится, и он поймет, потому что все будет иметь смысл, и он тоже станет счастлив, когда осознает, что вот-вот случится что-то прекрасное и грешно мешать этому.
Потом начинается лучшая часть. Финальный подъем. Теперь исчезает не только вес твоего тела, но и все беды и горести этого старого и усталого мира. Голод, холод, нищета и отчаяние — все плохое, что когда-либо испытывали люди, так легко исправить. Нет ничего, ничего, ничего, что нельзя преодолеть. И ты приходишь в восторг — единственный человек из миллиардов, свободный от ноши экзистенциальной боли, которая давит на всех нас. Будущее прекрасно и полно чудес, и ты всем телом ощущаешь его приближение.
Жизни ты не боишься, смерти тоже. Ты вообще ничего не боишься. Горя нет, и нет печали. Ты чувствуешь, как подсознание формулирует ответы на все вопросы, когда-либо заданные несчастным человечеством. У тебя есть неоспоримые доказательства существования Бога и создания Им вселенной. Ты тот, кого ждал этот мир. И ты дашь ему все, ты омоешь его в своих знаниях и погрузишь по колено в свою густую любовь любовь любовь.
Когда я умру, я узнаю Рай — но не по этим ощущениям, а по их бесконечности. Пока я привязана к жизни, все имеет свойство заканчиваться, а то, что приходит после, как и любое воскрешение, требует платы.
Но пока внутри горит этот сжигающий в откровениях вселенский пламень, тебя поглощает стремление зафиксировать все обретенные знания, создать вдохновенную инструкцию идеального завтра. К сожалению, именно в это время реальность наносит ответный удар и начинает серьезно тебе мешать. Руки трясутся так, что невозможно удержать ручку. Тогда ты достаешь кассетный магнитофон, нажимаешь кнопку записи и надиктовываешь кассету за кассетой. Ты говоришь, пока не начинаешь безудержно кашлять кровью, ходишь из угла в угол, пока не падаешь в обморок. А потом встаешь, меняешь кассету и продолжаешь — потому что уже так близка к чему-то, какому-то доказательству или отчаянной надежде, будто твоя маленькая жизнь на самом деле может быть не настолько запутанной и чуть более ценной.
А затем становится слишком громко и слишком ярко и слишком много всего слишком близко к твоей голове и ты кричишь, кричишь, кричишь, отгоняя это прочь. И кто-то держит тебя и говорит боже как это произошло и это что волосы и черт возьми тут твой зуб на полу и они макают палец в кровь и шмыгают носом. Тебе скармливают таблетку снотворного, и ты спишь, и просыпаешься, только чтобы выпить еще одну таблетку, и ты спишь, и просыпаешься, только чтобы выпить еще одну таблетку, как будто они выкармливают из пипетки выпавшего из гнезда птенца малиновки. Несколько часов или дней спустя ты просыпаешься, и тебя охватывает серая грусть, которая заставляет молчать и тихо плакать, пока не отупеешь, и ты спрашиваешь за что, за что, за что тебя так наказывают.
Наконец страх одолевает грусть, и ты откатываешь в сторону камень, выбираешься из могилы, оцениваешь ущерб и делаешь то, что должно. Страх одолевает даже стыд, и ты записываешься к врачу, чтобы просить и умолять дать тебе еще снотворного на следующий раз следующий раз следующий раз.
И только волею безумной удачи — или судьбы, или Провидения, или Иисуса, а впрочем, не все ли равно — ты попадаешь в лучшую на свете больницу, и врач внимательно смотрит на тебя и говорит: «Знаете, вам необязательно так жить». Он задает вопросы, пока ты не рассказываешь ему абсолютно все, и он не напуган и не морщится в отвращении, он даже не удивлен. Он говорит, что такое случается и люди справляются с этим. Он спрашивает, что ты думаешь о лекарствах, а ты отвечаешь, что не боишься ничего, сделанного в лаборатории. В ответ он с улыбкой описывает препараты, один за другим, и тебе хочется упасть на пол и целовать ему руки, как преданная собака, потому что ты непередаваемо ему благодарна. Этот врач так умен, и так уверен, и столько раз видел подобное, что ты набираешься наглости надеяться: возможно, еще не поздно вырасти в то, чем тебе положено быть.
Годы спустя, готовясь к путешествию через весь мир, ты находишь на дне шкафа стопку кассет и понимаешь, что не повезешь их с собой. Одну за другой ты потрошишь их, выдергивая блестящие коричневые ленты. Вот и все, что остается от тех безумных, отчаянных, исполненных восторга дней, — перепутанный клубок пленки. Еще час ты сидишь и клянешься хотя бы попытаться полюбить то, что осталось от бедной больной девочки, которая ночь за ночью записывала на магнитофон свои рыдания, потому что выслушать ее могла только машина. Ты решаешь, что этот клубок пластика мертв, но все равно бесценен — как плацента, которая держала тебя, пока ты плавала во тьме, готовясь появиться на свет. Ты встаешь, выносишь ее наружу и хоронишь под магнолией. Потом возвращаешься, пакуешь то, что берешь с собой, и стараешься простить себя за то, что оставляешь.
Но до этого дня исцеления еще много лет, так что давайте пока вернемся в Атланту 1998 года, и я расскажу, как устроен мир, когда сила мании сравнима по постоянству и воздействию с силой гравитации.
10
— Где ты, черт возьми, была? — рявкнул вынырнувший из-за угла Билл, едва заметил меня в лаборатории.
Я бессмысленно моргнула.
— В депрессии. — Я попыталась сказать это как можно легкомысленнее, хотя меня душил стыд. Последние тридцать шесть часов я провела в кровати рыдая — очередная фаза мании прошла, заставив меня рухнуть с пика на самое дно. Ее наступление спровоцировал укол кортикостероидов, необходимый, чтобы снять жесткую аллергическую реакцию.
Мы изучали растительный мир по берегам реки Миссисипи, проехав Арканзас, Миссисипи и Луизиану и теперь прокладывая путь сквозь невероятно жгучие заросли ядовитого плюща. В процессе фотосинтеза растения потеют, и учебники твердят, что — как и мы с вами — они потеют тем сильнее, чем жарче становится на улице. Вдоль реки Миссисипи можно найти тысячи деревьев одного вида, растущих по линии температурного градиента: чем дальше на юг, тем выше температура. Мы разработали способ измерить количество выделяемого ими «пота», сравнивая химический состав воды в стволе с ее составом в листе — как раз там «пот» и выделяется (это называется «суммарные потери воды из почвы испарением и растительной транспирацией»). По мере того как весна превращалась в лето, мы все четче понимали: пота становится не больше, а меньше, несмотря на то что на всех контрольных точках становилось жарче и жарче. Мне это казалось полной бессмыслицей — но чем больше я потела над проблемой, тем меньше потели деревья.
В поле мы съездили уже трижды, и моя аллергия на грозный ядовитый плющ с каждым разом становилась все хуже. Несмотря на это, мы отчаянно пробирались через его заросли, доходившие уже до груди, — чтобы отыскать те упрямые деревья, с которых в самом начале собрали образцы. Я не могла и не хотела бросить это исследование, а ужасное жжение от прикосновения к листьям не шло ни в какое сравнение с дискомфортом, который накатывал на меня каждый раз, когда полученные данные оказывались прямо противоположны тому, что мы рассчитывали увидеть.
В эту поездку сыпь покрыла всю мою шею и перекинулась на лицо, вызвав серьезный отек на правом виске. Тот не только сделал меня похожей на человека-слона, но и пережал зрительный нерв, в результате чего я частично потеряла зрение на правом глазу. Что дело дрянь, я осознала, когда Билл по дороге из Поверти-Пойнт (штат Луизиана) в Атланту перестал сравнивать мою голову с мясным пудингом, а вместо этого помчался без остановок, чтобы скорее высадить у больницы Университета Эмори.
Доктора заставили меня подписать согласие на фотографирование, потому что «вдруг понадобится это опубликовать», вкололи метилпреднизолон и принесли камеры. Я лежала на бумажных полотенцах, пока они крутились рядом, щелкая затворами, и старалась не смеяться при мысли, что свидетельства нашего провального исследования в итоге все-таки попадут в печать.
Но прошло еще несколько часов, а с ними меня посетила неприятная мысль: денег на такси у меня нет. Теперь я жалела, что не попросила у Билла наличных, когда выходила из машины. По моим расчетам, «Крысиная нора» находилась примерно в восьми километрах к западу от больницы.
Лежа на кушетке в своем гнезде из одноразовых простыней, я вдруг начала понимать, что прекрасна и неотразима. Я дошла до туалета, посмотрела в зеркало и решила, что нет смысла ждать дальше: вряд ли я буду самым странным персонажем на Понсе-де-Леон-авеню, особенно в этот поздний час. За время, необходимое, чтобы добраться до поста медсестер, в моей голове также закрепилась уверенность, что я — новый Мессия.
Несмотря на это, меня выписали. Быстрым шагом, вприпрыжку, а потом и бегом я пронеслась по Друид-Хиллз. Идеи в моей голове сменяли друг друга так быстро, что я не успевала закончить первую мысль, а ее место уже занимала следующая. Нужно было вернуться в лабораторию: я вдруг осознала кое-что важное. На курсе сельского хозяйства нас обучали деликатному искусству орошения и особенностям поведения воды в пористых почвах. Я вспомнила, что на производство каждого грамма клеточной ткани кукурузе требуется почти литр воды. Она выпаривает его, чтобы охладить механизм, превращающий воздух в сахар, а сахар — в листья. Скорее всего, с приходом лета деревья на Миссисипи просто перестали расти, сформировав всю необходимую листву в весенние месяцы. Я вдруг поняла: деревья «потели» меньше потому, что сезон роста закончился и система пришла в равновесие.
Да, с наступлением лета на Юге становилось все жарче и жарче, но деревья-то уже начинали готовиться к зиме: скорость их роста уменьшалась, а значит, выделялось и меньше «пота». Их действия определялись не только внешними факторами вроде температуры, которые были понятны нашему миру; они были продиктованы целями мира растительного и неразрывно связаны с ростом листьев. И тут меня озарило: конференция Американского геофизического союза в Сан-Франциско. Тысячи солидных ученых в одном месте. Я должна попасть туда и поделиться с ними новообретенной благой вестью.
Задыхаясь, я влетела в лабораторию и немедленно посвятила Билла в свой гениальный план: мы поедем на эту конференцию безо всякого финансирования — ни со стороны института, ни из собственных вложений. Мы доберемся туда на машине! Пускай мероприятие проходит в Калифорнии, а мы сейчас в Джорджии — впереди еще восемь полных дней, за которые спокойно можно туда добраться.
Аргументы были следующими: расстояние в пять-с-чем-то-тысяч километров при скорости примерно 100 км/ч можно преодолеть за пятьдесят часов. Разобьем это время на десять пятичасовых смен за рулем — всего пять часов на каждого водителя, одна смена в день, если взять в дорогу еще двух студентов. Пять легких дней. Мы можем запросить аренду одного из университетских микроавтобусов, к каждому из которых прилагается собственная топливная карта, и ночевать в палатках (это незаконно, но какая разница). Штрафы придут только через несколько месяцев, но я-то к тому моменту уже получу грант, потому что из множества предложений хоть одно должно принести нам контракт, верно? К тому же ты не получишь финансирования, если никто тебя не знает, поэтому нужно ездить на все конференции и показывать себя миру.
Я уже успела сочинить обширный пассаж из описания нашего «Проекта Миссисипи». В нем была выдвинута теория, что изучаемые растения используют воду в основном для поддержания темпов роста, а не для охлаждения. Так выглядела моя первая попытка сместить фокус с представления о растении, которое контролируется условиями окружающей среды, на растение, которое эти условия контролирует. К этой идее я буду неоднократно возвращаться при различных обстоятельствах в грядущие годы. Но в то время у меня еще не было структурированного доклада. Вопреки всякой логике, я просто надеялась, что придумаю, о чем говорить на конференции, по дороге — если вообще туда попаду.
Поэтому я начала увлеченно доказывать Биллу, что такие путешествия — единственный естественный для американцев способ передвигаться: на Миссисипи его пионером был еще Гек Финн. Как и в случае с другими моими безумными проектами, родившимися в фазе мании, недостаток логики я с лихвой компенсировала энтузиазмом. Билл закатил глаза. «Знаешь, Пудинг, иди-ка ты домой и поспи», — посоветовал он, и я поспешила прочь. Вскоре после этого моя мания достигла пика, с которого я и рухнула вниз, в пучину депрессии, запертая наедине с собой в тесной квартирке.
И вот я возвращаюсь несколько дней спустя, и Билл изучает меня с головы до ног. Затем, отбросив неловкость, он скомандовал: «Так выбирайся из нее, потому что мы выезжаем!» В руках у него был потрепанный атлас дорог Джорджии и ключи от микроавтобуса. Я так и застыла в изумлении. Пока я таинственным образом исчезла со сцены, Билл принял мой восторженный лепет за руководство к действию, взял в аренду микроавтобус и упаковал снаряжение. Я слабо улыбнулась, благодарная за очередной шанс начать все сначала, но справиться на этот раз лучше.
Однако теперь передо мной вставала проблема графика: уже среда, а мой доклад запланирован на восемь утра в воскресенье. В нашем распоряжении оставалось не пять, а три очень долгих дня за рулем, иначе успеть на место к вечеру субботы было невозможно. Вместе мы взялись за раскопки в картонной коробке, где держали стопки бесплатных шоссейных карт (те были стащены из офиса Службы помощи автомобилистам в ходе многочисленных визитов, нанесенных туда исключительно с этой целью).
— Алабама, Миссисипи, Арканзас, Оклахома… И черт побери, у нас нет Техаса! — Билл обнаружил, что из пятидесяти необходимых карт одну мы не сообразили украсть. — Как мы могли забыть про Техас?
— Вот и не вспоминай про него, раз забыли. Поедем на север, — предложила я. — Ты бывал в Канзасе? — Билл покачал головой. — Ну так, значит, побываешь, — пообещала я, вытаскивая из коробки Кентукки, Миссури, Канзас и Колорадо.
Разложив карты край к краю, я измерила их руками. Если ехать вверх и вбок по трассе 70, середина маршрута придется на окрестности Денвера, а у меня в Грили были друзья, у которых наверняка можно будет остановиться и выспаться после ночного перегона, чтобы снова отправиться в путь к полудню пятницы. Оттуда до Рено около пятнадцати часов, а там можно встать лагерем на небольшой возвышенности. Потом мы пересечем ущелье Доннера и спустимся к Сан-Франциско к вечеру субботы, где нас уже будет ждать сестра Билла — у нее свой дом в черте города, и она готова принять всю компанию на время конференции.
Конечно, на календаре уже была первая неделя декабря, но я приехала из Миннесоты и холода не боялась.
— Солт-Лейк-Сити? Тебе понравится! — заверила я Билла. — Там будто океан замерзшей ртути — нигде нет ничего круче.
Здесь я пустилась в восторженный монолог о прериях, равнинах и горах, которые нам предстоит пересечь, и продолжала его, пока не поверила в свою идею снова — но уже на здоровую голову.
— Это точно и безоговорочно отличный план, в котором нет никаких изъянов, — провозгласила я, и мы расхохотались над абсурдностью этого заявления, одновременно не сомневаясь в его правдивости.
Пока мы паковали багаж, я с удивлением обнаружила, что Билл и правда пригласил в путешествие нескольких студентов, причем парочка даже согласилась. Среди них оказалась магистрантка Тери: она недавно вернулась к учебе, отработав десять лет консультантом в реальном мире, — и, видимо, стремилась как можно скорее завести полезные связи. Мы подозревали, что Тери редко выезжала из Джорджии, но до этого путешествия даже не представляли насколько.
В команду вошел и наш студент Ноа, умевший почти все, но делавший это молча. Он тоже согласился (невербально, надо полагать) поехать. Водительских прав у него не было, так что облегчить задачу тем, кто будет за рулем, он не мог — однако за пятьдесят с лишним часов дороги он наверняка раскроется, и мы познакомимся ближе. Билл общался с Ноа больше меня, подобных надежд не разделял и называл его в основном «теплокровный груз».
Мы проверили и перепроверили карты и походное снаряжение, потом доехали до заправки и до краев залили бак шестнадцатиместного микроавтобуса. Следующей нашей целью стал супермаркет, благодаря которому в холодильнике появилась диетическая кола, лед, хлеб, мягкий сыр и копченая колбаса (Билл руководил закупками сладкого). Мы решили, что три водителя будут находиться за рулем сменами по три часа, чтобы у каждого было по шесть часов на отдых. Это означало всего одну остановку раз в двести минут: поменять водителя, купить бензин и воспользоваться туалетом. Забитый холодильник должен был обеспечить нас пропитанием, а тот, кто оказывался в пассажирском кресле, получал возможность выбирать радиостанцию и отвечал за приготовление бутербродов по заказу водителя. Также Билл захватил четыре пустые двухлитровые бутылки, подписал их нашими именами и спрятал под задними сиденьями на случай, если кому-нибудь приспичит.
Наш план показал себя на удивление хорошо: первые двадцать четыре часа пути прошли на редкость непримечательно. Я села за руль около полуночи, выехала с трассы 64 на трассу 70, пересекла реку Миссисипи и двинулась по Миссури. Билл занял пассажирское сиденье, уперся в него коленями и почти по пояс высунулся в окно, любуясь Воротами Запада. Когда мы свернули на север и проехали прямо под ними, луна осветила арку сверху, эффектно дополнив сияние прожекторов на земле. Затем дорога вильнула на запад, прочь от Олд-Норт-Сент-Луис. Билл снова опустился в кресло и задумчиво, без тени сарказма, пробормотал:
— Эта страна прекрасна.
Помолчав с минуту, я ответила:
— Да. Она прекрасна.
Остальные уже спали на сиденьях за нашими спинами. Прошло еще пять часов; позади начало подниматься солнце, медленно разливая свет по бесконечным ветреным полям Канзаса.
— Эта страна прекрасна, — снова тихо повторил Билл самому себе.
И я снова ответила:
— Да. Она прекрасна.
В Грили, к дому Кэлвина (Кэла) и Линды, мы приехали к ужину следующего дня, вывалившись из транспорта, точно стая вымотанных долгой погоней борзых. Перед тем как выехать из Атланты, я позвонила и предупредила о своем визите, хотя предполагала, что мне — и моим друзьям — там будут рады по умолчанию. Я не ошиблась: Кэл и Линда целую вечность работали преподавателями и любили меня больше, чем я того заслуживала. Мы кое-как разогнули ноги, ввалились внутрь и набросились на предложенную еду.
— Итак, что заставило вас ехать через северный Колорадо в декабре? — непринужденно поинтересовался Кэл.
— В основном отсутствие карты Техаса, — ответил Билл.
Мне оставалось только пожать плечами в подтверждение его слов.
К счастью, в огромном доме Линды для каждого нашлась кровать — так что следующие десять часов мы проспали как убитые. Утром мы с Биллом встали первыми и с энтузиазмом согласились на предложение Кэла прогуляться до кафе неподалеку. За кофе я рассказала о нашем маршруте: сначала Ларами, потом Солт-Лейк-Сити, Рено и дальше вверх по Сьерра-Невада, а затем вниз в Сакраменто и через Залив — все это за следующие полтора дня. Кэл вырос на животноводческой ферме в 1940-х и был мужчиной степенным и немногословным. Он слушал и понимающе кивал, а потом неторопливо заметил:
— Приближается буря. Может, вам стоит держаться трассы 70 через Гранд-Джанкшен, чтобы не въезжать в Дивайд?
— Нет, так дольше, — возразила я, не преминув похвастаться: — У меня все рассчитано.
— Если ты и права, то ненамного дольше, — добродушно ответил Кэл.
Я решила, что он сомневается в моей правоте, и немедленно загорелась желанием выиграть спор.
— Дольше! Покажу, когда вернемся домой.
Развернув карты Колорадо, Вайоминга и Юты, мы воспользовались ниткой, чтобы сравнить протяженность двух маршрутов. Я триумфально продемонстрировала свою: она была немного короче, чем вторая, отмечавшая путь через Шайенн. В ответ Кэл только покачал головой и спросил, есть ли в нашем багажнике цепи для колес. Я уже в десятый раз объяснила, что нет, они нам не понадобятся — я выросла в Миннесоте и знаю, о чем говорю. Кэл снова покачал головой, вышел на лужайку перед домом и какое-то время изучал небо на северо-западе.
Есть вещи, о которых я жалею, и победа в том споре навсегда в их числе. Мой маршрут и правда был короче, чем предложенный Кэлом, — почти на сотню километров. Час пути — я думала, что мы сэкономим именно столько, когда вела свою команду в эпицентр самой страшной зимней бури девяностых.
Пока мы загружали микроавтобус, Оливия, восьмилетняя дочь Кэла и Линды, украсила его изнутри цветными флажками, которые сама срисовала с атласа и раскрасила. Мы обняли всех на прощание, и я поймала себя на мысли, что вечно оставляю тех немногих, кто меня любит, — однако отмахнулась от этой мысли и села за руль.
Я должна была довезти нас до Ролинса, штат Вайоминг, после чего меня сменяла Тери. Согласно плану, за ее смену мы добирались до Эванстона, возле которого пересекали границу с Ютой. Но пока что они с Биллом препирались за моей спиной насчет «кормильца» — так Билл окрестил наш холодильник. К настоящему моменту на дне его плескались несколько сантиметров холодной воды, в которой плавала копченая колбаса и куски льда вперемешку с подмоченным сыром. Воняло все это настолько гадостно, что Тери требовала ввести новое правило: отныне заглядывать в холодильник можно было только по требованию двух или более пассажиров и исключительно при открытых окнах. В глубине души я ее поддерживала, зная, что в ближайшие два дня запах вряд ли улучшится, но чувствовала себя обязанной встать на сторону Билла. Он единственный продолжал питаться содержимым холодильника. Из-за этого спора все — вероятно, даже Ноа — были слегка не в духе, когда мы остановились на заправке в западной части Ролинса, чтобы Тери могла занять кресло водителя.
Дожидаясь спутников из туалета, я стояла и смотрела на горизонт. Было еще не поздно, но небо выглядело слишком уж темным; к тому же заметно похолодало и поднялся ветер. Тери вернулась с заправки первой. Когда она села вперед, я попросила ее посигналить остальным, давая знать, что мы готовы отправляться.
Билл и Ноа сели позади, и Тери завела мотор. Я скучала и чувствовала себя вымотанной, хотя день еще только начинался. Судя по карте, которую я держала в руках, этот отрезок дороги обещал быть совершенно ровным и неинтересным. Скинув ботинки, я уперлась ногами в батарею отопления на приборной доске. Подумала было пристегнуться, но поленилась: мы въезжали на один из самых плоских участков Земли, что могло пойти не так?
Стоило нам выехать на трассу 80, Тери вдавила педаль газа, и микроавтобус рванул вперед, как будто участвовал в сезонной гонке по кольцу Атланты. Я неловко поерзала на сиденье, но пару километров не вмешивалась. Затем мы пересекли Грейт-Дивайд, и погода в ту же секунду резко изменилась; в воздухе закружились первые снежинки.
Взглянув на мокрую дорогу, я поняла, что через несколько минут она вся будет покрыта слоем льда. Тери же явно собиралась придерживаться первоначального плана и продолжать мчаться со скоростью 100 км/ч. Ровным и спокойным голосом, которым я обычно инструктировала студентов, выполнявших опасную и сложную манипуляцию в лаборатории, я произнесла:
— Слушай, сейчас тут все покроется льдом, так что тебе стоит ехать медле-е-е-е…
Закончить предложение мне было не суждено. Тери не стала постепенно сбрасывать скорость — она просто ударила по тормозам, а почувствовав под колесами лед, ударила по ним еще сильнее, пока вовсе не заблокировала. Микроавтобус повело; она попыталась исправить ситуацию, бешено выкручивая руль, и мы начали выписывать широкие неровные завитки, продолжая притом лететь вперед. Тери к этому моменту уже орала от страха, полностью потеряв контроль над машиной, — а я с ужасом понимала, что дело непременно кончится аварией.
Последнее, что я запомнила, прежде чем наш микроавтобус перевернулся, — это знак ограничения скорости, сгибающийся в некое подобие леденцовой трости. Поскольку этот столб был единственным в радиусе дюжины километров, мы, разумеется, в него врезались. Машина все кружилась, кружилась и кружилась — а когда вращение наконец замедлилось, оказалось, что она стоит на полосе встречного движения. На мгновение меня охватил страх — вдруг нас сейчас протаранит другая машина, — но на смену ему тут же пришло еще более неприятное осознание: микроавтобус не просто кренится на одну сторону, он вот-вот перевернется. Я изо всех сил вцепилась в приборную панель, чувствуя, как мы медленно заваливаемся в канаву под душераздирающий скрежет металла, треск пластика, визг Тери и звук, больше напоминающий залпы мушкетов при объявлении Гражданской войны.
Меня поразило, как медленно текло при этом время — будто тележка американских горок, карабкающаяся на самый высокий виток аттракциона. В конце концов я ударилась головой о холодное стекло, отлетела назад и приземлилась щекой на тонкое фетровое покрытие потолка салона. На какую-то секунду воцарилась полная тишина. Когда я рискнула открыть глаза и подняться, под ногами у меня оказался потолок, ставший сейчас полом, — на редкость странная картина. Три остальных пассажира висели на ремнях безопасности вниз головой.
Я начала бегать по потолку, проверяя, не пострадали ли мои друзья. Удивительно, но обошлось без травм — не считая моего разбитого носа, из которого бурно хлынула кровь, стоило мне истерически рассмеяться. Билл первым отстегнул ремни и мешком свалился на потолок; похоже, произошедшее не сильно выбило его из колеи. Ноа не двигался со своего места в конце салона, нервно проводя руками по влажным почему-то волосам. Тери просто висела на ремнях с удрученным видом.
Здесь в мою голову закралось подозрение, что микроавтобус может взорваться — в фильмах после аварии происходило именно это, — но я понятия не имела, что в таких случаях делать. Неожиданно задние двери распахнулись, и мужской голос произнес:
— Я ветеринар. Все целы?
Похоже, водитель ехавшей позади нас машины увидел, как мы улетели в канаву, и поспешил на помощь.
Я с трудом сдерживала облегчение: пожалуй, еще немного, и я бросилась бы ему на шею и расцеловала.
— Да-да, все целы! — радостно прокричала я.
— Погода становится хуже. Давайте-ка отправим вас в город.
Обернувшись на голос, я разглядела за спиной нашего нового друга еще нескольких добрых самаритян и вспышки аварийных сигналов.
— Хорошо, — так же радостно согласилась я. — Давайте, конечно.
Добровольные спасатели помогли нам выбраться. Я выходила последней: не потому, что была капитаном этого потерпевшего крушение корабля, а просто отыскать ботинки в хаосе, который представляли сейчас разлетевшиеся по салону вещи, оказалось непросто. Мы разбились на пары, сели в чужие грузовики и поехали навстречу неизвестности.
Ни водителей, ни своего точного местоположения мы не знали; транспорта у нас теперь не было, денег или плана — тоже, и все же я чувствовала себя великолепно. Я была жива, и радость переполняла меня, грозя разорвать сердце. Я была благодарна Провидению за то, что никто не пострадал, и едва не пела в полный голос. Что бы ни случилось дальше — плохое или хорошее, — это станет даром, на который я даже не рассчитывала. Обернувшись, я увидела, как ветер гоняет по канаве и асфальту флажки Оливии. Взгляд зацепился за флаг Ямайки — желтый крест на черно-зеленом поле. Я с улыбкой следила за ним, пока он не исчез вдалеке.
Через двадцать минут нас высадили у заправки на Спрус-стрит в западном Ролинсе. Я расспалась в благодарностях нашим спасителям — хотя чем больше говорила, тем четче понимала, что они просто хотят оставить нас уже и уехать. Тери стояла поодаль с таким видом, будто решила покончить с собой. Один из водителей отвел Ноа в сторону со словами: «Не переживай так. Ты здорово испугался, со всеми бывает», и я вдруг поняла, как от нас пахнет. Вместе с микроавтобусом перевернулось и все его содержимое, включая «кормильца». К тому же кто-то из нас неплотно закрутил крышку своей двухлитровой бутылки, и, судя по запаху и виду, все ее содержимое вылилось во время аварии на Ноа — мокрого и благоухавшего мочой. Видимо, мужчина, который его успокаивал, решил, что бедняга от страха как-то обмочил себе голову.
Пока я наблюдала за ними, восстанавливая цепочку событий, ко мне подошел Билл.
— Знаешь что? — сказал он бодро. — В нашу страховку включена эвакуаторная служба!
Выбираясь из микроавтобуса, Билл прихватил из бардачка топливную карту и теперь читал то, что было написано мелким шрифтом. Услышав эту новость, я улыбнулась еще шире.
— Пойду позвоню им и попрошу достать машину из канавы, — сообщил Билл, направляясь к таксофону.
— Скажи, что мы остановились в «Супер-8»! — прокричала я ему вслед, заметив неподалеку мотель.
Дождавшись Билла, мы подхватили рюкзаки и направились к мотелю, в холле которого воняло так сильно, что нам явно было нечего беспокоиться за собственное амбре.
— Здравствуйте, — обратилась я к даме за стойкой. — Мы бы хотели у вас остановиться.
— Комната на одного — тридцать пять, на двоих — сорок пять, — ответила она, не поднимая глаз и не выпуская изо рта сигарету.
Я взглянула на Тери, которая все еще была в шоке.
— Давайте три комнаты. Эти двое пусть живут в отдельных, а мы, — я указала на Билла, — займем одну. Получится сто пятнадцать долларов, верно?
— И налог, — напомнила дама.
— И налог, точно, — повторила я с улыбкой и безропотно достала кредитку.
К моему удивлению, дама забрала ее и пихнула в стопку выписанных от руки чеков.
— Ладно, жизнь налаживается, — констатировала я и обернулась к остальным: — Как насчет ужина?
— Я хочу только пойти и лечь, — мрачно ответила Тери.
Я не могла понять, злится она на меня или на себя; думала уже спросить, все ли в порядке, но потом решила, что это не лучшая идея. Поэтому я продолжила стоять и молчать, что определенно было еще худшей идеей. Ноа исчез, как только получил ключ, поэтому мы с Биллом вдвоем вышли из мотеля и отправились вниз по Элм-стрит в поисках ресторана. По дороге нам попалась грязная закусочная, где мы заказали две колы и два антрекота, которые и съели с большим аппетитом, неожиданно осознав, до чего голодны.
Прогулка обратно напоминала любую нашу совместную прогулку и одновременно была на них не похожа. Мы чувствовали себя как два бандита, которые прикончили не того человека; сегодняшняя авария, едва не закончившаяся гибелью, навсегда связала нас. Вернувшись в мотель, мы поднялись к себе в комнату. Там обнаружилась огромная двуспальная кровать, застеленная стеганым бордовым одеялом с уродливым узором; простыни под ним явно никто не менял. Обшитые темными панелями стены и тяжелые синтетические шторы пахли дымом и сладковатым дезинфицирующим средством, а покрытый разводами ковер оказался настолько липким, что мы не рискнули снять ботинки.
Близилась ночь. Мое тело было вымотано до предела, но мозг работал в полную силу. Не замеченные ранее синяки начали напоминать о себе, а навестив туалет в закусочной, я увидела в моче кровь — но и это не испортило мне настроения. В тот вечер я чувствовала себя так, будто со мной никогда не случится ничего, что смогло бы меня расстроить.
Мы лежали бок о бок на кровати и разглядывали разводы на потолке, которые освещала тусклая лампа на прикроватном столике. Кран в ванной протекал, и капли отстукивали ровный мягкий ритм. Минут через двадцать Билл сказал:
— Это все-таки случилось. Один из студентов попытался нас убить.
Он вывернул ситуацию наизнанку, и ее абсурдность заставила меня хихикнуть. Хихиканье превратилось в смех, а тот — в хохот, который все шел и шел откуда-то изнутри, из самой моей глубины. Я смеялась, пока у меня не свело мышцы живота, так что я не могла как следует вздохнуть. Смеялась, пока не потеряла над собой всякий контроль и не намочила слегка штаны. Смеялась, пока это не стало так больно, что я мысленно взмолилась о пощаде — но все равно не сумела остановиться. Я смеялась, пока этот смех не начал напоминать рыдания. Билл смеялся вместе со мной. И в нашем смехе была радость и благодарность за то, как круто мы обвели Смерть вокруг пальца. Наше везение было даром небес, пропуском в новый мир, слишком прекрасный, чтобы его оставить. Нам подарили еще как минимум один незаслуженный день — день, который мы проведем вместе.
Наконец наши всхлипывания утихли, но только потому, что у тела не было больше сил. Однако, отдышавшись, я опять начала хихикать. Потом засмеялась, Билл рассмеялся вместе со мной — и мы снова прошли все этапы смеховой истерики. Лежа бок о бок, полностью одетые, мы смеялись и смеялись, так и не сняв ботинок.
Через некоторое время Билл встал и пошел в ванную, но тут же высунулся обратно:
— Не поверишь — туалет забит. Знал же, что надо было захватить наши бутылки.
— Пописай на ковер, — предложила я. — Судя по его виду, все так и делают.
— Фу, не будь животным, — с отвращением одернул меня Билл. — Меня вполне устраивает слив в ванной.
Я поднялась, чтобы последовать его примеру. Затем мы снова улеглись рядом и продолжили изучать потолок.
— Меня тревожит Тери, — призналась я. — Думаю, она меня ненавидит.
— Да перестань, она сейчас должна радоваться, что вообще жива, — твердо сказал Билл.
— Она должна радоваться, что мы все живы, — поправила я его, но беспокойство никуда не делось. — Уверена, она винит во всем меня. И знаешь, в глобальном смысле так и есть. Это ведь я записала ее на конференцию в Сан-Франциско.
— Точно, ты же заставила ее бесплатно пересечь страну, чтобы встретиться с людьми, у которых она будет выпрашивать работу после выпуска. Ну ты и дрянь, действительно. Нужно было остаться в Атланте, чтобы я делал за нее все лабораторные, — ответил Билл, и в голосе его прозвучала незнакомая мне прежде суровость. — Она уже взрослая. Черт, да ей тридцать с лишним, она гораздо взрослее нас.
— Возраст еще ничего не значит, — возразила я. — Хотя всем было плевать, попаду ли я на конференцию, когда я была студенткой.
И я погрузилась в воспоминания о собственных обидах.
— Слушай, ты все равно не сможешь дружить со студентами, так что выброси эту мысль из головы прямо сейчас, — вздохнул Билл. — Мы с тобой будем из кожи вон лезть, чтобы научить их хоть чему-то — снова и снова, рискуя ради них нашими чертовыми жизнями, а они непременно нас разочаруют. Такая уж это работа. Нам обоим за это и платят.
— Ты прав, — подыграла я в том же циничном ключе, хоть и не вполне искренне. — Но мы же в это не верим, правда?
— Обычно не верим, — признался Билл. — Но сегодняшний день — исключение.
Я закрыла глаза, считая мягкие размеренные удары капель в ванной. Вдруг Билл сказал:
— Ты же знаешь, что дружить с коллегами по работе тоже не выйдет.
Я распахнула глаза — его слова меня неожиданно задели.
— А мы? — спросила я. — Мы же друзья, разве нет?
— Не-а, — ответил он. — Мы с тобой просто двое жалких недоумков, которые застряли посреди бескрайнего ничего и пытаются сэкономить двадцать пять баксов на номере в мотеле. Так что заткнись и спи давай.
Так мы и сделали, уснув на противоположных концах кровати в одежде и ботинках. Уже проваливаясь в сон, я подумала, что именно так должна ощущаться семья, и еще раз поблагодарила Бога за сегодняшний день — а заодно и грядущий, раз он все равно уже наступил.
На следующее утро все проснулись поздно; к тому моменту, как мы вышли из комнаты, за окном был ясный солнечный день. Тери ждала меня в холле, и ее явно разрывало от злости. Похоже, она не спала всю ночь.
Мы вместе дошли до закусочной для дальнобойщиков и заказали одну порцию яичницы с беконом, потому что ее как раз с лихвой хватало на четверых. После того как Билл попросил у официанта восьмую чашку кофе, Тери посмотрела на меня и сказала:
— Отвезите меня в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Я хочу вернуться домой.
Я кивнула и уже собралась заверить ее, что все понимаю и это не проблема, как вдруг вмешался Билл.
— Что? — рявкнул он, отшвырнув в сторону вилку и нож и вцепившись в стол, будто у него земля ушла из-под ног. — Ты угробила микроавтобус, а теперь хочешь просто сбежать отсюда и оставить нас с этим разбираться? Да ты охренела. Вконец охренела!
Он недоверчиво потряс головой. Тери вскочила и бросилась прочь — скорее всего, в туалет, чтобы там поплакать. Я подумала было последовать за ней, заверить, что все будет хорошо и что эта поездка изначально была дурацкой затеей, поэтому мы все вернемся домой. Но интуиция ученого подсказывала — не стоит сейчас сдаваться.
Поэтому я осталась сидеть за столом, размышляя, пока Билл остывал. Как и все, что случалось в лаборатории, этот инцидент останется на моей совести, и козлом отпущения тоже буду я. Я еще вчера сознавала: утром, как только я выберусь из кровати, мне придется разбираться с нашими проблемами — а я за них даже не принималась. Я понятия не имела, где сейчас разбитый микроавтобус или мой собственный чемодан. Не знала даже, как далеко (или близко) мы от Солт-Лейк-Сити. Единственное, в чем я была полностью уверена, так это в том, что до моего выступления на конференции остается меньше двадцати четырех часов, а меня отделяют от нее еще три штата. Но пусть мне и предстояло решить все эти вопросы, я была исключительно рада, что жива и могу о них беспокоиться. Наступивший день не грозил нам погибелью, а значит, должен был оказаться отличным — такой я теперь установила критерий для отличных дней. А раз так, нам оставалось только жевать свой бекон и импровизировать.
Я была согласна, что нам не стоит сейчас отступать, но реакция Билла все равно меня удивила. Постепенно я начала понимать: ему тоже когда-то приходило в голову оставить меня, хотя он никогда не предпринимал к этому действий. Я впервые задумалась, что он вполне мог бросить свою неустроенную жизнь в Джорджии. Наше недавнее странное и страшное приключение Билл воспринял как очередной этап пути; и хотя он не был виноват в произошедшей катастрофе, все равно не видел другого выхода из нее, кроме как упереться, выставить рога и идти напролом. Случившееся не произвело на него особенного впечатления — в отличие от факта, что кто-то еще посмел задуматься о том, чтобы нас бросить. Сама мысль об этом привела его в ярость, разжечь которую были не способны все наши провалы вместе взятые.
Теперь мне удалось наконец доформулировать мысль, с которой я уснула: это моя жизнь, а Билл — моя семья. Студенты приходят и уходят; некоторые из них подают надежды, другие безнадежны, но мы не должны к ним привязываться. Вся эта история — про нас с Биллом и про то, на что мы способны вместе. Остальное — только фоновый шум. Отныне я была свободна от надменных, тщеславных, корыстных ожиданий научных кругов. Я не изменю мир, не взращу новое поколение, не прославлю свой университет. Я просто буду работать в лаборатории, вкладывая себя всю — и душу, и тело. Выбираясь живой из перевернутой машины, я обшарила карманы и нашла там единственную стоящую валюту: верность. Поэтому я поднялась, расплатилась на кассе и придержала для всех дверь, когда мы покидали забегаловку.
— Давайте, ребята, — сказала я им. — Не вешать нос, дальше будет лучше. Без вариантов.
Мы уже подходили к мотелю, когда на парковке я заметила микроавтобус, очень похожий на наш. Конечно, нашим он быть не мог, потому что выглядел целым. Однако стоило подойти ближе, как выяснилось: целым он кажется только в части пассажирских сидений. Вторая половина наводила на мысли о смятой пивной банке. Бокового зеркала со стороны водителя не было — как и одного из дворников: его, видимо, сорвало во время аварии. Холодильник распахнулся, когда мы летели в канаву, так что внутренности микроавтобуса пропахли не только мочой, но и протухшим мясом и заплесневелым сыром. Окна с одной стороны были залеплены жижей, которая вылилась из холодильника, пока машина лежала на боку, и примерзла к стеклам за прошедшую ночь. Тем не менее сами окна были целы, а двери с пассажирской стороны открывались и закрывались. Заглянув внутрь, Билл заявил, что мы «не ценим обретенную роскошь».
Отыскав наши чемоданы — они оказались на своих местах, — он залез на место водителя и попытался завести мотор. Стоило ему повернуть ключ, как двигатель ожил и лениво заурчал, работая вхолостую. На губах Билла расплылась широкая улыбка.
— Мы снова в деле! — прокричал он.
Я зажала нос и забралась в пассажирское кресло, пока Тери и Ноа рассаживались позади.
Мы вернулись на шоссе и поехали на запад к Рок-Спрингс, штат Вайоминг. Ноа выполнял функцию бокового зеркала, подавая знаки, когда дорога была свободна. Мне вдруг пришло в голову, что за всю поездку он и правда не произнес ни слова. Я потянулась за ремнем, пристегнулась и несколько раз проверила, что замок защелкнулся плотно.
Оказавшись на трассе, я прикинула, сколько часов нам ехать до Сан-Франциско: шестнадцать, максимум семнадцать — мы еще успевали. Снежную бурю, бушевавшую в Сьеррах, я в расчет не брала: всему свое время. Здесь и сейчас дела шли отлично.
— Черт! — неожиданно воскликнул Билл. — Мы не купили новое зеркало. Ладно, на обратном пути поищем.
Я так и окаменела в своем кресле. Сосредоточившись на необходимости попасть в Сан-Франциско, я совершенно забыла, что нам еще придется возвращаться через всю страну на разбитом микроавтобусе. Однако не успела я открыть рот, как Билл одернул меня:
— Ничего не желаю слышать. Сиди и думай про свой доклад. После всего, через что нам пришлось пройти, он должен быть великолепен.
По сравнению с тем, как мы добирались до места, сама конференция показалась весьма непримечательной. Как только все закончилось, мы поехали обратно в Атланту: на этот раз по трассам 10 и 20 — наш новый маршрут включал Аризону, Нью-Мексико и 300 с лишним километров по Техасу, карты которого у нас так и не появилось. Каждый день Билл сообщал, что эта страна прекрасна. Я соглашалась. К моменту, когда наша команда оказалась в Финиксе, Тери пришла в себя, а прошлое было забыто.
В Атланту мы въехали поздно вечером. Я тут же вернула микроавтобус на место, а ключи бросила в коробку, куда мы их сдавали в нерабочие часы. Всего за месяц после этого я стала самым непопулярным персонажем среди университетских управляющих; более того, они были в бешенстве. Я раз за разом повторяла — да, я была за рулем в момент аварии; нет, никакого раскаяния я не чувствую, поскольку слишком рада нашему чудесному спасению, чтобы искать изъяны в чуде. Служащие, конечно, не разделяли моего мнения, и в какой-то момент я с этим смирилась. В то время меня понимал только один человек. Он понимал все, а я понимала, как же чертовски мне с ним повезло.
11
Ситка — маленький и, возможно, самый гостеприимный городок на Аляске. Он находится на острове Баранова, возле пролива, и теплые течения Тихого океана обеспечивают ему мягкий и ровный климат. Среднемесячная температура здесь не опускается ниже точки замерзания, благодаря чему несколько тысяч его обитателей находят свой город весьма приятным местом. А еще в Ситке никогда ничего не происходит — не считая тех нескольких дней в 1867 году, когда мир ненадолго вспомнил о его существовании.
Сделка по продаже Аляски была заключена именно в Ситке, куда для проведения формальной церемонии прибыли российские (продавцы) и американские (покупатели) дипломаты. Их встреча состоялась в рамках договора, ратифицированного сенатом Соединенных Штатов. В результате его США приобрели 1 518 800 квадратных километров новой территории по цене два цента за акр. Общая сумма сделки — $7 миллионов — для среднего американца была просто космической: в тот момент страна переживала последствия Гражданской войны, которая закончилась совсем недавно. Мнения разделились: те, кто поддерживал заключение договора, доказывали — следующим шагом станет аннексия Британской Колумбии; те, кто был против, твердили — Америка всего лишь получила дополнительную проблему в виде огромной незаселенной территории, которую нужно благоустраивать. К тому же в ситуации недавней Гражданской войны эта сделка стала своеобразной эскапистской драмой: еще одна битва добра со злом, но разразившаяся уже на чужой земле и вдали от народа.
Еще одна драма развернулась в Ситке в 1980-х — однако теперь в сражение вступили не люди, а виды.
Деревья любят Ситку. На острове Баранова лето долгое, а климат мягкий — это чертовски приятное место, чтобы жить и расти, пусть даже холодные темные зимы не дадут тебе особенно вытянуться в длину. Исследователи, изучавшие данный регион, обнаружили ситхинскую ель, ситхинскую ольху, ситхинский ясень и ситхинскую иву. Эти деревья успешно колонизировали Британскую Колумбию, а заодно и штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. Вместе с тем они очень скромны. Например, ситхинская ива не представляет собой ничего особенного. Максимальная ее высота — семь метров; никак не назовешь лесным гигантом. Однако эта ива, как и все растения, таит в себе множество секретов — гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Прогуливаясь по эвкалиптовой роще, вы купаетесь в уникальном запахе: одновременно едком, и терпком, и немного мыльном. На самом деле это переносимые воздухом химические соединения, которые дерево произвело и выпустило в атмосферу. Мы называем их летучими органическими соединениями, для краткости — ЛОС. Они не производятся с целью снабжения дерева питательными веществами, а значит, вторичны относительно его базовых функций. У ЛОС есть множество применений, понятных ученым, и немало тех, которые ими пока не изучены. Например, эвкалипту такие соединения нужны как часть обеззараживающей системы, сохраняющей листья и кору, если они повреждены, и позволяющей избежать инфекций.
Большая часть ЛОС не содержит азота, а потому не требует особенных вложений в свое производство и расходуется без сожаления. Эвкалипт ничего не теряет, выбрасывая в воздух волны летучих соединений, воспринимаемые нашим носом благодаря характерному запаху. Большинство же растений и вовсе производят ЛОС, аромат которых мы никогда не сможем почувствовать, потому что их предназначение не в том, чтобы радовать чье-то обоняние. Количество летучих соединений в лесном воздухе то увеличивается, то сокращается, потому что каждое растение может «включать» и «выключать» их выброс по специальному сигналу. Один из самых универсальных — жасмоновая кислота, которая начинает активно вырабатываться, если дерево повреждено.
В войне между растениями и насекомыми, бушующей уже 400 миллионов лет, потери несут обе стороны. В 1977 году один из лесов округа Кинг, штат Вашингтон, где проводились исследования местного университета, был практически уничтожен внезапно напавшими насекомыми. Войска гусениц коконопрядов сметали все на своем пути. Им удалось полностью лишить листьев несколько жертв, а множество других смертельно ранить. В целом урон популяции широколистных растений в этой области оказался весьма значительным. Однако всем известно: можно выиграть битву, но проиграть войну. Деревья не устают доказывать эту мудрость.
Перенесемся в 1979-й, в лабораторию Вашингтонского университета, где исследователи кормят гусениц коконопрядов листьями деревьев, которые уцелели во время той атаки, и внимательно наблюдают за подопытными. Ученым удалось установить, что испытуемые гусеницы росли значительно медленнее и вырастали более слабыми, чем обычно; и уж точно они росли гораздо хуже своих собратьев, которые питались листвой тех же деревьев двумя годами ранее. Проще говоря, в листьях появилось какое-то химическое соединение, заставлявшее гусениц болеть.
Самое замечательное в этой истории то, что в полутора километрах от места военных действий росли здоровые ситхинские ивы. Та атака их не задела, но для коконопрядов их листья тоже оказались практически несъедобны. Получая в качестве пищи листву этих здоровых ив, росших в совершенно другом месте, гусеницы постепенно слабели и заболевали. Всего два года назад они легко могли уничтожить целый лес — но теперь им это было не под силу.
Ученые уже знали о взаимном влиянии растущих рядом деревьев через выделения их корней; но изучаемые ситхинские ивы находились слишком далеко, чтобы нечто подобное было возможно в этом случае. Нет, здесь явно имел место какой-то надземный сигнал, переданный пострадавшими и полученный остальными. Оставалось предположить, что стоило гусеницам напасть на листья, как растение начало закачивать в них яд, параллельно выбрасывая в воздух летучие органические соединения. В дальнейшем, предполагают ученые, ЛОС преодолели полтора километра и были распознаны ситхинскими ивами как сигнал тревоги. После этого они начали вырабатывать такой же яд, заранее наполняя им листву. На протяжении 1980-х поколения и поколения гусениц умирали от голода, поскольку есть отравленные листья не могли. Это была долгая игра, но деревья все же сумели переломить ход войны в свою пользу.
Годами наблюдая за растениями, ученые пришли к выводу: передача сигналов между деревьями по воздуху — наиболее вероятное объяснение случившемуся. Они знают, что деревья не люди и чувств не испытывают — во всяком случае по отношению к нам. Деревьям нет до нас никакого дела. Но, возможно, им есть дело друг до друга. Возможно, в случае опасности растения способны сигнализировать о ней сородичам. Тот эксперимент со ситхинской ивой был прекрасным произведением научного труда, в корне изменившим всё. Оставалась только одна проблема: понадобилось больше двадцати лет, чтобы общество поверило в его результаты.
12
Мне удавалось заснуть, но спать не получалось. Был 1999 год, ранняя весна, и я раз за разом просыпалась в половине третьего утра — после чего никак не могла заснуть снова и все больше по этому поводу беспокоилась. Билл отлично организовал работу в лаборатории, все эксперименты шли как по нотам — тем обиднее было получать отказ за отказом в ответ на мои запросы финансирования. Для положительного решения контракт должен быть одобрен при строгом независимом рассмотрении. Оценка во многом базируется на «послужном списке» — количестве важных открытий, сделанных на деньги предыдущего гранта, — а это изрядно усложняет задачу тому, кто пытается получить его впервые.
Нередко под прикрытием оценки проекта идет и банальное выяснение отношений. Я не раз получала отзывы, согласно которым «рецензент был разочарован, поскольку потенциал исследователя очевидно не превышает возможности выпускников его же собственного университета». Подобного яда в мой адрес было вылито немало. На приснопамятной конференции в Сан-Франциско, по дороге на которую мы все чуть не погибли, я таки изложила свои идеи о растениях и испарении воды. В ходе доклада пожилой и весьма разгневанный ученый (позже выяснилось, что он милейший человек) залез на раскладной стул и закричал: «Поверить не могу, что вы такое говорите!» Я, растерявшись, ответила в микрофон: «Ну, это ваши проблемы» — и могу вас заверить, атмосферу это не разрядило.
Честно говоря, неприятности начались за много лет до того. Как-то раз я решила сделать перерыв в написании диссертации и нанесла визит новой преподавательнице, чьего приезда очень ждала: она была непревзойденным экспертом в области палеоботаники. Я помогла ей распаковать огромную коллекцию окаменелостей, рассортировать их, наклеить ярлыки и разместить на хранение. В этих камнях, собранных с риском для жизни в джунглях неподалеку от Боготы, Колумбия, содержались остатки самых первых на Земле цветков. Возраст их насчитывал 120 миллионов лет, и моя коллега планировала извлечь крохотные крупицы пыльцы цветков и споры папоротников, которые сохранились под окаменелыми лепестками. Изучив их под микроскопом, она скрупулезно описывала форму каждой обнаруженной крупинки и фиксировала, как изменялось их количество от камня к камню. Собранные данные должны были помочь ей определить, как появление цветковых растений сказалось на популяции папоротниковых, и измерить количество тени в нижних ярусах растительности — поскольку именно с этого в царстве флоры началась революция.
Добытые ею образцы были ломкими и зазубренными, но главное — настолько темными, что я задумалась, не содержат ли они достаточно органического углерода для исследования на масс-спектрометре. Сделав несколько пробных тестов, я обнаружила: его не просто достаточно, его хватит для проведения нового типа химических анализов, основанных на измерении соотношения тяжелых изотопов углерода (13С) к его обычным изотопам (12С).
Наша работа оказалась первым исследованием углерода с массовым числом 13 в составе древних земных пород. Я закончила лабораторные исследования менее чем за два года — но на то, чтобы проинтерпретировать полученные результаты и опубликовать их, потребовалось еще шесть лет. Из-за этого мои первые годы в должности профессора ушли на попытки убедить мир в том, что я применила необычный метод к нетрадиционным образцам и получила удивительные результаты, основываясь на непроверенном способе интерпретации. Все это выглядело возникшим из ниоткуда, и наивно было полагать, будто я смогу перехватить пальму первенства у разработок, чья надежность была доказана десятилетиями. Начало моей карьеры напоминало долгое и медленное крушение поезда научных надежд.
За годы, пока я билась о стену скептицизма, мое недоумение переросло в понимание: потребуется множество конференций, немало писем и изрядная доля самоанализа, чтобы убедить критиков: я знаю, что делаю. Беспокоило одно — у меня не было на это времени. После того как деньги, выделенные университетом на развитие лаборатории, закончились, мы начали выносить реактивы, перчатки, пробирки и все, что не было приколочено гвоздями, из пыльного заброшенного подвала нашего здания. Это был единственный способ продолжать работу. Я оправдывала хищения формулировкой «мы ими хотя бы пользуемся» — но и она звучала все мрачнее по мере того, как отчаяние вынуждало нас рыться на помойках и в урнах, а потом и в обучающих лабораториях инженерных корпусов (там так много всего, твердили мы; никто и не заметит пропажи пары мелочей).
Деньги на зарплату Биллу иссякли последними. Пускай он каждый раз изображал возмущение и обиду, когда студенты набирались смелости спросить, не он ли «тот чувак, который живет в лаборатории», ситуация начинала утомлять нас обоих. Сначала Билл рассматривал происходящее как приключение, возможность почувствовать себя романтическим бродягой — но месяцы сменяли друг друга, и чары стремительно рассеивались. Он был бездомным. Раньше жесты доброй воли вроде ежевечернего приготовления ужина помогали мне смягчить жгучее чувство вины, но с течением времени стало ясно: я разрушаю наши жизни — и его, и свою.
К тому же я пребывала в экзистенциальном кризисе. Еще маленькой девочкой я мечтала вырасти и стать настоящим ученым, но сейчас, в шаге от осуществления мечты, рисковала потерять всё. Я работала сверхурочно, но от непродуктивных ночных смен тоже было мало толку.
Однажды во время обхода ко мне заглянул ночной сторож — он думал, что кто-то забыл выключить свет.
— Как бы сильно ты ни любила свою работу, она взаимностью не ответит, — пробормотал он, обнаружив в кабинете меня, покачал головой и закрыл за собой дверь. Мне не хотелось с ним соглашаться, но я начинала понимать, о чем он.
Страх потерять лабораторию был тем сильнее, что она оставалась моей единственной осознанной мечтой. Все университетские годы я представляла, как однажды стану настоящим исследователем, с табличкой с моим именем на двери. Тогда, безусловно, все начнут доверять моему мнению, я неизбежно совершу какое-нибудь открытие, и жизнь станет проста и понятна. Всю аспирантуру я грезила об этой награде.
Так что теперь я была серьезно напугана перспективой провала и впервые забеспокоилась о том, что не исполню свое вселенское предназначение и не оправдаю надежд праматерей (их я представляла стирающими белье по локоть в щелоке). В те бессонные, наполненные драматическими переживаниями ночи мне на ум приходил святой Стефан, великий неудачник. Начал он исполненный жизненной силы и Святого Духа — но не успел даже выбраться за пределы Иерусалима, как толпа потащила его для казни на окраину города. Всего за несколько дней до того Стефан оказался в числе семи счастливчиков, которые должны были нести благую весть людям. Объяснили ли ему, что этот замечательный новый взгляд на вещи с большой вероятностью вызовет ярость толпы? Конечно, погиб он с исключительным достоинством — но не чувствовал ли себя в тот момент немного неудачником?
Библия никогда не уточняет детали. Неужели у святого Стефана совсем не было чувства самосохранения, если он попал в великомученики? Когда кто-то кидает в тебя камень, ты же инстинктивно попытаешься увернуться, верно? Хотя бы закроешься руками? Или просто зажмуришься и так и будешь стоять, пока тебе не прилетит как следует в темечко? Кстати, откуда брались камни для каменования? Люди собирали их по дороге к месту казни? Сколько камней прихватил каждый? Собирали ли они все булыжники подряд или изучали каждый на соответствие некоему критерию? Разрешалось ли женщинам тоже кинуть камень — или они просто толклись позади всех, как изображено у Рафаэля? Думала я и о Сауле, старейшине, который наблюдал эту кошмарную казнь, а позднее пришел к идеям Стефана и начал путешествовать по империи, распространяя его учение, — да вот только сам Стефан к тому моменту был давно уже мертв.
Мои мысли все бежали и бежали по этому замкнутому кругу. С ними приходила тревога — а затем и боль, которая зарождалась в коленях и локтях и распространялась на лодыжки и плечи. Тогда я садилась на край кровати, растирала суставы и раскачивалась вперед и назад еще примерно полчаса. Когда состояние становилось совсем невыносимым, я звонила Биллу. Старый телефон, висевший на стене кабинета, где он спал, дребезжал не хуже пожарной сигнализации, поэтому я была уверена: Билл быстро снимет трубку — не столько беспокоясь обо мне, сколько чтобы скорее унять этот грохот.
— Время «собачьей вахты»? — спросил он, едва длинные гудки прервались.
— Я себя неважно чувствую, — пролепетала я дрожащим голосом, который прекрасно выдавал захлестывавшую меня тревогу.
— Я слышу. Ты ела что-нибудь с тех пор, как мы расстались?
— Выпила банку заменителя, — созналась я, и он вздохнул. Повисла пауза.
Затем Билл обреченно застонал и спросил:
— Уже пора говорить, что все будет хорошо?
— А что, если не будет? — Я очень старалась не расплакаться. — Что, если я так и не получу грант? Что, если я недостаточно умна? Что, если мы все потеряем?
— «Что, если»? К черту твои «если». Для нас ничего не изменится, ясно? — рявкнул Билл. — Вот не получила ты грант, и что? Платить мне меньше, чем сейчас, ты вряд ли сможешь — сообщаю на случай, если ты давно не проверяла расчеты. Или, предположим, тебя уволят. Но ключи-то у нас есть, я могу завтра еще дубликатов сделать. И вообще, я давно уже подозреваю, что тебе необязательно быть сотрудником университета, чтобы работать в лаборатории. Просто продолжай натягивать деловой костюм и продавать наши идеи на собеседованиях, чтобы вытащить нас уже отсюда. Если мы отстроили все с нуля один раз, отстроим и еще. Или можем ночью собрать манатки и просто исчезнуть. Переедем в другой город, ты продашь какой-нибудь орган, а я буду бегать по улицам в колпаке с бубенчиками и клянчить центы в жестяную кружку.
К концу этого монолога я уже негромко смеялась, успокоенная его рассуждениями. Снова воцарилась тишина.
— Не почитать ли нам «Книгу Марси»? — предложила я.
— Наконец-то здравая мысль, — согласился Билл.
Я достала из-под кровати толстый том и открыла его на случайной странице.
Прозвищем Марси — в честь ее любимого персонажа комикса Peanuts — мы наградили одну из моих студенток-магистранток. Правда, в конце концов оказалось, что она гораздо больше похожа на Пепперминт Пэтти; во всяком случае, расставаясь с нами по случаю бесчисленных двоек, она была столько же добродушна. Лабораторию она покинула недавно и по обоюдному согласию, бросив надежды довести свою работу если не до ума, то хотя бы до зачета. В качестве прощального подарка Марси оставила нам черновик своей «диссертации», который устрашающе увеличивался в размерах после каждой правки. Я утверждала, что он являет собой образец выдающегося литературного стиля. Плохо в нем было все: от четырнадцатого кегля шрифта Palatino до вшитых вверх тормашками страниц. Пережидая приступ бессонницы, я зачитала вслух один из параграфов «Книги Марси» — три страницы отборной белиберды, а следом — фрагмент из «Поминок по Финнегану». Задачей Билла было определить, где какой отрывок, и доказать свое суждение развернутым критическим анализом. Прошлой ночью мы таким же образом читали раздел «Методы» и знаменитый монолог Лакки из пьесы «В ожидании Годо».
Наслаждаясь катарсисом, которого можно достичь, только приобщая другого к чему-то отвратительному, мы с Биллом упражнялись в бессмысленных аналитических выкладках. В последнее время эти долгие, полные сарказма беседы стали моим единственным спасением от бешеной гонки мыслей в голове.
Наконец в нашей беседе повисла долгая пауза. Я выглянула в окно и, не увидев там привычных красок восхода, взглянула на часы:
— Ого, всего четыре утра, а я уже все. Новый рекорд.
Моя тревога отступила.
— Знаешь, что во всем этом самое паршивое? Я уверен, ты и Зверю выспаться не даешь, — с досадой произнес Билл.
Я обернулась на Ребу: та и правда лежала в своей корзине в изножье кровати, глядя на меня большими ясными глазами.
Снова наступила тишина.
— Черт, почему ты просто не сходишь к врачу? — спросил Билл, и в голосе его прозвучало нечто близкое к нежности.
— У меня нет на это ни времени, ни денег, — усмехнулась я. — Да и потом, что он мне скажет? Посоветует снизить уровень стресса?
— Пропишет какую-нибудь дрянь вроде прозака.
— Да не нужен он мне.
— Так и не принимай, — быстро ответил Билл. — Отдашь коробку бездомному парню, который живет у тебя в лаборатории.
Меня захлестнула новая волна вины, как только я поняла: это было скрытое признание того, что Билл тоже несчастен.
— Я подумаю, — пообещала я. Мне пришлось зажать себе рот, чтобы Билл не услышал всего, что я хотела сказать. Ему досталось только часть, мягкое: — Спасибо, что со мной поговорил.
— Ну ты же за это и платишь мне бешеные деньги, — ответил Билл и повесил трубку.
* * *
Однажды дела пойдут на лад. Шесть месяцев спустя мы арендуем грузовик, погрузим в него научное оборудование и Ребу (на переднее сиденье), пристегнем ради разнообразия ремни и поедем на север, к Балтимору, потому что я нашла нам обоим новую работу в Университете Джонса Хопкинса. Более того, я убедила оба университета, что им гораздо проще передать оборудование, чем списывать его. После переезда я последовала совету Билла и отправилась к врачу, который выдал мне рецепты на необходимые лекарства. Я начала правильно питаться и регулярно спать — так ко мне вернулись силы. Билл бросил курить. Мы продолжали работать, продолжали стучать во все двери, веря, что рано или поздно одна из них откроется.
Ни уроки любви, ни уроки науки невозможно забыть. Я уезжала из Атланты, зная гораздо больше, чем когда там появилась. И по сей день мне достаточно закрыть глаза, чтобы вызвать в памяти запах смятого листа амбрового дерева — такой же резкий, как если бы этот лист был у меня в руке. Укажите на любой предмет в лаборатории, и я отвечу вам, сколько за него заплатила (с точностью до пенни) и какая компания продает самый дешевый вариант. Теорию транспорта воды к листьям я теперь объясняю так, что каждый студент в аудитории понимает ее с первого захода. Мне известно, что в почвенных водах Луизианы тяжелого водорода больше, чем в почвенных водах Миссисипи, — хотя я до сих пор лишь отчасти понимаю почему. И поскольку мне доступна изысканная роскошь верности, я бывала в таких местах, куда иначе и не доберешься.
Часть третья ЦВЕТКИ И ПЛОД
1
Несколько миллиардов лет земная поверхность была абсолютно безжизненной. Океаны уже кишели разнообразными обитателями, но у нас нет никаких свидетельств того, что на суше тоже что-то происходило. Стада трилобитов паслись на дне океана, преследуемые аномалокарисами — морскими членистоногими размером со среднего лабрадора, — но суша оставалась пуста. Губки, моллюски, улитки, кораллы и экзотические морские лилии (криноиды) обитали в прибрежных водах и на глубине — суша была непреклонна. Появились первые бесчелюстные и челюстные рыбы, которые эволюционировали в хрящевые и костные формы, известные нам и сегодня, — суша не поддавалась.
Понадобилось еще 60 миллионов лет, чтобы на Земле возникла сухопутная жизнь более сложная, чем несколько клеток, сбившихся в кучку в расщелине скалы. Однако стоило первому растению выбраться на берег, как за несколько миллионов лет его собратья одели все континенты зеленым ковром, начав с болот и закончив лесами.
Три миллиарда лет эволюции породили лишь одну форму жизни, способную обратить этот процесс вспять и снова сделать нашу планету заметно менее зеленой. Урбанизация отвоевывает территории, которые растения с боем колонизировали 400 миллионов лет назад, и превращает их снова в бесплодные пустыни. Согласно прогнозам, в ближайшие сорок лет размер населенных зон в Соединенных Штатах увеличится вдвое, поглотив охраняемые леса на территории, сопоставимой с Пенсильванией. В развивающихся странах темпы урбанизации еще выше и охватывают большие пространства и большее количество людей. На Африканском континенте леса размером с Пенсильванию превращаются в города каждые пять лет.
Среди городов Восточного побережья Балтимор выделяется практически полным отсутствием растительности. Раньше в его относительно влажном климате процветали густые леса, сейчас же на пять жителей приходится в среднем по одному дереву. На снимках из космоса видно, что зеленая зона — лишь 30 % Сити, а все остальное — всепоглощающий серый асфальт. В день нашего приезда туда я взяла ипотечную ссуду без первого взноса и приобрела старый таунхаус рядом с университетом. Билл поселился на чердаке и быстро забыл о своей привычке спать в общественных местах. Покидать Джорджию, где мы оба так выросли, было горько и радостно одновременно. Но, как и самым первым растениям, нам нужно было место, чтобы развиваться, — поэтому мы решили назвать эту голую скалу домом.
2
— Ты правда думаешь, что это незаконно? — спросила я Билла по рации.
— Боже, да откуда я знаю. Хочешь поговорить об этом на полицейской частоте? — Голос Билла звучал поразительно четко. Впрочем, этого следовало ожидать, учитывая, что он ехал прямо передо мной. Мы возвращались в свой пока еще новый дом в Балтиморе после короткого визита в Цинциннати, причем Билл — за рулем грузовика.
— Я просто рассуждаю, — ответила я. — Нам еще как минимум шестьсот километров ехать. Если копы остановят нас и заметят, что в кузове лабораторного оборудования на несколько сотен долларов, к тому же все оно помечено как собственность Университета Цинциннати, водительские права штата Мэриленд могут показаться им недостаточно убедительными.
— Разве у тебя нет завещания Эда, где он пишет: «Будучи в дряхлом теле и слабой памяти, оставляю все содержимое своей лаборатории, радиоактивное и не очень, моей внучке в науке, чтобы она могла продолжить и приумножить мои исследования и открытия»? — Билл рад был поболтать: радио в его машине не работало, так что на мне лежала обязанность всю дорогу развлекать его разговорами.
— Нет у меня ничего такого, да и вряд ли бы он хотел фиксировать все на бумаге, — задумчиво сказала я. — Может, это просто паранойя. Представь, что ты полицейский. Какое, по-твоему, преступление можно совершить с помощью коробки мензурок?
— Ну ты бестолочь! А вдруг мы планируем открыть очередной подпольный цех по производству метамфетамина, которых в Вирджинии уже тысяч десять? — Предположение Билла выглядело впечатляюще приземленным.
Эти слова вряд ли можно было расценить как поддержку — хотя я знала, что увезти полученное нами оборудование он стремился не меньше моего. Не Билл ли три раза загружал и разгружал грузовик, после каждого захода впихивая в него все больше и больше коробок?
— Слушай, ты права. Надо радоваться добыче и помнить, что весь этот бесполезный балласт достался нам бесплатно, — заявил он тогда, разрешив ситуацию с точки зрения морали.
На следующий день мы снова занялись превращением огромной подвальной комнаты в здании геологического факультета Университета Джонса Хопкинса в прекрасную лабораторию. Стояло лето 1999 года, и мы только-только переехали. Изредка выныривая из ремонтных работ, мы посещали все национальные конференции по биологии, экологии, геологии — чему угодно, лишь бы я могла там представиться и рассказать о новой лаборатории. Осенью того же года мы оказались в Денвере — и, курсируя среди торговых рядов на конференции Геологического общества Америки, столкнулись с моим обожаемым «дядей в науке» Эдом: он искал там подарок на день рождения жены. Хотя мы сто лет не виделись, единственной переменой в нем оказались несколько седых прядей. В остальном Эд остался таким, каким я его запомнила, — моим вторым отцом. Когда я подошла поздороваться, он сразу сгреб меня в объятия.
Эд оканчивал аспирантуру в одном потоке с моим научным руководителем (отсюда и прозвище «дядя») и входил в группу ученых, рассчитавших, как изменялся уровень воды в морях на протяжении миллиардов лет. Вместе со своей командой он изучил тысячи и тысячи крохотных раковин, оставленных еще более крохотными обитателями, которые жили и умирали на поверхности океана. Это исследование, начавшись в шестидесятых, положило начало глубоко неочевидному методу, при котором количество льда на Северном полюсе оценивалось через химический состав ракушек.
Если лето в Арктике выдается холодным, следующей зимой снег не тает, а накапливается и давит на уже существующие слои, пока из основания этой груды не высовываются огромные ледяные языки. Их следы обнаруживаются даже в Иллинойсе, что вызывает у ученых логичный вопрос: а не смогут ли несколько чертовски холодных лет превратить Землю в снежный шар, покрытый льдом от полюса до полюса? Поскольку осадки появляются благодаря испарению, планета, скованная льдом, — это еще и планета, на которой меньше воды, а значит, уровень Мирового океана опустится на десятки метров. Когда вода отступит, обнажатся новые участки почвы, и у растений, животных и людей появятся новые площади для освоения. Морские волны, тысячелетиями разделявшие животных, уйдут, и виды начнут смешиваться. Эта мифическая ледяная Земля представляется мне дивным новым миром, который придется колонизировать с нуля, привыкая к новой расстановке сил.
Эд и его товарищи верили: периоды похолодания и потепления были цикличны. Однако каждый ледяной слой стирал все следы предыдущего, заставляя ученых страдать — и искать все новые способы выяснить, что же происходило до очередной бесконечной зимы. Между тем на дне океана, уровень которого то поднимается, то опускается, лежат пустые оболочки существ, проведших свою жизнь на его поверхности, — а нефтяные разработки вынуждают нас все глубже вгрызаться в слои камня, где часть этих раковин сохранилась в виде окаменелостей.
Когда лед приходил или уходил, каждая из них дрейфовала по волнам океана и времени — и химический состав этих волн отпечатывался в химическом составе раковин. Отсюда родилась гипотеза: анализ этих ископаемых может рассказать историю ледяного покрова — историю ледниковых циклов. Эд десятилетиями трудился над своим маленьким вкладом в эту теорию, которая прошла весь путь от маловероятного предположения до доказанного факта и теперь входит во вступления к каждому учебнику геологии. Работая над ней, он организовал крупную лабораторию, полную самого современного оборудования — ну, или такого, которое считалось самым современным на 1970 год.
Эд спросил, как у меня дела, и я рассказала, что обустраиваю новую лабораторию в Университете Джонса Хопкинса — заодно представив и Билла, которого Эд в Беркли практически не помнил. С тех пор, как мы виделись в прошлый раз, Эд получил повышение и был назначен деканом, так что я поинтересовалась, нравится ли ему новая должность.
— Нет, — ответил он, копаясь в ящичке с драгоценными камнями. — Ухожу на пенсию в конце года.
Это заявление повергло меня в ступор. Пускай Эду было уже под семьдесят, я оказалась не готова к расставанию с теми, кто меня учил. Страшно представить, что будут говорить обо мне в Клубе старперов, когда все мои немногочисленные соратники — как Эд, например, — уже не смогут защищать меня на его собраниях за закрытыми дверями.
— А что будет с вашей лабораторией? — спросила я, все еще не веря своим ушам.
— Там разместят вычислительный кластер для нашего нового геофизика, — печально ответил Эд. — Все оборудование отправится прямиком на свалку. А что, хочешь что-нибудь забрать?
Кровь ударила мне в голову. Покосившись на Билла, я увидела, что он даже рот приоткрыл от удивления. На следующей же неделе мы запрыгнули в мою машину и поехали в Огайо, а в Цинциннати взяли на день в аренду грузовик.
Было позднее утро вторника, когда мы наконец встретились с Эдом в здании, где располагалась его лаборатория. Он провел нас внутрь и представил всем, кому смог, с гордостью объясняя встречным, что знал меня с момента поступления, что сейчас я стала профессором и делаю великие открытия — и что я приехала сегодня, поскольку в лаборатории слишком ценное оборудование, чтобы просто его списать. Это были те же истории, которые Эд пересказывал в каждую встречу со мной (возможно, он повторял их и в мое отсутствие тоже). Он вспоминал, как, прочитав одну из его статей, я отправила ему длинное письмо, расспрашивая о предыстории описанного эксперимента, его деталях и «неудачных дублях». Не обошлось и без байки о нашей совместной полевой экспедиции, когда я спала в машине, не желая тратить бесценные часы светового дня на установку палатки. Эд неустанно повторял, что не встречал более трудолюбивого студента и что всегда знал: я многого добьюсь. Я тем временем переминалась рядом с опущенной головой, чтобы не дать окружающим заметить мою смущенную улыбку, а в ожидании окончания его монолога тренировалась стоять на одной ноге.
Когда Эд умолк, я подняла глаза и сказала «Спасибо», а потом поморщилась под изучающими взглядами, которыми меня окидывали новые знакомые. Я привыкла к этим взглядам — всегда одно и то же. Каждый будто спрашивал: «Она? Да нет, не может быть, тут какая-то ошибка». Общественные и частные организации по всему миру, изучив механизмы сексизма в академической среде, пришли к выводу, что они сложны и многофункциональны. По моему же скромному мнению, сексизм — это просто: всего лишь общий вес чужой уверенности в том, что ты не можешь быть тем, кем являешься.
— Ты, знаешь ли, не упрощаешь им задачу и не улучшаешь свое положение, надевая заляпанную футболку и приходя на встречи с дурацкими хвостиками, — напоминал мне Билл каждый раз, когда я пыталась жаловаться на гонения, и с его словами трудно было спорить.
Эд проводил нас в подвал и отпер лабораторию. Было видно, что здесь уже много лет не проводится никаких экспериментов; перед нами оказалось примерно 90 квадратных метров помещения, забитого пыльным оборудованием, и соответствующее количество расходников. Билл замер, и по его лицу я поняла: он мысленно соотносит объем комнаты с объемом грузовика. Первым его порывом, конечно, будет просто перенести все это в кузов — так что я морально приготовилась к долгим спорам по поводу буквально любой мелочи, включая ящик б/у берушей.
— Вам лучше сразу сказать, что из этого нельзя трогать, — выпалила я. Мой мозг кипел от жадности, и выбирать вежливые выражения становилось все сложнее.
— Понимаешь, я даже не могу объяснить, для чего предназначена большая часть инструментов, — улыбнулся Эд. — Со мной тут работал один парень — гений! Звали Хенриком — жаль, что вы не встречались. Он-то и сделал почти все эти приборы. Мы работали вместе тридцать лет. Три года назад он ушел на пенсию и уехал жить в Чикаго, но, если понадобится помощь, чтобы разобраться, можешь ему звонить. У нас тут даже покупное оборудование переделано, потому что Хенрик был однорукий.
Последовала долгая пауза. Нарушил ее Билл — воздев обе руки к потолку, он прокричал:
— Господи, он что, был калека? Я со многим могу смириться, но только не с уродцем в лаборатории! Это отвратительно!
Последовала еще одна пауза. Эд обернулся ко мне, всем своим видом как бы спрашивая: «Где ты откопала этого парня?» — а я просто стояла как статуя, с милой улыбкой на лице — моя обычная тактика в подобных случаях. Наконец Эд покачал головой и бросил взгляд на часы.
— Мне пора в деканат. Ребята из хозяйственной службы помогут вам перетащить тяжелые предметы, только попросите. Когда все погрузите, приходите ко мне в кабинет — секретарша наверху объяснит, где это.
Затем он достал из портфеля галстук, набросил пиджак и был таков.
Мы с Биллом переглянулись, и я усмехнулась:
— Тебя вообще нельзя брать с собой в приличное общество.
Дело в том, что у Билла недостает части ведущей правой руки. Не знаю, как так получается, но у тех, кто работает с ним бок о бок, уходят годы на то, чтобы это заметить, — если они вообще замечают. Судя по обилию шрамов, родился он с целыми конечностями, но потерял часть одной в результате какого-то несчастного случая. И это должно было произойти в очень раннем возрасте, раз сам Билл ничего не помнит. Думаю, его родители — единственные, кому известно о том инциденте, но они не спешат делиться знаниями. Поскольку в жилах его матери течет шведская кровь, я отлично понимаю ее логику.
Имея в своем распоряжении 1,7 руки, Билл все равно работает лучше, чем большая часть двуруких. Мы вспоминаем об этом его физическом недостатке, только когда он дает нам повод для шуток. Мне доставляет особенное извращенное удовольствие убеждать людей, что Билл получил травму в результате неудачного эксперимента в лаборатории, а сам он обожает подкрадываться к студентам, работающим с острыми скальпелями, и внезапно кричать над ухом: «Берегите па-альцы!»
Мы затащили в подвал привезенные с собой картонные коробки и рулоны пузырчатой пленки и переставили мебель, освобождая место для упаковки всего, что нам захочется увезти. Согласно плану, Билл должен был разбирать крупные предметы, а я — заниматься сортировкой мелких, их заворачиванием и укладыванием. Мы работали несколько часов подряд, сперва сосредоточив внимание на том, что точно понадобится: запечатанных наборах перчаток, изготовленных на заказ колбах, автономных трансформаторах, помпах и блоках питания. После этого мы взялись за оборудование, которое редко используется, но дорого стоит — например, емкости, замедляющие закипание переохлажденных жидкостей при их соприкосновении с воздухом. Упаковывая каждый из этих предметов, я представляла себе сотни долларов, которые сэкономила, и вносила сумму в воображаемую табличку. Билл тем временем зарисовывал крупное оборудование в блокнот и фотографировал со всех сторон, прежде чем разобрать на части. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что на новом месте это будет его единственная инструкция по сборке. Также он явно решил продемонстрировать свою многозадачность, поскольку умудрялся параллельно критиковать все мои действия.
— Какого черта ты накрутила столько «пупырки»? Остановись, — ворчал он.
— Ах, простите, — бурчала я. — Какая глупость. Мне казалось, нам в аспирантуре рассказывали, что стекло бьется. Но тебе-то с твоим средним образованием виднее.
— Меньше накрутишь — больше влезет в кузов, больше влезет — больше увезем, — рычал он в ответ. — Я поеду медленно.
— И почему ты опять не в духе? Радоваться нужно, что я устроила нам эту авантюру.
— Даже не знаю. Может, потому, что я вел машину всю ночь, пока ты дрыхла?
— Неужели я забыла тебя за это поблагодарить? — прощебетала я с самым невинным видом. — Что ж, потерянного не воротишь.
Мы оба старательно избегали разговоров о самодельном масс-спектрометре, который пылился в дальнем конце комнаты, поскольку были уверены — дело неизбежно кончится бурным спором. Нам хотелось забрать аппарат, но мы понимали, что это невозможно. В конце концов мы все-таки подкрались поближе и начали изучать его со всех сторон, как хищники, кружащие возле добычи. Он стоял в стороне: большой, размером почти с машину, украшенный спереди панелью аналоговых датчиков, иголки которых уже давно не пускались в пляс по бумаге.
— Эта штуковина наполовину сделана из стекла, наполовину из металла и наполовину из ДСП, — пошутил Билл, пока мы пытались проследить путь от камеры к детектору через мешанину проводов, датчиков и рукописных предупреждений вроде «НЕ ТЯНИ МЕНЯ СИЛЬНО».
Я часто сравниваю свой масс-спектрометр с весами для ванной. Оба прибора могут использоваться для вычисления массы объекта и сообщать результат в рамках заданного диапазона. Для весов этот диапазон будет в границах между 10 и 100 килограммами. Когда кто-то встает на них, пружина внутри сжимается под его весом, и эта сила передается на вращающийся круг со значениями, нанесенными так, чтобы соответствовать нарастающему воздействию.
Такие весы способны точно сообщить, весит ли помещенный на них объект 50 килограммов или 90. Благодаря им вы сможете определить, ребенок перед вами или взрослый. Однако они не помогут вам с рождественским письмом. Чтобы наклеить на него нужное количество марок, конверт придется взвешивать в отделении почты на специальных весах, идеального баланса которых добиваются, подставляя на одну чашу грузики.
И весы у вас в ванной, и весы на почте — это приборы, сконструированные для выполнения одних и тех же измерений, но разными способами и в разных масштабах. Если отталкиваться от их диапазонов, можно рассуждать следующим образом: «Предположим, я хочу измерить две группы атомов и определить, которая тяжелее за счет горстки дополнительных нейтронов. Для этого нужен специальный прибор. Плюс в том, что его нужно будет собрать всего один раз, поскольку вряд ли кому-то еще захочется поставить его у себя в ванной или в государственном учреждении. Значит, он может быть каким угодно уродливым, дурацким, неудобным и неэффективным. Важно только, чтобы он мне подходил». Вот и все: теперь вы знаете, чем ученые руководствуются при сборке исследовательского оборудования.
Творческий процесс, ограниченный лишь этими соображениями, порождает созданий столь же странных и неповторимых, как и их создатели. Будучи произведением искусства, они отражают свою эпоху и служат ее нуждам, а потом могут выйти из моды и стать антиквариатом — пережитком в том будущем, к которому сами и помогли прийти. Мы останавливаемся возле них, завороженные работой ученого, который тщательно продумал мельчайшие составные части, и восхищаемся ими не меньше, чем сотнями крошечных мазков кистью, как по волшебству сложившихся в маленькую лодочку на горизонте на полотне пуантилиста.
Пятьдесят лет назад ученые — и в том числе Эд — конструировали свои приборы вокруг больших магнитов, которые становились пульсирующим сердцем всей машины. Поле любого магнита пропорционально его массе — если он достаточно велик, то и поле будет достаточно сильным, чтобы по-разному притягивать разные атомы. Суть эксперимента была такова: нужно на скорости пропустить две группы атомов мимо одного магнита и измерить, насколько каждая отклонится от курса. Так по их траектории можно будет определить, в какой группе содержится больше нейтронов.
Чтобы понять, как это сделать, нужны лишь простейшие вычисления: зависимость силы магнита от массы — факт, известный на протяжении сотен лет. Прикладная проблема того, как это все-таки сделать — то есть ускорить частицы и измерить отклонение, — была решена небольшой группой исследователей Чикагского университета. Затем их ученики продолжили изучение вопроса в Калифорнийском технологическом институте. Постепенно их разработки распространились до мест вроде Цинциннати, а спустя много лет были автоматизированы и превратились в легкие в управлении машины, которые используются и в моей лаборатории.
И сейчас, и тогда в качестве образца для измерений использовался газ, который перед ускорением ионизировали. Сила отталкивания магнита направляла поток частиц образца на мишень — каждый удар о нее рождал слабый электрический сигнал. Несколько детекторов фиксировали эти импульсы и распределяли их в диапазоне, где каждый пик соответствовал массе. Как и весы в вашей ванной, эти масс-спектрометры нужно предварительно откалибровать с помощью известных масс, зато после они могут использоваться для измерения любого вещества в газообразном состоянии — в том числе и для извлеченных со дна океана ракушек.
Аппарат, который предстал нашим глазам, — старый масс-спектрометр Эда, — напоминал высокотехнологичную груду металла и весил примерно тонну. Прежде чем помещать в его железное нутро какие-то образцы, оттуда нужно было вручную выкачать воздух. В эпоху Эда для этого использовались насосы, на деле представлявшие собой двигатель от мотоцикла, запертый в металлическом коробе. Включенный на полную мощность, он успешно создавал нужную силу вытяжки — пока питание шло без перебоев, а ученые в состоянии были выдерживать этот кошмарный грохот.
Газ перемещался по его камере примерно так же, как баржа — по шлюзам плотины: пока он преодолевал один отсек, из следующего выкачивали воздух. Для того чтобы запечатать образцы в этих промежуточных секциях, использовалась жидкая ртуть. Она создавала барьер, который сливался, когда в нем больше не было необходимости. Идеальная жидкость для экспериментов химически инертна, несжимаема и проводит электрический ток. Одно маленькое «но»: ртуть убийственно ядовита. Мы с Биллом стояли и разглядывали масс-спектрометр, понимая, что просто не сможем его использовать: в стеклянных кофрах плескались и переливались литры ртути.
Если вы разобьете старый градусник и хотя бы одна капля ртути окажется снаружи, на устранение последствий уйдет немало времени. Здесь же нашим глазам предстало несколько галлонов этой жидкости. Риски, которым Эд («Или скорее Хенрик», — заметил Билл) подвергался, работая с ней на протяжении десятилетий, вызывали искреннее восхищение и трепет. Для того чтобы закачивать и выкачивать ртуть из камеры, к масс-спектрометру была присоединена груша от тонометра. Этот фокус позволял выполнять операцию одной рукой. На некоторых переключателях за годы использования стерлась краска, а места спаек свидетельствовали о том, что сверхпрочные швы появились в результате многочисленных проб и ошибок. Тут и там на аппарате виднелись отеческие напоминания вроде «Ты выключил Н2?» и «Это выключи ПОСЛЕДНИМ!», подписанные над вентилями красным и черным маркерами. Один из углов украшал бантик из красной нитки: то ли для того, чтобы напомнить о важном, но все время вылетающем из головы этапе работы, то ли просто на удачу.
Мы осмотрели аппарат со всех сторон, и я подытожила:
— Обидно, что придется выкинуть. Ему место в музее.
— Но никто его туда не отправит, — закончил за меня Билл.
Уже уходя, я заметила за масс-спектрометром еще какую-то штуковину. Это оказался деревянный квадрат размером примерно 30 на 30 сантиметров, из которого торчали в ряд острые концы примерно десятка шурупов. Под каждым был подписан диаметр: 1/16, 3/8, 5/8, 9/16 и так далее. Благодаря этому любой, кто находил на полу шайбу или гайку, мог сразу определить, от чего она отвалилась или для чего может подойти.
— Немудрено, что Эд в Национальной академии, — сказала я. — Нужно прихватить эту штуку.
— Нет, — заявил Билл. — Пусть остается тут.
Его твердость удивила меня.
— С ума сошел? Она маленькая, и даже упаковывать не придется.
— Нет, — повторил Билл, задумчиво разглядывая деревяшку. — Она принадлежит им и должна остаться у Эда.
— Но это же гениальная идея, — продолжала спорить я. — Она изменит развитие всей западной цивилизации.
— Уймись, я тебе такую же сделаю. Обещаю.
Закончив погрузку, мы постучались в кабинет к Эду. Когда он открыл дверь, я вручила ему четыре листа бумаги:
— Я составила список того, что мы забрали. Просто чтобы вы знали.
Эд вышел с нами на улицу, заглянул в грузовик и еще раз помог проверить, что все надежно закреплено. Настала пора прощаться.
— Спасибо за все. Это действительно много для меня значит, — сказала я. Очень хотелось добавить еще что-нибудь важное, только вот что? — Возможно, теперь меня уволят на пару лет позже.
— Что-то мне подсказывает: все у тебя будет хорошо, — рассмеялся Эд, качая головой. — Только постарайся не перетруждаться, хорошо?
Этими словами он дал понять, что в курсе моих бесконечных попыток добиться признания; я и так была тронута, а тут почувствовала, что к горлу подступает ком. Здесь и сейчас, на парковке, два ученых провели скромную символическую церемонию, передавая орудия труда, выковавшие карьеру Эда, — мне.
Выдвинутое им в молодости предположение, что подход к химии океанов Земли можно в корне изменить, было тогда опасной идеей. Эду ночи напролет приходилось посвящать работе — пока его сверстники смотрели на Джо Ди Маджо и спорили о справедливости обвинений Маккарти. Спустя сорок лет уже я устремляюсь в туманное научное будущее, увлекаемая собственными теориями, — а идеи Эда воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Невольно задумываешься: как грустно, что мы проводим жизнь в трудах, но никогда не достигаем высот в своей работе и даже не имеем возможности ее закончить. Мое предназначение сейчас заключалось в том, чтобы забраться на камень, который Эд бросил в бурный поток научной жизни, подцепить и вытянуть со дна другой булыжник, швырнуть его вперед — и надеяться, что для кого-то он тоже станет очередной ступенькой. Возможно, Провидение даже позволит нашим путям пересечься. Но пока этот момент не пришел, я буду хранить наши мензурки, термометры и электроды, вопреки всему надеясь, что к моменту моего ухода на пенсию время не превратит их в бесполезные артефакты прошлого.
Все еще погруженная в эти размышления, я взглянула на Эда, и меня захлестнула волна иррационального ужаса: а вдруг он умрет и мы больше не встретимся? Тогда я решилась и крепко его обняла. Смотреть, как Эд трясет Биллу правую руку, было уже выше моих сил; однако, садясь за руль своей машины, я заметила, что их рукопожатие тоже перешло в медвежьи объятия.
На выезде из города мы умудрились заблудиться, а стоило машинам выбраться на трассу, как я услышала по рации голос Билла:
— Черт, этому монстру через пару часов нужна будет новая порция бензина. Надо было съездить заправиться, пока ты там изображала Злую королеву, пытаясь с помощью волшебного зеркальца взять всё и вся под свой контроль.
— Заткнись ты, гном, — строго велела я. — Скажи спасибо, что я превратила твою работу в сказку. Не каждому удается сбежать, укусив Белоснежку за протянутую руку помощи так, как это сделал ты.
— Ну да, а грузовики сами себя не загружают, поэтому помни, кто твой настоящий друг.
Я улыбнулась, заметив на арендованном Биллом грузовике слоган «Америка начинается здесь!», но ничего не ответила. Потом поставила в аудиосистему диск с песнями из сериала «Бухта Доусон», зажала кнопку ответа на рации, замотала ее скотчем, чтобы оставаться в эфире, и закрепила получившийся передатчик прямо напротив динамика. Оставалось надеяться, что Билл не сойдет с ума уже на третьем треке из этого исключительно попсового подросткового альбома. Перестроившись в более медленную полосу, мы поехали на восток, вряд ли понимая, кто в этой связке лидер, а кто — ведомый.
3
Для деревьев, живущих в снегу, зима — это путешествие. Растения не перемещаются в пространстве, как это делаем мы; как правило, они даже с места не сдвигаются. Вместо этого они путешествуют во времени, переживая одно событие за другим. С такой точки зрения зима — исключительно долгая поездка. И при подготовке к ней деревья следуют совету, который дают всем путешественникам, отправляющимся на природу: собирайтесь с умом.
Неподвижно стоять на одном месте голышом при температуре ниже нуля — смертный приговор практически для любого живого существа на Земле, кроме тысяч видов растений, которым этот трюк удается уже на протяжении 100 миллионов (или больше) лет. Ели, сосны, березы и множество других деревьев, населяющих Аляску, Канаду, Скандинавию и Россию, выдерживают каждый год почти шесть месяцев зимы.
Вы вряд ли удивитесь, если я скажу, что главное в этом фокусе — не замерзнуть до смерти. Мы все в большой степени состоим из воды, и деревья не исключение: каждая их клетка заполнена ею. Однако при нуле градусов по Цельсию вода замерзает и расширяется, разрывая изнутри любую емкость. Возможно, вам доводилось видеть последствия подобного, если у вас слишком низкая температура в холодильнике: стоит листьям салата слегка подмерзнуть, как от них остается только бесформенное водянистое месиво. Все потому, что замерзшая вода разрушает стенки клеток, а значит, и само растение.
Клетки животных справляются с отрицательными температурами чуть лучше, поскольку постоянно сжигают сахар, получая энергию — тепло. Деревья, в отличие от них, производят сахар, используя энергию света. Если солнечных лучей недостаточно, чтобы поддерживать положительную температуру воздуха, внутри дерева она тоже будет ниже нуля. Траектория вращения Земли такова, что Северный полюс каждый год на некоторое время отклоняется от Солнца; его тепла в высоких широтах становится слишком мало, и в Северном полушарии начинается зима.
Чтобы подготовиться к ней, деревьям необходимо «закаляться». Этот термин описывает сразу несколько процессов. Сначала существенно увеличивается проницаемость стенок клеток. Теперь вода, приносящая сахара, протеины и кислоты, может спокойно продолжать свой путь, а все полезные вещества остаются внутри. Они станут своеобразной «незамерзайкой»: даже когда клетка окажется под воздействием отрицательных температур, жидкость в ней сохранит консистенцию сиропа. Пространство же между клетками заполняется дистиллированной водой, чистой настолько, что в ней нет ни одного свободного атома, на котором может зародиться и вырасти кристалл льда, поскольку лед — трехмерная решетка молекул и для ее зарождения требуется отправная точка, некое химическое «пятно», дающее опору для роста. Вода, очищенная от подобных примесей, может «переохлаждаться» почти до –40° и все равно оставаться жидкостью без малейших следов льда. Именно в процессе «закалки» дерево делает первый шаг по дороге в зиму, пока часть клеток запасает химические ресурсы, а остальные очищают воду. Благодаря этому оно выстоит морозы, метель и пургу. Зимой такие деревья не растут: они просто ждут, отправляясь вместе с планетой в очередной круиз вокруг Солнца, в конце которого Северный полюс наконец повернется к источнику тепла, и в Северном полушарии наступит лето.
Практически все северные деревья готовятся к своему путешествию «с умом», поэтому редко гибнут из-за морозов. Прохладная осень запускает процесс «закалки» точно так же, как запускает его осень теплая, потому что деревья не ориентируются на перемены в температуре. Их источник надежнее — это постепенное сокращение светового дня, которое стабильно нарастает каждые двадцать четыре часа. Невозможно предсказать, какой будет зима — мягкой или морозной, но количество света осенью из года в год меняется в строгом соответствии с расписанием.
Многочисленные эксперименты с освещением продемонстрировали, что именно изменение фотопериода (соотношения светлого и темного времени суток) запускает процесс «закалки». Если обмануть дерево за счет искусственного сокращения светового дня, «закаливание» можно запустить даже в июле. Эта система работает уже много тысяч лет, потому что деревья доверяют не погоде, а солнцу — оно не обманет, если зима близко. Растения точно знают: в нашем переменчивом мире важно найти опору, на которую всегда можно положиться.
4
Я вся была покрыта сухими шуршащими листьями. Они были даже в волосах, и я чувствовала, как колючие кусочки стебля впиваются в кожу головы и сыплются за воротник. Они проникли в ботинки и просочились в носки. Они перепачкали мои запястья черной пылью, и та все глубже втиралась в кожу каждый раз, когда я снимала или надевала перчатки. Стоило чихнуть, как вокруг поднималось пахнущее мускусом облачко трухи, частицы которой прахом оседали у меня на языке. Я тянулась ножом вверх, и на меня обрушивался водопад сморщенных листьев. Спасти глаза от поднятой ими пыли я уже не пыталась — просто зажмуривалась покрепче и копала дальше.
То лето мы с Биллом провели более чем в тысяче километров к северу от северного побережья Аляски, на острове Аксель-Хейберг, который входит в состав канадской территории Нунавут. Благодаря GPS мы с точностью до пары сантиметров знали, где находимся, и все же постоянно и в полной мере ощущали себя в самом центре нигде. Наша группа состояла из двенадцати ученых — единственные представители рода человеческого в радиусе 500 километров. Каждые несколько недель нас навещали канадские военные, но между их визитами мы были совершенно одни, в обществе лишь собственных мыслей.
Однако самым странным было ощущение абсолютной безопасности, которое мы испытали, оказавшись в тысячах километров от чего угодно. Здесь нет никаких неожиданностей. Никакого риска столкнуться с незнакомцем. Вода из тающих слоев вечной мерзлоты пропитала землю, сделав ее настолько мягкой, что, даже упав, не ушибешься. Теоретически голодные белые медведи могут забрести в лагерь и тебя съесть, но ученые, проработавшие здесь больше десяти лет, сказали, что еще ни разу не видели этих гостей настолько далеко от побережья.
Места тут равнинные, а воздух кристально чист, так что обзор открывается во все стороны километров на 15, если не больше. Здесь нет трав, кустарников и тем более деревьев. Животные тоже не попадаются на глаза, потому что есть им здесь нечего. Изредка можно встретить формы жизни вроде прилепившегося к камню лишайника, одинокого овцебыка, трусящего через равнину, или неясного птичьего силуэта высоко над головой, — но и они наперечет.
Солнце никогда не уходит за горизонт. Оно просто низко кружит по небу, будто катается на карусели, в центре которой — ты сам. Жизнь размеренна и ирреальна. Ты перестаешь следить за тем, какой сегодня день недели и который час. Спишь, пока не проснешься, ешь, пока не наешься, и работаешь, пока не устанешь, — потому что тебе доступны только эти три развлечения. Не важно, как долго ты пробыл в Арктике летом: это все равно был один-единственный день. Затем ты возвращаешься домой, чтобы спрятаться от зимы — ночи продолжительностью три месяца, когда солнце не показывается вовсе. Тебя там уже не будет, но тот лишайник, тот овцебык и та птица так и продолжат отыскивать пропитание во тьме.
Сейчас от места, где мы работали в Арктике, до ближайшего дерева примерно полторы тысячи километров — но так было не всегда. В Канаде и Сибири легко найти следы густых лиственных и хвойных лесов, которые появились к северу от полярного круга около 50 миллионов лет назад и произрастали там на протяжении еще десятков миллионов лет. Обитавшие на деревьях грызуны взбирались на верхние ветки и наблюдали оттуда за огромными черепахами и похожими на аллигаторов рептилиями. Все эти животные давно вымерли, но когда-то они составляли экосистему, невероятно похожую на мир «Алисы в Стране чудес». Очевидно, что в те времена климат в полярных областях был теплее, а кругом не расстилались поля безжалостного льда.
Но нас, ботаников, больше всего удивляет, как эти леса выживали на протяжении трех месяцев тотальной зимней тьмы, которые сменялись тремя месяцами бесконечного света. Современные растения очень плохо переносят стрессы, связанные с освещением, — большинство из них в таких условиях не протянули бы и года. Однако 45 миллионов лет назад Арктика была на многие сотни километров покрыта пышными лиственными лесами, которые как-то выдерживали подобные перепады освещения. Открытие деревьев, способных жить в темноте, сродни открытию расы людей, способных дышать под водой. Значит, либо деревья прошлого умели что-то, на что не способны их потомки в наши дни, либо современные растения просто не используют этот дар и прячут его, как меченую карту в эволюционном рукаве.
Я, Билл и еще десять палеонтологов из Пенсильванского университета высадились на острове Аксель-Хейберг группами по четверо. Нас доставил сюда вертолет, к месту посадки на который мы прибыли на маленьком двухдвигательном самолете, а до того, в свою очередь, летели другими самолетами, постепенно двигаясь из Торонто к Йеллоунайфу и Резольюту в течение нескольких дней. Проводив взглядом улетающий вертолет, мы обернулись на рюкзаки, друг друга, окружающую нас грязь — и в полной степени осознали все одиночество нашей маленькой группы.
На протяжении следующих пяти недель палеонтологи проводили день за днем на одной и той же точке, аккуратно извлекая отдельные образцы погребенных под землей древесных останков. Работа велась с величайшей осторожностью; фактически, чтобы сделать раскоп, использовалось десять зубных щеток. Их усилия были вознаграждены потрясающими ископаемыми: стволами деревьев по два метра в обхвате, которые сохранились практически идеально. Земля здесь промерзла насквозь, так что осадочные породы приходилось счищать по сантиметру после того, как солнце растапливало верхний слой, — все равно что ковыряться в мороженом, заледеневшем настолько, что его уже не разложишь по рожкам. Нужные им фрагменты палеонтологи извлекали с помощью маленьких пластиковых карточек — было похоже на то, как мы счищаем лед с лобового стекла карточкой водительских прав. Ученые крутились среди останков растений, а за их спинами крутилось незаходящее солнце, неспешно помогая в работе.
Бесценными эти ископаемые частицы делало то, что они до сих пор оставались деревянными. Обычно останки растений превращаются в окаменелости, поскольку жидкости, веками проходящие сквозь них, постепенно заменяют молекулы в их составе минералами и обращают в камень. Но на острове Аксель-Хейберг этого не произошло: ископаемые деревья здесь можно даже жечь, чтобы согреть себе воду для мытья. Говорят, именно так и поступали первые суровые и бородатые геологи, когда работали на этой точке в восьмидесятых.
Палеонтологи, которые приехали вместе с нами, представляли собой одомашненную версию этих первопроходцев, но во многом были все теми же пьющими по-черному трудягами, которых приводило в восторг распоряжение правительства Канады носить с собой ружье на случай встречи с белым медведем. Я быстро научилась держаться от них в стороне, понимая: они никогда не признают мое интеллектуальное право на работу здесь, пусть даже наш фонд и счел меня достойной. В их глазах я оставалась неряшливой маленькой девочкой, слишком слабой, чтобы поднять 20 килограммов, да еще и в сопровождении какого-то чудака. Спорить я не стала: был шанс, что, убедившись в моей несостоятельности, про меня забудут. Постепенно наши циклы сна сложились следующим образом: пока палеонтологи спали, мы с Биллом работали — и наоборот.
Нас отличал и принципиально другой подход к разрабатываемой точке, особенно по сравнению со старшими коллегами. Меня завораживали не отдельные ископаемые фрагменты, а потрясающая протяженность и стабильность леса в целом. Это была не диковинная экосистема-однодневка — природа складывала ее миллионы лет, на протяжении которых в Арктику доставлялось невообразимое количество углерода и воды, а затем превращалось в стволы и листья, каждый год осыпавшиеся на землю. Как, черт возьми, выстроился этот баланс? Сейчас в Арктике нет ничего похожего на ту свежую и чистую воду — не говоря уж о том, что почва здесь практически лишена питательных веществ.
Мы с Биллом решили исследовать не отдельный момент времени, запечатленный в нескольких бревнах, а всю картину в целом, доступную благодаря глубокому вертикальному раскопу. По его стенам мы проследим мельчайшие изменения в химическом составе мумифицированного дерева, листьев и палок. Для этого нам предстояло выкопать и один за другим определить слои мертвой наносной породы, накопившейся за миллионы лет. Прогрызаясь вглубь земли сквозь залежи сухих сгнивших листьев, мы брали пробу с каждого сантиметра и скрупулезно записывали, где находимся на вертикали времени. К концу третьего сезона летних полевых исследований мы описали 30 метров по вертикальной шкале и зафиксировали как минимум одно сильное изменение климата, которое арктические леса смогли пережить. На основании этого у нас родилась теория: возможно, древние экосистемы были скорее стойкими, чем стабильными.
Мы выбрали место на другом конце котлована, подальше от раскопа палеонтологов, и неделями продирались сквозь слои осадочных пород толщиной три метра, перемешанные с щебнем и илом. Каждую неделю мы с Биллом ковырялись в новой трехметровой куче сухого перегноя, возраст которого достигал 40 миллионов лет. Нередко мы работали, спустившись на веревке с края податливого, оползающего мягкого обрыва, который регулярно проседал под нашим весом. В результате мы оба постоянно были вымазаны в трухе и наносных породах.
Пытаясь получить чистые образцы и одновременно отслеживать свое положение относительно базовой высоты, мы вынуждены были копать без надежной точки опоры. С учетом условий, в которых приходилось работать, эта задача оказалась до смешного трудной. День за днем мы то сгибались от хохота, то пылали праведным гневом, вновь и вновь скатываясь по склону холма. Как-то раз, копая рукояткой молотка, я задела что-то странное, и мне на голову обрушился поток чистого переливающегося янтаря. «Так вот каково оно — быть дождевым червем», — заметил Билл после особенно масштабного оползня, и я, помнится, замерла, восхищенная точностью сравнения.
Как минимум раз в день мы устраивали перерыв: плюхались прямо на гору хрустящего щебня, в которую можно было провалиться по грудь, и доставали сладости. Нет ничего вкуснее батончика «Сникерс» и горячего кофе из термоса, когда ты сидишь на камнях посреди бескрайнего ничего, — так что эти минуты мы полностью посвящали наслаждению ими в тишине и дружеском молчании.
В тот день мы уже дожевывали последние кусочки, когда Билл поднял руку и без слов указал на серое пятнышко в нескольких десятках метров от нас. Сначала я озадачилась, но вскоре разглядела арктического зайца. Встретить здесь зверя — любого зверя — редкая удача, поскольку травоядному приходится покрывать огромные расстояния, чтобы прокормиться только мхом и лишайником, а хищник, соответственно, все это время должен за ним гнаться.
Заяц подобрался ближе, прыгая среди камней, потом снова начал удаляться. Тогда мы, не сговариваясь, поднялись и отправились следом, сохраняя приличную дистанцию и оставив снаряжение в раскопе. Примерно полтора километра мы шли за этим зайцем, не говоря ни слова — просто наблюдали, осмысляя то разнообразие, которое он вносил в безжизненный скучный ландшафт. Заяц был крупным, размером почти с шелти, пушистым, длинноухим, с длинным поджарым телом. Похоже, он не имел ничего против нашего молчаливого эскорта, пока мы держались на расстоянии метров пятьсот, так что мы с Биллом брели следом больше часа. Потеряться здесь все равно бы не вышло: можно было идти куда глаза глядят, хоть весь день, — а обернувшись, сразу увидеть яркие оранжевые палатки нашего лагеря.
Когда ты вынужденно изолирован от мира в компании небольшой горстки людей, их общество быстро становится удушающим. Так и получилось — со всеми, кроме Билла. До этой экспедиции мне не приходилось жить с кем-то двадцать четыре часа семь дней в неделю, но оказалось, что с каждым днем нам становится проще. Не важно, спали мы или бодрствовали, — пусть мы и жили в соседних палатках, нас разделяло всего несколько метров. Бывало, мы без умолку обсуждали что-то, а бывало, за целый день произносили лишь пару слов. Вскоре мы сами начали забывать, что было сказано, а что так и не прозвучало вслух, и перестали понимать, много мы говорим или мало. Мы просто были собой.
В день похода за зайцем мы оказались на возвышенности, откуда наши коллеги, оставшиеся на раскопе, казались крохотными точками — как и мы для них. В противоположной от лагеря стороне виднелся край ледника, похожий на толстый белый слой изморози; нас от него отделяло еще несколько километров. Я присела, чтобы полюбоваться пейзажем, Билл опустился на землю в паре метров от меня. Где-то полчаса мы провели в молчании. Наконец он сказал:
— Так странно не работать.
— Понимаю, — ответила я. — К тому же мы прошли все слои дважды, пока брали образцы. Нет смысла делать это еще раз.
— Но нужно же что-то делать, — возразил Билл. — Иначе эта компания Гризли Адамсов начнет задумываться, на кой мы вообще сюда приехали.
— Они и так об этом думают, насчет меня уж точно. И даже если я прокопаю ход до Китая и обратно, все равно не поверят, что я — ученый.
— Серьезно? — Билл с удивлением покосился на меня. — Я думал, это только мне кажется, будто я тут по ошибке.
— Не-а, — заверила я его. — Посмотри на этих ребят. Даже если я еще тридцать лет буду вкалывать так же усердно, как они, и добьюсь того же или даже большего, никто из них не признает, что я принадлежу к их касте.
— Зато у тебя обе руки на месте и целые, — снова вернулся к теме собственной неполноценности Билл. — Это неплохо для начала.
— Все равно никто не замечает твою руку, — отмахнулась я, ложась на спину. — Внешне ты выглядишь гораздо нормальнее большинства моих знакомых. Не понимаю, как ты сам этого не видишь.
— Уверена? Спроси, что думают обо мне маленькие дети. Вроде тех, с которыми я учился во втором классе. И в третьем. И в выпускном, и во всех остальных.
— Тебя дразнили? — Я резко села. — В школе? Из-за руки?
От одной мысли об этом меня затопила ярость.
— Ага, — спокойно подтвердил Билл, продолжая изучать небо.
— Так в этом все дело? — Я решила докопаться до сути. — Ты переживал все эти годы? И поэтому поселился в яме, без друзей?
— Типа того, — снова кивнул Билл.
— И ты не был скаутом, не играл в команде, ничего такого? — перечисляла я обычные этапы взросления, которые присутствовали в жизни каждого.
— Теперь понимаешь, да?
— Ты и на свидании не был? — спросила я. Предположение напрашивалось само собой, и я знала, что правильно будет его озвучить.
Билл поднялся и воздел обе руки к бескрайнему бело-голубому небу, которое в этот июльский день казалось вовсе неспособным обратиться ночной тьмой.
— Я даже на выпускном не был! — прокричал он.
Когда тишина поглотила последние отзвуки нашего смеха, я ненадолго задумалась, а потом предложила:
— Так, может, сейчас стоит? Мы буквально нигде, никто тебя не увидит. Можешь наконец станцевать свой танец.
Повисла пауза.
— Я не умею, — возразил Билл.
— Умеешь, — не отступала я. — Еще не поздно. Давай, мы для этого сюда и забрались. Черт, да мы ведь именно поэтому сейчас здесь! Я только что поняла. Это место, где ты можешь станцевать.
К моему удивлению, на сей раз Билл не стал отшучиваться. Вместо этого он сделал несколько шагов в сторону ледника, остановился и какое-то время неподвижно стоял спиной ко мне — после чего начал медленно крутиться, притопывать и приплясывать вприпрыжку. Сначала эти движения выглядели неуклюже, но вскоре он полностью отдался им, кружась и подпрыгивая. Теперь танец стал энергичным — не переходя, однако, в неистовство.
Я же просто сидела напротив, подперев голову рукой, и смотрела. Смотрела на Билла, ощущая себя непредвзятым наблюдателем, способным подтвердить и то, что он делает, и то, чем он является. На краю света в разгар бесконечного дня Билл танцевал, а я принимала его таким, какой он есть, а не таким, каким он хотел бы быть. И это чувство приятия было настолько сильно, что на минуту я задумалась, смогу ли обратить его вовнутрь — и принять саму себя. Я не знала ответа на этот вопрос, но пообещала себе, что когда-нибудь непременно узнаю. Сегодняшний день был не для этого. Сегодня нужно было просто смотреть, как великий человек танцует на снегу.
5
Секс на планете Земля создан природой ради одной эволюционной цели: объединить гены двух разных существ и создать новое существо, чьи гены будут неповторимы и отличны от родительских. В этом новом наборе таятся уникальные возможности, старые слабости устранены, а новые однажды могут обернуться силой. Таков механизм, вращающий колесо эволюции.
Секс — это прикосновение: живые ткани двух разных существ должны войти в контакт и соединиться. Для растений прикосновение и объединение — та еще проблема, поскольку они привязаны к одному месту и от этой привязанности зависит их жизнь. Тем не менее подавляющая часть растений каждый год добросовестно производит на свет бесчисленное множество цветков, выполняя свою часть репродуктивной сделки, — пусть даже их шансы на то, чтобы быть опыленными и дать плоды, не слишком высоки.
Большинство цветков устроено очень просто: венчик из лепестков, обрамляющий сердцевину из «мужских» и «женских» частей цветка. По внешнему кругу сердцевины расположены мужские органы, тычинки — несколько длинных тычиночных нитей, к которым на верхушке свободно прикреплены пыльники (в них образуется пыльца). В центре находится пестик, состоящий из завязи, столбика и рыльца (внутри завязи сидят семязачатки). На рыльце может попасть что угодно, но опыление состоится только в том случае, если это будет пыльца другого растения того же вида. В этом случае пыльца по канальцу внутри столбика прорастет внутрь завязи и оплодотворит яйцеклетку. Самоопыление на первый взгляд кажется более вероятным: тогда к завязи прорастет пыльца того же цветка, и они смогут породить семя, а затем и новое растение — однако в нем не будет ни одного нового гена. Для выживания и эволюции вида все же необходимо, чтобы изредка происходило перекрестное опыление. Это значит, что к завязи должна попасть пыльца цветка того же вида, но находящегося от нашего в 1, 10 или 1000 метров.
Существует разновидность ос, которые могут размножаться только внутри цветка инжира; сам же он не может быть опылен иначе, чем благодаря осам этого вида. Когда оса откладывает яйца внутри цветка, она переносит на него и пыльцу цветка, в котором вылупилась и которая испачкала ее шубку. Два этих существа — оса и инжир — наслаждаются благами взаимопомощи уже почти 90 миллионов лет. Так, бок о бок, они пережили исчезновение динозавров и несколько ледниковых периодов. Их совместная история похожа на любую великую историю любви тем, что в основе их притяжения лежит принципиальная невозможность быть вместе.
Подобные случаи в мире растений очень редки — настолько, что упоминать о них следовало бы разве что в качестве единичного примера симбиоза между двумя родственными душами из разных царств. Из всего мирового объема пыльцы больше 99,9 % никуда не попадает и ничего не оплодотворяет. Для тех крох, которые все-таки достигают своего назначения, способ передвижения уже абсолютно не важен. Будь то ветер, насекомые, птицы, грызуны или углы почтовых коробок, — для большинства растений метод доставки пыльцы не имеет значения.
Магнолия, клен, кизил, ива, вишня и яблоня осыпают пыльцой любую муху или жука, которых смогут приманить на сладкий нектар — крохотную порцию, только на зубок. Любое насекомое, способное выступить в роли переносчика пыльцы, ценно настолько, насколько большое расстояние оно может преодолеть; а значит, чем меньше времени оно проведет на лепестках цветка, тем дальше улетит. Лепестки многих кустарников, растущих в Северной Америке и Европе, устроены так, чтобы спружинить под весом насекомых, осыпать их пыльцой и снова отправить в полет.
В отличие от них вяз, береза, дуб, тополь, грецкий орех, сосна и ель — а также все злаковые травы — доверяют свою пыльцу ветру. Тот уносит ее дальше, чем смогло бы насекомое, но никогда не доставляет точно по адресу. Переносимая ветром, пыльца преодолевает десятки километров, а потом просто беспорядочно осыпается на землю. Впрочем, немалая ее часть все же достигает своей цели — именно благодаря этому наш мир укрыт плотным зеленым одеялом, сотканным из обширных хвойных лесов Канады, рощ гигантских секвой на Тихоокеанском Северо-Западе или тайги, протянувшейся на многие километры от Скандинавии до Сибири.
Одной крупинки пыльцы достаточно, чтобы семязачаток внутри пестика превратился в семя. Из одного семени вырастет новое дерево. Одно дерево каждый год выпускает 100 000 цветков. Один цветок производит 100 000 крупинок пыльцы. Пускай деревьям редко удается заняться сексом, но каждый раз, когда это происходит, перед ними открывается целая вселенная новых возможностей.
6
Когда мне было тридцать два года, я узнала, что жизнь может перевернуться за один день.
Дамы, успевшие выйти замуж, на одинокую женщину тридцати лет от роду смотрят с тем же сочувствием, которое светится в их взгляде при виде большой добродушной бродячей собаки. Пускай ее помятый вид и стремление полагаться в первую очередь на себя выдают давнее отсутствие хозяина — но то, как жадно она стремится к человеческому обществу, свидетельствует о лучших временах, оставшихся в прошлом. И вот ты уже размышляешь, не разрешить ли ей пообедать на твоей лужайке (при условии отсутствия блох, конечно), но все же решаешь не рисковать, ведь иначе она начнет ошиваться у дома просто потому, что ей некуда идти.
В соответствующих обстоятельствах — во время пикника на природе, например, — бродячая собака выглядит как милое дополнение, забавная деталь, а ее неуклюжая клоунада дает возможность взглянуть на беззаботную жизнь существа не слишком сложного. Она принадлежит всем, но никто не несет за нее ответственности; она дружелюбна, пускай и не слишком здорова, и всегда безумно счастлива, если с ней чем-нибудь поделились. Продолжая аналогию, если на подобных мероприятиях одинокая женщина воспринимается бродячей собакой, то одинокий мужчина тех же лет выступает в роли парня у гриля. Собака непременно будет увиваться вокруг — и уже совершенно не важно, нравятся ли ему животные.
Примерно так мы и познакомились с Клинтом, и он не смог бы меня прогнать, даже если бы захотел, — потому что оказался самым красивым мужчиной из всех, что я встречала. Спустя неделю я набралась смелости и попросила у дамы, организовавшей пикник, его электронный адрес, по которому и написала, чтобы пригласить на ужин. Он согласился. Тогда я перезвонила, чтобы уточнить место — самый модный ресторан из известных мне заведений возле Дюпон-серкл[5]. Конечно, бывать там мне не приходилось, но выглядел он именно так, как должен выглядеть ресторан, который представляют, когда думают о свидании. К тому же в Вашингтоне было гораздо круче, чем в Балтиморе, — это я знала точно. Объяснив дорогу, я настойчиво потребовала:
— Но я приду, только если ты согласишься, что за ужин плачу я.
Я всегда платила за себя сама и не собиралась отказываться от этой привычки теперь.
— Договорились, — добродушно рассмеялся Клинт. — При условии, что в следующий раз плачу я.
Обещать я ничего не стала, но сами слова приняла за доброе предзнаменование.
За ужином я так и не смогла ничего съесть, потому что не хотела отвлекаться от чуда, происходившего со мной там и тогда. Выходя из ресторана, мы вместе смеялись над недовольным лицом официанта, который все три часа бросал на нас неодобрительные взгляды. Пройдя несколько кварталов, мы зашли в бар, где провели за разговорами еще несколько часов, не притронувшись к своим бокалам. За это время мы успели обсудить разницу между измерением и моделированием объектов, мхи и лишайники, даже Беркли, в котором, как оказалось, мы вместе учились, причем изучали одно и то же. Я знала многих его друзей и одногруппников, он знал многих из моего окружения. Более того, несколько раз мы присутствовали в одном и том же кабинете на одном и том же семинаре. Поразившись тому, что не встретились раньше, мы решили непременно наверстать упущенное.
Бар закрывался, а домой мне все еще не хотелось. Тогда мы решили поехать к Клинту, и он спросил, как будем добираться: пешком или на такси. Видимо, в тот момент выражение лица у меня стало очень красноречивым, потому что Клинт тут же выскочил на проезжую часть, чтобы поймать машину. В тех местах, где я выросла, такси можно было увидеть только в кино. Они предназначались для людей утонченных, выходивших из дома в обуви, в которой даже передвигаться было нельзя. Таксисты же виделись мне удивительными проводниками в неизвестное: они везли тебя в очень важное место, которое ты сам никогда бы не нашел, а по пути делились крупицами мудрости. В тот вечер в Вашингтоне я с удивлением обнаружила, что главным доказательством любви для меня служат не героические поступки, а простые и ненужные мелочи, призванные вызвать у меня улыбку. Слишком долго моя любовь хранилась в слишком маленьком коробк: стоило открыть его, как наружу выплеснулась огромная волна — и после этого осталось еще.
Мы любим друг друга потому, что не можем не любить. Мы не работаем над этим и не приносим во имя любви жертв. Это так просто и так радостно — в особенности потому, что ощущается незаслуженным. В одну минуту я осознала: когда что-то не получается, очень часто можно сдвинуть горы, но так и не исправить положение; к счастью, есть и то, что просто невозможно сделать неправильно. Я могу жить и без Клинта: у меня есть своя работа, свое предназначение, свои деньги. Но я не хочу. На самом деле не хочу. Поэтому мы строим планы: он поделится со мной своей силой, а я с ним — воображением; так каждый найдет в другом применение своим избыточным качествам. Мы слетаем на выходные в Копенгаген, каждое лето будем проводить на юге Франции, устроим свадебную церемонию на языке, которого не понимаем, заведем лошадь (коричневую кобылу, которую я назову Сахарок), начнем смотреть авангардные театральные постановки и потом обсуждать их с незнакомцами в кофейнях, я рожу близнецов, как моя бабушка, но собаку мы все равно оставим (а то!) — и, конечно, все это время мы будем ездить на такси и жить как в кино. Что-то из этого списка в итоге сбылось, что-то нет (лошадь, например), и все же это лучше, чем любой фильм, потому что никогда не заканчивается, а мы не играем (и мне не приходится наносить тонну грима).
* * *
Пару недель спустя я убедила Клинта переехать из Вашингтона ко мне в Балтимор, не сомневаясь, что благодаря своему математическому дару он легко найдет работу где угодно. Вскоре он и правда вернулся в научное сообщество, получив в Университете Джонса Хопкинса работу, связанную с исследованием земных глубин. Теперь мы трудились в одном и том же здании, только он коротал дни за составлением невероятно сложных компьютерных моделей, которые должны были предсказать миллионы лет движения потоков в добела раскаленных и сжатых под давлением псевдотвердых камнях, скрытых в сотнях километров под землей, там, где бурлит горячая лава. Я не могла — и до сих пор не могу — понять, как Клинту удается изучать Землю только мысленно, как можно представить и проследить происходящее в ее недрах с помощью запутанных уравнений. Однако он писал их с необыкновенной легкостью, в то время как уголок его рта был вечно перепачкан в чернилах от покусанной ручки.
Для меня наука — это то, что можно потрогать. Она реальна, когда я держу ее в руках и управляю ею, когда наблюдаю за ростом растений и убиваю их. Мне нужны ответы, получить которые можно только в ситуации полного контроля; Клинт же предпочитает привести мир в движение и посмотреть, к чему это приведет. Высокий, худой, одетый в хаки, он выглядит и ведет себя именно так, как ты ожидаешь от ученого, поэтому ему относительно легко было добиться принятия в профессии. Несмотря на это, никто не замечал его истинной природы — доброй, цельной, способной любить. Никто до меня — а я, однажды заметив, решила никогда не отдавать ее другим.
Мы познакомились в начале 2001 года и тем же летом поехали в Норвегию, чтобы я могла показать ему свои любимые места: вытянутые покатые холмы розового гранита и кляксы багряных цветов в их расщелинах, сверкающие воды фьордов, надзирающих за ними флегматичных тупиков и белые стволы берез, окрашенные алыми лучами не заходящего всю ночь низкого солнца. Завернув в Осло, мы случайно поженились: просто получили номерок, простояли двадцать минут в очереди и обручились в мэрии.
Вернувшись в Балтимор, мы первым делом отправились делиться этой новостью с Биллом. Он никогда ничего не говорил о парнях, с которыми я встречалась, — возможно, потому, что их было не так уж много. Но с тех пор, как в моей жизни появился Клинт, Билл начал вести себя странно, избегая нас, как избегает проезжать мимо тюрьмы вышедший на свободу преступник. Клинт был уверен, что ему просто нужно время на осознание сложившейся ситуации, — точно так же, как трем его собственным маленьким сестренкам потребовалось время, чтобы привыкнуть ко мне.
Примерно месяц назад Билл купил рассыпающийся дом в двух шагах от моего и съехал с чердака. Теперь ему принадлежало четырехэтажное здание, былое великолепие которого осталось в далеком прошлом. Заселившись, Билл несколько дней постепенно перетаскивал вещи из моего дома на первый этаж своего. Часть особенно важных предметов (кофейник, бритву, отвертку) он держал в уголке возле давно требующего стирки гнезда, куда забирался, чтобы поспать. В планы Билла входил грандиозный ремонт всего здания, но в то лето оно выглядело как наркопритон. Единственным отличием было отсутствие внутри героина.
На следующий день после приезда из Норвегии мы уже изо всех сил стучали ему в дверь и звонили в звонок. Прошло какое-то время, прежде чем изнутри послышалось шуршание. Затем замок щелкнул, и нашим глазам предстал Билл, облаченный в рваную футболку и выцветшие плавки. Судя по спутанным волосам и тому, как яростно он тер глаза, Билл только что проснулся, хотя на часах было три часа пополудни.
— Привет! — сказала я, пока Клинт стоял рядом и обнимал меня. — Угадай, что случилось? Мы поженились!
Повисла долгая пауза. Билл разглядывал нас с полным недоумением на лице.
— Это значит, что я должен купить вам подарок? — спросил он наконец.
— Нет, — ответил Клинт.
— Да, — сообщила я одновременно с ним.
Мы постояли, глядя друг на друга, еще немного — причем и я, и Клинт не могли сдержать дурацкой улыбки. Затем я снова обратилась к Биллу:
— Одевайся. В Форте Мак-Генри сегодня реконструкция сражения Гражданской войны. И мы идем туда вместе.
— Я бы непременно пошел, но это, скорее всего, реконструкция войны 1812 года, чудовище ты необразованное, и мне вообще-то есть чем заняться, — отозвался Билл. Видно было, что ему неуютно.
— За языком следи, ты, грязный хиппи, — поддразнила я его. — Не позволю, чтобы ты в таком тоне отзывался о наших павших героях. Надевай штаны, запрыгивай в «тойоту» и начинай вести себя как истинный американец.
Билл продолжал изучать нас. Понимая его внутреннее состояние — борьбу между желанием согласиться и порывом уйти в тень, — я повернулась к своему мужу, самому сильному и доброму человеку, которого когда-либо встречала, в твердой уверенности, что любой, кто заслужил мою любовь, должен быть любим и им тоже.
— Давай, Билл, мы теперь в одной лодке, — сказал Клинт, протягивая ему ключи от машины. — Может, подвезешь нас?
Билл взял ключи, и мы провели отличный день в Форте Мак-Генри, вылавливая яблоки, отливая из воска свечи и делая настоящие подковы. Мы ели хот-доги и сахарную вату, смотрели бег парами и гладили животных в контактном зоопарке. И да, билеты нам достались со скидкой, потому что это был День семьи, как же иначе.
7
Специалисты по сельскому хозяйству и лесоводы составили схемы развития сотен видов растений. Началось все в 1879 году, когда немецкие ученые обнаружили: если регулярно отмечать на графике вес кукурузы в период ее роста, кривая имеет S-образную форму. Они каждый день взвешивали высаженные в горшки образцы и весь первый месяц могли наблюдать лишь небольшую прибавку. Потом, на протяжении второго месяца, вес «подопытных» резко рос; каждую неделю они увеличивались в размере, пока в возрасте трех месяцев не достигали своего пика. После этого, к удивлению исследователей, вес саженцев снова начинал падать и к моменту цветения и производства семян составлял лишь 80 % от максимального. Этот результат был подтвержден множеством экспериментов; вес тысяч и тысяч ростков кукурузы был нанесен на графики, и все они показывали одну и ту же ленивую кривую. Мы не знаем точно, как именно это работает, но кукуруза всегда знает, что делает, — пускай ее путь к своей цели весьма извилист.
У остальных растений все иначе. Кривая, описывающая развитие листьев, напоминает кардиограмму: короткий пик роста, после которого следует спад. Это справедливо и для сахарной свеклы, которая тоже демонстрирует чередование нарастания и убывания веса, — однако ее кривая похожа скорее на широкую низкую арку с пиком во время летнего солнцестояния. «Пульс» тростника (Phragmites), относящегося к многолетним травянистым растениям, изображает пирамиду: рождение и рост симметрично уравновешены упадком и смертью. Такие графики хороши для растений, выращиваемых на поле или в лесу с целью дальнейшего сбора урожая. Оценив место на кривой, где растение находится в данный момент, вы легко можете рассчитать наиболее подходящую дату для его сбора, а в перспективе и день, когда вам за него заплатят.
Подобные графики составлены и для деревьев, но они гораздо менее четкие и более растянутые по шкале времени — ведь в распоряжении дерева имеются сотни лет, а не один короткий сезон. Каждая из таких кривых уникальна. Сосна лучистая растет в два раза быстрее норвежской ели, однако их собирают для производства бумаги при одном и том же обхвате ствола. Очевидно, что в этих условиях норвежские производители бумаги должны располагать большим капиталом и большими территориями, чем их американские конкуренты.
Если присмотреться к деревьям одного возраста, растущим в одном и том же лесу, окажется, что они различаются между собой гораздо заметнее, чем другие живые существа, включая животных. В Соединенных Штатах самый высокий десятилетний мальчик будет примерно на 20 % выше самого маленького. Те же значения получатся и при сравнении пятилетних мальчиков, и при сравнении двадцатилетних мужчин: самый высокий окажется примерно на 20 % выше самого низенького. В сосновом лесу все иначе. Ствол самой толстой десятилетней сосны будет примерно в четыре раза толще, чем самой тонкой. С двадцати- и сорокалетними деревьями прослеживается та же закономерность: самый толстый ствол в четыре раза толще самого тонкого. Получается, для побега нет «правильного» или «неправильного» способа стать столетним деревом. Есть только те способы, которые работают, и те, которые не работают.
Путь становления дерева долог, поэтому даже самый опытный ботаник не сможет предсказать, в какую ветку превратится рассматриваемая почка на молодом побеге в ближайшие пятьдесят лет. Да, кривые роста растений можно использовать для составления прогнозов, но нужно помнить: они показывают только прошлое, не будущее. Все эти схемы — лишь теоретические выкладки, составленные на основании данных о давно умерших деревьях. Разумеется, такие сведения не окончательны: всякий раз, когда появляются измерения для нового растения, их можно добавить в этот график. А стоит это сделать, как общая модель слегка изменяется, искажая кривую роста. Математических методов, позволяющих спрогнозировать форму подобных графиков, не существует; не помогают даже огромные компьютеры, которые с недавних пор стали широко использоваться. В полученных схемах нет ни слова о том, как будет выглядеть новое дерево, только информация о его прошлых обликах. Каждое растение должно пройти свой собственный уникальный путь взросления.
В учебниках по ботанике можно найти немало страниц с описанием кривых роста, но моих студентов всегда смущают именно неторопливые завитки буквы S. Почему растение теряет часть массы прямо перед тем, как достичь стабильного периода максимальной продуктивности? Я отвечаю, что это убывание веса — сигнал к началу размножения. Едва зеленое растение достигает созревания, часть его питательных веществ перераспределяется, чтобы создать цветки, а затем и плоды. Рождение нового поколения стоит родителю немалых усилий — и пример тому можно увидеть на любом кукурузном поле даже издалека.
8
Беременность — самое сложное из выпадавших мне испытаний. Я не могу дышать, стоять, сидеть, не могу опустить столик в самолете, не могу спать на животе — а я ведь уже тридцать четыре года сплю только на животе. Единственное, что меня интересовало, — это какой бог на каких небесах вдруг решил, будто женщина весом 50 килограммов может выносить шестнадцатикилограммового ребенка. В те дни я вынуждена была бесконечно вышагивать по нашему району в компании Ребы, потому что мой отпрыск вел себя спокойно, только когда я двигалась. Он пинал меня, но это были не веселые напоминания «Мама, я здесь!», а отчаянные рывки человека, связанного смирительной рубашкой. Я все шагала, и шагала, и шагала — одинокая пародия на языческое шествие с богиней плодородия во главе, и думала только о том, что это утомительное времяпрепровождение не доставляет удовольствия ни мне, ни ребенку.
Беременной женщине с биполярным расстройством запрещено пить «Депакин», «Тегретол», «Сероквель» или «Рисперидон» — как, впрочем, и все остальные лекарства, которые она годами принимала каждый день, чтобы не слышать голосов в голове и не пытаться эту самую голову разбить о стену. Как только положительный тест подтверждается врачом, все препараты нужно быстро отменить (что само по себе опасно). После этого ты будто стоишь на железнодорожных путях и ждешь, когда по тебе проедет состав. Статистика неумолима: вероятность, что будущая мать с биполярным расстройством за эти девять месяцев столкнется с сильнейшим приступом, в семь раз выше, чем в любой момент до или после беременности. Выживание без лекарств на протяжении первых двух триместров — это суровая реальность. Избежать ее нельзя, здесь врачи единодушны.
В начале беременности я то и дело просыпалась и бросалась в туалет, где рвота выматывала меня настолько, что я падала на пол и лежала там часами, корчась в рвотных позывах и рыдая до изнеможения, а потом от отчаяния начинала биться головой о стены в надежде потерять сознание. Ко мне вернулась детская привычка молить Иисуса о помощи или хотя бы о блаженном забытьи. Придя в себя, я чувствовала под щекой холодную пленку соплей, крови, слюны и слез, но не могла говорить и не понимала, кто я. Мой отважный муж, в те дни не отрывавшийся от телефона, приезжал, поднимал меня, мыл и звонил врачам. Они забирали меня и пытались помочь теми же способами, что и раньше, но проходила неделя, и я снова скатывалась к прежнему состоянию. Так продолжалось до тех пор, пока Клинт и собака не стали единственными живыми существами, чьи имена я помнила.
Я честно ездила в больницу, где проводила по несколько недель. Когда другого выхода не было, меня привязывали к кровати и отправляли на бесчисленные сеансы шоковой терапии, из-за которой я не помню большую часть 2002 года. Доктора и медсестры слышали от меня только один вопрос: почему-почему-почему все это со мной происходит, но ответить на него не могли. Все, что нам оставалось, — это считать дни до момента, когда я снова смогу принимать необходимые лекарства без риска для ребенка. Двадцать шесть недель, заветное число: беременность входит в третий триместр, период позднего развития плода, во время которого, согласно разрешению Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, мать может начать прием целого ряда нейролептических средств.
Как только мы доползли до заветной даты, мне подобрали медикаментозный режим, постепенно обуздав самые тяжелые из беспокоивших меня симптомов. Я начала ходить на работу, хотя это стоило невероятных усилий, и часто целыми днями спала на полу кабинета. Попытки преподавать не увенчались успехом из-за одолевающей меня слабости, поэтому пришлось оформить больничный. Шел уже восьмой месяц беременности, когда однажды утром я с трудом протиснулась в двери главного входа и остановилась передохнуть у стойки регистрации. Нужно было мысленно подготовиться к перетаскиванию лишних 15 килограммов меня в находившуюся в подвале лабораторию. С реактивами я, конечно, не работала, но сама возможность сидеть возле гудящих приборов, изучать данные по мере их получения и притворяться, будто работа с инструментами требует моего контроля и одобрения перед каждым новым заданием, дарила минуты драгоценного спокойствия.
Итак, готовясь совершить невероятно сложное путешествие к лифту, я присела возле ксерокса на один из стульев для посетителей и откинулась назад, наполовину скрывшись за огромным животом.
— Кажется, я поняла, — заявила я вслух. — Такой мне предстоит быть до конца дней своих. Он никогда не родится. Спустя восемнадцать лет внутри меня будет жить взрослый мужик.
Я не воспринимала эти слова как шутку, но секретарши за стойкой сочувственно хихикнули.
В этот момент вошел Уолтер, глава отдела, и я по привычке встала со стула, как солдат, вытягивающийся по стойке «смирно» в присутствии старшего по званию. Единственная — или почти единственная — женщина, получившая должность профессора в этом древнем и увитом столетним плющом филиале университета, я инстинктивно знала, что должна скрывать любую физическую или психологическую слабость, которые сопутствовали моему состоянию.
К сожалению, на ноги я поднялась слишком резко: кровь отхлынула от мозга, и перед глазами потемнело. Я быстро села снова, спрятав лицо между коленями, и принялась ждать, пока головокружение отступит. Это ощущение невыносимой легкости было мне хорошо знакомо: всю жизнь страдая низким давлением, я к тому же мало ела, поскольку воспринимала прием пищи как бесконечно повторяющуюся обязанность. Уолтер удивленно оценил мое подражание выброшенному на берег киту, а потом прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Отказавшись от предложенного кем-то стакана воды, я проковыляла к лифту, мучимая неясной тревогой.
На следующий день в половине седьмого вечера Клинт заглянул ко мне из своего кабинета, который находился на противоположном конце коридора. На лице у него было написано такое смятение, как будто предстояло сообщить о чьей-то смерти. Привалившись к косяку, Клинт мрачно сказал:
— Слушай, ко мне сегодня заходил Уолтер. — Он замолк и поморщился. — Просил передать, чтобы ты больше не приходила, пока не закроешь больничный.
— Что? — В моем крике было больше страха, чем злости. — Как они могут так поступить? Это моя лаборатория, я ее создала…
— Знаю, знаю, — вздохнул Клинт. — Они все придурки.
Его голос звучал мягко и успокаивающе.
— Не думала, что у них есть такое право, — ответила я, чувствуя, как это задевает меня все глубже. — Почему? Он объяснил почему?
Сколько раз я задавала этот вопрос людям, облеченным властью, столько же раз не получила на него ответа хоть немного убедительного.
— Сказал, это создает проблемы при обучении и что-то про страховку, — отмахнулся Клинт, а потом добавил: — Все это чушь. Они неандертальцы. Мы всегда это знали.
— Но какого черта? — пробормотала я. — Половина из них пьют, запершись в кабинете… Бьют студентов… И после этого проблемы создаю я?
— Слушай, на самом деле они просто не хотят видеть перед собой беременных женщин, а ты единственная, кому удалось пробраться в здание. И они не могут с этим справиться. Все просто, — мягко сказал Клинт, и я услышала в его голосе гнев, хоть он и был спокойнее моего.
— И он сказал тебе мне это передать? — Какая-то часть меня отказывалась верить в услышанное. — А у самого язык бы отсох?
— Думаю, он тебя боится. Они все трусы.
Я сжала зубы и отчаянно замотала головой.
— Нет, нет, нет.
— Хоуп, мы ничего не можем сделать, — мрачно ответил Клинт. — Он наш начальник.
На его лице я увидела ту же печаль, которую однажды встретила во взгляде древнего и величественного слона, потерявшего пару после тридцати лет совместной жизни. Мой муж, как никто, понимал, каково это: не иметь возможности прийти в собственную лабораторию; туда, где я была счастлива, где чувствовала себя в безопасности — особенно сейчас, — в единственное место, ставшее моим настоящим домом.
В ярости я схватила пустую чашку и изо всех сил швырнула на пол. Однако она отскочила от ковра и не разбилась, а осталась лежать на полу в преисполненной лени позе, слегка покачиваясь. В этом я увидела доказательство собственного бессилия даже в том, что касалось вещей маленьких и незначительных, а потому села за стол и расплакалась, обхватив голову руками.
— Я не хочу всего этого, не хочу, — причитала я, захлебываясь рыданиями, а Клинт стоял рядом — безмолвный свидетель моей боли, которая ложилась все новым и новым грузом на его сердце. Когда я успокоилась, мы сели рядом и, не произнося ни слова, дождались, пока этот день превратится в оставшийся в прошлом призрак.
Спустя два года Клинт признается, что в тот момент все симпатии, которые он испытывал к Университету Хопкинса, умерли навсегда — он так и не простил их за причиненную мне боль. Мы обсудили тот случай с высоты прожитых лет и обретенного ума: теперь нам казалось, что проблема и правда заключалась в возможных сложностях, а ничьей вины в том не было. Но тогда мы просто поднялись, держа друг друга за руки, собрали всех, кого любили, упаковали вещи и уехали за тысячи километров.
Там я снова построю лабораторию — как всегда, с нуля, и, как всегда, вся она будет держаться на Билле. Но это будет потом, а в день, когда я швырнула на пол чашку, я оплакивала все то, что теряла, не в силах увидеть новые возможности за своим огромным животом.
После запрета на посещение университета заняться мне стало совершенно нечем, так что плановые осмотры я перенесла на утро. Доктора и медсестры взвешивали меня, делали УЗИ и сообщали потрясающую новость: мой срок стал на неделю больше, чем неделю назад. Когда кто-то спрашивал: «Сколько уже месяцев?» — я отвечала: «Одиннадцать», но не находила в себе сил рассмеяться вместе с ними, проваливая и этот нехитрый тест.
Знаю, мне полагалось испытывать радостное возбуждение. Бегать по магазинам, рисовать и нежно разговаривать с малышом внутри. Общество было убеждено, что зреющий в моем животе плод нашей любви — это повод для праздника. Но я просто не могла. Целыми днями я только и делала, что горевала о той части своей жизни, которая окончилась с появлением ребенка. Обычно в этот период женщины с нетерпением гадают, каким окажется загадочное существо, зародившееся внутри них. Я этого не делала, потому что и так уже все знала. С самого начала пришла уверенность, что это будет мальчик с голубыми глазами и светлыми волосами — весь в отца.
Я решила, что он получит имя моего отца, но собственный неповторимый характер, станет таким же выносливым, как викинги — и мужчины, и женщины — из числа наших предков, и наверняка будет ненавидеть меня за никудышное материнство (вполне справедливо, ведь эта часть меня сформировалась в глубокой тени и иссохла, не успев толком расцвести). Я делала вдох, а затем выдох, пила молоко литрами и съедала целые кастрюли спагетти, часами спала и старалась думать о том, как делю свою кровь, богатую необходимыми веществами, с ребенком, каждую секунду жизни заботясь о нем. О своем бедном рассудке я старалась не вспоминать — и не гадать, когда снова придется его утратить.
В ожидании приема у кабинета со мной сидели беременные пятнадцатилетние девушки, груз проблем каждой из которых был куда тяжелее моего, но я не испытывала за это никакой благодарности. Грусть сковывала меня так крепко, что я не могла плакать, а пустота в душе не давала молиться. Когда врач вызвала меня в кабинет, я заметила, что она не носит сережки. Как и я. На краю сознания шевельнулась мысль: женщину, которая не носит сережки, сейчас нечасто встретишь.
— У вас довольно большой живот, но в остальном все идет как надо, — сообщила мне врач, просматривая карту. — Сердцебиение плода сильное, сахар в норме. Еще немного потерпите. — Она внимательно на меня посмотрела и протянула какие-то брошюры. — Вы уже выбрали способ контрацепции, которым воспользуетесь после родов? Мне ведь не нужно напоминать, что забеременеть можно, даже когда кормишь грудью.
У меня в голове все окончательно перепуталось. Заключительный период беременности оказался абсолютным безумием. Знакомые спрашивали, когда я планирую второго ребенка. Доктора настойчиво напоминали про контрацептивы. Но разве не странно задавать женщине, которая с трудом представляет свою жизнь и с одним ребенком, вопросы о том, когда она планирует (если планирует!) второго?
Вместо ответа я сконфуженно пролепетала:
— Не думаю, что буду кормить грудью. Видите ли, мне нужно работать, и если вдруг понадобятся таблетки или…
— Ничего страшного, — перебила меня врач. — Он и на смесях будет отлично расти. За это я не тревожусь.
Она прощает меня за первое же, что я не могу дать своему ребенку, так легко и небрежно, и это глубоко трогает меня. В душе снова начинает шевелиться застарелая робкая надежда: возможно, ей не все равно и она сумеет меня понять. В конце концов, у нее ведь есть моя карта. Может, она заметила, сколько в ней ЭКТ, записей о госпитализации и перечней лекарств. Тут я одергиваю себя и начинаю печально размышлять о том, за какой из своих грехов так наказана. Эта рана, не закрывающаяся уже многие годы, вымотала меня до смерти; мое сердце неизменно принимает любое проявление женской доброты за след из хлебных крошек, ведущий к источнику материнской любви или бабушкиного одобрения. Я устала терпеть эту ноющую боль сиротства. Пусть она больше не огорошивает меня внезапно, но каждый раз все равно собирает свой урожай страданий. «Эта женщина — мой врач, а не мать», — жестко говорю я себе, испытывая стыд за стремление к чужой любви даже перед самой собой. К тому же кто-то когда-то распорядился, что на нашу встречу отведено всего двенадцать минут, и они уже подходят к концу.
Мы договариваемся о дате следующего осмотра, я выхожу из кабинета и иду в туалет, где меня сотрясает рвота, после которой я не узнаю себя в зеркале. Женщина в отражении выглядит такой печальной и усталой — мне становится жаль ее, и только через пару мгновений я вполне осознаю, что смотрю на саму себя.
После пяти вечера, когда весь факультет расходится по домам, я беру Ребу и тайком проникаю в лабораторию. Делать что-то полезное я не могу, но инстинктивно противлюсь жестокости своего начальства, устроив некое подобие одиночной беременной забастовки. В половине восьмого приходит Билл, вернувшийся после первого за день перекуса, и обнаруживает в темноте меня. Я быстро вытираю лицо ладонями, чтобы скрыть следы слез, все это время лившихся у меня из глаз. Билл включает свет и начинает методично рассказывать о состоянии наших проектов, описывая малейшие детали каждого, — долгая успокаивающая литания, постепенно убеждающая меня: все в порядке. Он измучен необходимостью работать за двоих, но, как обычно, лишь упирается и вонзает плуг тем глубже, чем тверже земля.
Билл не знает, что именно со мной не так и почему я нигде не появляюсь. Это загадка и для друзей, и для семьи — в том виде, в котором она у меня здесь есть. Никто не задает вопросов. Полагаю, в моем роду столько поколений прятали свое безумие, что эта скрытность вшита в мои гены.
Билл уверяет меня — выходить из дома нет особенной необходимости.
— Я серьезно: сюда никто не придет. Тебе необязательно сидеть на стреме всю ночь, — а затем, оглядевшись подозрительно по сторонам, добавляет: — Особенно после того, как я всюду спрятал ножи и кое-что еще.
С этими словами Билл нервно поправляет один из ящиков. Эта нелепая клоунада — очередная отчаянная попытка рассмешить меня или вызвать к жизни хотя бы бледный образ моего былого «я», знакомого по временам, когда наши пути только пересеклись. Мы оба понятия не имеем, как убить мрачного зомби, который захватил раздувшееся тело его лучшего друга, но Билл не оставляет попыток с ним справиться.
— Боже, ты выглядишь совсем несчастной, — продолжает он. — Пойди зарежь свинью, что ли? Разве это не сделает любого счастливым?
Он точно отчаялся.
— Кажется, я проголодалась, — кидаю я ему спасательный круг.
Мы идем (я с трудом ковыляю) к Биллу домой, где смотрим повтор серий «Клана Сопрано», которые я заедаю купленными по дороге пончиками. В девять вечера за мной приезжает Клинт. Он распахивает для меня дверь заднего сиденья и помогает сесть, а я чувствую, как по щекам снова текут слезы, пока мы притворяемся, что наша машина — это такси.
Когда проводишь эксперимент и готовишься получить невнятный результат, но вместо этого видишь на датчиках ясные, четкие и не подлежащие сомнению показатели, — это хороший знак. Меня предупреждали, что воды могут отойти незаметно, но в тот же вечер, сидя на диване, я вдруг обнаруживаю, что окружена несколькими литрами воды. Ее становится все больше, поэтому я делаю глубокий вдох и предлагаю Клинту отправиться в больницу.
Помогая мне подняться, он замечает, как дрожат у меня руки.
— Мы едем в самую лучшую больницу на свете, — напоминает он спокойно, и его уверенность заражает меня.
Я собираю вещи и остатки мужества, и мы едем в центр города. На часах около половины одиннадцатого; проезжая по Балтимору, мы видим толпы людей, которые медленно бредут домой после долгого дня, мечтая о передышке, но уже не надеясь ее получить.
Стоит нам войти в больницу, как я тут же успокаиваюсь благодаря яркому свету и кипящей вокруг деятельности; неожиданно именно здесь меня снова посещает чувство безопасности, которое я испытывала давным-давно, работая в аптеке. У каждого из этих занятых людей своя миссия; забота обо мне — лишь часть их сложной, но идеально распланированной рутины. Что бы ни случилось, я не останусь одна — рядом будет кто-то сильный, подготовленный, внимательный и ответственный. В голове складывается картина ближайшего будущего: скорее всего, мы проведем ночь без сна, но решим любую проблему. Я начинаю расслабляться.
В родильное отделение мы поднимаемся на лифте вместе с пожилой пациенткой на кресле-каталке. Ее сопровождает молодой скучающий санитар. Взглянув на мой гигантский живот, женщина спрашивает: «Ну что, готовы?» — а потом в насмешливом удивлении качает головой, когда я оторопело смотрю на нее, не в силах подобрать подходящий ответ.
Возле стойки регистратуры перед нами неожиданно появляется необъятных размеров дама, окидывает меня взглядом, а потом говорит администратору: «Возьму ее, вены отличные», тем самым назначая себя моей медсестрой. Я кошусь на внутреннюю сторону своих рук — так похожих на отцовские, с заметно выступающими сосудами, по которым бежит кровь, — и решаю, что это тоже хороший знак. Медсестра проводит нас в отдельную палату и взмахом руки указывает Клинту на стул в углу: муж должен занять место в изножье и стараться не путаться под ногами. Он подчиняется.
— Ваше дело здесь маленькое, — бросает ему через плечо медсестра, провожая меня к туалету.
Воспользоваться им стоит немалых усилий, но я справляюсь, а потом переодеваюсь в больничную рубашку. Сестра помогает мне лечь на кровать и протирает запястья на обеих руках спиртом. Потом достает откуда-то десять или даже двадцать иголок, электроды, зажимы и бинты и начинает втыкать, подсоединять и закреплять их на мне в самых разнообразных местах. Закончив, она по очереди подключает каждый из них к аппаратам и мониторам, которые скучиваются возле моей кровати, словно любопытные зеваки, спешащие принять участие в представлении. Когда все устройства включены, меня со всех сторон окружают их дружелюбные электронные лица, по-своему рассказывающие что-то успокаивающее. Кажется, они понимают: заверений в том, что все пройдет хорошо, просто не может быть слишком много.
В кабинет заглядывает фельдшер:
— Как вы относитесь к обезболиванию, чтобы облегчить дискомфорт во время родов?
— Положительно. Очень положительно, — так же сухо и по-деловому говорю я — хотя на самом деле не отвечала с таким энтузиазмом и искренностью ни на один вопрос в жизни.
— Вот и правильно, — негромко соглашается медсестра. — Нет смысла терпеть боль.
Услышав ее слова, я понимаю, что только что упростила кое-кому смену.
Каждые два часа в моей палате появляется новый доктор, ведущий занятия у группки студентов-медиков. Для них я просто очередной случай из практики. Преподаватель сжато и монотонно рассказывает историю ведения моей беременности и перечисляет назначенные мне препараты; из-за этого его слова начинают напоминать поэму Э. Каммингса, не прошедшую редактуру. Закончив, он поворачивается к своему студенческому эскорту:
— Итак, какой вывод можно сделать на основании этих данных о плоде?
Ответом ему неизменно служит одна и та же недоуменная тишина, как если бы вопрос был задан стаду овец.
В конце концов моя медсестра не выдерживает:
— Да посмотрите вы на нее. Очевидно, что роды не преждевременные, а вес ребенка нормальный.
Она с отвращением качает головой, и я вижу, как один из студентов в заднем ряду широко зевает, не сводя с меня глаз и даже не пытаясь прикрыть рот.
Неожиданно меня охватывает возмущение, которое, скорее всего, отражается на стоящем по левую руку кардиографе. Память подсовывает картинку пятнадцатилетней давности: я учусь в колледже и отчаянно хочу пойти в медицинский институт, но знаю, что денег на это нет и способа достать их сейчас тоже не существует. Я происхожу из рода, женщины в котором могли поймать и ощипать сову, сварить ее и вытащить костный мозг, чтобы накормить детей, — а потом выпить бульон, поскольку другой еды все равно не осталось. Ребенком я сама снимала с себя пиявок и не боялась пауков, змей, грязи и темноты. На секунду мое место снова занимает девчонка, которая только что получила стипендию, покрывающую в том числе и расходы на книги, и тут же в дополнение к действительно нужным учебникам скупила все, что смогла найти по медицине.
И вот они — студенты-медики, имеющие то, от чего меня отделяла иллюзорная, но такая тяжелая железная дверь. Им доступно сакральное знание, но они им не пользуются. Во мне вскипает возмущение: почему эти паразиты вообще считают себя достойными измерять раскрытие моей шейки матки? Гнев внезапно пробуждает меня прежнюю, и я красочно воображаю, как пересказываю этот эпизод Биллу, непременно присочинив свой вопль: «Записывайте, засранцы: я буду у вас в билетах!»
Преподаватель прерывает мой внутренний монолог, буднично сообщив: «У пациентки высокий риск послеродового психоза, поэтому за ней установят соответствующее наблюдение». Вот так легко он озвучивает наши с Клинтом опасения, которые любовь и надежда по обоюдному согласию хранили в тайне. Я оживляюсь, заинтересовавшись возможным продолжением. Студенты же, получив эту новую информацию, смотрят на меня совершенно другими глазами. Мое адекватное поведение, похоже, так их удивляет, что я начинаю подумывать, не сымитировать ли галлюцинацию ради подтверждения слов профессора.
Во внезапном испуге шаря взглядом по комнате, я встречаюсь глазами с Клинтом, который скромно сидит на своем стуле, скрестив ноги. С помощью особой телепатической связи, доступной всем супружеским парам, мы обмениваемся комментариями об абсурдности ситуации, и впервые за много недель я разражаюсь смехом. А вместе с ним приходит и осознание: сейчас я чувствую себя лучше, чем в предыдущие несколько месяцев, — и все это благодаря окружившей меня паутине пищащих приборов.
Тем временем доктор, равнодушный и к скорбям, и к радости, бросает взгляд на часы и выходит; студенты тянутся за ним, будто бездарные папарацци за скучнейшей на свете знаменитостью. Мой гнев угасает — у этих ребят впереди тоже долгая ночь. Остыв, я понимаю: мечты о карьере врача и реальность обучения в медицинском институте, возможно, сильно разнятся. Возможно также, что не мне судить других за отсутствие эмоций — учитывая, как я сама вела себя в течение последних нескольких месяцев.
Следом в палату заглядывает операционный медбрат. В руках у него нечто похожее на скрученное в трубочку пляжное полотенце. Он постепенно раскатывает его на двух столиках из нержавейки, и я вижу: внутри на стерильной поверхности разложены десятки скальпелей, ножниц и непонятных маленьких инструментов с лезвиями. Медбрат уходит, но тут же возвращается со вторым таким же полотенцем и повторяет процедуру на двух дополнительных столиках.
— Боже мой, — комментирую я. — Да тут целая куча ножей.
Он бросает на меня взгляд и возвращается к своему занятию, параллельно объясняя:
— Ага, ваш врач любит, чтобы второй комплект всегда был под рукой. Вдруг что-нибудь упадет на пол.
Меня не слишком-то успокаивают заверения в том, что второй нож будет наготове, если с первым что-то случится, но свои сомнения я предпочитаю держать при себе.
Приятным сюрпризом оказывается появление женщины-доктора, которая так спокойно отнеслась к моему отказу кормить грудью, а теперь сообщает, что будет принимать роды. Меня несколько раз предупреждали, что прийти может любой из врачей моей «команды по уходу», так что я заранее готовилась к появлению человека незнакомого: запомнить хотя бы половину из тех, кто делил со мной сцену жизни на протяжении этих девяти месяцев, было просто невозможно.
— Я рада, что это именно вы, — по-детски искренне говорю я.
— Как вы себя чувствуете? — интересуется в ответ она, просматривая карту.
— Мне страшно.
И это правда. Всю свою жизнь я была уверена, что умру в родах. Представить себя матерью я не могла, но дело было не только в этом: подозреваю, именно так умерла моя бабушка по материнской линии. Мать очень мало о ней говорила — как и о братьях с сестрами, из которых, я знала, выжили больше десяти. Diskutere fortiden gir ingenting (прошлое не изменить разговорами о нем).
Врач останавливается и смотрит на меня.
— Если что-то пойдет не так, мы подготовим и доставим вас в операционную в течение сорока секунд, — говорит она, и меня моментально захватывает идея, что где-то за углом есть еще одна палата, в которой на столах разложены еще более многочисленные — и сложные! — инструменты. — Кстати говоря, — поворачивается мой врач к Клинту, — если что-то вдруг случится с вами — например, вы упадете в обморок, — мы просто откатим вас в сторонку и продолжим делать свое дело.
Мать Клинта — хорошо известная в Филадельфии акушерка; сложные роды — одна из излюбленных тем застольных бесед у них в доме, риск потерять сознание для Клинта отсутствует в принципе, но он лишь кивает в ответ, принимая предложенный сценарий.
— Все в порядке, — заключает врач, изучив мою шейку матки. — Я вернусь после того, как вам сделают эпидуральную анестезию, или раньше, если возникнет необходимость.
Проходит еще пара часов. Каждые двадцать минут манжета тонометра ободряюще сжимает мою руку и счастливым писком напоминает: все идет хорошо. Потом схватки становятся сильнее, и я начинаю тихонько стонать, переживая каждую из них.
— Боже, а вы немногословны, — замечает моя медсестра, меняя пакет капельницы.
Я расцениваю это как комплимент и признаюсь:
— Даже если буду ругаться, легче не станет.
— Это точно, — соглашается она, открывая трубку, которая соединяет капельницу с иглой в вене.
Схватки становятся еще сильнее и чаще, и я начинаю жаловаться Клинту, широко раскрыв глаза и тихим шепотом умоляя его мне помочь. Он смотрит в ответ добрым взглядом сенбернара, только что откопавшего из снега жертву оползня и всем своим видом говорящего: спасательная группа вот-вот прибудет, а пока не хотите ли пососать сосульку?
Спустя, по моим ощущениям, часы в палату в сопровождении помощника заходит импозантный врач, который представляется анестезиологом.
— Вам когда-нибудь вводили ропивакаин? — спрашивает он, изучая нижнюю часть моей спины — как будто это одна из повседневных мелочей, о которых знает каждый.
— Скорее всего. У нее карта в палец толщиной, — после паузы отвечает за меня медсестра. Я начинаю подозревать, что подобные самоуверенные реплики — ее личная изюминка, поскольку остальные полностью игнорируют эти слова.
— Черт, возможно, я и сейчас под ним, — игриво добавляю я, глядя на нее, хотя голос дрожит от боли. В больнице можно говорить что угодно — врачи все равно не будут смеяться над вашими шутками. Полагаю, таков общий принцип медицинских институтов: каким бы остроумием ни блистал пациент, доктор не должен смеяться или поощрять его. Однако играть для такой равнодушной публики ужасно утомительно.
Теперь мне вводят в спинной мозг иглу — это завораживает и заставляет жалеть, что нельзя подсмотреть за процессом так же, как я глазела на ставящую внутривенный катетер медсестру несколько часов назад.
Тишина. Потом врач говорит:
— Отлично. Ты движешься в нужном направлении.
Очевидно, это похвала интерну, который делает инъекцию.
— Да, прекрасно, — добавляю я. Бедра начинает покалывать, и вскоре по всему телу ниже груди распространяется блаженное онемение. Боль не уходит, но кажется, будто кто-то подкрутил ее рычажок и выставил на минимальные значения.
Возвращается мой доктор. Она рассказывает, как по мониторам датчика отслеживать приближение схватки и тужиться в нужный момент, добавляя сознательное мышечное усилие к ее инстинктивным сокращениям. Я послушно следую ее указаниям. Еще где-то три часа.
— Ладно, попробуем по-другому, — наконец невозмутимо предлагает она. — Там, где вы выросли, ведь лежит зимой снег?
— Да, — отвечает за меня Клинт. — Именно так.
— Замечательно. Значит, вам известно, как вытолкнуть машину, застрявшую в заснеженной канаве. Сначала ее нужно раскачать, потом подтолкнуть — и она поедет.
— Мы в Миннесоте так паркуемся, — отвечаю я, едва дыша.
Врач в ответ широко улыбается, и это все равно что получить стодолларовую купюру, которую можно спрятать в кармашек на сердце.
— Вот этим мы сейчас и займемся. Три раза раскачиваем, на четвертый — толкаем, — говорит она, и мы проводим за этим занятием еще какое-то время.
— Давай, малыш, у тебя красивая головка, но пора нам и лицо уже увидеть, — воркует медсестра постарше, похлопывая меня по колену. Я подстраиваюсь под арку на мониторе, отчаянно тужусь и тут же вижу, как меняется поведение врача.
Она сохраняет спокойствие, но заметно собирается и бросает помогающей медсестре:
— Пуповина вокруг шеи. Будем делать вакуумную экстракцию.
Втроем они быстрыми и отточенными движениями готовят инструменты на столе, стоящем у меня в изножье. Врач смотрит мне в глаза, взгляд у нее внимательный и серьезный.
— Будет больно, — предупреждает она, и я киваю, успевая еще заметить, что сережек на ней нет, и на мне тоже, а потом все тонет в яркой вспышке.
Врач крепит чашечку аппарата к голове моего сына, подается вперед, выравнивает вес, а затем тянет изо всех сил, разделяя меня и ребенка. Я слышу свой собственный голос и крик, выражающий удивление тем, как несовершенен этот мир бесконечных возможностей. Когда перед глазами проясняется, оказывается, что кричала не я: это был обычный плач младенца, который я начала узнавать с первой секунды.
Теперь мы с сыном лежим рядом: одна команда врачей удерживает и помогает ему, вторая удерживает и помогает мне. Мы оба перепачканы моей кровью, но с нами все хорошо. От меня не требуется ничего, кроме как с комфортом лежать и тихо удивляться малышу рядом — пока, кажется, вся больница кружится возле нас, деловито тампонируя, отмывая и снова и снова проверяя каждый сантиметр наших тел. Детали этих осмотров подробно фиксируются и записываются в миллионе разных карт, поскольку мы все сходимся на необходимости сохранить эту бесценную информацию для потомков.
Пока моя команда останавливает кровотечение и массажем выводит из живота бесполезные теперь остатки плаценты, команда моего сына приносит его мне, отмытым и запелёнатым, для поцелуя.
— Вы только что произвели на свет абсолютно здорового мальчика весом четыре с половиной килограмма, — говорит с улыбкой молоденькая медсестра.
— Похоже, я сильнее, чем кажусь, — улыбаюсь я в ответ.
— Как и все женщины, — добавляет мой врач, внимательно изучая самую женственную часть меня, чтобы решить, как именно сшить разорванные части и обработать неровные края.
Клинт стоит рядом — наконец-то пришел его черед взять ребенка на руки и поцеловать. Я смотрю на сына и в его личике вижу достаточно своих черт, чтобы сразу понять, о чем он думает. Малыш рад родиться — теперь он сможет начать свою собственную историю. Клинт возвращает его мне, и он засыпает, а для меня начинается первый из многих часов, проведенных за восторженным разглядыванием его прекрасной мордашки. Сын спит, а врачи зашивают, зашивают, зашивают еще девяносто минут. Наконец они укутывают меня в специальную простынь и готовятся уходить — но покидают палату не раньше, чем манжета пожимает мне на прощание руку, а тонометр писком поздравляет с успешными родами и тихо обещает проведать попозже. Света становится меньше, и мы остаемся втроем — всё спим, спим и спим рядом.
Несколько следующих дней тоже похожи на счастливый сон, когда я ничего не делаю, а только лежу и периодически подтверждаю, что не обзавелась психозом. Одному министерству здравоохранения известно, почему в таких обстоятельствах вменяемость больного определяется по двум критериям: он должен знать текущий день недели и имя представителя нашей верховной власти. Эти два вопроса ему задают каждые шесть часов. Вскоре я начинаю развлекаться тем, что каждому человеку в белом халате радостно кричу: «Счастливого вторника! Разве не здорово, что Буш и сегодня сидит у себя в Белом доме?»
На второй день врач, которая помогала мне при родах, осматривает швы и делает вывод, что восстановление идет хорошо. Меня заворачивают в очередную простыню и укладывают обратно в кровать, где я снова жадно набрасываюсь на свой клубничный напиток, посасывая его через трубочку, пока он не попадает не в то горло. Когда я начинаю отчаянно кашлять, нечто напоминающее сгусток желе выделяется внутри меня и выпадает наружу, а между ног у меня растекается кровавое пятно размером с суповую тарелку.
— Не хочу доставлять хлопот, но не многовато ли крови? — интересуюсь я.
— В вас нет ни капли жира, — объясняет мой врач. — Весь лишний вес давали жидкость и ткани, в которых больше нет нужды. На то, чтобы они вышли, потребуется некоторое время. Не беспокойтесь, мы внимательно следим за вашим состоянием, — добавляет она, пока медсестры помогают мне снова сменить рубашку и простыни. Затем она уходит, а я отчаянно борюсь с желанием поверить, будто ее устами со мной говорит бабушка.
Я лежу и жду, пока мой организм покинет все ненужное. Неиссякаемый поток кровавой аморфной слизи продолжает течь из меня на протяжении нескольких дней, а с ним вытекает вся вина, сожаления и страх, которые я носила в себе. Я сплю, а те, кто сильнее меня, тихонько все это уносят и уничтожают. Я просыпаюсь, обнимаю своего ребенка и думаю о том, что он — мой второй опал, который я точно так же могу бесконечно обводить в круг и называть своим.
Мы остаемся в больнице еще на неделю, пасмурный дождливый апрель сменяется буйно цветущим солнечным маем, и наша жизнь входит в новую колею. Пока Клинт укачивает сына, я редактирую рукописи, удаленно подключаюсь к масс-спектрометру, отклоняю сделанные кое-как лабораторные или рисую графики. Так зарождается рутина, которая поможет нам преодолеть несколько последующих лет. Мы передаем друг другу ребенка, улыбкой признаваясь в любви при каждом касании, и учимся делать три дела одновременно. Однажды на пороге больничной палаты появляется Билл, обнимает меня первый и единственный раз за одиннадцать лет нашей дружбы, а потом с потрясающей легкостью и энтузиазмом принимает на себя роль любимого дядюшки.
Все дополнительные обследования, проведенные за время моей госпитализации, подтверждают: тяжелая беременность разрешилась нормальными родами здорового ребенка. В последнюю ночь перед выпиской я лежу без сна и вдруг понимаю (такое случается со мной нередко), что все это время не могла решить проблему не из-за ее принципиальной неразрешимости, а потому, что к поиску ответа нужно было подойти нестандартно. Все просто: отныне, думаю я, для своего ребенка я буду не матерью. Вместо этого я стану его отцом. Я знаю, как это делается, мне не придется прилагать никаких усилий. Не стоит даже задумываться о том, насколько странен этот выход: я просто буду любить сына, а он — меня, так что все сложится как нельзя лучше.
Возможно, участвуя в этом эксперименте, начавшемся более миллиона лет назад, даже я не могла совершить никаких ошибок. Возможно, этот прекрасный младенец, на которого я готова смотреть бесконечно, соединяет меня с чем-то большим, чем я сама. Возможно, шанс увидеть, как он растет, и давать ему все необходимое, в том числе и любовь, принимаемую как должное, — одна из величайших привилегий в моей жизни. Возможно, я с этим справлюсь. У меня есть помощники и достаток, любовь и работа, даже лекарства, если в них возникнет необходимость. Возможно, семена, омытые слезами, дадут урожай радости. Возможно, у меня все-таки получится.
9
Любая живая клетка — не более чем крошечный пакет с водой. С этой точки зрения жизнь как процесс состоит в основном из складывания и перекладывания триллионов таких пакетов. Сложность тут только одна: воды на всех не хватает. Ее никогда не будет достаточно, чтобы заполнить все потенциальные клетки. Любое живое существо на поверхности Земли вовлечено в бесконечную борьбу за свою долю воды, которая составляет менее одной тысячной процента веса планеты.
Деревьям приходится тяжелее всех, ведь они не могут прочесывать окрестности в поисках необходимой влаги — в то время как эти гиганты нуждаются в гораздо большем ее количестве, чем способные передвигаться животные. Если вы сядете в машину и проедете по Соединенным Штатам от Майами до Лос-Анджелеса по трассе 10, минуя Луизиану, Техас и Аризону, это займет у вас три долгих дня, но по их истечении вы усвоите самый главный урок в науке о растениях: количество зелени на каждом конкретном клочке земли прямо пропорционально количеству осадков, которые выпадают на этом клочке земли за год.
Представьте всю воду планеты в виде бассейна для олимпийских соревнований — тогда окажется, что ее объем, доступный растениям через почву, меньше объема бутылки с газировкой. Деревьям нужно так много воды — больше галлона только на то, чтобы вырастить горсть листьев! — что легко предположить, будто корни активно высасывают ее из земли. Это не так: корни пассивны. Вода сама течет по ним днем и вытекает ночью, преданная этому графику не меньше, чем приливы — Луне. Корневая ткань работает как губка. Если положить ее в лужицу пролитого молока, она расширится, чтобы впитать жидкость. Если затем перенести эту мокрую губку на сухой цемент, ее содержимое вскоре вытечет, оставив на дорожке мокрое пятно. Углубляясь в землю, мы обнаруживаем тем больше влаги, чем ближе слой почвы к каменным породам.
Взрослое дерево большую часть воды получает благодаря главному корню, растущему вертикально вниз. Те корни, что расположены ближе к поверхности, растут вбок: их сеть обеспечивает стволу устойчивость и не дает упасть. Они же увлажняют сухую почву — особенно при низком солнце, когда транспирация в листьях снижена. Клены, например, позволяют воде подниматься вверх по главному корню и перетекать в боковые всю ночь, таким образом ее перераспределяя. Небольшие растения, живущие рядом с ними, научились полагаться на эту выведенную к поверхности жидкость, с ее помощью удовлетворяя больше половины своих нужд.
Жизнь молодого ростка очень тяжела: 95 % деревьев, отметивших свой первый день рождения, не отпразднуют второй. Недалеко падает не только яблоко от яблони, но и большинство других семян от своих родителей; например, клены часто пускают корни менее чем в трех метрах от ствола, вырастая под теми ветвями, с которых отправились в самостоятельное путешествие. Из-за этого им приходится бороться за свет в тени взрослого клена, который годами успешно обживал этот участок земли и использовал его питательные свойства.
Впрочем, кое в чем клены все-таки помогают своим отпрыскам. Каждую ночь они делятся с ними самым ценным ресурсом — водой, которая поднимается от корней сильных к корням слабых. Ее достаточно, чтобы росток протянул еще один день. Конечно, малышу нужно не только это, но все же этот акт «великодушия» немного облегчит его участь. Ему потребуется любая помощь, если и спустя сотню лет здесь так и будет возвышаться кленовое дерево, оберегая тот же самый участок земли. Никому из родителей еще не удавалось подарить своим детям идеальную жизнь, но все мы пытаемся дать им лучшее из возможного.
10
В последние десять лет мы выяснили, что деревья помнят свое детство. Норвежские ученые собрали семена «потомков» одной и той же ели (что делает их наполовину клонами родителя), выросших в холодном и теплом климате. Затем они прорастили тысячи этих семян в абсолютно одинаковых условиях и высадили выжившие взрослеть в небольшом лесу.
Каждую осень все ели поступают одинаково: они проводят «закладку почек» — перестают расти в ожидании первых заморозков. Семена из того эксперимента норвежских ученых были генетически идентичными деревьями, выросшими бок о бок в одном и том же лесу. Несмотря на это, те из них, что были привезены из холодного климата, постоянно начинали «закладку» на две-три недели раньше, чем их южные кузены, готовясь к более долгой и морозной зиме. Все деревья в этом опыте выросли в одинаковых условиях, но рожденные в холоде помнили свои годы в состоянии эмбриона, пусть даже эти приступы ностальгии то и дело мешали их нормальной жизни.
Мы не знаем точно, как работает их память. Возможно, она является результатом нескольких сложных биохимических реакций и взаимодействий. Как работает человеческая память, ученые не знают тоже. По их мнению, это результат нескольких сложных биохимических реакций и взаимодействий.
В год, когда наш сын пошел в школу, мы уехали в Норвегию и осели там. Тоже на год. Я получила стипендию Фулбрайта и присоединилась к группе ученых, которые пытались разобраться, что представляет собой память нынешних елей, рожденных в одном климате, но затем перемещенных в другой, чтобы там повзрослеть. Установить, насколько точны человеческие воспоминания — даже в наших собственных головах, — уже непростая научная задача. Определить способности к запоминанию у организма с жизненным циклом, более чем в два раза превосходящим твой, — задача еще более сложная.
В своих экспериментах мы опираемся на самое главное отличие флоры от фауны. Большинство тканей растения являются резервными и легко приспосабливаются: при необходимости корень может стать стеблем, и наоборот. Если разделить на части зародыш в семени, можно получить несколько копий одного и того же растения, обладающих одним и тем же набором генов. Например, новые техники культивирования позволяют ответить на вопрос «Помнит ли дерево сильный голод, пережитый в детстве?». Для этого один из ростков годами лишают надлежащего питания, осыпая всеми благами жизни его идентичного близнеца. Подобные опыты — единственный способ получить точные ответы; с точки зрения человеческой морали они отвратительны и неэтичны. Но для растений это честная игра.
Мой эксперимент начинается с того, что я отсчитываю сотню семян ели — каждое меньше кунжутного зернышка — и несколько часов вымачиваю их в стерильной воде. Затем усаживаюсь на стул напротив стены, от которой идет поток стерильного же воздуха — приятный ветерок, рожденный механизмом. На мгновение воспоминания заслоняют все вокруг, и я снова превращаюсь в девочку, которая двадцать лет назад сидела перед таким же устройством в больничной аптеке и путем проб и ошибок нащупывала свой путь в будущее. «Передо мной все чисто, позади — заражено», — напеваю я. А потом заученными движениями раскладываю перед собой инструменты, следя, чтобы между ними и потоком воздуха от стены ничего не было.
Семена в моем опыте были собраны скандинавскими лесничими с ничем не примечательной ели почти целое поколение назад. У меня есть подробное описание этого растения на норвежском, выведенное теми аккуратными каллиграфическими буквами, какими писали в 1950-м. При взгляде на них в моем воображении в полный рост встают фигуры угрюмых светловолосых мужчин в болотных сапогах. Интересно, гордились ли бы они мной? Поймав свое отражение в окне комнаты, где сейчас довольно темно, я решаю, что вряд ли: зачесанные назад грязные волосы и упрямые прыщи, которые то пропадают, то возвращаются снова.
Я зажигаю стоящую справа бунзеновскую горелку и подкручиваю пламя так, чтобы его высота не превышала 2,5 сантиметра. Оно потрескивает в потоке воздуха, помогая стерилизовать его. Затем я поднимаю правый локоть, а проспиртованный тампон кладу слева — таким образом убирая и то и другое подальше от огня. Пинцетом, зажатым в левой руке, выуживаю семечко из водной колыбели и размещаю под микроскопом. Глядя в окуляр, кладу его на стекло, проклиная трясущиеся после третьей за сегодня чашки кофе руки. После чего осторожно делаю широкий, но неглубокий надрез скальпелем в правой руке, стараясь снять шкурку семени и добраться до зародыша.
Удерживая лезвием кожуру семени, я подцепляю зародыш ножкой пинцета и убираю его в подготовленную заранее чашку Петри с желатиновой питательной средой, смешанной и залитой накануне. Не видя зародыша, аккуратно опускаю ножку пинцета в это желе. Потом закрываю крышку и запечатываю ее фиолетовой лентой — именно этим цветом у нас обозначается вторник. Рисую на крышке круг, очерчивая примерную область, в которой находится зародыш, чтобы мы могли наблюдать за ростом или поразившей его инфекцией. Ниже черной ручкой пишу длинный код, включающий год, партию, родительское дерево и номер семени. Инициалы подписывать не приходится: теперь мы одинаково легко узнаем по почерку и друг друга, и давно умерших норвежских лесничих, которых я никогда не встречала. Коллеги подшучивают надо мной, не перечеркивая в предназначенных для меня кодах семерки и высмеивая таким образом мою «американистость». Я дважды проверяю написанное, проговаривая необходимые цифры вслух. Весь процесс занимает две-три минуты. Вот и все. Повторить еще сто раз.
Каждый год на каждый метр земной поверхности попадают миллионы и миллионы семян, но прорастут из них меньше 5 %. В свою очередь, лишь 5 % ростков доживет до первого дня рождения. В таких условиях главной и решающей задачей в изучении деревьев становится выращивание первого побега — и это тяжелая борьба, почти всегда обреченная на поражение. Зато, высаживая молодую поросль в лесу, мы ощущаем себя героическими исследователями, одержавшими победу над злым роком.
Эта неповторимая интеллектуальная мука вытачивает в ученых, проводящих эксперименты над растениями, особый характер — и служит естественным отбором, проходят который только те, кто ревностно предан науке, терпелив и имеет склонность к мазохизму. Они не ищут и не получают славы: та достается физикам-ядерщикам, наблюдающим за новыми частицами и болтающим о скорости света. Я учусь их складу ума, как учусь различать этапы эмбрионального развития — и то и другое мне по нутру. Свои маленькие деревца мы высаживаем ночью, чтобы они могли причаститься утренней росой, отчаянно веруя: их измерение пригодится нашим последователям в науке, пришедшим через двести лет после нас.
Наконец я собираю чашки Петри и несу их через весь подвал в инкубатор комнатного типа: навстречу темноте и стабильным двадцати пяти градусам тепла. Инкубатор немного похож на мавзолей, и я до сих пор не знаю, действительно ли в его влажном воздухе витает легкий запах плесени или это уже паранойя. Для каждого зародыша подготовлено желатиновое ложе, пропитанное экстрактом тысяч других семян. Эта питательная среда обманет моих подопытных и простимулирует бурный рост, больше не ограниченный семенной оболочкой, которую я заранее удалила.
Надеюсь, через двадцать дней я увижу те же семена неприлично увеличившимися в размерах; они станут гораздо больше, чем в естественных условиях, — если, конечно, до питательной среды не успел уже добраться грибок. Тогда я отберу здоровые зародыши и медленно разделю на части, перенося фрагменты на желе, состоящее из немыслимого количества удобрений и гормонов роста. Если делать все аккуратно — и при определенном везении, один зародыш превратится под микроскопом в двадцать кусочков. Сегодня мне предстоит разрезать уцелевшие зародыши, подготовленные две недели назад, — всего пятьдесят штук, — а потом оставить их истекать цитоплазмой в надежде, что они смогут восстановиться и превратиться в знакомую вам штуку с зеленью на одном конце и корнями на другом. Следующий месяц эти фрагменты проведут под искусственным солнцем, вынужденные фотосинтезировать и бороться с проклятым грибком.
Подобно Джулии Чайлд, которая достает из духовки готовое суфле, а на его место тут же ставит емкость с еще не пропеченным, я забираю из световой комнаты сто здоровых разделенных зародышей, заменяя их теми, которые только что разрезала. Каждый из этих крохотных проростков я высаживаю в горшки, сделанные из картонных упаковок для яиц. Инструментами мне служат две палочки от мороженого: одной я делаю дырку в земле, второй закладываю в нее росток. В процессе я иногда замечаю в образцах странности — какой-нибудь необычный зеленый завиток, например, — и выделяю минут десять на то, чтобы как следует их рассмотреть, наслаждаясь прелестью новизны в монотонной рутине дня, недели, месяца.
Мне полагается записывать, какой росток чем отличается, но я этого не делаю. Раньше делала — фиксировала все отклонения с жаром религиозного фанатика, но годы идут, и я отмечаю все меньше, воспринимая подобные странности как откровение, которым мне никто не разрешал делиться. Первые побеги редиса — всегда два симметричных и идеально ровных листочка сердечком. За двадцать лет проращивания сотен редисок я видела всего два отклонения. В обоих случаях таких идеальных листьев оказывалось три — неожиданная зеленая триада там, где должна быть пара. Я часто думаю о них; порой они мне даже снятся, вынуждая гадать, зачем я их увидела. Тебе платят за то, чтобы удивляться, но иногда это непростая обязанность.
К концу дня сотня крошечных деревьев рассажена по ячейкам. Я делаю снимки, сорок пять минут виновато наслаждаясь безвкусной музыкой из радиоприемника (слушать ее во время маркировки нельзя, иначе можно допустить ошибку в коде). Теперь ростки выглядят как отряд маленьких зеленых солдатиков, выстроившихся на плацу, и я представляю их зелеными же семнадцатилетними новобранцами Первой мировой, не понимающими, во что ввязались. Позже мы перенесем их в теплицу, где эти малыши проведут три года в относительном блаженстве, меняя им горшки всякий раз, когда понадобится больше места.
Затем коллекция выживших отправится в лес, где станет частью эксперимента. Все наши особые данные прогнозируют, что один из каждой сотни обработанных эмбрионов превратится во взрослое дерево, в десятки раз увеличивая наши шансы на успех по сравнению с естественным ходом вещей. Через тридцать лет одно из этих маленьких деревьев на моем столе вырастит семена и поможет дать ответы на вопросы, которые мы задали сегодня. (Разумеется, все это возможно только в том случае, если университет не срубит наш лес, освобождая место для общежития, детского сада или ресторана быстрого питания.)
В половине двенадцатого я звоню Биллу; он отвечает после двух гудков.
— На западном фронте без перемен, — сообщаю я ему, и он понимает. Там, где он сейчас находится, утро, и мой звонок сыграл роль будильника.
— Скоро загляну, — обещает он, а потом спрашивает: — Ты вымочила палочки?
— Что? — переспрашиваю я, делая вид, будто не поняла.
— Ты вымочила эти чертовы палочки от мороженого в отбеливателе?
— Конечно, — говорю я, и он фыркает, явно не веря этой лжи. — Говорю тебе, я их вымочила. И зародыши тоже. И сама стакан выпила, прежде чем начать.
— Потому что, когда через год мы потонем в отходах, вся твоя работа лишится налета романтики, — добавляет он.
— Надеюсь, мы управимся быстрее, потому что отбеливатель закончится раньше, — парирую я, и мы оба смеемся.
* * *
Мы смеялись, потому что это была шутка: Билл не собирался приезжать ко мне в ту ночь, потому что находился на другом конце земли.
За годы, прошедшие с рождения сына, моя жизнь в науке стала гораздо проще, хотя я так и не поняла почему. Это казалось странным: я не меняла ничего в манере проведения экспериментов или в том, как излагала свои идеи, но поменялась сама среда и то, что обо мне внутри нее думали. Я получала новые контракты, теперь не только от Национального научного фонда, но и от министерства энергетики, и от Национальных институтов здоровья. Частные спонсоры — например, Mellon Foundation и Seaver Foundation — тоже нас поддерживали. Это дополнительное финансирование не сделало лабораторию богаче, но впервые за долгое время позволило собрать новые приборы, заменить сломанные детали и останавливаться во время путешествий в приличных отелях. Главное же для меня заключалось в том, что теперь я могла расписывать Биллу зарплату на год вперед, а не от случая к случаю на пару месяцев.
Стоило мне перестать днем и ночью волноваться о том, как мы выживем, ко мне вернулось терпение и любовь к преподаванию. Сплав свободы и любви способен на многое, и это сделало меня еще энергичнее, чем обычно. Я подытожила свои идеи о развитии растений и воплотила их в более развернутых работах, написанных как цельные главы, что дало возможность включить все необходимые детали. Стоило мне как следует развить эти идеи, я начала получать за них награды: сначала медаль молодого ученого от Геологического общества Америки, потом медаль Мацельвейна от Американского геофизического союза, благодаря которой я легко осталась на своей должности в 2006-м. Воодушевившись этими достижениями, я начала рисковать сильнее и подала заявку на проведение экспериментов с елью в Норвегии — мне хотелось научиться сажать ростки деревьев, а также узнать, какой памятью они обладают.
Пока я жила в Норвегии, Билл оставался дома и руководил лабораторией. Клинту благодаря его обаянию и таланту к математике на протяжении нескольких лет неоднократно предлагали различные должности. В итоге он принял одно из них, и мы вместе уехали в окрестности Осло, где наш сын пошел в норвежский детский сад.
Среди искрящихся фьордов Восточной Норвегии я всегда чувствовала себя как дома. Здесь я могла просто быть собой, не рискуя показаться кому-то холодной или отстраненной. Норвежский мне нравится, и нравится говорить на нем: это емкий язык, в котором каждое слово имеет несколько значений, а смысл может изменяться в зависимости от того, как произнесена всего одна гласная. Мне нравятся темные зимние ночи со снегопадом и бесконечные пастельные летние дни. Нравится гулять среди еловой хвои, собирать ягоды и есть рыбу с картошкой семь дней в неделю.
Если подумать, в тот год в Норвегии мне нравилось абсолютно все, кроме одного — чувства щемящей тоски по Биллу. Но в глубине души мы оба знали: эта разлука необходима. Мы становились старше, я создала семью. Время и обстоятельства требовали, чтобы мы учились вести себя как коллеги, а не двенадцатилетние братья-близнецы.
* * *
Спустя шесть месяцев жизни в Норвегии я пишу Биллу сообщение: «Думаю о тебе сейчас».
Стоит нажать кнопку «Отправить», и оно перемещается в папку «Исходящие» — очередное звено в цепочке одинаковых писем, не получивших ответа. Я отправляю их каждый день уже три недели подряд, периодически перемежая сочувственным: «Надеюсь, ты в порядке».
Билл молчит больше месяца. Я знаю, что он никуда не делся, хотя сама чувствую себя потерянной. Четыре недели назад меня разбудило электронное письмо от него. «Привет. Только что узнал, что сегодня умер мой отец. Видимо, я уеду в Калифорнию. Масс-спектрометр перед отъездом выключу». Я немедленно начала строчить в ответ письма, которые процитировала выше, — сначала часто и с большей выдумкой, потом просто ежедневно напоминая о себе. Ответом была тишина.
За несколько недель, прошедших со смерти отца, Билл так и не вышел на связь, и цепочка оставшихся без ответа сообщений потянула за собой пустоту в моей душе. Я работала как обычно, но то и дело ловила себя на том, что бессмысленно смотрю в стену, задаваясь вопросом, зачем я занимаюсь наукой, — и наконец осознавая: я не хочу заниматься ею одна.
Билл не отвечал, но я слишком хорошо его знала — и знала, что он сейчас делает: усердно работает все ночи с семи вечера до семи утра, избегая людей и ни с кем не разговаривая. Так он обычно вел себя в депрессии, наступавшей после приступов мигрени. В лаборатории к этому уже привыкли и знали: проще оставить его в покое, пока дурное настроение не пройдет.
Однако эта депрессия затягивалась, и я никак не могла перестать воображать себе ту неделю, когда они оплакивали отца Билла в Калифорнии. Приход темноты в такие дни перерезает последние тонкие ниточки, благодаря которым ты держишься днем, — и скрыться от сопутствующей ей печали получается только во сне. А утром ты открываешь глаза и понимаешь, что начинается новый день скорби, которая проникает во все, что ты делаешь, и лишает пищу вкуса. Я знаю: когда умирает тот, кого ты любишь, кажется, будто с ним умираешь и ты сам. Я знаю также, что ни я, ни кто-то другой не можем помочь справиться с этим.
Поэтому я продолжала писать и продолжала ждать ответа, но его все не было. Тогда я отправила Биллу последнее письмо: «Привет, предлагаю нам двоим отправиться в поле. В Ирландию. Тебе всегда нравилась Ирландия. Я купила на тебя билет, он во вложенном файле. Твой отец был прекрасным человеком. Он был добр к твоей матери и оставался ей верен. Он любил вас, своих детей, и проводил с вами все вечера. Он не пил и не бил людей. Он дал вам все, что мог, — больше, чем получили многие. Наверное, больше даже, чем получило большинство людей на этой планете. И сейчас этого должно быть достаточно. Твой самолет приземлится раньше моего, но машина арендована на мое имя, так что дождись меня».
К этому можно было бы многое добавить, но я не стала. Мне хотелось сказать, что Билл всегда был у отца любимчиком, сыном, которого тот наконец увидел уже в зрелые годы — и который дал ему еще один бесценный шанс насладиться детством, пусть и опосредованно. Мне хотелось сказать ему: «Эй, ведь именно ты привнес в жизнь своего отца счастливый конец, вписал радостную финальную строчку в его мрачные шутки о геноциде, самим своим существованием утверждая триумф жизни над несправедливостью и убийством». Я хотела сказать Биллу, что он был главной наградой и истинным сердцем своего отца — сильный и жилистый мальчишка, которого не смог отравить окружающий мир, умный и гибкий снаружи и внутри. Мне хотелось, чтобы он понял: как и отец, он выживет — но как это сделать, я не знала. А потому написала то, что написала, нажала «Отправить» и начала собирать снаряжение.
В Ирландии я сошла с трапа самолета в аэропорту Шаннон и обнаружила Билла в компании трех походных рюкзаков, под завязку набитых инструментами и для верности перемотанных клейкой лентой.
— Боже, ты что, решил из дома сбежать? — улыбнулась я. — Что, по-твоему, мы будем тут исследовать? Дно океана?
— Да хрен его знает, — ответил Билл. — В твоем письме ни слова об этом не говорилось, а рисковать я не собирался. Это страна третьего мира, черт побери. Так что я привез вообще все.
Он казался немного подавленным и усталым, но в целом все было нормально. «Он это переживет, — подумала я. — Мы оба переживем».
План у меня был, пускай и весьма примерный. Для начала мы отправились в магазин при аэропорте и купили по две пачки конфет всех видов, представленных на витрине.
— Наш запас провианта, — объяснила я.
На стойке аренды автомобилей администратор спросил, женаты ли мы.
— Возможно, — ответила я. — Зависит от того, как это повлияет на сумму залога.
Когда стало ясно, что за второго водителя в машине нужно доплачивать, если он не является твоим супругом, я моментально приняла решение.
— Знаете, да, припоминаю, что мы женаты. Правда, милый? — Я ткнула Билла локтем и с удовлетворением заметила, как он побледнел и, кажется, с трудом удержал рвотный позыв.
Администратор продолжил допрос. Сначала он пожелал узнать, есть ли у нас собственная автомобильная страховка. «Да», — ответила я. Потом поинтересовался, не желаем ли мы дополнить ее расширенным договором, и я автоматически кивнула: «Да». После его начало волновать, хотим ли мы, чтобы страховка охватывала не только машину, но и… — и я прервала его очередным «Да».
— Учтите, чертов пакет стоит недешево. Зато вы потом обойдетесь малой кровью в случае чего, — предупредил администратор, не сводя с меня озадаченного взгляда. Возможно, его смутило, что всего пару минут назад я готова была притворяться замужней женщиной, лишь бы сэкономить пять баксов в день.
— Не так дорого, как кое-что другое, — загадочно ответила я, подписывая стопку бумаг.
Наконец администратор описал нам машину и указал в нужном направлении, не переставая бормотать:
— Значит, бензин оплачен вперед, чистка тоже, автомобиль застрахован, оба водителя тоже, любой ущерб, нанесенный другим участникам движения, включен в страховку, если что-то случится…
— …Мы развернемся и уйдем, — закончила я за него. — Просто развернемся и уйдем.
— Точно, — кивнул администратор, хотя, когда он передавал мне ключи, вид у него все равно был встревоженный.
— Вы обойдетесь малой кровью, видите ли, — передразнил его Билл, пока мы брели по парковке в поисках машины. — Почему тут все требуют крови, а?
Я немедленно принялась рассказывать о постепенном формировании концепции средневековых клятв, упоминавших менструальную кровь Девы Марии и раны Христа, — с удивлением обнаружив, что моим знаниям о литературе этого периода все-таки нашлось применение. Постепенно разговор угас; дальше мы просто ехали в уютной тишине, разглядывая проплывающий за окном чужой мир с непривычной стороны дороги. Нам уже доводилось бывать в Ирландии: огромные многослойные утесы вдоль ее западного побережья — прекрасный пример, на котором студентов можно обучать определению и нанесению на карты камней с ископаемыми останками внутри. Но на этот раз я сама решила быть нашим водителем — и тем, кто обо всем позаботится.
— Предлагаю ехать напрямик через Лимерик. Что думаешь? — спросила я Билла. Он пожал плечами, ясно давая понять, что не думает ничего. Тогда я развернулась и съехала с трассы N18 на Эннис-роуд — на юг, в сторону моста Шаннон.
— Фу-у-у! — внезапно поморщился Билл и щедро сплюнул в окно, прямо в воды реки Шаннон. — Что бы это ни было, я чуть не подавился.
Он указал на пакет черных конфеток, оказавшихся лакричными мармеладками в соленой, а не сладкой, как мы ожидали, обсыпке.
— Гадость! — добавил Билл, имея в виду в том числе и наше обсуждение кровавых клятв.
— Дело привычки, — заметила я, хихикнув. Билл не рассмеялся в ответ, но взгляд у него посветлел, и мне показалось, что печаль на минуту отступила. — Хочешь, я кину остатками этих конфет в копа, бобби, или как тут называют полицейских? — предложила я, опуская стекло со своей стороны.
— Не. — И Билл сполз на сиденье. — Наверное, потом все равно их съем.
Мы свернули на север, на О'Коннелл-авеню, и поехали в сторону района Милк-маркет. Заметив это, Билл задал весьма философский, на мой взгляд, вопрос:
— И какого черта мы тут делаем?
— Ищем лепреконов, — задумчиво ответила я. — Смотри не проморгай их!
На самом деле я уже сбилась с маршрута; отовсюду на нас смотрели указатели вроде Sráid Eibhlín и Seansráid and Chláir, но даже и они не могли заставить меня беспокоиться. Я ничего не искала — просто ждала, когда что-нибудь случится.
Дорога становилась все же, но я продолжала ехать, сворачивая в переулки, которые показались бы кошмаром человеку, страдающему клаустрофобией, — и вели в закоулки еще более глухие. Спустя несколько минут я повернулась к Биллу спросить, что, черт возьми, может значить слово «Армс», мелькавшее на табличках «Джонсгейт-Армс», «Палмерстаун-Армс» и еще нескольких других, которые мы миновали, — но в этот момент услышала громкое «Бац!», и машина вместе со мной содрогнулась до основания.
Ударяя по тормозам, я не могла понять только одного: кому и зачем в этом захолустье могло понадобиться бить в окно нашего автомобиля бейсбольной битой. Руки у меня до сил пор тряслись, силуэт Билла виделся обрамленным круглым нимбом из паутины трещин, которые разбежались по стеклу пассажирской двери. Мы ошалело выбрались из машины с водительской стороны, и Билл с трудом обошел капот, силясь понять, что случилось. Я уселась на бордюр, пытаясь успокоиться.
— Боже, а ведь когда-то попадать в аварии было даже забавно, — пробормотала я, и Билл согласился.
Оказалось, из-за левостороннего движения я не смогла верно оценить расстояние от автомобиля до правой части дороги и ехала слишком близко к тротуару. Ситуация все ухудшалась, пока мы не оказались почти вплотную к фонарному столбу: он снес зеркало заднего вида с пассажирской стороны, а то, в свою очередь, угодило в окно.
— Эффектное появление, — заметил мужчина в фартуке, который выглянул на шум из находившегося неподалеку бара вместе с несколькими посетителями. Осмотрев машину, он присвистнул: — Починить эту штуку будет целым делом.
— Мы американцы, — объяснил Билл, уверенно взявшись вести переговоры. — Мы просто уйдем, и все.
— Что вы вообще искали в графстве Клэр? — поинтересовался один из зевак — невысокий, жизнерадостный стереотипный ирландец.
Билл смерил его взглядом с головы до ног.
— Думаю, мы искали именно вас, — сообщил он. Затем повернулся, подобрал разбитое зеркало и невозмутимо забросил его в багажник. Там уже лежали битком набитые рюкзаки, в одном из которых Билл отыскал большой рулон изоленты.
— Будь сейчас на пять градусов теплее, а у вас опущены стекла, не сносить бы тебе головы! — заявил Биллу пожилой мужчина, тоже вышедший из паба. Он и несколько его спутников охотно рассмеялись шутке. — Похоже, эта дамочка пытается тебя убить, — добавил он, осуждающе качая головой.
— Похоже на то, — согласился Билл. — Тем обиднее, что мы поженились только сегодня утром.
Я все еще пыталась справиться со смущением и волнением, а потому отказалась от приглашения пропустить в пабе пинту-другую. Билл тем временем возился с разбитым окном, слой за слоем аккуратно заклеивая пострадавшую часть сперва снаружи, потом изнутри. Я помогала ему, отрывая куски ленты нужной длины. Постепенно напряжение ушло, а Билл, похоже, отчасти обрел себя прежнего. «Иаков и Иоанн в отцовской лодке, — подумала я, — сидят и чинят сети в ожидании зова». Мы сможем починить что угодно, даже если оно никогда не станет прежним.
— Хочешь сесть за руль? — робко предложила я, пока мы вносили в композицию на окне финальные штрихи.
— Не-а, — протянул Билл. — У тебя отлично получается.
Затем он легко скользнул на свое место, придерживая одной рукой дышащее на ладан окно:
— Но давай все-таки уберемся из города. Мне хочется больше зелени.
Мы поехали на юго-запад по N21, словно повторяя свое первое путешествие по Ирландии пять лет назад; тогда она показалась нам самой зеленой страной в мире. Этот остров и правда укутан в зеленые одежды, так что в глаза бросаются в первую очередь предметы другого цвета. Дороги, стены, линия побережья, даже овцы — все это, похоже, специально было разбросано по стране незримым художником, чтобы подчеркнуть контраст и упорядочить огромное количество зеленого цвета и миллиарда его оттенков: светло-зеленого, темно-зеленого, желто-зеленого, зелено-желтого, сине-зеленого, серо-зеленого, зелено-зеленого, наконец. В Ирландии в полной мере осознаешь, что эти существа — первые и лучшие обитатели планеты — обескураживающе превосходят тебя числом. Стоя посреди торфяного болота в Дингле, нельзя не думать о том, какой Ирландия была до появления на ее берегах тебя и подобных тебе приматов. Сияла ли она пушистым изумрудом посреди синего моря при взгляде из космоса? Похожа ли была на скопление цветущего планктона на суше?..
Наконец мы прибыли на ферму «Феникс», где обычно останавливались во время экспедиций, чтобы поесть и переночевать. Ее владельцы Лорна и Билли встретили нас, как всегда, тепло. Правда, когда они осуждающе качали головой в ответ на нашу историю о Лимерике и ругали неких валяющих дурака паршивцев, трудно было понять, не нас ли они имели в виду.
— Выпьете чаю? — предложила Лорна. — Я знаю, вы не любите гулять по холмам, пока не распогодится хотя бы немного.
Мы уселись за стол, прикончили чайник чая и по ломтю содового хлеба с маслом и смородиновым джемом каждый, а потом принялись просто смотреть в окно, ожидая того приятного зуда, который требует немедленно встать и что-нибудь сделать.
— Что ж, — заметил спустя какое-то время Билл. — Ботинки у меня сухие.
— Это легко исправить, — ответила я, поняв намек, и мы начали готовить снаряжение.
К тому моменту каждая наша полевая экспедиция начиналась с негласной традиции: мы ехали на возвышенность, парковались там и лезли на самую высокую точку, попавшуюся на глаза. Добравшись до вершины, мы останавливались и смотрели вдаль, ожидая новой идеи. Даже самый лучший на свете план можно превратить в план еще более крутой, если правильно подойти к процессу, — поэтому мы отказались от детального планирования вообще, доверившись мысли, что только с вершины можно увидеть свой путь.
Билл стоял рядом со мной, глядя на горизонт — но не спокойно и уверенно, как всегда, когда оказывался на свободе среди диких просторов. Сейчас в нем чувствовалась тяжесть и усталость от необходимости тащить свое горе на другой конец света. Так прошло несколько минут.
Наконец я заговорила первой.
— Трудно поверить, что твоего отца больше нет, — сказала я, потому что именно это пришло мне в голову, когда я узнала о потере Билла.
— О да, — кивнул он. — Это случилось так неожиданно. Никто ведь не мог предположить, что в девяносто семь лет можно просто взять и умереть, верно?
Отец Билла всего три года не дожил до сотого юбилея и внезапно умер, оставив семью справляться с потрясением.
— Мы даже не подозревали, но, оказывается, он был стар, как мамонтовы какашки, — добавил Билл.
Я ответила, что после того, как человек перешагивает девяностопятилетний рубеж, окружающие начинают думать, будто он никогда уже не умрет. До самого конца отец Билла упрямо работал в домашней студии, монтируя огромное количество материала, накопившегося за шестьдесят лет в кинематографе.
— Что произошло? Это был удар, сердечный приступ или?.. — осторожно уточнила я.
— Кто знает? И кому до этого есть дело? — равнодушно ответил Билл. — Трупам настолько древним вскрытие не делают.
— Так и представляю, как он вваливается в рай и решительно проходит мимо места, где ты получаешь ответы на всякие важные вопросы — почему в мире столько страдания, зачем мы здесь и прочее. Минует все это, находит какой-нибудь угол, разворачивает принесенную с собой ржавую сетку и вешает ее на старые крючки для одежды, чтобы скорее начать выращивать помидоры.
— За него я спокоен, — откликнулся Билл. — Он ушел. Все просто. Если уж говорить честно, гораздо больше я беспокоюсь о себе. — И он, отойдя в сторону, устремил взгляд на юг. — Ничто не дает яснее понять, насколько ты одинок в этом мире, чем смерть родителей.
Я опустилась на колени. Билл так и стоял в паре метров от меня, слегка ссутулившись. Мне столько хотелось ему сказать. Сказать, что он не одинок и никогда не будет одинок. Что в этом мире есть друзья, с которыми его связывают узы прочнее, чем кровь, — узы, которые никогда не ослабнут и не исчезнут. Что он никогда не останется голодным, холодным или лишенным материнской опеки, пока я здесь и дышу. Что ему не нужно иметь две руки, чистые легкие, почтовый адрес, умение вести себя в обществе или легкий характер, чтобы быть нужным и незаменимым. Что, как бы ни сложилось наше будущее, моей главной задачей всегда будет пробить в стене мира дыру и обеспечить ему место, где он спокойно сможет оставаться собой со всеми своими странностями.
Но больше всего мне хотелось оттолкнуть Смерть, отправить ее туда, откуда она пришла. Нынешний урожай скорби уже собран — вполне достаточно до следующего раза. Увы, я понятия не имела, как выразить все это иначе, чем только что озвучила у себя в голове, а потому просто продолжала сидеть и утирать сопли.
Потянувшись, чтобы вытереть руки о мох, я удивилась тому, насколько он мягкий и упругий на ощупь. Колени мои ушли глубоко в верхние слои дерна, и вода вокруг них собралась в лужицы, пропитывая одежду. Снова наклонившись, я набрала полные горсти мха и растерла его между ладонями, «отмывая до грязи», как мы это называли. Изучив приставшие к коже кусочки почвы, я увидела листики, похожие на крошечные перья: ярко-зеленые сверху, лимонно-зеленые на внутренней стороне, а по краям едва заметно красноватые. «У них есть пигмент для любого солнечного лучика, каким бы тусклым он ни был», — подумала я, подняв взгляд к облакам.
Начал накрапывать дождь; вскоре он превратился из невнятной мороси в настоящий ливень. Поднявшись на ноги, я почувствовала, как холод пробирает их до костей: несмотря на длинные шерстяные подштанники, вода текла по коже, пропитывая носки. Впрочем, я все равно знала, что мы не высохнем как следует, пока не уедем из страны. Именно в такие минуты, когда ты, замерзший и промокший, стоишь по колено в навозе, особенно чувствуется превосходство окружающих растений — не просто терпящих эту мерзкую погоду, а процветающих в ней.
— О да, вам-то все это нравится, — пробормотала я, обращаясь к кустику мха перед собой, а потом наступила прямо на его верхушку — точно маленький ребенок, который злится на что-то совершенно другое, но пока не понимает на что. Мох прогнулся под моей подошвой, не причинившей ему вреда, и исчез в лужице чистой прозрачной воды. Стоило мне убрать ногу, как он вернулся на свое место, так что даже следа не осталось. Я вздохнула.
— Твоя взяла, засранец, — признала я, на минуту расстроившись. Потом, поразмыслив, снова наступила на мох (с тем же результатом), пнула его, а через пару секунд пнула еще раз.
— Это что за ирландские танцы? — спросил Билл, который наблюдал за мной с вежливым интересом.
— У тебя есть с собой пробирки на двадцать пять миллилитров?
— Только на триста. Основные запасы остались в рюкзаке.
— Понимаешь… Он выглядит таким же довольным жизнью, как и растения внизу…
Билл моментально подхватил мою мысль:
— …Несмотря на то что внизу, возле русла, воду получить проще.
— Это же просто живая губка, — заметила я, продолжая топтаться по выбранному участку, чтобы Билл увидел, как вода собирается под моей ногой, прижимающей растение.
— Но собирает ли он здесь столько же воды, сколько собрал бы в низине? — задумчиво произнес Билл, повернувшись к горизонту, и мы оба поняли, что столкнулись с главной загадкой сегодняшнего дня, а возможно, и всего путешествия.
Общеизвестная мудрость гласит: растения сидят на своем месте и ждут — воды ли, солнца, весны — этого и многого другого, и лишь дождавшись, начинают расти. Но если бы они и правда были так пассивны, вода просто текла бы сквозь пористый субстрат на холме, собираясь в низине, где мы увидели бы гораздо больше зелени. Что, если мох сам регулирует влажность почвы, удерживая воду вокруг и увлажняя землю для собственных целей?
Что, если мох забрался сюда, понял, что воды недостаточно, и начал изменять этот холм, превращая его в милое сердцу болотце и вписывая ранее пеструю возвышенность в общую зеленую картину? Что, если это не местность стала идеальной сценой для растений, а растения сделали ее такой: зеленое, порождающее зеленое, порождающее зеленое? Что, если сейчас мы спотыкались и оскальзывались на чем-то куда более сильном и решительном, чем мы сами?
— Изотопы углерода в листьях расскажут нам о водном режиме, можно будет сравнить данные по мху на вершине и в низине, — подытожила я свое предположение и начала шарить в рюкзаке в поисках «Листостебельных и печеночных мхов Британии и Ирландии» издательства «Атертон и партнеры». На восьмистах страницах этого фолианта были подробно классифицированы и описаны примерно восемьсот видов британских и ирландских моховидных. Я открыла книгу, скорчилась так, чтобы спиной хоть немного прикрыть страницы от дождя, и начала читать.
Согласно вступлению, мне предстояло увеличить каждый листик, размером не превышавший срезанный ноготь, в десять или двадцать раз — иначе разглядеть характерные признаки не удастся.
— У нас ведь есть увеличительные стекла? — спросила я. — Кстати, эти Атергады утверждают, что мхи легче идентифицировать, когда они мокрые.
— Ну, с этим-то проблем не будет, — пообещал Билл, выжимая воду из перчаток с обрезанными пальцами («Надоело уже тратить деньги на обычные», — объяснил он мне год назад, покупая эту пару в спортивном магазине).
Опустившись на колени, мы погрузились в изучение находившихся перед нами видов. Спустя два часа стало очевидно, что нам встретился род Brachythecium, — в основном благодаря длинным пушистым стеблям, различимым под лупой («При двадцатикратном увеличении напоминает лобковые волосы Ворчуна Оскара[6]», — аккуратным почерком вывел Билл в блокноте). Насчет конкретного вида мы не были уверены (основные ставки делались на rutabulum), поэтому решили временно назвать свою находку Brachythecium oscarlobcus.
Представителей семейства Sphagnaceae найти было просто: они выделяются яркой красной окраской молодых листьев, хотя мы не смогли бы определить конкретные виды даже под угрозой смерти. После долгого спора о том, включать ли в исследование пушистые мячики кукушкина льна, Polytrichum commune («Потому что они миленькие» было главным моим научным аргументом), мы решили ограничиться Brachythecium и Sphagnaceae, поскольку велика была вероятность обнаружить их представителей и в низине.
Билл записал все до мельчайших деталей.
— Сколько нужно образцов каждого вида? — спросил он, держа в уме необходимость разделить содержимое каждой пробирки для трех различных анализов. Быстро подсчитав количество имеющихся у нас емкостей, он сам ответил на свой вопрос: — Полагаю, сто пятьдесят, не больше.
— Давай просто собирать образцы, пока не стемнеет, а потом посмотрим, сколько вышло, — предложила я, скрупулезно отмечая на карте наше точное местоположение и сверяя его при помощи GPS.
Мы обговорили код для ярлыков, включавший дату, место, вид, номер и имя ответственного исследователя, достали пинцеты и взялись за работу.
— Как доказывает весь наш опыт, в природе не счесть индивидуальных особенностей, так что чем больше образцов мы увезем домой, тем точнее оценим на месте общую картину, — промурлыкала я.
— Если такая штука, как общая картина по изотопам, в принципе существует, — подметил Билл главную трудность нашего исследования.
Спустя двадцать особей Sphagnum у нас выработалась четкая схема работы. Мне выпала обязанность отбирать образцы и показывать их Биллу, который должен был подтвердить, что материал относится к нужному нам виду. Затем я фотографировала растение на карточке с масштабной линейкой, пока мой напарник описывал его в мельчайших деталях. Только после этого можно было положить его в пробирку, которую я запечатывала, а Билл помечал кодом и пристраивал в ряд. Закончив процедуру, мы перепроверяли каждый шаг, а я к тому же перечитывала код, пока Билл сверял его со своими записями.
Фотографирование, на мой взгляд, было лишним, но я не стала спорить, мысленно поблагодарив век цифровых технологий за то, что нам хотя бы не придется проявлять потом километры пленки и тратить тысячи долларов на распечатку снимков идентичных на первый взгляд листьев.
Мы копались в мокрой почве так близко друг к другу, что то и дело сталкивались лбами.
— Хочу, чтобы ты знала: мне стало лучше, — сказал Билл, не отрываясь от дела. Затем глубоко вздохнул и добавил: — Что странно, учитывая количество шишек у меня на голове.
Работа продолжалась, пока наши тени не удлинились и не наступили сумерки. Тогда мы собрали заполненные пробирки и сложили их в сумки на молнии, аккуратно рассортировав на группы. Настало время возвращаться на ферму, где можно было стянуть множество слоев промокшей одежды, а потом до ночи сидеть в длинном белье у камина, глядя, как огонь превращает влагу в облачка пара.
Процедуру сбора образцов мы повторили еще в семи точках: четырех в низине и трех на холмах. В итоге в нашем распоряжении оказалось больше тысячи маркированных пробирок, в каждой из которых лежал единственный листок — определенный, описанный, сфотографированный и занесенный в каталог.
— Если вы, ребята, приехали только за мхом, мы вырастим еще и с нетерпением будем ждать нового визита, — сказал Билли, провожавший нас в четыре часа утра, и заключил каждого в медвежьи объятия. Потом мы сели в машину и уехали в аэропорт.
На этот раз за рулем был Билл, а я урывками дремала, прислонившись к стеклу и то и дело чувствуя уколы вины за то, что не развлекаю его, пока мы мчимся в темноте. В аэропорту мы вернули машину на парковку для арендных автомобилей, вытащили из багажника разбитое зеркало заднего вида, примотали к нему скотчем ключи и бросили этот «подарок» в ящик для внеурочной сдачи. Затем сели на автобус до терминала, зарегистрировали багаж, распечатали посадочные талоны и прошли досмотр.
Пробирки со мхом оставались в наших рюкзаках: наученные горьким опытом, мы не сдавали образцы, пока нас к этому не принуждали. Риск, что авиакомпания потеряет наши сумки, был невелик, но все равно казался существенным, когда речь шла о материале для исследований. Звякнув, сумки отправились на проверку в рентгеновском аппарате, а мы босиком прошли через рамки и встретились на другой стороне с офицером безопасности.
— Итак, полагаю, у вас есть разрешения на вывоз? — Она открыла наши рюкзаки и теперь держала образцы с таким видом, словно это был мусор, извлеченный из помойки.
«Черт. Разрешения», — подумала я. Конечно, у нас их не было, и я сомневалась, что они нужны для ввоза биологического материала в Норвегию. Следовало проверить это перед поездкой, а не беспокоиться за Билла. Я лихорадочно рылась в мыслях, пытаясь придумать убедительную ложь, смешную историю, что угодно, лишь бы получить пробирки назад.
Билл, напротив, перед лицом представителей закона всегда отвечал на вопросы прямо и честно, чем не переставал меня удивлять.
— Нам и не нужны разрешения, потому что это не вымирающие виды. Мы ученые, это просто часть коллекции, — спокойно объяснил он.
Офицер раскрыла одну из сумок и принялась бесцеремонно ворошить пробирки так, что несколько выпало на пол. Потом она вытащила одну, рассмотрела ее на просвет, потрясла, сняла крышку и перевернула. Для меня это было все равно что смотреть, как кто-то крутит младенца. Я инстинктивно протянула к ней руки, надеясь воззвать к банальной женской солидарности и получить своих малышей обратно, чтобы укачать их, вернуть на места и спеть колыбельную.
— Нет, — бодро заявила офицер. — Биологические материалы нельзя вывозить из страны без разрешения.
С этими словами она сгребла все наши пробирки и одним движением свалила в ведро с запрещенными предметами. Я заглянула внутрь и увидела целый ворох выброшенных в последний момент вещей: бутылки с водой, лак для волос, швейцарские ножи и спички, открытая пачка яблочного пюре, а теперь и огромное количество крохотных стеклянных трубочек с исписанными мелким почерком ярлыками. В каждой из них мерцал кусочек ослепительной зелени. Сюда же отправились шестьдесят часов нашей жизни и, возможно, ответ на важный научный вопрос. Билл достал фотоаппарат, наклонился над ведром, сделал снимок и зашагал прочь.
Я поплелась провожать его к выходу на посадку; оба мы шли, едва переставляя ноги. Через час его самолет отправлялся в Штаты, мой же рейс улетал гораздо позже. Мы заняли кресла в зале ожидания, и Билл немедленно принялся листать телефонную книгу, выписывая номера, начинавшиеся с 1-800. Бросив взгляд на часы, он пояснил:
— Я буду в Ньюарке в девять утра по времени Восточного побережья. Позвоню в министерство сельского хозяйства, как только сядем. Посмотрим, что нужно сделать, чтобы получить разрешение на вывоз растений из Ирландии.
Я все еще не могла простить себе совершенной ошибки. «Образцы, которые мы потеряли из-за отсутствия документов, — повторяла я. — Время, сэкономленное на том, что я их не запросила. Когда же я научусь?»
Билл устремил на меня многозначительный взгляд, а затем прервал этот бесконечный внутренний монолог:
— Они не пропали, ты же понимаешь. Мы все записывали. Начнем сначала. Если как следует подумать, в этой экспедиции мы многого добились.
Я кивнула. Вскоре пассажиров его рейса пригласили на посадку, и я второй раз за день почувствовала, как у меня отбирают нечто важное.
Наблюдая за тем, как самолет Билла выруливает на взлетную полосу, я поймала себя на мысли: чем важнее для меня что-то, тем выше шанс, что я никогда не произнесу этого вслух. Затем я достала карту растительного покрова Юго-Западной Ирландии, совместила ее с топографической картой и начала размечать места, где можно собрать новые образцы мха.
* * *
Отныне и навсегда Билл будет называть эту нашу поездку Пробуждением. Я же окрещу ее Медовым месяцем, и как минимум раз в год мы снова и снова будем разыгрывать ее кульминацию. Стоило в лаборатории появиться новому стажеру, как он или она тут же получали задание: промаркировать сотни пустых пробирок. Мы объясняли, что это необходимая подготовка к сбору огромной коллекции, работа над которой вот-вот начнется, и подробно рассказывали, как надписывать от руки сложный и длинный циферно-буквенный код, по инструкции включавший также греческие буквы и непоследовательные числа.
Понаблюдав за усердной работой новичка, мы собирали совещание, заранее распределив роли: на этот раз Билл будет «добрым полицейским», а я — «злым», или наоборот. Совещание начиналось с вопросов новоприбывшему: нравятся ли ему (или ей) подобные задания, способен ли он выносить такую работу. Затем обсуждение сворачивало на разговор о грядущем сборе коллекции и его принципиальной целесообразности.
«Злой полицейский» постепенно приходил к пессимистичной мысли, что данные материалы не пригодятся для работы с гипотезой. «Добрый полицейский» сначала спорил с ним, особенно подчеркивая тот факт, что стажер столько времени потратил на подготовку. Несмотря на это, «злой» продолжал настаивать на бесполезности выбранного подхода, который никак не прольет свет на нужные вопросы. У «доброго» в конце концов не оставалось выбора: он вынужден был согласиться с коллегой — придется начинать сначала, это неизбежно и необходимо. В этот момент его оппонент торжественно собирал все пробирки и выкидывал в ведро с отходами. Потом оба «полицейских» обменивались понимающими взглядами, и «злой» удалялся, исключительно довольный собой, а «добрый» оставался наблюдать за реакцией новичка.
Любой симптом того, что наш стажер считает свое время сколько-нибудь ценным, расценивался как плохой знак; потеря нескольких часов упорной работы и, что хуже, осознание тщетности всех усилий как раз были ключевым моментом испытания. Есть два способа справиться с крупным разочарованием. Можно остановиться, глубоко вдохнуть, очистить разум, уйти домой и отвлечься на вечер, чтобы начать заново на следующее утро. Либо немедленно перегруппироваться, опустить голову и нырнуть на самое дно; проработать на час дольше, чем накануне, но не сбегать из ситуации, когда что-то пошло не так. Первый способ позволит вам остаться адекватным человеком, но только второй ведет к великим открытиям.
Как-то раз мне выпало быть «злым полицейским», но я вернулась на поле битвы, забыв очки для чтения. Наш стажер, Джош, сосредоточенно выуживал из ведра с отходами свои пробирки, аккуратно отряхивая каждую от использованных перчаток и прочего мусора. Я спросила, что он делает, и получила такой ответ: «Ужасно ведь, что я испортил все эти пробирки и расходные материалы. Я подумал, можно снять крышки и оставить их в качестве запасного материала или что-то вроде». Затем Джош вернулся к своему занятию, а я встретилась взглядом с Биллом, и мы улыбнулись друг другу, понимая: перед нами еще один будущий победитель.
11
Как и у большинства людей на планете, у моего сына есть дерево, с которым он вырос. Это пальма лисий хвост (Wodyetia bifurcata); на протяжении бессчетных месяцев гавайского лета она покачивает своими хвостами за нашим окном. Растет она всего в нескольких метрах от задней двери, и каждый день мой сын по полчаса лупит по ней бейсбольной битой.
Он делает так уже много лет, хотя в руках у него не всегда именно бита. Ствол испещрен шрамами: они идут снизу вверх, отмечая рост ребенка. Когда ему было четыре, сын с размаха — в то время весьма скромного — бил по пальме топором, воображая себя Тором. Потом наступил период, когда топор заменила клюшка для гольфа, а наша собака быстро научилась уносить ноги с места военных действий. Сейчас мой сын одержим бейсболом, и для этих упражнений есть правдоподобное оправдание: таким образом он «отрабатывает замах». Противостояние дерева дереву кажется мне борьбой на равных; признаю, ни малейшего желания вмешиваться у меня нет.
К тому же пальме он не причиняет никакого вреда. Если сравнить ее крону с соседним деревом, окажется, что у обоих примерно одинаковое количество здоровых зеленых ветвей. Она цветет и плодоносит так же хорошо — или даже лучше, как и другие пальмы по соседству. Желания колотить других живых существ я за сыном тоже не замечала, да и в целом это больше похоже не на злые удары, а на ритуал, в котором пальма выполняет функцию бубна, а бита извлекает из нее определенные звуки, постепенно ставшие ритмом нашей жизни. Каждый день я сижу за столом на кухне и пишу, пока сын обрабатывает на заднем дворе свое любимое дерево.
В 2008-м мы переехали на Гавайи, соблазнившись не столько восхитительной погодой и буйной растительностью, сколько письменным обещанием университета обеспечивать Билла «пожизненно» зарплатой на протяжении 8,6 месяца в год. Четырнадцать недель его работы все еще зависели от моей способности выбивать гранты, но это было логично: руководство ведь не хочет, чтобы я расслаблялась, верно?
За время, что мы здесь живем, я выяснила, что пальмовые деревья не совсем деревья, а кое-что другое. Внутри их ствола нет твердой древесины, которая росла бы по краю, добавляя новые ткани кольцами. Вместо этого там спрятана пористая структура, подвижная и не имеющая жесткого скелета. Именно это отсутствие строгой внутренней организации дает пальмам гибкость и позволяет непринужденно адаптироваться как к увлекательному хобби моего сына, так и к мягким островным ветрам, периодически перерастающим в яростные ураганы.
Существует несколько тысяч видов пальм, и все они относятся к семейству пальмовых (Arecaceae). Именно Arecaceae в ходе эволюции первые стали однодольными. Это случилось примерно 100 миллионов лет назад. Первый настоящий лист однодольного растения выглядит как цельный росток; он не раздвоен, как у двудольных, более ранних представителей флоры. Пальмовое «дерево», которое никак не оставит в покое мой сын, состоит со стеблями травы в родстве гораздо более близком, чем с растущим рядом дождевым деревом.
Самые первые однодольные очень скоро эволюционировали в злаковые травы, а те захватили огромные пространства на равнинах Земли — достаточно влажных, чтобы не превратиться в пустыню, но слишком сухих, чтобы на них мог вырасти лес. Люди немного помогли злакам, отбирая и скрещивая их для получения зерновых культур, а затем засевая ими обширные поля. В наши дни для того, чтобы обеспечить пищей семь миллиардов обитателей планеты, нужно всего три однодольных вида: рис, пшеница и овес.
Мой сын — не я, а нечто другое. Он от природы жизнерадостен и уверен в себе и унаследовал от отца эмоциональную стабильность, в то время как я чаще нервозна и задумчива. Мир видится ему гоночной машиной, за руль которой он спешит сесть, — а я всегда беспокоилась, как бы меня не сбило. Он счастлив быть тем, кто он есть, не задаваясь — по крайней мере пока — экзистенциальными вопросами, но я навечно застряла где-то между.
Я не высокая и не низкая, не красивая, но и не дурнушка. Волосы у меня никогда не были достаточно светлыми, чтобы считаться блондинкой, но и до брюнетки я не дотягивала; сейчас же они стали умеренно седыми. Даже глаза у меня не зеленые и не карие — они ореховые, как будто не смогли определиться. Я слишком импульсивна и агрессивна, чтобы воспринимать себя настоящей женщиной, но при этом сроду не была подвержена убогому и токсичному представлению о себе как о «недомужчине».
Именно потому, что мы такие разные, мне понадобилось немало времени на осмысление, что же у нас с сыном общего. Я все еще думаю над этим. Я так долго и упорно работала столько лет, пытаясь создать свою жизнь, — а теперь вдруг вижу кого-то, кому все по-настоящему ценные ее дары достаются просто так, падая в руки с небес. Раньше я молила Бога сделать меня сильнее; сейчас же прошу Его послать мне умения быть благодарной.
Каждый мой поцелуй сыну возмещает те поцелуи, которых я так хотела, но никогда не получала; оказалось, это единственное лекарство, способное залечить те старые раны. До родов я изводила себя вопросом, смогу ли его полюбить. Теперь меня тревожит, что этой любви слишком много и он ее просто не воспримет. Да, ему нужна материнская любовь — но у него есть только я, неспособная выразить ее во всей полноте. Я наконец поняла, что ребенок был точкой в долгом ожидании, которого я даже не осознавала. Что он был одновременно невозможен и неизбежен. Что у меня был всего один шанс стать чьей-либо матерью. Да, я его мать — теперь могу заявить это с уверенностью, — но лишь избавившись от собственных представлений о материнстве, я обнаружила, что могу воплотить их в жизнь.
Жизнь — забавная штука. Когда он рос внутри меня, я дышала за нас обоих. Теперь я хожу на камерные школьные спектакли, сижу в зале и вижу только его лицо, хотя на сцене множество детей. Стоит ему пропеть очередной куплет, как я глубоко вдыхаю — будто даже на расстоянии могу поделиться с ним этим воздухом, дотянуться до него силой своей любви. Он растет, и день за днем мне приходится разрешать ему все больше. Воспитание ребенка — не что иное, как долгая медленная агония прощания. Подозреваю, все мои потаенные материнские переживания известны каждой матери на свете — и сейчас это единственная мысль, способная меня утешить.
Чувствовала бы я то же к дочери? Мне хочется думать, что да, но этого уже не проверить. Быть дочерью оказалось слишком сложной задачей и для меня, и для моей матери; возможно, нашему роду нужно пропустить одно поколение, прервать цикл, чтобы он больше не повторился. Поэтому я мечтаю о внучке, хотя моя жажда любви, как всегда, нелогична и преждевременна. По моим подсчетам, есть немалая вероятность, что я умру прежде, чем она родится, — особенно если наш род продолжит пропускать ходы или разветвится. Возможно, так мне и предначертано.
Несмотря на это, сегодня, в этот солнечный день, я не могу не поддаться искушению и оставить вам «послание в бутылке». Ты, некто, запомни. Ты, некто, отыщи однажды мою внучку и поговори с ней. Расскажи ей о том дне, когда одна из ее бабушек сидела на кухне и смотрела в окно, не выпуская из рук ручку. Скажи, что она не видела при этом ни грязных тарелок, ни пыли на подоконнике — поскольку обдумывала важный вопрос. Скажи ей, что в конце концов ее бабушка решила рискнуть и начать любить свою внучку за несколько десятилетий до ее рождения. Расскажи ей об этом дне — о сегодняшнем дне, когда ее бабушка сидела на солнце и думала о ней под аккомпанемент ударов бейсбольной биты по пальмовому стволу.
12
Войдя в лабораторию, я по лицу Билла сразу поняла две вещи. Во-первых, он сегодня не ложился. Во-вторых, нас ждет отличный день.
— Где тебя носило? Уже половина восьмого, черт возьми!
За последние двадцать лет представление Билла о действительно добром утре мало изменилось. Когда мы жили в Атланте и он ночевал в машине, рассвет и удушающая жара загоняли его в лабораторию в это же время. Сейчас я знаю: если Билл появился раньше десяти, значит, накануне случилось что-то стоящее внимания и он просто не уходил. Сегодня утром он еще и позвонил мне.
— Сон для слабаков! — бодро отрапортовала я. — В чем дело?
— С-6, — ответил он. — Этот маленький засранец снова взялся за свое.
Билл провел меня мимо экспериментальных посадок, где на протяжении уже трех недель тянулись вверх восемьдесят ростков редиса. Воздух в комнате был идеально спокоен, а уровень освещения и увлажнения находился под строгим контролем. Самое забавное в ситуации с С-6 заключалось в том, что мы не рассчитывали увидеть ничего интересного: целью эксперимента было измерить недоступное глазу.
Взгляните на любое растение, и вы увидите лишь половину его организма. У корней, обитающих под землей, нет ничего общего с зеленой листвой: они так же не похожи друг на друга, как ваши собственные сердце и легкие, и так же созданы для разных целей. Ткани растения, находящиеся на поверхности, получают свет и воздух из атмосферы, превращая их внутри листьев в сахар. Ткани, скрытые в почве, впитывают воду и растворенные в ней питательные вещества, чтобы потом превратить сахара в белки. Зеленый стебель, ныряя под землю, грациозно перетекает в коричневый корень, и где-то на этой границе растение принимает множество важных решений. Если оба его конца преуспевают в своем деле, возникает вопрос, как распорядиться полученным за день. Можно заняться производством сахаров, крахмала, масел или белков — но что выбрать?
Есть четыре пути: расти, лечиться, обороняться или размножаться. Бывает, что решение принимается не сразу и накопленные ресурсы откладываются на будущее — как и неизбежный выбор из этих четырех вариантов. Но чем руководствуется растение, предпочитая тот или иной путь? Как ни странно, тем же, чем руководствуемся в схожих ситуациях мы. Наши возможности ограничены нашими генами; с учетом окружающей среды более удачным оказывается тот или иной выбор; некоторым присуща осторожность во всем, что касается накопленных средств, другие слишком азартны; на наши планы могут повлиять даже соображения собственной фертильности.
Изо всех атмосферных газов наибольшую ценность для растений представляет один — углекислый. За последние полвека его уровень в земной атмосфере существенно вырос, потому что человечество непрерывно сжигает органическое топливо, — а это, в свою очередь, обеспечило экономику растений щедрыми наличными и беспроцентными кредитами. Углекислый газ — валюта фотосинтеза; уже несколько десятилетий растения пользуются всеми благами неограниченного доступа к самому главному для них ресурсу. Наша редиска призвана была ответить на возникающий в таком случае вопрос: как это влияет на баланс «инвестиций» в наземную и подземную части растений по всему миру?
Несколько месяцев назад Билл купил недорогую камеру и подключил ее к своему компьютеру. Теперь мы могли снимать экспериментальные всходы, пока они росли в специальной комнате. «Посмотри-ка сюда», — сказал Билл, когда я приехала по его утреннему зову.
Каждые двадцать секунд камера делала снимок, из которых потом складывался видеоролик. Таким образом можно было за четыре минуты оценить все события, случившиеся за день роста. Сначала экран оставался темным — лампы еще не горели. Потом, внезапно, все залило светом; стали видны шестнадцать маленьких побегов в горшках. Сперва их стебли и листья были вялыми и расслабленными, но вскоре после включения света все растения проснулись, потянувшись к лампам.
Один из образцов у стены сразу привлек наше внимание: он дергался и крутился, тянулся сразу и вверх, и в стороны, отталкивая оказавшиеся рядом листья, и грубо шлепал собственными по центральному побегу соседа. Маркировка сообщала: в этом горшке обитает росток С-6, начавший свою жизнь семечком абсолютно того же размера и вида, что и остальные всходы в комнате. Несмотря на это, в процессе роста он вел себя иначе; сейчас, пересматривая видеоролик, мы вынуждены были просто принять то, что видели. Уже несколько ночей мы переставляли С-6, заменяли его соседей, постоянно измеряли и сравнивали его с собратьями, снимали одно видео за другим и могли точно сказать: единственное отличие С-6 заключалось в том, как он двигался после рассвета. Пока остальные растения вальяжно и грациозно потягивались, разворачиваясь к свету, С-6 лихорадочно дергал мелкими листочками, будто пытался вырваться из держащей его почвы.
— По-моему, он себя ненавидит, — сказал Билл.
— А мне он нравится. У парня стальные яйца, — возразила я.
— Вот только не привязывайся.
Пока Билл перезагружал и настраивал камеру в преддверии очередного эксперимента, я прокрутила ролик семь или восемь раз, во время каждого просмотра приветствуя одобрительным возгласом «пощечину» на второй минуте.
— Ты тоже видишь этот триумфальный взмах листом сразу после?
— Да ты рехнулась, — ответил Билл.
Позади нас щелкнули, включаясь, лампы в экспериментальной теплице — для подопытных начинался новый день. У меня же перед внутренним взором мелькнула стопка непроверенных работ на письменном столе.
— Черт, мы должны его сломить, — решила я. — Не поливай С-6, включи свет и поставь его в середину, рядом с тем, здоровым. И записывай все на видео.
— Конечно, ведь гуманнее идеи тебе в голову прийти не могло.
К этому времени в лаборатории начали появляться студенты и магистранты, наполняя ее шумом и движением. Из комнаты позади донесся громкий лязг, следом кто-то прошипел: «Вот черт!» — и мы с Биллом обменялись усталыми улыбками.
— Здесь все работает как часы, — сказала я. — Можешь поднимать свою дохлую задницу и тащить ее домой спать.
— Не, — ответил Билл, откидываясь в кресле. — Я же хочу посмотреть, как все обернется.
С-6 не был частью официального исследования, но он изменил все. Я словно поднялась на вершину некой интеллектуальной возвышенности и увидела с нее новые горизонты. Решив предъявить на нее права, мы инстинктивно использовали новый язык, который не соответствовал старым правилам. Называть С-6 «он» нам не хотелось, так что мы дали ему настоящее имя — «Крутись-кричи», позднее сократив его до «КК-С-6». Каждое утро начиналось с нашего ему приветствия, а способность С-6 стоически выдерживать все ниспосланные экспериментаторами пытки доставляла нам невыразимое удовольствие. Увы, он прожил не так долго, пав в итоге жертвой одной из ужасных мигреней Билла. Пока тот по десять часов лежал, свернувшись в клубок, под своим столом, обхватив руками раскалывающуюся голову, в лаборатории ничего не поливалось, не удобрялось и не снималось. Однажды я просто бесцеремонно выкинула останки С-6 в мусорное ведро.
Наша им одержимость не была частью научно спланированного эксперимента, мы даже никогда официально не записывали результаты этих наблюдений — и все же это крошечное растение в одноразовом картонном стаканчике изменило образ моих мыслей сильнее, чем все написанное в потрепанных учебниках с загнутыми страницами. Мне пришлось признать: С-6 делал очень многое не в соответствии с заложенным паттерном, а руководствуясь причинами, известными только ему. Он мог приложить «руку» сначала к одной стороне «тела», а потом к другой — просто на это ему требовалось примерно в 22 000 раз больше времени, чем человеку. Его и мои часы шли не в такт, и из-за этого между нами оказывалась непреодолимая пропасть. Мне казалось, я все время была чем-то занята, а он выглядел абсолютно пассивным. Однако с его точки зрения, возможно, я просто металась вокруг: размытое пятно, электрон внутри атома, слишком беспорядочно и быстро движущийся, чтобы считаться живым существом.
Но до этого осознания было еще далеко. А в тот день я просто встала и улыбнулась Биллу и нашим бестолковым студентам, чувствуя восторг новой догадки. Ход мыслей у меня в мозгу уже набирал обороты — словно поезд, миновавший наконец опасный участок. Мой дух получил неожиданную пищу, и как минимум один рабочий день обещал благодаря этому пройти радостнее. Как знать, не в том ли главное достижение науки?
Через несколько часов я убедила Билла, что нам необходим перерыв на обед. Мы договорились, что платить буду я, но по дороге мы заедем в магазин органических продуктов.
— Ничего, мне тоже туда надо, — сообщил Билл, пояснив: — Наверняка у них есть гомеопатические таблетки для моей руки.
Мы сели в мою машину и поехали через весь остров. Билл никогда не был в магазинах этой сети и немедленно пришел в состояние глубочайшего изумления. От входа он направился прямиком к пластиковым упаковкам, в каждой из которых лежало по шесть каперсов размером с мяч для гольфа. Стоило это удовольствие около $13.
— Неужели богатые люди и правда это едят? — спросил он.
— Ага, — кивнула я, даже не проверив, что он там разглядывает. — Это их любимое блюдо.
В тот момент меня гораздо больше занимал выбор из семи разных видов экстракта ростков пшеницы. Выбрав и отложив в конце концов самый зеленый, я поняла, что Билл куда-то ушел — не забыв перед этим сунуть мне в корзину пакет каперсов. Нашла я его удивленно разглядывающим мягкие французские сыры, которые рядами лежали в холодильнике, — и тут же поняла, как поступить.
— Давай-ка все это купим, — предложила я. — Почему бы и нет, черт возьми?
— Шутишь? — подозрительно сощурился Билл, но язык его тела выдавал скрытую надежду.
— Ни в коем случае, — ответила я. — Сегодня будем пировать, как владельцы паевых фондов.
Я часто чувствую вину за то, что получаю больше Билла, ведь в работе мы словно две части единого целого. А еще я люблю просто брать и покупать ненужное; в присутствии Билла хотя бы могу убеждать себя, что это проявление не импульсивности, а щедрости.
— Как удачно, что у них возле кассы есть стойка с такими штуками, — сообщил мне Билл, пробегая глазами состав органического шоколадного батончика с ягодами асаи и какао-порошком из Доминиканской Республики. — Страх берет при мысли, что я мог никогда этого не попробовать, — добавил он с набитым ртом.
Наши покупки (стоимостью $200) Билл загрузил в багажник машины сам, отказавшись от любой помощи. На четыре пакета из «очень плотной бумаги» у него имелись свои виды, так что он немедленно установил за ними строгий надзор. Затем Билл плюхнулся на пассажирское сиденье, пробормотал «Надеюсь, оно стоит своих денег» и вскрыл второй шоколадный батончик, на сей раз с рамбутаном.
Два часа спустя мы сидели в лаборатории, поглощая «Кармашки Рокфеллера» — осетровую икру, завернутую в ломтики хамона (разогревать в микроволновке десять секунд).
— Черт, — буркнула я, глядя на часы. — Мне пора ехать. Вернусь вечером.
— До встречи. — Рот у Билла был занят багетом, поэтому слова прозвучали неразборчиво. Для верности он помахал мне кусочком камамбера.
Я запрыгнула в машину и помчалась забирать из школы сына, у которого как раз закончились уроки. Мы совершили обычный обмен — рюкзак на плавки с полотенцем — и поехали на пляж. По дороге я спросила, как продвигается учеба в третьем классе; он в ответ пожал плечами.
Оставив машину на нашем обычном месте у входа в парк Капиолани, мы дошли до баньяновой рощи. Пока я стояла и ждала, сын раскачивался на том, что на первый взгляд казалось лианами — но на деле представляло собой воздушные корни, водопадом свисающие с веток. Добравшись до пляжа, мы бросили полотенца поверх ботинок, бросились в океан и некоторое время изображали белобрюхих тюленей, ныряя и перекатываясь на мелководье.
Затем мы выбрались на берег, и я принялась осматривать себя в поисках синяков.
— Детеныши белобрюхих тюленей гораздо хитрее, чем о них пишут в учебниках, — пробормотала я, растирая шею и проклиная свой возраст. — Удивительно, что такие хорошие пловцы предпочитают ездить на спинах родителей.
Сын ковырялся в песке рядом.
— А правда, что под землей живут маленькие зверушки, которых нельзя разглядеть? — спросил он и, продемонстрировав мне горсти влажного песка, запустил ими в воду.
— Правда, — подтвердила я. — Маленькие зверушки живут повсюду.
— Много?
— Очень. Слишком много, чтобы сосчитать.
Какое-то время он обдумывал мои слова, а потом заявил:
— Я сказал учительнице, что маленькие зверушки находят друг друга благодаря магнитам внутри тела, но она ответила, что это вряд ли.
— Значит, она ошиблась, — немедленно вскипела я, бросившись на его защиту. — Я даже знаю человека, который это открыл.
Я уже была готова броситься в бой, но мой сын немедленно сменил тему — будто судья, пытающийся прервать назойливого адвоката:
— Все равно это не важно, потому что я стану бейсболистом премьер-лиги.
— Обещаю приходить на каждую твою игру, — сказала я, а потом, как всегда, добавила: — Ты же достанешь мне бесплатные билеты?
Он замолчал, обдумывая вопрос.
— Парочку, — пообещал он наконец.
Время близилось к шести вечера, поэтому я встала, отряхнула полотенца и собрала наши вещи, готовясь вернуться домой.
— А что сегодня на десерт? — спросил меня сын.
— Конфеты, которые ты набрал на Хеллоуин, — ответила я. — Фу.
Он улыбнулся и шлепнул меня по руке.
Пока я готовила ужин, сын сражался с Коко — наследницей Ребы, прожившей почти пятнадцать лет и искренне нами оплаканной. Благодаря Коко, которая тоже была чесапик-бей-ретривером, я узнала, что лучшие черты этой породы присущи всем ее представителям.
Неустрашимая и несокрушимая, Коко не боится выходить под дождь и вечно пытается помочь нам в любом деле. Валяться на цементном полу ей нравится гораздо больше, чем на мягкой лежанке, а если мы забываем ее покормить, она отправляется на задний двор и грызет гравий на подъездной дорожке. Еще она, не раздумывая, кинется с разбегу в двухметровую волну, если я дам команду принести обратно брошенный кокосовый орех, — именно так мы развлекаемся в выходные. Когда же мы с семьей уезжаем, Коко отправляется к дяде Биллу, где жестоко расправляется с угрожающими его любимому манговому дереву крысами.
Клинт вернулся с работы как раз к ужину, так что за стол мы сели вместе, а потом вывели Коко на долгую прогулку по окрестностям. Ровно в девять вечера сын был успешно уложен в кровать, но перед этим — как раз когда он собрался чистить зубы — я дала ему маленький флакончик с экстрактом ростков пшеницы.
— Сперва выпей вот это, — предложила я. — Если осмелишься, конечно.
У него расширились глаза.
— Ты все-таки его сделала! — закричал он удивленно, а потом выпил залпом, хоть и морщась от горечи.
Уже несколько недель сын просил меня изобрести зелье, способное превратить его в тигра. «Сделай его в своей лаборатории, — инструктировал он. — Из растений».
Пока я укладывала его в кровать и поправляла одеяло, на его лице возникло то выражение, которое бывает у детей, когда они готовятся сообщить вам что-то важное.
— Мы с Биллом собираемся пристроить к домику на дереве подвал, — сообщил он.
Я искренне заинтересовалась.
— И как вы это сделаете?
— Нам нужен чертеж. Много чертежей. Сначала мы соберем модель.
— А меня пустите в гости, когда все будет готово? — наудачу спросила я.
— Нет, — решительно ответил сын, но потом, подумав, добавил: — Может быть. После того, как он перестанет быть новым.
Затем он закрыл глаза и спросил:
— Я уже стал тигром?
Я внимательно осмотрела его с головы до пят:
— Нет.
— Почему?
— На это нужно время.
— Почему на это нужно время?
— Не знаю, — призналась я. — Но чтобы стать тем, кем ты должен стать, всегда нужно время.
Когда сын поднял на меня глаза, во взгляде его светилось не только множество вопросов, но и понимание: иногда притворяться, будто во что-то веришь, гораздо веселее, чем знать наверняка, что это неправда.
— Но оно же точно сработает, твое зелье?
— Конечно, сработает. Сработало же раньше.
— На ком?
— На маленьком зверьке по имени Hadrocodium, — объяснила я. — Он был млекопитающим и жил примерно двести миллионов лет назад. В то время ему приходилось постоянно прятаться от динозавров, потому что они могли наступить на него и раздавить в лепешку. Помнишь магнолию возле дома, где мы жили, когда ты был совсем маленьким? То дерево было пра-пра-пра-пра-и-еще-много-раз-правнучкой первого цветка, который выглядел точно так же. Оно тогда только родилось — первое растение нового вида, — а Hadrocodium как раз бегал неподалеку. Однажды он съел несколько листьев этого дерева, потому что мама обещала: так он станет таким же сильным, как динозавры. Но вместо этого он превратился в тигра. Да, на это ушло сто пятьдесят миллионов лет, множество проб и столько же ошибок, но в конце концов она стала тигром.
— Она? — удивился сын. — Ты говорила, это был «он». Тигр — мальчик.
— Почему бы тигру не быть девочкой?
— Потому что он не девочка, — объяснил мне сын так, словно это было очевидно, а потом прибавил: — Ты сейчас поедешь в лабораторию?
— Да, но вернусь до того, как ты проснешься, — заверила я его. — Папа через коридор, а Коко будет стоять на страже, пока ты спишь. Этот дом полон тех, кто тебя любит, — пропела я ему нашу привычную вечернюю мантру.
Сын отвернулся к стене — знак, что спать ему хочется больше, чем болтать. Тогда я отправилась на кухню и заварила две чашки растворимого кофе. Посмотрев на часы, я поняла, что успеваю в лабораторию к половине одиннадцатого, и потянулась за телефоном — написать Биллу. На экране сразу высветились два сообщения от него. Первое требовало: «ЗАХВАТИ СИРОП РВОТНОГО КОРНЯ». А второе, отправленное часом позже: «И ЕЩЕ ЕДЫ».
Я заглянула к Клинту — занести вторую чашку кофе и предупредить, что уезжаю. Уравнения, которыми он усердно исписывал целые страницы, были мне абсолютно непонятны, и мы оба это знали — поэтому он лишь рассмеялся, услышав мое традиционное:
— Не хочешь, чтобы я тебе помогла, а?
— Вообще-то хочу. Ты только посмотри на данные, которые я сегодня получил!
— Обалденные данные. Мне нравятся, — ответила я, невозмутимо продолжая копаться в сумочке в поисках ключей.
— Эти новые. Ты их еще не видела.
— Тогда они ужасны. И все оси у не на месте. — Я помахала Клинту рукой.
— Это карта, — улыбнулся он в ответ.
— Значит, на ней цвета неправильные. Милый, мне пора идти портить собственные исследования, на твои времени уже не остается. — И я беспомощно добавила: — «Обезьяньи джунгли» никогда не спят.
— Все равно спасибо за консультацию, — откликнулся он.
Я снова заглянула к сыну — убедиться, что он спит. Поцеловала его в лоб и улыбнулась: теперь он уже не всегда позволяет целовать себя, когда бодрствует. Потом прочитала «Отче наш», чувствуя, как переполняется щемящим чувством сердце, и погладила Коко, занявшую привычный пост в изножье. Когда я обхватила ее голову и прошептала: «Ты же будешь охранять моего ребенка?» — она подняла на меня огромные честные глаза ретривера, ответившего на этот вопрос раз и навсегда еще много лет назад.
Снова поцеловав мужа, я забросила за спину рюкзак и отправилась отпирать гараж. Выкатила оттуда велосипед и подняла голову, глядя в теплое тропическое небо и расстилавшийся за ним смертельно холодный космос, откуда ко мне стремился свет невообразимо горячих огненных шаров, и по сей день пылавших на другом конце галактики. Затем надела шлем и поехала в лабораторию, чтобы провести ночь там, где желала вторая половина моего сердца.
13
Когда имеешь дело с растениями, очень часто трудно понять, где начало, а где конец. Разорви почти любое из них надвое, и корни продолжат жить еще много лет. Ствол упавшего дерева попытается вновь стать целым — год за годом, год за годом; его внутренняя часть полна спящих почек — иногда их вдвое больше, чем можно заметить снаружи, и все они готовы к новой жизни. Почки превращаются в ростки, ростки в побеги, побеги, которым повезет, станут ветвями, а хорошие ветви проживут десятилетия. И вот на том же месте снова зеленеет крона — пышная, как раньше, или даже пышнее, вопреки попыткам ее убить.
Животные являют собой неделимое единство, но каждое растение — это модульная конструкция, в которой целое равно сумме составных частей. Дерево может выбросить и заменить довольно крупные фрагменты себя; более того, оно регулярно вынуждено проделывать это на протяжении столетий — а именно столько составляет его средний жизненный цикл. Да, деревья умирают, но только потому, что жизнь становится для них слишком дорогим удовольствием. Стоит показаться солнцу, листья начинают разделять воду, добавлять газы и склеивать все это в сахара, которые передаются в стебель, где навстречу им уже поднимаются от корней разведенные питательные вещества.
Эти сокровища растение может обратить в новую древесину, идущую на укрепление ствола или веток. Но у дерева есть и множество других нужд: замена старых листьев, изготовление лекарства против инфекций, образование цветков и семян. Для этого используются те же сырые материалы. Их никогда не бывает слишком много, а само растение ограничено тем, насколько глубоко оно может пустить корни или широко раскинуть ветви в поисках новых ресурсов. Постепенно ему нужно будет все больше и больше питательных веществ, чтобы поддерживать ветки и корни, уже неспособные вырасти достаточно далеко и захватить эти вещества. Как только возможности окружающей среды оказываются исчерпаны, дерево теряет все. Именно поэтому их и подрезают — чтобы сберечь. Как говорила Мардж Пирси, жизнь и любовь похожи на масло: их невозможно хранить, поэтому приходится готовить заново каждый день.
14
Есть что-то невыразимо грустное в окончании любого эксперимента по выращиванию растений. Мы много работали с Arabidopsis thaliana, скромным маленьким цветком. Даже полностью взрослым он умещается в ладони. Arabidopsis thaliana — одно из немногих растений, геном которого ученым удалось расшифровать целиком, поэтому, если вы распутаете цепочку ДНК внутри одной клетки и вытянете ее наружу, мы сможем перечислить вам точные химические формулы всех 125 миллионов молекул, которые ее составляют.
Извлеченная из клетки, где она стянута в тугой завиток, эта цепочка протеинов растягивается в длину на добрых пять сантиметров. В каждой клетке растения есть как минимум одна такая протеиновая «пружина», и ученые нашли формулу для нее всей. Честно говоря, мне не особенно нравится об этом думать: слишком большой объем по-настоящему изумительных данных. Предполагается, что ученый в основном удивляется в начале карьеры, а не в конце. Но чем больше я узнаю, тем сильнее у меня подкашиваются ноги, не выдерживая веса всей этой информации.
Впервые в жизни я чувствую себя уставшей и с ностальгией вспоминаю долгие выходные прошлых лет, когда я могла спокойно работать сорок восемь часов подряд, а каждый научный результат придавал силы и заряжал разум, залпами выдававший новые идеи. Я все еще генерирую их, но теперь они богаче, глубже и посещают меня, пока я сижу на месте. К тому же эти мои новые идеи, как правило, работают. Поэтому каждое утро я просто выбираю что-нибудь зеленое и смотрю на него, а потом принимаюсь сажать семена — раз уж знаю, как это делать.
Прошлой весной мы с Биллом анализировали результаты большого сельскохозяйственного эксперимента. Проводился он в теплице с искусственной атмосферой, к которой человечество придет через несколько сотен лет, если не начнет бороться с выбросами углерода. В этих условиях мы выращивали батат, и его клубни становились крупнее по мере того, как увеличивался уровень углекислоты. Это никого не удивляло. Однако, несмотря на количество удобрений, эти крупные клубни оставались менее питательными и содержали меньше белка — и вот это уже вызывало удивление. А еще огорчение: ведь самые бедные и голодающие нации мира полагаются именно на батат как на основной источник пищевого белка. Значит, более крупные клубни в будущем смогут дать пищу большему количеству людей, но оставят их менее сытыми. Я не знаю, почему так происходит.
Урожай мы собрали несколько дней назад. Для этого потребовалась целая толпа студентов, которые почти три полных дня трудились под руководством невероятно сильного и мудрого юноши по имени Мэтт — нашего будущего выпускника. За время проведения эксперимента он тоже вырос, превратившись в настоящего лидера и профессионала, на которого приятно было смотреть. Теперь он легко возвышался среди хаоса и двух десятков растерянных людей, находя каждому из них полезное занятие и день за днем обеспечивая неиссякаемую поддержку и постоянный контроль качества. Складывалось впечатление, будто Мэтт вышел на бой с этими растениями — и каждый упавший лист или распластанный по земле корень служил свидетельством его победы. Нам с Биллом повезло просто находиться рядом, не вмешиваясь — так и должно быть, когда студент готов к выпуску.
Сейчас суматоха уже улеглась, члены команды отправились отдыхать по домам — все, кроме нас. Наверное, так чувствуешь себя, заходя в комнату уехавшего в колледж сына. Следы ранних лет его жизни беспорядочно брошены и забыты: для него они уже ничего не значат, но для тебя — бесценны.
Внутри теплицы сильно пахло почвогрунтом. Мэтт отделил каждый клубень от растения, сфотографировал его, измерил и детально описал. В резком дневном свете все окружающее виделось слегка в дымке; стоило бы пойти домой и тоже отдохнуть, но я решила, что еще пара часов меня не убьет, и осталась.
Внезапно в кармане завибрировал телефон, напоминая о событии в календаре. Я взглянула на экран и поняла, что вот-вот пропущу возможность сделать маммограмму. Эту процедуру я и так откладывала три года и уже переносила один раз в этом семестре. «Вот черт, — подумала я. — Только не опять».
Дверь теплицы распахнулась, и на пороге показался Билл.
— Мы ведь сможем сами вырезать опухоль, если что? — спросила я его. — Здесь точно где-то был садовый нож.
— Сверлом удобнее, — ответил Билл не моргнув глазом. Затем задумался и добавил: — Кажется, у меня даже была для этого специальная насадка.
Говорил он все это не переставая жевать кусок холодной засохшей пиццы — одной из многих, которые мы заказали вчера и бодро умяли на протяжении ночи. «Двадцать лет прошло, а он выглядит все так же», — подумала я.
Направление мыслей Билла в этот момент оказалось прямо противоположным. Он окинул меня взглядом и спросил:
— Боже, как ты успела постареть на пять лет, пока я был снаружи? Ты похожа на морскую ведьму из мультфильма про Попая.
— А ты уволен, — сообщила я. — Иди теперь к ведьмам из отдела кадров, забирай документы.
— Они по субботам не работают. И к тому же тебе стоит выглянуть наружу. — Билл кивнул на дверь.
Наша теплица — одна из многих на исследовательской станции института и расположена среди других в долине возле ручейка, впадающего в океан. Каждая из них размером примерно со спортивный зал и представляет собой огромный каркас из нержавеющей стали, закрытый обычной затеняющей сеткой. Гавайские острова и сами по себе похожи на множество гигантских теплиц, где условия для роста растений идеальны круглый год, а ежедневные дожди напоминают скорее рутинный полив по расписанию.
Я посмотрела, куда указывал Билл — в сторону поросших джунглями гор, — и увидела яркую ленту радуги, которая аркой изгибалась в небе: очень четкую и оттого казавшуюся еще ярче и красивее. Вторая радуга, более широкая и размытая, обрамляла ее по краю — мягкий отблеск, лишь усиливающий уверенное сияние первой.
— Ого, двойная радуга, — удивилась я.
— Да, черт возьми.
— Нечасто их увидишь, — добавила я, пытаясь обосновать свой восторг.
— Угу, потому что на вторую всем плевать. Она всегда есть, но никто ее не замечает. Бедная радуга! Наверное, она чувствует себя такой одинокой.
Я пристально посмотрела на Билла.
— Да ты сегодня прямо философ, — заметила я, после чего подхватила цепочку его рассуждений: — На самом деле это одна и та же радуга. Просто луч света, проходя через область с плохой погодой, преломляется так, что мы видим два отдельных изображения.
Билл помолчал, а потом сухо сказал:
— Эти радуги — самовлюбленные засранцы, пора им уже разобраться в себе.
Я задумчиво ответила, что вряд ли они сделают это в ближайшее время.
Мы зашли за теплицу, взяли из старого сарая пару складных стульев и вернулись внутрь. Дальняя часть помещения представляла собой настоящий хаос: в углу стояли грязные цветочные горшки, в одном из которых лежал клубок перепачканной измерительной ленты; неподалеку высился холмик почвы. Мы поставили возле него стулья, плюхнулись на них и погрузили босые ноги в холодную сырую землю. На противоположном конце теплицы было отведено место под чей-то еще эксперимент. Мне он казался во всех смыслах вечным: начавшись до нашего появления здесь, он, вероятно, будет продолжаться, даже когда я выйду на пенсию.
— И как здесь кому-то может не понравиться? — Я обвела рукой бесконечные ряды орхидей. — Ты только принюхайся!
— Признаю, в этот раз у нас вышло отлично, — ответил Билл. — Никогда не думал, что окажусь на Гавайях.
Я беспокоюсь о нем. О его прошлом, о его «мог бы». Меня тревожит, что он мог бы завести жену и множество детей, если бы не оставался рядом со мной все эти годы. Билл в ответ возражает, что армяне живут обычно дольше ста лет, а ему еще и пятидесяти не исполнилось — поэтому начинать искать девушку слишком рано. И все же я волнуюсь о его будущем. Возможно, однажды он встретит кого-то, кто окажется его недостоин, но и это предположение Билл встречает смехом. «Раньше женщин отпугивало, что я живу в машине, — жалуется он, — а теперь они хотят только моих денег».
Билл и правда неплохо устроился. Его дом с видом на Гонолулу стоит высоко на холме, а выращенные своими руками манго стали настоящим украшением пышного, утопающего в цветах сада. Продажа дома в Балтиморе принесла Биллу небольшое состояние. Развалюха, которую он тогда купил несмотря на гниющие трубы, дешевую проводку и поползший фундамент, после сделанного по ночам и исключительно своими руками ремонта превратилась в великолепный образчик недвижимости, расположенный в двух шагах от университета.
Люди по-прежнему удивляются, глядя на нас с Биллом. Может, мы брат и сестра? Родственные души? Товарищи? Послушники? Сообщники? Мы делим каждую трапезу и беспрестанно учим друг друга новому, а наши бюджеты давно перепутаны. Мы вместе путешествуем, вместе работаем, заканчиваем друг за другом фразы, а при необходимости охотно рискнем для второго жизнью. Пускай я счастлива замужем, у меня есть ребенок, а Билл заранее против всего этого; он — мой брат, от которого я никогда не откажусь, часть базовой комплектации. И все же люди, которых я встречаю, то и дело пытаются приклеить на нас ярлык. Как и в случае с клубнями из эксперимента, у меня нет ответа на эту загадку. Я продолжаю быть частью симбиоза просто потому, что знаю, как это делать.
Я потянулась и, подняв лейку, щедро залила покрывающую наши ноги землю. Пошевелив пальцами, мы превратили это месиво в отличную мягкую грязь, а потом откинулись на спинки стульев и некоторое время просто сидели неподвижно. Наконец Билл нарушил тишину:
— Итак! Чем займемся теперь? У нас же все под контролем до 2016-го, верно?
Он имел в виду финансирование лаборатории; мы действительно финансово стабильны до лета 2016 года включительно — это обеспечивает сразу несколько контрактов от федерального правительства. Однако по окончании этого периода лаборатория все еще может закрыться: финансирование исследований об окружающей среде с каждым годом становится все ниже. У меня есть ставка, но у Билла-то ее нет; это привилегия профессоров. Меня приводит в бешенство подобная несправедливость: лучший и самый трудолюбивый из известных мне ученых живет, не имея никаких долгосрочных гарантий, причем это во многом моя вина. Если мы потеряем финансирование, мне останется только пригрозить руководству увольнением по собственному желанию — что, скорее всего, попросту оставит без работы нас обоих. Мы исследователи, а потому никогда уже не будем чувствовать себя в безопасности.
— Так, проехали! — Билл хлопнул у меня перед носом в ладони, оборвав цепочку размышлений. — Что будем делать дальше? Мы же можем творить что пожелаем!
И он, потерев руки, поднялся со стула. Билл, конечно, был прав. Позор мне, маловерной… Разве есть на свете хотя бы одна работящая команда, занимающаяся чем угодно и при этом чувствующая себя в безопасности? «Уподобимся полевым лилиям, — решила я про себя. — Только мы будем сеять, жать, прясть и трудиться».
Я тоже поднялась и сделала шаг вперед.
— Итак, что у нас есть? — Я осмотрела стандартный набор нашего потрепанного инвентаря. — Знаю. Давай соберем все это барахло в кучу, встанем рядом и будем на нее смотреть. После этого нам непременно что-нибудь придет в голову.
Билл одобрительно кивнул и отправился к противоположной стене теплицы. Вернулся он оттуда с запасами все еще рабочих сельскохозяйственных ламп, которые аккуратно сложил возле притащенных мной клубков удлинительных шнуров. Потом мы объединили усилия, чтобы передвинуть торцовочную пилу, несколько так и не распиленных мелких брусков и бочку с обрезками ДСП. Я принесла два ящика с инструментами и расположила их на видном месте, приоткрыв крышку одного так, будто это был сундук сокровищ. Билл добавил к экспозиции несколько мешков почвогрунта и поставил возле каждого пакет удобрений.
Я как раз раскладывала перед собой пакетики всех семян, которые у нас были, когда, подняв взгляд, увидела Билла. Он тянул ко мне рулон сетки, годами ржавевшей в углу. Я с отвращением сморщила нос:
— Да она даже не наша.
— Теперь наша, — возразил Билл — и мы оба поняли, что это только начало. Мы начали рыскать вокруг экспериментальных орхидей, подбирая бесхозные шланги и сломанные зажимы, складывая их в подолы футболок и сваливая потом в общую кучу.
— Срань господня! — завопил Билл, заметив дорогую беспроводную электродрель, которая лежала между двумя цветками. Он поднял ее, и мы обменялись взглядами. Таких дрелей в нашем распоряжении было как минимум пять штук, и Билл знал, что если мы захотим, то купим шестую в любой момент. Объем наших грантов, вероятно, в несколько раз превышал финансирование владельца этого инструмента. Все моральные и рациональные аргументы сводились к тому, что мы не должны красть дрель. Увы, единственный аргумент за оказался весомее: ее хозяина здесь не было.
— Знаешь, как говорят об аде? — спросила я, добавляя дрель к нашей добыче. — Обстановка там отвратительная, зато компания прекрасная.
Билл плюхнулся на стул и открыл банку газировки. Я кружила у кучи, втыкая в нее цветки орхидей, как будто передо мной была рождественская елка.
Позже выяснилось, что дрель сломана — она не работала, и мы, как ни старались, не сумели ее починить. Но она все еще лежит где-то в лаборатории: нам с Биллом даже в голову не пришло вернуть ее или просто выбросить. Я никогда не сочту бесполезным ни один инструмент и не признаю ни один из них ненужным. Очевидно, мне так и не суждено утолить свой научный голод, пусть даже наука и щедро меня кормит.
В тот день, сидя в теплице, мы с Биллом снова заговорили о наших целях и надеждах, о том, на что растения способны сами, а что мы, вероятно, можем заставить их делать. Вскоре наш мозговой штурм перетек в обсуждение былых достижений — и вот мы уже пересказываем друг другу истории, вошедшие в эту книгу. Сейчас им без малого двадцать лет, и это безгранично меня удивляет.
За эти годы мы получили три научные степени, сменили шесть работ, жили в четырех странах и посетили еще шестнадцать, пять раз оказывались в больнице, приобрели восемь подержанных машин, проехали как минимум 40 000 километров, усыпили одну собаку и провели примерно 65 000 измерений стабильных изотопов углерода. Это последнее достижение было нашей неявной целью на всем протяжении пути. До того как за упомянутые измерения взялись мы, только Бог и Дьявол знали эти цифры, и, подозреваю, обоим было до лампочки. Теперь же любой обладатель читательского билета может найти нужные значения, потому что мы опубликовали результаты своих исследований в семидесяти отдельных статьях в сорока разных журналах. И считаем это серьезным прогрессом: ведь наша невозможная работа в том и заключается, чтобы добывать новые нити информации из цельного полотна. Кстати, в процессе мы оба еще успели стать взрослыми, не перестав быть детьми. Ничто не доказывает это лучше, чем истории, которые мы снова и снова пересказывали друг другу в тот памятный день.
Наконец в теплице воцарилось молчание. А затем Билл удивил меня неожиданной просьбой.
— Включи это все в книгу, — сказал он тихо и серьезно. — Однажды. Сделай мне такое одолжение.
Билл знает, что я пишу. Знает о листочках со стихами, спрятанных в бардачке моей машины, о бесчисленных документах с названием «следующаяистория. doc» на жестком диске. Знает он и о том, как я часами листаю словарь, потому что нет более приятного для меня чувства, чем найти то самое верное слово, попадающее точно в сердце желанного смысла. Знает о том, что я читаю каждую книгу дважды (а иногда и больше) и пишу их авторам длинные письма (а иногда и получаю ответ). Знает о том, как важно для меня писать. Но до того дня он ни разу не давал мне разрешения писать о нас. Поэтому я лишь кивнула и мысленно поклялась сделать все от меня зависящее.
Я преуспела в науке, потому что совсем не умею слушать. Если прислушиваться к словам других людей, я одновременно умна и глупа, пытаюсь сделать слишком много, но при этом сделанное мною слишком незначительно, не смогу достичь желаемого потому, что женщина, и при этом пользуюсь некими привилегиями только потому, что женщина. Мне говорили: я могу обрести жизнь вечную, и говорили: я загоню себя в могилу раньше срока. Критиковали за излишнюю женственность и не доверяли из-за излишней мужественности. Предупреждали, что я принимаю все слишком близко к сердцу, и осуждали за бессердечность. Но все это говорили мне люди, понимавшие настоящее и способные видеть будущее не больше и не меньше, чем я сама. Эти противоречащие друг другу утверждения заставили меня осознать: я — женщина-ученый и именно поэтому никто не понимает, что я, черт возьми, такое. А с этим осознанием пришла и блаженная свобода действий. Я не слушаю советы коллег и сама стараюсь не давать их другим. Когда же на меня давят, я руководствуюсь всего двумя правилами: «Не стоит относиться к своей работе слишком серьезно. Кроме тех случаев, когда к ней стоит относиться серьезно».
Я приняла тот факт, что не знаю всего, что должна, — но так или иначе знаю все необходимое. Я не знаю, как сказать «Я люблю тебя», но знаю, как это показать. Те, кто любит меня, сделаны из того же теста.
Наука — это работа, не больше и не меньше. И мы продолжим ее делать, пока солнце встает на востоке, а недели сменяют друг друга, складываясь в месяцы. Я ощущаю тепло того же сияющего солнца, которое светит и лесу, и всему зеленому миру, но в глубине души знаю: я не растение. Скорее уж муравей, устремляющийся на поиски и добычу отдельных сухих иголок. Он переносит их на своей спине, одну за другой, через весь лес — и понемногу добавляет в гору игл настолько большую, что мне удается целиком вообразить лишь крошечный ее уголок.
Я — ученый. Просто муравей — незначительный и безымянный, — но я сильнее, чем кажусь, и являюсь частью чего-то существенно большего. Вместе мы строим нечто, способное вызвать удивление у внуков наших внуков, а в процессе то и дело сверяемся с весьма неточными указаниями, оставленными дедами наших дедов. Оставаясь маленькой живой частичкой научного сообщества, я просиживала бессчетные ночи в темноте, жгла свечи и с ноющим сердцем наблюдала за доселе неизвестным мне миром. Как и любому исследователю, на протяжении веков становившемуся хранителем драгоценных тайн, мне нужно было с кем-то поделиться этим знанием.
Эпилог
Растения не похожи на нас — причем в самых основополагающих аспектах. Если я возьмусь перечислять различия между растениями и животными, передо мной развернутся такие горизонты, до которых я вряд ли доберусь. Вероятно, я десятилетиями изучала растения именно для того, чтобы все же признать: мы никогда не сможем их понять. Только учитывая их безграничную инаковость, мы можем быть уверены, что не проецируем на объект исследования самих себя. И лишь тогда наконец начинаем понимать, что же происходит на самом деле.
Наш мир незаметно приходит в упадок. Человеческая цивилизация низвела значение растений, царство которых насчитывает 400 миллионов лет, до трех вещей: еды, лекарств и древесины. Одержимые стремлением заполучить их как можно больше и сделать все это еще более полезным и разнообразным, мы привели мир растений в такое бедственное состояние, какого он не достиг бы и за миллионы лет природных катастроф. Всюду, словно безумные грибницы, расползаются побеги дорог, а канавы на их обочинах становятся могилами для миллионов видов растений, уничтоженных во имя прогресса. Современная планета Земля — наглядное воплощение сказки доктора Сьюза: начиная с 1990-го мы каждый год оставляем за собой больше восьми миллиардов новых пней. Если продолжать рубить здоровые деревья такими темпами, не пройдет и шестисот лет, как не останется ничего, кроме этих пеньков. Моя работа заключается в том, чтобы доказать: наше время — время великой трагедии природы, но и сейчас о ней кто-то пытается заботиться.
Во многих языках мира прилагательное «зеленый» этимологически связано с глаголом «расти». При исследовании свободных ассоциаций участники соотносили слово «зеленый» с концепцией роста, спокойствием, миром и позитивным настроем. Наблюдения показали: даже мимолетный проблеск зелени повышает творческое начало, привносимое людьми в простейшие задачи. Но, если на нашу планету посмотреть из космоса, она с каждым годом становится все менее зеленой. В плохие дни кажется, что за время моей жизни глобальных проблем стало только больше, и горло сжимает величайший неотступный страх. Неужели мы покинем этот мир, а наши наследники останутся стоять на горе щебня — голодные и больные, измученные войной не меньше нас, но лишенные даже крохотной радости и обещания мира, которые несут зеленые листья? В хорошие дни я чувствую, что могу это изменить.
Каждый год ради вас срубают по меньшей мере одно дерево. Поэтому я хочу вас кое о чем попросить. Если вам принадлежит хотя бы клочок земли, посадите на нем в этом году дерево. Если вы снимаете дом с прилегающим двором, посадите там дерево и проверьте, заметит ли хозяин. Если заметит, утверждайте, что оно росло там всегда. Не забудьте упомянуть, как великодушно с его стороны заботиться об окружающей среде и высаживать растения. Предположим, вам повезло и ваш хозяин проглотил наживку; тогда сажайте следующее дерево. Основание обмотайте мелкой сеткой, а на тоненький ствол повесьте скворечник: так ваш питомец будет выглядеть солиднее. Потом, так и быть, съезжайте и надейтесь на лучшее.
Существует больше тысячи видов деревьев, из которых вы можете выбрать, — и это в одной только Северной Америке! Соблазн предпочесть фруктовое очень велик: они быстро растут и красиво цветут, зато и ломаются от сильного ветра, даже будучи взрослыми. Беспринципные сотрудники служб по продаже деревьев будут подталкивать вас к выбору брэдфордской груши (возможно, сразу парочки), потому что они зацветают в первый же год; вы останетесь довольны результатом ровно на то время, которое потребуется торгашам, чтобы обналичить ваш чек. К сожалению, у этого вида удивительно слабые развилки, и первая же серьезная гроза переломит его пополам. Поэтому принимайте решение с ясной головой и широко открытыми глазами. Вы фактически женитесь на этом дереве — так найдите себе партнера, а не украшение.
Как насчет дуба? Из более двухсот разновидностей наверняка найдется такая, которая приспособлена именно к вашему региону. В Новой Англии царит болотный дуб, заостренные листья которого словно пытаются добродушно пародировать ближайшего вечнозеленого соседа — падуб. Австрийский дуб выживает даже на болотах Миссисипи, а листья у него мягкие, будто кожа младенца. Виргинский дуб облюбовал раскаленные холмы центральной Калифорнии: темно-зеленое пятно среди золотистой травы. Но лично я за те же деньги выбрала бы крупноплодный дуб. Он самый медленный — зато и самый сильный: даже желуди его закованы в тяжелую броню, всегда готовые к битве с негостеприимной почвой.
Кстати, о деньгах: вполне вероятно, что они вам не понадобятся. Несколько федеральных и местных учреждений подключились к программам восстановления лесов и распространяют саженцы бесплатно или по сниженной стоимости. Например, «Нью-Йоркский проект по восстановлению» обеспечивает деревцами всех желающих (их цель — высадить и обустроить миллион деревьев в пяти городских округах), а Служба охраны лесов штата Колорадо пускает в свои теплицы любого, кто владеет хотя бы одним акром земли. Каждый государственный университет проводит масштабные мероприятия по расширению посадок, в ходе которых множество квалифицированных экспертов поддерживают городских садоводов, владельцев деревьев и разнообразных энтузиастов по сохранению природы, давая им необходимые советы. Оглянитесь вокруг: эти службы обязаны предоставлять бесплатные консультации во всем, что касается ваших растений, компостных куч и даже вышедшего из-под контроля ядовитого плюща.
Посадив своего малыша в землю, ежедневно проверяйте, как у него дела: первые три года — самые сложные. Помните, что вы его единственный друг в этом враждебном мире. Если земля, на которой теперь растет саженец, принадлежит вам, заведите сберегательный счет и кладите на него каждый месяц по $5. Когда ваше дерево заболеет между двадцатью и тридцатью годами (а оно заболеет обязательно), вы не станете его рубить, а сможете на эти деньги вызвать специального доктора, способного его вылечить. Когда же вы истратите все до гроша на хирургическую операцию, смиритесь и начните копить снова, потому что именно так поступит и ваш подопечный. Первые десять лет жизни дерева — самые насыщенные, а какими они станут для вас? Раз в полгода приводите к нему своих детей и делайте засечку на коре, отмечая их рост. Однажды эти малыши покинут родной дом и отправятся в большой мир, унося с собой кусочки вашего сердца; но дерево, когда-то тоже бывшее маленьким, останется живым напоминанием о том, как они росли, — способным на сочувствие созданием, несущим на себе метки их долгого и яркого детства.
Кстати, раз уж вы все равно подошли к нему с ножом, не могли бы вы вырезать на коре имя Билла? Он раз сто заявил, что не станет читать эту книгу, потому что подобное занятие лишено всякого смысла. Мол, если он когда-нибудь испытает такой жгучий интерес к себе, то просто сядет и припомнит все, что приключилось с ним за последние двадцать лет, причем без посторонней помощи. На это мне возразить нечего, но как же здорово думать о его маленьких частичках, отпущенных мной на волю. За долгие годы мы выяснили: лучший способ найти чему-то место и дом — сделать это частью дерева. Мое имя значится на всем нашем лабораторном оборудовании, так почему бы имени Билла не стоять на множестве деревьев?
Когда вы закончите, у вас будет дерево, а у дерева будете вы. Что делать с ним дальше, решать вам. Можете измерять его каждый месяц, составляя график роста. Можете день за днем наблюдать за его действиями, пытаясь увидеть мир с его точки зрения. Тренируйте воображение, пока не заболит голова. Что пытается сделать ваше дерево? Чего оно хочет? О чем беспокоится? Попробуйте угадать. Озвучьте свое предположение. Расскажите о нем друзьям и соседям. Посомневайтесь хорошенько, правы ли вы, — а на следующий день вернитесь и подумайте еще раз. Сделайте снимок. Пересчитайте листья. Выдвиньте новую догадку. Озвучьте ее. Запишите. Расскажите о ней парню в кафе и начальнику на работе.
Вернитесь к своему дереву на третий день, и на четвертый, и на пятый. Продолжайте говорить о нем, продолжайте рассказывать историю, которая творится у вас на глазах. Когда же люди начнут закатывать глаза и вежливо намекать, что вы сошли с ума, удовлетворенно рассмейтесь. Для ученого это верный знак, что он все делает правильно.
Благодарности
Написание этой книги было самой радостной работой в моей жизни, и я благодарна всем людям, которые помогали мне и оказывали поддержку. Особые слова благодарности сотрудникам издательства Alfred A. Knopf и моему редактору Робин Дессер. Эта книга стала лучше — и я стала лучше как писатель — именно ее стараниями. Тина Беннет сделала гораздо больше, чем обыкновенный агент: она показала мне разницу между несколькими историями и романом. Я в долгу перед ней, и этот долг — мое величайшее профессиональное приобретение. Светлана Кац выполняла роль моего спасательного круга на протяжении всех тех лет, что я искала стиль повествования. Она ни разу не усомнилась во мне, и я тоже сохранила веру. Нет слов, способных описать признательность, которую испытывает начинающий автор к известному писателю, прочитавшему его работу и нашедшему слова ободрения. Для меня этим человеком стала Адриан Николь ЛеБланк. Наконец, не могу не признаться, как помогла мне дружба тех, кто знал меня еще ребенком. Спасибо Конни Луман — ты была моими глазами, когда я так в этом нуждалась. И, конечно, большое спасибо Хизер Шмидт, Дэну Шора и Энди Элби, которые читали отдельные фрагменты и всегда возвращались за продолжением.
Примечание
Любая книга о растениях — бесконечная история. На каждый факт, которым я с вами поделилась, приходятся как минимум две загадки, ставящие меня в тупик. Могут ли взрослые деревья узнавать своих отпрысков? Есть ли растения на других планетах? Чихали ли динозавры, нюхая первые цветы? Эти вопросы еще ждут своих ответов. Но здесь я все же не удержусь и расскажу немного о том, как узнала некоторые вещи и почему представила их вам именно так.
Очень многие данные о растениях, упомянутые в тексте, были получены с помощью вычислений, вошедших у меня в привычку за более чем двадцать лет преподавания, когда я искала все новые способы «закрепить» информацию в умах студентов. Например, в главе 9 второй части есть такое предложение: «За последние двадцать лет в одних только Соединенных Штатах на стройках использовали такое количество брусьев, чтобы из них можно было бы сложить мост от Земли до Марса». Я соотнесла статистику использования пиломатериалов, предоставленную министерством торговли США (805 миллиардов досковых футов за период между 1995 и 2010 годами), и среднее расстояние от Земли до Марса (согласно информации NASA, 225 миллионов километров). Схожими фактами для этой книги меня обеспечили Бюро переписи населения США, Лесная служба США, министерство сельского хозяйства, Национальный центр по статистике здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Часть приведенных в книге вычислений была сопряжена с определенными трудностями, поскольку любое поддающееся измерению качество растения сильно варьируется при сравнении с растениями других видов. Например, для того, чтобы показать вам в главе 3 первой части соотношение растущих деревьев и ждущих своей очереди семян, я представила себя в лиственном лесу — таким образом оценив количество семян, лежащих под каждой из моих подошв, в 500 штук. Если бы я в этот момент вообразила себя на лугу, эта цифра превысила бы 5000, поскольку семена трав во много-много раз мельче тех, что сбрасывают деревья. Как видите, разница колоссальная. Поэтому на всем протяжении работы над книгой я придерживалась следующего правила: каждый раз, оказываясь перед подобным выбором, я делала его в пользу варианта, при котором разброс значений был бы не столь велик. Так что прошу читателей иметь в виду: некоторые впечатляющие и поразительные данные о растениях были сознательно округлены мной в меньшую сторону.
Мои рассуждения, касающиеся «скромного, ничем не примечательного дерева», описанного в главе 5 второй части, основаны на наблюдениях за реальным деревом, близким моему сердцу: это свечное дерево (Aleurites moluccanus), внешне и по поведению очень похожее на более распространенный клен. Оно — среди прочих — растет во дворе моей лаборатории при Гавайском университете. Я много лет вела курс «Наземная геобиология», и в конце каждой лекции мы вместе со студентами выходили на улицу навестить это свечное деревце и попытаться применить к нему полученные в аудитории знания. Одно из домашних заданий состояло в том, чтобы всем вместе замерить разнообразные параметры (высоту, густоту листвы, содержание углерода и пр.), а потом благодаря им рассчитать, сколько воды, сахара и питательных веществ требуется нашему знакомцу в сезон роста.
Описывая государственное финансирование «исследований из любопытства», я опиралась на сведения 2013 фискального года, поскольку на тот момент они представляли собой самую новую и наиболее полную серию данных о финансировании различных организаций. На самом деле для моего анализа год был неважен, так как спонсирование Национального научного фонда не растет сколько-нибудь заметно уже больше десяти лет. Мое утверждение, что «последние тридцать лет бюджет США на исследования, не связанные с обороной, просто заморожен», основано на данных, полученных Американской ассоциацией содействия развитию науки: начиная с 1983 года общая сумма трат на научные исследования являет собой жалкие 3 % государственного бюджета Соединенных Штатов.
Исследование растений привело меня в область, где работает множество невероятно изобретательных и плодовитых ученых, и я искренне наслаждалась чтением их работ. Мой личный «топ-3» экспериментов в ботанике уже был представлен на страницах этой книги, и сейчас я хочу отдать должное тем, кто провел их впервые.
Результаты опытов с ситхинской ивой, были опубликованы Д. Ф. Родсом в 1983 году. Но только в 2004-м — более чем двадцать лет спустя — Дж. Аримура и его соавторы доказали: образование летучих органических соединений одним растением способно повлиять на проявление гена в другом, продемонстрировав таким образом механизм коммуникации между ивами.
Феномен, который ученые окрестили «гидравлический лифт» — движение воды «от корней сильных к корням слабых», — был впервые зафиксирован Доусоном (1993) на примере клена сахарного (Acer saccharum).
Сравнив молодые деревья, выращенные в одной и той же теплице, но культивированные при разных температурах, Кваален и Йонсен (2008) доказали, что Picea abies, «рожденные в холоде, помнили свои годы в состоянии эмбриона».
И, наконец, тем читателям, кто захотел узнать больше о живой зелени, окружающей нас со всех сторон, я советую немедленно приобрести книгу П. А. Томаса «Деревья» (Trees: Their natural history, 2000). Это прекрасно и легко написанный учебник для начинающих, полный увлекательнейших фактов. Если же кто-то ищет больше информации об уничтожении лесов или глобальных переменах природы в целом, я обычно советую обратиться к просветительской серии Vital Signs, которая состоит из ежегодных публикаций Института глобального мониторинга (). Этот независимый исследовательский институт основан в 1974 году и занимается анализом изменений, тенденций и глобальных закономерностей, обнаруженных в ежегодных отчетах различных организаций — в том числе Управления по информации в области энергетики США, Международного энергетического агентства, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Программы развития ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и многих других.
Библиография
Arimura, G., D. P. Huber, and J. Bohlmann. 2004. Forest tent caterpillars (Malacosoma disstria) induce local and systemic diurnal emissions of terpenoid volatiles in hybrid poplar (Populustrichocarpa × deltoides): cDNA cloning, functional characterization, and patterns of gene expression of (fi)-germacrene D synthase, PtdTPS1. Plant Journal 37 (4): 603–616.
Dawson, T. E. 1993. Hydraulic lift and water use by plants: Implications for water balance, performance and plant-plant interactions. Oecologia 95 (4): 565–574.
Kvaalen, H., and Ø. Johnsen. 2008. Timing of bud set in Picea abies is regulated by a memory of temperature during zygotic and somatic embryogenesis. New Phytologist 177 (1): 49–59.
Rhoades, D. F. 1983. Responses of alder and willow to attack by tent caterpillars and webworms: Evidence for pheromonal sensitivity of willows. In Plant resistance to insects, ed. P. A. Hedin, 55–68. Washington, D.C.: American Chemical Society.
Thomas, P. A. 2000. Trees: Their natural history. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Джарен Х.
Девушка из лаборатории: История о деревьях, науке и любви / Хоуп Джарен; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2020.
© 2016 by A. Hope Jahren
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2020
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2020
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Примечания
1
Здесь и далее отрывки из Чарльза Диккенса приводятся в переводе А. Кривцовой и Е. Ланна. — Прим. ред.
(обратно)2
Плод каркаса западного напоминает по строению плод черемухи — пурпурная костянка, под тонким слоем мякоти которой скрывается очень твердая косточка с семенем внутри. — Прим. ред.
(обратно)3
Граница, проведенная в 1763–1767 годах английскими землемерами Чарльзом Мэйсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения длящегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке. Линия четко определила границы современных штатов Пенсильвания, Мэриленд, Делавэр и Западная Виргиния. — Прим. ред.
(обратно)4
Медаль Кальдекотта — престижная американская премия, ежегодно вручаемая самому выдающемуся иллюстрированному детскому произведению. — Прим. ред.
(обратно)5
Престижный район в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне, известный своими старинными особняками. — Прим. ред.
(обратно)6
Ворчун Оскар — персонаж детской передачи «Улица Сезам», заросший мхом монстр зеленого цвета, который живет в мусорном баке. — Прим. ред.



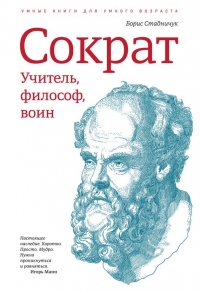
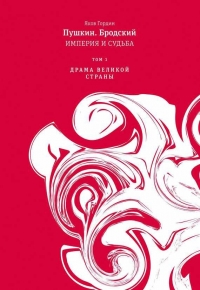


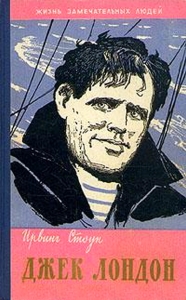
Комментарии к книге «Девушка из лаборатории. История о деревьях, науке и любви», Хоуп Джарен
Всего 0 комментариев