Б. Л. Модзалевский. Пушкин и его современники Избранные труды (1898—1928)
От составителя
Незадолго до своей гибели Пушкин, печатая в пятом томе «Современника» фрагмент из неопубликованной и известной лишь узкому кругу лиц записки H. М. Карамзина «О древней и новой России», сопроводил его следующим примечанием: «Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса» (XII, 185).
Этими словами поэта можно определить нравственный пафос всей научной деятельности Бориса Львовича Модзалевского. На протяжении более чем тридцати лет он «представлял» современникам голоса свидетелей минувших эпох, в том числе и самого Пушкина, неутомимо разыскивал и печатал неизвестные ранее стихотворения, мемуары, письма, воскрешая из небытия сотни имён и событий.
Житейскую биографию учёного можно уместить в один абзац[1]. Борис Львович Модзалевский родился 20 апреля (2 мая н. ст.) 1874 г. в Тифлисе, где тогда служил его отец, известный педагог, пользовавшийся большим авторитетом. После переезда в Петербург Модзалевский окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию и начал учёбу на историко-филологическом факультете Петербургского университета, а затем перешёл на юридический. В 1899 г., через год после выхода из университета, Модзалевский поступил на службу в Академию наук, где и проработал вплоть до самой своей смерти (3 апреля 1928 г.). В 1918 г. Модзалевский был избран членом-корреспондентом Академии наук, в 1919 г. — старшим учёным хранителем Пушкинского Дома, причём с октября 1922 г. по февраль 1924 г. исполнял обязанности его директора. Семейная жизнь учёного сложилась счастливо: жена, Варвара Николаевна, была ему верным помощником, а сын, Лев Борисович, стал достойным продолжателем его дела, завершив недовоплощённые замыслы отца.
Научная же биография Модзалевского богата и разнообразна настолько, что сложно даже обозначить главные её вехи. Что более значимо, более ценно — его ли роль в создании Пушкинского Дома? работа ли по редактированию «Русского биографического словаря», для которого написаны десятки биографий совершенно забытых лиц? издание ли «Дневника» и «Писем» Пушкина — настоящей энциклопедии пушкинского времени? У Модзалевского нет «проходных» работ: практически каждая из более чем шестисот пятидесяти публикаций учёного открывала новые факты, вводила в научный оборот неизвестные документы. И уникальность научного метода учёного заключалось именно в отношении его к документу и факту.
Документ, только что поступивший в архив, можно сравнить с необработанным алмазом. Неизвестно, что прячется под грубой оболочкой, скрывающей истинную его величину и блеск. И только в умелых и бережных руках ювелира алмаз может превратиться в драгоценный бриллиант, только после огранки он явит свою подлинную ценность. Подобно ювелиру действует и учёный-публикатор, главная задача которого — превратить блеклый листок, покрытый зачастую неясными письменами, в печатную страницу, доступную для понимания всем.
Модзалевский работал над публикуемым документом кропотливо и бережно. Выделив из груды неразобранных бумаг стихотворение, письмо, отрывок из дневника, он доносил их до читателя с максимальной заботой об их аутентичности. Являясь противником какого бы то ни было редакторского вторжения в текст, его орфографической модернизации, в предисловии к одной из книг он писал: «Следует сознаться, что орфография главного из корреспондентов <…> — князя Григория Семёновича Волконского, — отличается многими особенностями и значительным своеобразием; но особенности эти, по нашему глубокому убеждению, придают письмам князя нечто оригинальное, необычное, — налагают на них какой-то особый отпечаток, кладут особливый налёт времени <…> Уничтожить или хотя бы сгладить все эти особенности, всё это своеобразие — значило бы фальсифицировать документ, отнять у него особенный, ему присущий аромат, а подлинное лицо писавшего письма человека XVIII века подменить особою редактора начала XX века…»[2]
Но работа учёного над документом не должна ограничиваться его простой перепечаткой. Недостаточно лишь правильно прочитать текст — необходимо ещё правильно истолковать прочитанное, то есть восстановить историко-литературный контекст документа, исследовать обстоятельства его появления, понять, что хотел сказать его автор и о чём умолчал. Как писал полвека назад Марк Блок, «тексты… внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать»[3]. И это умение «спрашивать» было одним из самых сильных сторон Модзалевского-публикатора. Он не только придавал документам блестящую огранку, но и помещал их в соответствующую оправу, где блеск их становился ещё заметнее. Мы имеем в виду исторический комментарий — жанр, которым учёный владел безукоризненно. Пожалуй, главное достоинство комментариев Модзалевского — их соразмерность. Присущее иным учёным желание всуе щегольнуть замысловатой трактовкой или блеснуть эрудицией было ему совершенно чуждо. Борис Львович очень чутко чувствовал границы комментария — где его нужно начать и, что не менее существенно, где закончить. Из тысяч известных ему фактов он кропотливо отбирал именно те несколько десятков, которые необходимо было привести, чтобы не перегрузить работу и не превратить её в бесстрастный паноптикум. Он понимал, что факт, взятый сам по себе, подобен отдельному звену цепи, которое имеет ценность лишь будучи соединённым с другими, сходными звеньями.
Модзалевский был воистину виртуозом факта. «Делом всей его жизни, — писал выдающийся пушкинист Н. В. Измайлов, считавший Модзалевского своим учителем, — было отыскивание новых, по преимуществу архивных, биографических материалов и накопление новых историко-литературных фактов, покоящихся на прочной документальной основе: его можно назвать специалистом-фактографом по призванию…»[4] На протяжении многих лет Борис Львович аккуратно выписывал на небольшие карточки сведения обо всех лицах, встречавшихся в прочитанной им литературе, с точным библиографическим указанием издания, где о них упоминалось. Так возникла огромная (свыше 300 000 карточек) картотека, которая теперь хранится в Пушкинском Доме и является воистину бесценным кладезем фактических данных по истории русской культуры XVIII—XIX вв. Редкому филологу, занимающемуся биобиблиографическими разысканиями, удаётся обходиться без сведений, собранных когда-то учёным.
Модзалевский, как ученик и последователь Л. Н. Майкова, был убеждён, что история литературы не состоит лишь из двух десятков имён и полусотни произведений, которые «проходят» в школе и университете. Собственно говоря, необходимость изучения как можно более широкого «литературного фона» была отчётливо сформулирована к концу прошлого века[5], прежде всего — в трудах самого Майкова. Уже в нашем веке в адрес так называемой эмпирической школы было высказано немало упрёков, как справедливых, так и не очень. Тем не менее «эмпирики», сойдя со сцены, успели сделать главное — их трудами был заложен фактографический фундамент для подлинно научной истории литературы. И среди последователей этой школы Модзалевский занимает одно из самых значительных мест.
Количество опубликованных им за тридцать лет документов огромно. Думаю, их не сможет подсчитать даже самый дотошный библиограф. Благодаря Модзалевскому мы обогатились новыми знаниями о жизни и произведениях И. С. Аксакова, К. Н. Батюшкова, А. А. Бестужева-Марлинского, И. А. Гончарова, А. А. Дельвига, Ф. М. Достоевского, А. М. Жемчужникова, В. А. Жуковского, Я. Б. Княжнина, В. Г. Короленко, В. К. Кюхельбекера, М. Ю. Лермонтова, Л. А. Мея, Н. А. Некрасова, Н. И. Новикова, А. Н. Островского, А. С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова… Перечтите внимательно этот список. Здесь названы только самые известные, самые значительные имена. Чтобы показать истинный масштаб разысканий учёного, попробуем произвести простой математический расчёт. В настоящих сборник включено 12 работ Модзалевского — в указателе к нему зафиксировано около 1300 имён. За всю свою жизнь Модзалевский написал свыше 650 работ, — представьте себе, о скольких лицах упомянуто во всех этих работах…
Мы не абсолютизируем наследие Модзалевского. Наука не стоит на месте: за десятки лет было накоплено множество новых фактов, обнаружены и опубликованы неизвестные ранее документы. Некоторые публикации учёного оказались перекрыты или уточнены более поздними исследованиями. Это частично относится и к работам, вошедшим в настоящий сборник. Но, оставаясь памятником истории научной мысли, они, безусловно, привлекут внимание и современного читателя, интересующегося Пушкиным и его эпохой. В них запечатлелось то, что неподвластно времени, — личность Модзалевского, его удивительно искренняя интонация, лирическое начало, несовместимое, казалось бы, со строго научным жанром. Переверните страницу — и вы окажетесь в другой эпохе, о которой вам будет рассказывать неторопливый и спокойный голос Учёного.
Исследования и публикации
К истории «Зелёной лампы»[6]
Во всех биографиях Пушкина, начиная с «Материалов» Анненкова, рассказывается, более или менее подробно, об участии Пушкина, по выходе из Лицея, в кружке петербургской молодёжи, объединившейся в обществе под названием «Зелёная лампа». Но до самого последнего времени шли споры о характере собраний этого кружка, и лишь работа о нём П. Е. Щёголева[7], окончательно отбросив неправильность легенды об «оргиастическом» направлении «Зелёной лампы», определила на основании делопроизводства Следственной комиссии по делу декабристов истинный характер содружества «лампистов» и их интересы. Ознакомление с документами Следственной комиссии и анализ произведений Пушкина, связанных с «Зелёной лампой» и её членами, дали П. Е. Щёголеву возможность не только высказать «с совершенной достоверностью», что «политический характер по меньшей мере был далеко не чужд общению членов кружка», но и утверждать, что «Зелёная лампа» имела связь с ранним тайным объединением будущих декабристов — «Союзом благоденствия». «Мы лично, — говорит он, — принимаем кружок „Зелёной лампы“ за „вольное общество“ <…> Кружок как бы являлся отображением „Союза“; неведомо для Пушкина, для большинства членов, „Союз“ давал тон, сообщал окраску собраниям „Зелёной лампы“. Пушкин не был членом „Союза Благоденствия“, не принадлежал ни к одному тайному обществу, но и он в кружке „Зелёной лампы“ испытал на себе организующее влияние Тайного Общества. Этот вывод чрезвычайно важен для истории жизни и творчества Пушкина 1818—1820 годов», — справедливо заключает П. Е. Щёголев, добавляя, что «Зелёная лампа», занимавшая лишь пушкинистов, должна привлечь внимание и историков русской общественности, как негласное отделение «Союза благоденствия»[8].
Связь «лампы» с «Союзом» была негласная, и о ней знали лишь члены «Союза», да и то, быть может, не все[9], поэтому внешне главнейшею задачею кружка выставлялось, по показанию самих «лампистов», чтение литературных и, преимущественно, на политические темы произведений. Это «заключение», пишет П. Е. Щёголев, подтверждается и рассказом П. А. Ефремова о протоколах и бумагах «Зелёной лампы», которые ему пришлось видеть у М. И. Семевского. Покойный П. А. неоднократно высказывал пишущему эти строки сожаление, что он не воспользовался в своё время хоть частью этих бумаг. Из этих протоколов и бумаг было видно, что в «Зелёной лампе» читались стихи и прозаические сочинения членов (как, например, Пушкина[10] и Дельвига), представлялся постоянный отчёт по театру (Д. Н. Барковым), были даже читаны обширные очерки самого Всеволожского из русской истории, составленные не по Карамзину, а по летописям[11]. «В этих протоколах, — продолжает П. А. Ефремов, — я видел указание на чтение стихотворения бар. Дельвига: „Мальчик, солнце встретить должно“, неоднократно приписывавшееся Пушкину, и тут же приложено было и самое стихотворение, написанное рукою барона и с его подписью»[12]. Приведя сообщение Ефремова о бумагах «Зелёной лампы», П. Е. Щёголев задавал вопрос: «Найдутся ли они?» и писал: «Я слышал от С. А. Панчулидзева, что в Рябове, имении Всеволожского, хранился в последнее время архив „Зелёной лампы“. Но после смерти владелицы я обращался к её наследнику, г. Всеволожскому, но он сообщил мне, что тоже слышал об этих бумагах, но ровно ничего в Рябове уже не нашёл».
Не можем ничего сказать о судьбе Рябовского архива, и существовал ли он вообще; что же касается бумаг, виденных П. А. Ефремовым у М. И. Семевского, то они (или, вернее, часть их — без протоколов) теперь разыскались — в остатках архива редакции «Русской старины», приобретённых Пушкинским Домом у покойного последнего редактора этого журнала — П. Н. Воронова[13]; описание их и ознакомление с ними читателя и составит содержание настоящего нашего очерка, из которого окончательно и с полною ясностью определится круг деятельности и интересов членов кружка «Зелёная лампа».
Дадим, прежде всего, полистное описание бумаг, которое сразу ознакомит нас с составом их. Отдельных бумаг всего 41; заключены они в обложку из сине-голубой писчей бумаги с водяным знаком 1824 г., с надписью, посредине, чернилами: «Бумаги О. 3. Л.», причём в правом верхнем углу помета, чернилами же: «22 заседания» и тут же — карандашная отметка инвентаря редакции «Русской старины»: «№ 2087». Из листка при пакете видно, от кого и когда бумаги поступили в редакцию: «Опочинин, Фёдор Конст. (СПБ) 2 Февраля 1876 г. Сочинения в стихах и прозе членов литературного Общества „Зелёной лампы“ в начале XIX века»[14]. Внутри обложки бумаги (некоторые из них сильно попорчены тлением), по-видимому, перепутаны и лежат в случайной последовательности, причём, ввиду отсутствия на них дат[15], не представляется возможным определить действительную их последовательность[16]. Мы описываем их в том порядке, в котором нашли их в архиве «Русской старины».
Л. 1: Обложка.
Л. 2—3: Стих. «Задача» (начало: «Люблю весёлость, шум, забавы…») <Я. Н. Толстого>; на бумаге с водяным знаком: А. Гончаров 1818 г.; автограф[17]. Почти дословно тот же текст — в книге: «Моё праздное время, или собрание некоторых стихотворений Якова Толстого», Санкт-Петербург, 1821 (цензурой дозв. 30 апреля 1821), 8°, стр. 96—100.
Л. 4: Стих. «Блеск очей» (зачёркнуто: «Вольный перевод с польского») (нач.: «Приятно алых зорь мерцанье…»), с подп. Ф. Гл. <Ф. Н. Глинка>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1815 г.; сбоку, слева, его пометы: «Сегодня предложить: 1) в почётные В. С. Филимон<ов>а. 2) В корреспонденты А. А. Ивановского»; справа — помета, карандашом, рукою Андрея Афанасьевича Никитина: «Ред. Общ. Одобрено. Никитин»; посредине — № 67 и дата: «1 Апреля 1818». Все эти пометы относятся к заседанию С.-Петербургского Вольного общества любителей российской словесности, в котором Владимир Сергеевич Филимонов и Андрей Андреевич Ивановский как раз с 1818 г. появляются в указанных званиях почётного члена и корреспондента (Месяцеслов на 1819 г. Ч. I. С. 706 и 707).
Л. 5—6: «Репертуар» с 20 апреля по 24 апреля и с 28 апреля по 2 мая 1819 г. <Д. Н. Баркова>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1810 г.; на обороте: «Недельный Репертуар от чл. Баркова».
Л. 7—8: то же, за 18—28 мая 1819 г.; автограф; на такой же бумаге.
Л. 9: Перечень книг по истории, литературе и пр. <писан рукою кн. Сергея Петровича Трубецкого>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 10: «Опыт сравнения Расина с Вольтером» <Д. Н. Баркова>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1810 г.
Л. 11—14: Статья (без заглавия) о Козьме Минине <Я. Н. Толстого>; автограф; водяной знак 1818 г.
Л. 15—21: «Conversation entre Bonaparte et un voyageur anglais»; неизвестного автора и неизвестным же почерком; на бумаге с водяным знаком 1817 г., — такой же, как у Трубецкого (л. 9).
Л. 22: «Басня Орёл и Улитка» <Н. В. Всеволожского>[18]; автограф; на бумаге с водяным знаком 1816 г.
Л. 23—24: «Жизнь князя Игоря» <Н. В. Всеволожского>; на бумаге с водяным знаком 1816 г.
Л. 25: Стих. «Шаррада», неизвестного автора[19] и неизвестным почерком, на бумаге с водяным знаком 1818 г.; при копии этой шарады, в копии 1870—1880-х гг., — статья «Lettre à un ami d’Allemagne sur les sociétés de Pétersbourg».
Л. 26: «Размышление при смерти г-на Б-ва», с подписью: «К. Дмитрий Долгорукой»; автограф кн. Д. И. Долгорукова; на бумаге с водяным знаком 1818 г.
Л. 27—28: Стих. «Фанни. — Члена Дельвига»; писано рукою А. Д. Илличевского; на бумаге с водяным знаком 18… г.; на обороте — им же писанное другое стихотворение: «К мальчику. Члена Дельвига». В третьем с конца стихе:
[Грёзами] наполнив грудь —слово Грёзами перечёркнуто другими, рыжими чернилами и над ним, почерком Пушкина, теми же рыжими чернилами, написано: Бахусом, т. е.
Бахусом наполнив грудь, —как и читается во всех изданиях сочинений Дельвига. Над заглавием, сбоку, карандашом, пометы П. А. Ефремова: «Смирд. стр. 107» и «м… Пушкина у Геннади». На стр. 3 и 4 — карандашные рисунки мужских пяти голов и двух голых тел (сзади и сбоку), очень напоминающие по технике известные наброски-рисунки Пушкина[20]. На стр. 4 чернилами написано неизвестной рукой (может быть Н. В. Всеволожского): «Третие заседание 17 апреля 1819. Председательство члена Улыбышева».
Л. 29—30: Стих. «Завещание» <Я. Н. Толстого>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1816 г; вошло в книжку Я. Н. Толстого «Моё праздное время», стр. 104—108. Из автографа выясняется, кто имеется в виду под шестью точками стиха печатного издания (стр. 106): в рукописи прямо сказано —
О Момий наших дней, Никита Стукодей, —а отсюда следует, что весь данный отрывок этого стихотворения относится к Никите Всеволожскому и к «Зелёной лампе» с её «сынами забавы»:
Простите, Нимфы юны, Прелестницы мои. Беседы коловратны, Напитки ароматны, Шампанского струи; И ты, о чудо наше! О Момий наших дней, Н… Стукодей![21] Твоей огромной чаше Поклон в последний раз… . . . . . . . . . . . . . …шампанской ящик Послужит гробом мне! Не звоны колокольны, Но рюмок громкий стук, Нет, строи сердобольны Не надобны вокруг: Там факел погребальный Горящий будет ром; Трикраты ковш прощальный Обыдет нас кругом… и т. д.На обороте л. 30 почерком Н. В. Всеволожского (?) написано: «Au membre P. Dolgorouky».
Л. 31: «Романс — члена К. Долгорукова» <Дмитрия Ивановича>; автограф.
Л. 32: Стих «Послание к Д. Н. Философову» <Я. Н. Толстого>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1818 г.; вошло в книжку Я. Н. Толстого «Моё праздное время», стр. 33—34.
Л. 33: «Жизнь Ушмовиц»; писано рукою Н. В. Всеволожского; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 34—35: «Жизнь Оскольда или Аскольда и Дира»; писано рукою Н. В. Всеволожского; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 36: Стих, без заглавия (начало: «Тебе хвала и честь и ревностно куренье…») <Токарева Александра Андреевича>; автограф, на бумаге без года.
Л. 37: Хронологический «Список знаменитым людям Российского Государства» — князьям, боярам и епископам, до XII в. вкл.; писан рукою Я. Н. Толстого и составлен по I тому Карамзина. (Начало его см. ниже, на л. 77—78). На бумаге с водяным знаком 1818 г.
Л. 38—39: Стих. «Дафна», бар. А. А. Дельвига; писано рукою поэта Е. А. Боратынского, но подписано самим Дельвигом. На обороте л. 39-го, рукою Боратынского же, надписано: «A Monsieur Monsieur de Vsevolodsky» и сгладившаяся печать; бумага с водяным знаком (18)16 года.
Л. 40—41: Стих. «Элегия» (нач.: «Как былие, в полях сраженно…») <Я. Н. Толстого>; автограф; на бумаге А. Гончарова 1818 г; вошло в его сборник «Моё праздное время», стр. 70—73, с заглавием: «Сетование, во время болезни» и с прямым упоминанием, в рукописи, в стихе 10-м с конца, — «Зелёной лампы» — вместо «Пресветлой лампы» печатного текста.
Л. 42—43: Стих. «Послание к другу», за подписью: X.; неизвестного автора и неизвестным почерком (не Загоскина ли Михаила Николаевича?); на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 44—47: «Олег Правитель»; писано писарем, но скреплено подписью Н. В. Всеволожского: «Сочинял Никита Всеволожской» и с его поправками и приписками; на бумаге без водяных знаков.
Л. 48—51: Статья, без заглавия, о Святославе I Игоревиче; писано рукою Я. Н. Толстого; помета карандашом, «13 заседание»; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 52: Басня «Быль», Д. Н. Баркова, с подписью: «Барков»; автограф; на бумаге без водных знаков.
Л. 53: Басня «Таракан Ритор» <Я. Н. Толстого[22]>; автограф; без водяных знаков.
Л. 54: Стих. «Приговор букве ъ», Д. Н. Баркова, с подписью: «Барков»; автограф; на бумаге с водяным знаком (18)18 г.
Л. 55: «Жизнь актёра Волкова» <Д. Н. Баркова>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1814 г.
Л. 56—62: «Жизнь Великого князя Владимира»; писано Н. В. Всеволожским; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 63—68: «Un Rêve» — статья на французском языке, писанная неизвестным почерком — тем же, что указанная выше (л. 15—21) статья: «Conversation entre Bonaparte et un voyageur anglais»; помета в углу карандашом: «13 заседан.»; на бумаге водяные знаки: «Я. Б. М. Я. 1817».
Л. 69—70: Стих. «К Емельяновке» <Я. Н. Толстого>; автограф; на бумаге без года; вошло в сборник Я. Н. Толстого: «Моё праздное время», стр. 63—65, с некоторыми изменениями.
Л. 71—72: Стих. «Послание к А. С. Пушкину» <Я. Н. Толстого>; автограф, на бумаге с водяным знаком 1814 г.; вошло в сборник Я. Н. Толстого «Моё праздное время», стр. 48—51, с некоторыми изменениями.
Л. 73: «Жизнь Рогнеды» <Н. В. Всеволожского>; автограф, на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 74—75: «Жизнь Ярополка» <Н. В. Всеволожского>; автограф; на бумаге с водяным знаком 1817 г.
Л. 76: Стих. «К Ветерану ***» <Я. Н. Толстого>[23]; автограф; на бумаге без года; с чьими-то поправками.
Л. 77—78: «Список знаменитым людям Российского Государства» — от призвания варягов до XII в. включительно — <Я. Н. Толстоео>; начало того списка, который описан выше, на л. 37.
Л. 79: «Сонет на тленность земных вещей» А. А. Токарева; автограф, на бумаге без года, с подписью: «А. А. Токарев».
Л. 80: Стих. «Юной красавице, с французского, подражание Парни», с пометой карандашом: «Члена Толстого», т. е. Я. Н. Толстого; автограф, на бумаге без года; вошло в сборник его «Моё праздное время», стр. 82—84.
Л. 81: Стих, с оторванным заглавием и началом 1-го стиха, писано неизвестной рукой, на бумаге с водяным знаком 1817 г., с авторскими поправками:
[Бог Солнца?] часто оставляет Свой двухолмистый Геликон…[24]* * *
Из приведённого описания и из ознакомления с самым материалом можно сделать несколько небезынтересных выводов о «Зелёной лампе». Прежде всего — относительно её личного состава. До сих пор было известно двадцать членов кружка[25]; теперь мы можем прибавить к ним ещё одного участника «Зелёной лампы», и притом активного, — князя Дмитрия Ивановича Долгорукова. Четвёртый сын известного поэта и автора обширных замечательных «Записок и воспоминаний кн. Ивана Михайловича Долгорукова» (род. 1764, ум. 1823)[26], он родился 10 августа 1797 г., воспитывался дома, а службу начал 19 января 1816 г. канцеляристом в Московском губернском правлении; затем 11 июня 1817 г. перешёл, в том же звании, в канцелярию Департамента государственных имуществ (тогда — в составе Министерства финансов), а 2 июня 1819 г. перевёлся в ведомство Коллегии иностранных дел. В годы службы своей в Петербурге Долгоруков, естественно, вращался в кругу тогдашней великосветской молодёжи и легко попал в кружок «Зелёной лампы», о принадлежности своей к которой он оставил собственное показание: в 1826 г., по поводу дошедших до него в Рим (где он тогда служил при нашем посольстве) слухов о разысканиях Следственной комиссии по делу декабристов, он писал своему брату: «Знаешь, что в Петербурге не на шутку разыскивают общество „Зелёной лампы“, членом которого я состоял семь лет тому назад» (письмо от 9 апреля 1826 г.), причём прибавлял: «Это потому, что и Трубецкой был членом этого общества»[27]. Как видим, Долгоруков определял время своего пребывания в кружке 1819 г., к которому относятся и наши бумаги; в них находятся два его собственноручно писанных стихотворения: «Размышление при смерти г-на Б-ва» и «Романс» — пиесы весьма невысокого качества, свидетельствующие лишь о любви автора — несомненно наследственной — к стихотворным упражнениям: обе они переносят нас к образцам ещё XVIII в. и служат доказательством того, что сын вырос на чтении произведений своего отца, Нелединского-Мелецкого и других поэтов того же типа, но ещё неискусен в стихотворчестве и пользуется старыми образцами; читать его стихи рядом с такими произведениями, как оглашавшиеся в «собраниях» «Зелёной лампы» стихотворения Дельвига и, вероятно, Пушкина, просто досадно. Приведём здесь «Романс» Долгорукова: он всё же лучше его бледного, риторического «Размышления».
РОМАНС Не шути, мой ангел милой, — Век недолог для меня; Он не будет там унылой, Где с тобой увижусь я. Быстро в горести жестокой В жизни сей часы летят И в земле сырой, глубокой Мёртвые спокойно спят. Там все горести земные Для меня угаснут вдруг, Там кружатся сны младые, — Не жалей меня, мой друг! Кто с печалями сдружился, Для того сей в тягость свет; Кто несчастливым родился — Для того надежды нет. Я умру для жизни новой С образом твоим в очах, Сброшу бедствия оковы С именем твоим в устах. К. ДолгорукойМежду тем Долгоруков считал себя «поэтом в глубине души»[28] и был человек с несомненным изящным вкусом и с большим и широким образованием: об этом наглядно свидетельствуют хотя бы его письма к отцу и к брату из Константинополя, Турина, Неаполя, Рима, Флоренции, Мадрида и других городов, в которых в 1820—1826 гг. ему приходилось бывать по службе при наших миссиях и посольствах; письма его живы, разносторонни, остроумны, в высокой степени литературны и читаются и теперь ещё с большим интересом[29]; в некоторые письма включены описания осмотренных Долгоруковым замечательных местностей и зданий; иногда внесены в них и стихи, — например, «Камин» (Рим, 1822)[30], «Видение при Тивольском водопаде. Посвящено М. А. Нарышкиной, во время пребывания её в Риме» (1822)[31], «Михайле А. Дмитриеву» (Мадрид. 1826)[32]… Занятий стихотворством он не оставлял и впоследствии, в течение всей своей жизни и службы — в Лондоне, Гааге, Неаполе, снова в Константинополе и, наконец, в Тегеране, где он был с 11 июня 1845 г. до 20 марта 1854 г. посланником; 23 марта 1854 г. он был назначен сенатором в московские департаменты Сената и умер в Москве 19 октября 1867 г. В 1857 и 1859 гг. Долгоруков издал два сборничка своих стихотворений, под заглавием «Звуки»; в них вошло: в первое издание (выпущенное без имени автора, не для продажи и в весьма ограниченном количестве экземпляров)[33] — тридцать три пьесы, а во второе (уже с именем автора) — те же пьесы, но с прибавлением двадцати шести новых, — всего пятьдесят девять. Эти произведения, на разнообразные темы («Москва», «Завещание», «Отчий дом», «Детство», «Четыре времени года», «Мечты», послания к разным лицам и т. п.), по технике несколько выше ранних опытов Долгорукова, не лишены и чувства, и мысли, но всё же не возвышаются над скромною посредственностью. Эпиграфом к своим книжкам Долгоруков поставил слова:
Пою не по наследству лиры, Но муз, без спроса их, любя, —а в виде вступления или предисловия привёл стихи свои:
Зачем писал я? Это знает Мой демон. По словам Платона, У каждого из нас есть свой: Кто любит женщин; кто охотник За картами губить свой век. Мне милы гордые Камены И сладок лир волшебный звук.Автобиографических черт в стихотворениях Долгорукова мало, хотя есть кое-какие воспоминания об отце, о детстве; о Пушкине Долгоруков не обмолвился в своих стихах нигде ни словом; а между тем он был с ним знаком довольно близко, по крайней мере поэт однажды вспомнил о нём в письме к С. И. Тургеневу, константинопольскому сослуживцу Долгорукова, — от 21 августа 1821 г., из Кишинёва: здесь Пушкин тогда встречался со старшим братом Долгорукова, князем Павлом Ивановичем Долгоруковым, служившим в 1821—1822 гг. в Кишинёве[34] членом Попечительного комитета о колонистах Южного края России, председателем которого и в то же время главным попечителем был известный И. Н. Инзов[35].
Из других членов «лампы» мы узнаем нечто новое об А. А. Токареве[36], — деятельном члене «Союза благоденствия», умершем в 1821 г., — а именно, знакомимся с двумя его стихотворениями: шутливою похвальною одою табаку и «Сонетом на тленность земных вещей»; обе пьесы — сатирического содержания и свидетельствуют о том, что автор недурно владел стихом (его сонет написан вполне правильно) и был человеком, не лишённым остроумия. Вот эти стихотворения:
I Тебе хвала и честь и ревностно куренье: Тебе я приношу сие стихотворенье, О сладкий аромат, о благовонный злак, От скуки верный щит, возлюбленный табак! Расти и процветай; плодись и умножайся; Крошися в картузы; в сигары завивайся, Во трубках без числа как Вестин огнь пылай И облаком густым до потолка взлетай. Желает славы сей, достойно заслуженной, Тебе любитель твой, тобою восхищенной. И в самом деле: что невинней может быть, Приятнее для нас забавы сей — курить? Любовь, сокровища, вино и жажда славы Давали тысяче рождение бедам, Ввергали в горести и развращали нравы, — Табак же никогда не делал зла людям. Что, если б смертные от скуки и печали Не к картам, не к вину, но к трубкам прибегали, — От скольких ссор и слёз, от скольких лютых бед Премудрым средством сим избавлен был бы свет! Антитабашницы, несправедливо злые, О слабые носы, о головы больные! Умолкните же вы, не смейте порицать Ту вещь, которую мир должен уважать. Расти ж, цвети, табак, плодись и умножайся, Крошися в картузы, в сигары завивайся, Во трубках без числа как Вестин огнь пылай И дымным облаком до потолка взлетай! II СОНЕТ НА ТЛЕННОСТЬ ЗЕМНЫХ ВЕЩЕЙ Гробницы гордые Египетских царей, Колосс, до облаков касавшийся главою, Дедалов лабиринт, бесценный мавзолей, Сады, висевшие над чудною стеною. Эфесский дивный храм, огромный Колизей, Гигантский, грозный конь, в погибель ввергший Трою Родивши целу рать утробою своей! Свидетельствуете вы власть времён собою! И ваши устоять твердыни не могли, Попрали веки вас и ветры разнесли: Сатурну всё должно на свете покоряться… Коль мира ж чудеса как сельный гибли злак, То мне возможно ли роптать и удивляться, Что продрался и мой на локте старый фрак!Узнаем мы и характер упражнений в «Зелёной лампе» Н. В. Всеволожского, главного деятеля кружка, дававшего ему приют в своём богатом доме и щедро угощавшего своих друзей после заседаний. Вопреки приведённому выше указанию П. А. Ефремова, будто бы Всеволожский читал в собраниях кружка свои обширные очерки из русской истории, составленные не по Карамзину, а по летописям, — мы видим теперь, что это были вовсе не обширные очерки, а лишь краткие компиляции ученического типа, составленные не по летописям, а именно и лишь по «Истории государства Российского» Карамзина; только статеечки об Яне Усмошвеце и о Козьме Минине скомпилированы из каких-то других книг[37]. Так, по сличении с текстом «Истории» Карамзина, оказывается, что очерк «Аскольд и Дир» почти дословно, с некоторыми лишь сокращениями, выписан из глав 4 и 5 тома I «Истории»; «Олег» — из главы 5 (есть прямая ссылка на Карамзина), «Святослав Игоревич» — из главы 7, опять-таки со ссылкой на Карамзина; «Жизнь в. к. Владимира» — из главы 9; «Жизнь Рогнеды» — из главы 8; «Жизнь Ярополка» — оттуда же; «Жизнь князя Игоря» — из главы 6; наконец, «Список знаменитым людям Российского Государства» составлен, несомненно, также лишь по I и II томам «Истории» Карамзина. По ничтожеству этих статеек мы не приводим здесь ни одной из них, предпочитая сообщить единственный стихотворный опыт Всеволожского, сохранившийся в бумагах «Зелёной лампы», так как о деятельности Всеволожского, как стихотворца, до сих пор ничего не было известно. Вот его басня «Орёл и Улитка», не лишённая некоторых либеральных ноток и политического оттенка:
ОРЁЛ И УЛИТКА Сидевши дуба на вершине, Пернатых царь Орёл, Не знаю по какой причине Собрать совет свой повелел. Но в том и нужды нет для нас. Войну ль Орёл предпринимает, Иль с Министерством в добрый час Ворон и Кречетов сгоняет. Но вот совет собрался И каждой потакать Царю Орлу старался (Читатель всякой знает сам, Что кто ж не льстит своим царям?) Не знаю, что в совете трактовали: Иль соколов за храбрость награждали, Иль разорённым от стрелков, Лишённым гнезд, детей, отцов По силе помощь подавали, Иль подати со птиц нещастных убавляли, — Для басни нужды много нет, Воздушный делал что совет. Но вот Орёл, имея зоркий взгляд, С вельможами другими в ряд, Улитку под листом увидел близь себя: «Как бог занёс тебя?» Спросил её пернатых Царь: «Зачем ты здесь и что за тварь?» — Из пресмыкающих я, жительница тины. «Но как могла дойти ты дуба до вершины?» А та в ответ Царю дала: Я доползла. — Нередко и с людьми примеры те ж бывают, Что многие ползком к вершине доползают.Затем выясняется характер участия в заседаниях «Зелёной лампы» Дмитрия Николаевича Баркова[38]. Страстный театрал, сам переводчик для театра, он, как правильно сообщил ещё П. А. Ефремов, в заседаниях «лампы» обнаружил интерес исключительно к театру, делая доклады о спектаклях на петербургских сценах — драматической и оперной. К сожалению, в сохранившихся бумагах «лампы» оказалось лишь три кратких сообщения Баркова — о репертуаре за части апреля и мая 1819 г. Мы приводим их здесь полностью, как образчик несложных суждений и отзывов тогдашнего типичного любителя-театрала о злободневных событиях сцены, о пьесах и об игре актёров. Сопоставление данных статьи Баркова с «Летописью Русского театра» П. Н. Арапова (с. 274—276) и особенно с подробными и точными репертуарными записями А. В. Каратыгина за 1819 г., хранящимися ныне в Пушкинском Доме (в собрании архива «Русской старины»[39]), показывает, что первая заметка Баркова касается репертуара с 20 по 24 апреля, вторая — с 28 апреля по 2 мая, а третья — с 18 по 28 мая 1819 г.
Вот эти записи.
I
РЕПЕРТУАР
Воскресенье <20 апреля 1819 года>[40]. Скупой. Комедия в 5 действиях Мольера.
Содержание и красоты сей пьесы известны всем. Прекрасная и трудная роль Гарпагона сыграна г-м Величкиным лучше, нежели можно было ожидать. Жаль, что сей актёр, имеющий много способностей для ролей гримов, не может расстаться с любимыми своими ролями шутов и дураков; дурной вкус и невежество, без сомнения, тому причиною, и потому я нахожу, что он менее виноват, нежели его начальники, которые не заставляют его поумнеть.
Цыганской табор. Сбор разных песен и плясок, довольно дурно устроенный. Несравненная наша танцовщица г-жа Колосова, скрасила цыганской табор прелестной русской пляской и помирила нас с сим бенефисным уродом.
Понедельник. <21 апреля>. Водовоз. Опера в 3-х действиях. Музыка Херубини.
Трудная и прелестная музыка сей оперы много обезображена нашими певцами. Вообще вся опера (кроме г. Самойлова) играна дурно. Нельзя без смеху слышать, что г-жу Сандунову называют 18-летней Маркелинушкой.
Вторник. <22 апреля>. Притворная неверность. Комедия в 1-м действии, перевод с французского Грибоедова и Жандра. Молодые супруги. Комедия в 1-м действии, подражение французскому г-на Грибоедова, и Пурсоньяк, водевиль в 1-м действии. Первые две пьесы давно известны: «Притворная неверность» переведена и играна прекрасно, кроме г-на Рамазанова, который довольно дурно понял свою роль. «Молодые супруги», подражание французскому «Secret de Ménage», имеет очень много достоинства по простому, естественному ходу, хорошему тону и многим истинно комическим сценам, — жаль, что она обезображена многими очень дурными стихами. Г-жа Колосова-меньшая занимала во 2-й раз роль Эльвиры и восхищала своей прелестной, непринуждённой игрой. Казалось, она забыла, что была на сцене. Г-н Сосницкой ролью Ариста давно заслуживает всеобщую похвалу.
«Пурсоньяка» в новом виде (переведён с французского К<нязем> Ш<аховским>) играли во 2-й раз. — Вот его содержание: полковник Суражев, командир гусарского полка, выдаёт дочь свою, немножко ветреную, но добрую и милую девушку, за сына своего приятеля Евтиха Гурыча Хрустилина — Евграфа Евтихыча; они видали будущего своего зятя ещё ребёнком, а Любушка никогда его не видала. Двое из офицеров влюблены в Любушку, — и все без исключения её любят за доброту и любезность, и потому они ни за что не хотят с нею расстаться и сговорились выдать её за адъютанта Аслова (?)… а жениха, которого страшное имя не обещает ничего, кроме деревенского олуха, одурачить, как Пурсоньяка Фалалея и… отправить обратно в Рыльск. Поджидая скорого прибытия Хрустилина — жениха, они отправились все наряжаться и поручили Марусе, Любушкиной крестнице, принять жениха, если он между тем приедет. Хрустилин приезжает; вместо деревенского олуха Маруся видит прекрасного мущину в гусарском мундире и потому принимает его за гостя, которого офицеры ожидают из Москвы, и рассказывает ему про все проказы, которые против него затеяли. Хрустилин желает отомстить честь Рыльского помещика; Хрустилин притворился в самом деле дураком и в сём виде напугал до смерти Фитюлькина, хозяина дома, где штаб-квартера, поссорил его с женой, которая взялась играть роль оставленной любовницы из Пурсоньяка, — одурачил всех затейников, вскружил голову Любушке и открылся ей прежде всех, что он не тот, кем кажется. Наконец всё дело открылось, и Хрустилин, на зло целому полку — женился на Любушке. Роль Хрустилина играл г-н Сосницкий очень хорошо, нельзя было не дивиться ему в этот день — он играл в 1-й раз три совершенно различные роли и все выдержал как нельзя лучше. Актриса, игравшая роль Любушки, и дурной выбор музыки много портят этот прекрасный водевиль. — Сцена Любушки с Марусей (которая также играла и пела незавидно) слишком длинна или по крайней мере кажется таковою от двух скучных и дурно петых романсов, — ето же (?) много холодит пьесу. Г-да гусары много без пользы кричат и не знают своих ролей.
Желательно, чтобы все эти недостатки были исправлены — тогда водевиль много выиграет.
Среда <23 апреля>. Ромео и Юлия. Опера в 3-х действиях.
Это одна из немногих опер, которые идут на нашем театре хорошо. — Г. Самойлов в роли Ромео бесподобен. Г-жа Семёнова, не будучи большой певицей, поёт довольно приятно и украшает роль Юлии прелестной игрой и наружностью — Капулет мог бы быть лучше. Прочие роли незначущи.
Четверг. <24 апреля>. Сущий бес, или Вдруг три свадьбы. Комедия в 5 действиях. Соч. Коцебу.
На немецком языке она названа «Пажеские шутки». — Министру полиции[41] показалось неблагопристойно выводить пажа писцом и потому в силу данной ему неограниченной власти, перекрестил его в студента. — И так, этот студент, или паж, приезжает в каникулы в отпуск к своему дяде и опекуну и бесится разным образом. У дяди есть три взрослые дочери, у каждой есть по жениху — и все поручики; студент, приехав, вскружил сестрицам головы, и они отказали бедным поручикам.
II
Понедельник. <28 апреля>. Весталка.
Г-жа Семёнова превзошла всеобщее ожидание в роли Юлии — даже пела лучше, нежели можно было надеяться. В минуту, когда снимали с неё священное покрывало, она была очаровательна и могла служить прелестной моделью для Магдалины. Публика к удовольствию своему видела разницу между прежней весталкой и настоящей. Г-н Самойлов по причине болезни играл и пел хуже обыкновенного. Все прочие играли недурно. Г-н Климовский пел прекрасно.
Вторник. <29 апреля>. Дмитрий Донской.
Я не стану судить о самой трагедии. Всем известны её красоты и недостатки. Сюжет, без сомнения, удержит её навсегда на русском репертуаре. Что сказать про игру актёров? Собор князей, бояр и воевод был очень нехорош. Даже г-жа Семёнова совсем не удовлетворила ожиданию публики, привыкшей видеть в ней совершенную актрису. К чему это приписать? вероятно, пословице: и трезвый с пьяными охмелеет.
Воздушные замки. Комедия в 1-м действии, подражание Coll<in> d’Harlev<ille>, г-на Хмильницкого.
Презабавная маленькая комедия, писанная прекрасными стихами. Многие недовольны тем, что не является на сцену настоящий граф, ожидаемый Аглаею. С моей стороны я нисколько этим не огорчён. Бог с ним! Какая зрителям до него нужда! Если он хорош, тем лучше для вдовы, если дурен, ништо ей: не занимайся пустяками.
Многие находят неестественным, что все лица комедии строят воздушные замки, а мне кажется, что именно это-то и забавно и очень и естественно. Я уверен, что по крайней мере 4-я часть зрителей прежде, нежели приехать в театр, занималась тем же. Иные утверждают, что комедия без конца, потому что вдова невыходит замуж, — не беспокойтесь! она выйдет за графа, которого ждёт, — жаль только, что мы не будем на свадьбе, как обыкновенно во всех комедиях. Одна привычка заставляет нас желать подобной развязки — большая часть Мольеровых комедий совершенно без конца.
Г. Сосницкий в роли мичмана и Рамазанов в роли Виктора — прекрасны.
Среда. <30 апреля>. Павел и Виргиния. Опера в одном действии, сделанная из известной повести Ст. Пьера, музыка довольно приятная. Опера играна не дурно.
Пятница. <2 мая>. Глухой, или Полной трактир. Комедия в 3-х действиях.
Дурной перевод с французского, игранный довольно дурно и не твёрдо выученной.
Арестант. Опера в 1 действии, перевод с французского. Музыка де-ла-Мария очень приятная.
Г-жа Семёнова играла роль Розины прелестно, — прочие не знали своих ролей. Г-жа Сандунова и Климовский пели хорошо.
Леон и Тамаида. Балет в 1 действии. Соч. Дидло.
Прекрасный сей балет был испорчен г. Глушковским, который чрезвычайно неприятен тем больше, что занимал роль Антонина. Г-жа Лихутина в роли Тамаиды была, как везде, прекрасна.
На обороте: «Недельный репертуар от чл. Баркова».
III
РЕПЕРТУАР
Воскресенье. <18 мая>. Виктор, или Дитя в лесу. Драма в 3 действиях неутомимого Пиксерекура.
Гостинодворская публика приучила актёров выбирать для бенефисов подобные пьесы. Не нужно говорить о нелепости плана и хода драмы. До сих пор она была сносна сражениями, но последний раз и они не удались.
Понедельник. <19 мая>. Молодые супруги. Комедия в 1 действии.
Два слепых в Толедо. Опера в 1 действии, украшенная приятной музыкой Моноля, и Молодая молочница — приятный маленький балет г-на Дидло…[42]
Вторник. <20 мая>. Во второй раз Урок мужьям и балет Калиф Багдадской, — который, как и все почти балеты Дидло, хорош.
Среда. <21 мая>. Эсфирь, трагедия Расина, переведённая с французского П. А. Катениным.
Многим не нравится перевод сей пьесы; у всякого свой вкус, — по моему мнению, дай бог таких побольше! Г-жа Колосова играет роль Эсфири лучше, нежели все другие[43]; вообще трагедия идёт недурно. Комедия Ссора, или Два соседа Кн. А. А. Ш<аховского> давно уже забавляет публику, и все знают её достоинства.
Четверг. <22 мая>. Ромео и Юлия. Опера.
Г-жа Семёнова играла роль Юлии хорошо, но пела хуже, нежели когда-нибудь. Г. Климовский играл, как безграмотный, — и, если можно так сказать про императорского актёра, — был, кажется, навеселе.
Пятница. <23 мая>. Почтовой дом, довольно смешная, но не имеющая истинного достоинства комедия в 1-м действии, и Рауль и Креки новый большой балет, соч. Г. Дидло.
Если бы не грешно было разбирать строго балеты, то, конечно, в нём нашлось бы много недостатков и даже нелепостей; нельзя, однако ж, не согласиться, что в балете сём есть вещи истинно прекрасные, особенно 2-е действие нравится красотою разнообразных групп и танцев.
Вторник. <27 мая>. Грубый любовник. Комедия в 3 действиях Монвеля, перевод с французского.
Г-н Брянский, занимающий главную роль, т. е. грубого любовника, читал хорошо, но не умел своею грубостью смешить зрителей, что составляет главное достоинство сей роли. Г. Рамазанов сказал свой рассказ о пощёчине недурно — прочие… бог с ними.
Балет Зефир и Флора мало кому нравится, однако ж от этого нельзя отнять у него достоинства: группы прелестны.
Среда. <28 мая>. Лодоиска. Опера в 3 действиях.
Опера сия никогда не надоедала так зрителю, как сегодня, — она была играна и пета очень незавидно. Козак Стихотворец, водевиль кн. Шаховского, слишком известен каждому, — говорить о нём я считаю лишним.
Далее из сообщений Д. Н. Баркова сохранилась его наивная заметка: «Опыт сравнения Расина с Вольтером», любопытная, однако, обращением к членам общества «Зелёной лампы» с просьбою о критике этого немудрёного «опыта».
ОПЫТ СРАВНЕНИЯ РАСИНА С ВОЛЬТЕРОМ
Не имев ни довольно познаний, ни доверенности в учёном свете, я никогда не позволил бы себе писать о таком важном предмете, если б не писал для братского общества. Много буду благодарен любезным членам общества 3<елёной> Л<ампы>, если они возьмут на себя труд показать мне мои ошибки и пополнить то, чего, по их мнению, недостаёт. С сей только надеждой я приступаю к делу.
Вольтер и Расин в одни почти лета вступили на трудное поприще театра и доказали, что ни о чём не должно судить по началу. Первый опыт Вольтера был несравненно блистательнее, нежели Расина. Вольтеров Эдип, несмотря на сухость первого действия и нелепость эпизодного лица Филоктета, без сомнения превосходит Расинову Фиваиду даже в отношении к слогу; но со всем этим Вольтер обязан успехом своей трагедии не столько собственным дарованиям, как веку и обстоятельствам. Расин начал писать тогда, как язык не был ещё совершенно обработан; он не имел других образцов, кроме нескольких трагедий Корнеля, в коих есть, без сомнения, красоты неподражаемые, но кои в рассуждении целого очень далеки от совершенства трагедий Расиновых. Вольтер же, напротив, имел учителями и Корнеля, и Расина, писал языком, обогащённым образцовыми, изящными произведениями. Оба они подражали грекам, с той, однако, разницей, что Расин менее пользовался Еврепидом, нежели Вольтер Софоклом, и в доказательство сего он тотчас упал, как скоро оставил своего учителя; последовавшая за Эдипом Артемора писана слабым прозаическим слогом и по справедливости освистана. Напротив, Александр Расинов доказывал уже если не хорошего трагика, то по крайней мере поэта; не будучи совершенной трагедией, Александр может по справедливости назваться хорошей стихотворной пьесой. Неоспоримо, что Расин заблуждался, подражая Корнелю, тогда как должен был следовать собственному гению, — но он скоро увидел свою ошибку, и Андромаха служит тому доказательством. Вольтер, переименовав Артемору в Мариамну, исправил в ней слог, отдал на театр и опять был освистан. Итак, Расин на 28 году был уже хорошим трагиком, а Вольтер в 30 лет ещё колебался на сцене. Опечаленный неуспехом, он поехал с горя в Англию, что ему послужило в пользу: он познакомился с английскою словесностью и научился заменять гением их стихотворцев недостаток собственного дарования; но, не имея хорошего вкуса и точного о вещах понятия, он не умел и сим воспользоваться и занял их погрешности: он научился делать романические сцены и положения, несогласные с рассудком.
Следующую заметку Баркова (по-видимому, незаконченную) — о «первом актёре» Волкове — надлежит отметить как одну из ранних попыток напомнить о заслугах этого замечательного деятеля-самородка.
ЖИЗНЬ АКТЁРА ВОЛКОВА
Фёдор Григорьевич Волков, купеческий сын, родился в Ярославле 1729 года февраля 9 дня. Он был первым основателем и актёром правильного национального театра в России, несмотря на то, что ещё при царе Алексее Михайловиче существовала уже в России труппа актёров, ибо она была выписана по указу царя из немецкой земли и, стало быть, играла по-немецки. Хотя в записках об Русском театре и сказано, что люди у боярина Матвеева, обучаясь у Немцев, играли вместе с ними комедию, но как и на каком языке, не помянуто, и по всем вероятиям заключить должно, что они употреблялись в балетах, в оркестре для выходов, для ролей без речей и т. п. Во время малолетства Петра I в Заиконоспасском монастыре представлялись духовные трагедии и переведённые с французского языка комедии, как то: Врач поневоле и проч. Царевна Софья Алексеевна сама сочиняла трагедии и представляла их в теремах своих с придворными.
В 1701 году Петр Великий выписал из Данцига труппу, состоящую из 9 человек под начальством Куншта, который был вместе и автором игранных тогда пиес, и актёром.
Он обучил 12 человек русских из приказных и посадских людей, и к торжественному шествию Петра в Москву после победы над Шведами было приготовлено аллегорическое представление.
Приведём, наконец, басню Баркова «Быль» и его же остроумную шутку в стихах о букве Ъ; с этою буквою издавна вёл борьбу Дмитрий Иванович Языков, впоследствии непременный секретарь Российской академии (1835—1841) и академик Академии наук (1841—1845), издавший без «еров» две книги: «Влюблённый Шекспир. Комедия Дюваля», перевод с французского (СПб., 1807), и «Сравнения, замечания и мечтания, писанные в 1804 г. во время путешествия одним русским. Перевод с немецкого» (СПб., 1808); отрывок из «Сравнений», под заглавием: «Он должен быть профессором», также без «еров», появился ещё в «Северном вестнике» (1805. Ч. 8). Языкова за его борьбу с Ъ осмеял, как известно, ещё Батюшков в 1809 г. в своём «Видении на берегах Леты»:
…я целу ночь и день Писал, пишу и вечно буду Писать все прозой без еров…[44] БЫЛЬ Повесин на лошадь сердился, — Сердилась лошадь на него; И конь, и всадник утомился, Да пользы мало от того. И верно этот спор надолго б продолжился, Когда б Повесина сосед Не ехал мимо на обед И в спор столь жаркой не вступился. «За что так сердишься? Чем виноват гнедой, Твой верный конь, перед тобой?» Сказал проезжий мой упрямому соседу. — Хм! не досадно ли! вот с места час не съеду, Уж лошадь! — «И мой друг! Не стыдно ль спорить с ней: Ну, слезь и докажи, что ты её умней!» Барков ПРИГОВОР БУКВЕ Ъ Ер, буква подлая, служащая хвостом, Полезла на Парнас, писать стихи пустилась; В журнале завладеть изволила листом И всех на нём бранить решилась, Судить, Рядить, — Ну, словом, хочет умной быть, Конечно, буква ер взбесилась, Ну, право, надо взять с Языкова пример И уничтожить букву Ъ. БарковС особенным интересом, наконец, надлежит отметить в наших бумагах след участия в собраниях «лампы» кн. Сергея Петровича Трубецкого, будущего известного декабриста[45]; по его собственному показанию, данному Верховной следственной комиссии, он недолго был членом «лампы» — «не более двух месяцев перед отъездом в чужие краи в 1819 году»[46], а уехал он в июне этого года, — следовательно, его участие в собраниях могло быть лишь в апреле — мае месяцах, к которым, следовательно, и относится сообщаемая ниже записка Трубецкого (принадлежность её Трубецкому мы определяем по почерку), содержащая перечень книг и сочинений, рекомендованных им, для чтения и изучения, более, чем он, молодым и менее политически образованным сочленам. В перечне Трубецкого мы находим «Историю» Карамзина, Летописи, Историю Российской иерархии, то есть, — главнейшие книги по вопросам русской истории — духовной и светской, — биографические словари и сборники, монографии о Суворове, о Петре Великом, Записки Манштейна, Путешествия Олеария и Герберштейна, — вообще источники для познания отечественной истории; особенно любопытным представляется нам указание на рекомендацию Четьи Миней. Иностранные книги приведены, вероятно, как параллель к таким же русским изданиям, — для сравнительного изучения. Как известно, будущие декабристы были настроены весьма патриотично и считали необходимым развитие в себе и в других национального чувства. Вот этот список, писанный собственноручно С. П. Трубецким:
1. Dictionnaire Universel par une Société des Savants français, 20 vol.
2. Conversations-Lexicon.
3. Опыт Словаря Исторического.
4. Пантеон Российских писателей.
5. Российское баснословие Попова.
6. Российская Иерархия, 2 части.
…………………… Я. Орлова.
7. Русской Вестник С. Глинка с 1808.
8. Дееписание Славных мужей царствования Петра I, 2 части.
9. Древняя Российская Вивфлиофика.
10. История Суворова, Фукса.
11. Деяния Петра Великого.
12. Жизни в особенности Знаменитых мужей разных сочинителей.
13. Манштейновы Записки.
14. Жизнь Петра Великого, Феофана Прокоповича.
15. Вообще летописи и Истории Российские.
16. Dictionnaire de Moncry.
17. Вообще иностранные Лексиконы и Истории.
18. Записки Знаменитых путешественников по России, как то Олеария, Герберштейна и т. п.
19. Периодические издания, где помещены жизнеописания сл<авных> муж<ей> Рос<сийских>.
20. Gallerie militaire.
21. Чети Минея.
22. Церковная История Митрополита Платона.
23. Драматический Вестник.
24. Карамзина История.
25. Дух[47].
Участие в собраниях «Зелёной лампы» барона А. А. Дельвига выразилось, судя по нашим бумагам, лишь в чтении трёх его стихотворений: «Фанни», «К мальчику» и «Дафна»; второе и третье стихотворения вошли уже давно в издания сочинений Дельвига, но, как было указано выше, в пьесе «К мальчику» любопытно отметить важную редакционную поправку Пушкина и некоторые варианты, а про «Дафну» следует сказать, что она хотя и известна в печати, под заглавием «Первая встреча»[48], но с пропуском двух строф и с некоторыми вариантами; кроме того, надлежит отметить, что писано стихотворение рукою Боратынского, тогда (1819 г.) сожителя Дельвига; наконец, пиеса «Фанни» — эта изящная «Горацианская ода» — стала известна лишь недавно, по публикации М. Л. Гофмана в альманахе Пушкинского Дома «Радуга» (Пб., 1922. С. 39—40) и в его же книжке «Дельвиг. Неизданные стихотворения» (Пб., 1922. С. 50 и 125), с любопытным комментарием, объясняющим III строфу 4-й главы «Евгения Онегина»[49], и в двух редакциях — первоначальной и окончательной; текст бумаг «Зелёной лампы» занимает, по-видимому, среднее место, то есть даёт вторую редакцию. Приводим текст всех трёх пиес Дельвига.
ФАННИ Члена Дельвига Мне ль под оковами Гимена Всё видеть то же и одно Моё блаженство — перемена, Я дев меняю, как вино. Темира, Дафна и Лизета Давно, как сон, забыты мной, И их для памяти поэта Хранит лишь стих удачный мой. Чем девы робкой и стыдливой Неловкость видеть, слышать стон, Дрожать и миг любви счастливой Ловить её притворной сон, — Не слаще ль у прелестной Фанни Послушным быть учеником, Платить любви беспечно дани И оживлять восторги сном. К МАЛЬЧИКУ Члена Дельвига Мальчик, солнце встретить должно С торжеством в конце пиров: Принеси же осторожно И скорей из погребов Матерь чистого веселья, Влагу смольную вина, Чтобы мы, друзья похмелья, Не нашли в фиале дна. Не забудь края златые Плющем, розами увить: Весело в года седые Чашей молодости пить, Весело хоть на мгновенье, Бахусом[50] [Грёзами] наполнив грудь, Обмануть воображенье И в былое заглянуть. ДАФНА Мне минуло шестнадцать лет, Но сердце было в воле; Я думала, что целый свет Лишь бор, поток и поле… К нам юноша пришёл в село. Кто он? отколь? — не знаю, Но всё меня к нему влекло, Всё мне твердило — знаю. Его кудрявые власы Вкруг шеи обвивались, Как злак сияет от росы, — Сияли, рассыпались; И взоры пламенны его Мне что-то изъясняли; Мы не сказали ничего, Но уж друг друга знали… Как с розой ландыш, бел он был, — Милее не видала; Он мне прилежно говорил, Но что? — не понимала. Куда пойду — и он за мной, Мне руку пожимая, Увы! и ах! твердил с тоской, От сердца воздыхая. «Что хочешь ты?» — спросила я: «Скажи, пастух унылый». И обнял с жаром он меня И тихо назвал милой… И мне б тогда его обнять, Но рук не поднимала: На груди потупила взгляд, Бледнела, трепетала. Ни слова не сказала я… За что ж ему сердиться? Зачем оставил он меня И скоро ль возвратится? ДельвигДеятельнейший член «Зелёной лампы» — Я. Н. Толстой — большую часть своих стихотворений, читанных на собрании кружка, напечатал в 1821 г. в сборничке «Моё праздное время»[51]; не вошли в него лишь риторическое и растянутое послание «К ветерану***» и басня «Таракан-Ритор», ничего не прибавляющие, однако, к литературной физиономии этого, по выражению Пушкина, «Философа раннего»; стоит отметить разве лишь конечную сентенцию, для которой написана и вся упомянутая немудрёная басня:
Как часто рифмачи подобны Таракану: Похвальну песнь поют из денег, перстенька Достойному хвалы, а вместе с тем — тирану, — Но жаль, что нет для них лихого паука.Что касается «Послания к А. С. Пушкину»[52], вызвавшего известные «Стансы» Пушкина Толстому и относящегося к тому же 1819 г., то в рукописи его в наших бумагах нет существенных изменений против печатного текста, почему мы и оставляем их без внимания.
Из остальных материалов, дошедших до нас от участников дружеских собраний и бесед, приведём ещё шараду в стихах, написанную неизвестным нам почерком и принадлежащую неизвестному же автору: она любопытна своим политическим содержанием, как бы отзвуком тех частей пушкинской оды «Вольность», в которых поэт говорит о вечном законе и его значении:
Лишь там над царскою главой Народов не легло страданье, Где крепко с Вольностью Святой Законов мощных сочетанье и т. д.Та же мысль и в «Шарраде» неизвестного нам автора, означающей, очевидно, слово «Престол»:
ШАРРАДА Слог первый мой везде есть признак превосходства, Вторая часть нужна для пищи, для дородства, Нередко и для книг, а чаще для бумаг, Для лакомых она — источник лучших благ. Что ж целое моё? — Всегда жилище власти, И благо, где на нём, смирив кичливы страсти, Спокойно восседит незыблемый закон: Тогда ни звук оков, ни угнетённых стон Не возмущают дух в странах, ему подвластных; Полны счастливых сёл и городов прекрасных, Любуются они красой своих полей, И солнце, кажется, сияет им светлей… Но горе, где, поправ священные законы, Забыв свой долг, презрев граждан права и стоны, Воссядет равный им с страстьми, а не закон: Там вмиг преобратит строптивой властью он В ничто — обилья блеск; луга и нивы — в степи, И детям от отцов наследье — грусть и цепи, И землю окропят потоки горьких слез, И взыдет стон людей до выспренних небес.Произведение другого неизвестного автора, писанное, по-видимому, им собственноручно, называется «Послание к другу»; по почерку, по словам о «неимоверном успехе Провинциала» (стихи 10—11), наконец, по всему содержанию, показывающему близость сочинителя к театру и его интересам, — можно было бы приписать это произведение Михаилу Николаевичу Загоскину, комедия которого «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», впервые сыгранная 27 июня 1817 г. с весьма большим успехом, часто затем давалась на петербургской сцене. Но, с одной стороны, об участии Загоскина в «Зелёной лампе» нет никаких указаний (хотя, живя в 1819 г. в Петербурге и вращаясь в литературно-театральных кругах, он вполне мог бы принадлежать к числу членов этого кружка), — с другой же стороны, этому предположению противоречит стих в конце пиесы о том, что автор «не видал Провинциала», и, кроме того, выпады против кн. А. А. Шаховского, известного Плодовитого драматурга, которому посвящена вся вторая половина «Послания к другу»: известно, что Загоскин был в дружеских отношениях с Шаховским и ему был обязан первыми успехами своими на театре. Приводим это послание, несмотря на его тяжёлые стихи и на то, что автор его остаётся неизвестен.
ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ Напрасны все твои укоры За то, что не трудясь живу И, отвратя унылы взоры От храма Талии, не рву Тех лавров, коими бы можно Себя столь лестно увенчать! Упорен ты — итак, мне должно Тебе причины рассказать Моей холодности чрезмерной: Хотя успех неимоверной Провинциала наших дней И спорил с леностью моей, — Но, друг мой, что-то не по нраву Мне сей блистательный успех; И ныне, Авторов по праву, Хоть суждено им громкий смех Гостинодворских Ювеналов Считать наградою за труд, Хотя с партерных тож оралов За крик их пошли не берут, — Но лучше не писать решиться И быть от славы вдалеке, Чем за труды свои польститься На браво громкое в райке. Но ты мне возразишь, конечно, Что труд мой был бы не таков, Как многих. — Слушай, друг сердечной, Я отвечать тебе готов. Ты прав. Когда бы не химера Одна могла меня польстить, Что даже красоты Мольера У нас я мог бы воскресить, То не простительно бы было Скрывать талант столь редкий мне, Тогда б ничто не послужило Мне оправданьем в сей вине; Об этом я с тобой не спорю, Но, знаешь ли, к твоей беде (Быть может, к общему нам горю), Что в уши нам жужжат везде Не Дребедни и не Шмелёвы, Ни Антиволгинской народ (Хотя кусать они готовы, Но им зажать нетрудно рот), Но все, с которыми случайно Я ни вступаю в разговор О Талии, — что будто тайной Есть рыцарей её собор, Которые, сплетясь руками И храм её обстав кругом, Корзину с острыми словами Всю опрокинули вверх дном, И этим сором засыпают Отверстия все между них, Не укрепившись, не впускают Во храм поэтов никаких. Ты скажешь верно: «Люди эти Всё это видели во сне»… Ошибся: Рыцарей приметы Описывают даже мне. По ним ты можешь догадаться, Что твой приятель поделом Их храма должен опасаться И даже сочинять — тайком. Один из них — поэт известной, Сатирик — сущий Кантемир, Он с Талией по дружбе тесной Смешит нередко целый мир, В особом роде сочиняет И песенок приятных склад Из Русских песен выбирает, На театральный строя лад. Скажу: поэт — подобных мало Доселе на Руси святой; И сердце бы к нему лежало, Да есть порок за ним другой: Он тех лишь авторов ласкает Из кандидатов молодых, В которых ясно примечает, Что проку ввек не будет в них… Но если б гений в ком открылся И тот, к советам бы певца Прибегнув, у него просился Искать лаврового венца И показать на сцене свету Своих талантов образец — Тому хорошего совету Не даст, как сказывают, жрец. На буки бе переменяя, И критикуя в пустяках, И блеск таланта затемняя, Тем удовольствует свой страх… Вот вся молва о Президенте[53], Который храм на откуп взял. Там речь зайдёт и об агенте, Который издаёт журнал, Что будто часто разъезжает По городу и второпях Бонмо отборны собирает, Чтоб после поместить в листах, Которых он собрав немало, Не устрашится и назвать (Подумав: «скрасит всё начало!») Комедиею актов в пять. Ещё и о других довольно Старались все мне напевать, Но я, соскучившись, невольно Был должен уши затыкать И не могу не усумниться, Мой друг, то правда или ложь? Хочу тебя о том спроситься, А многие толкуют тож. Я не видал Провинциала, Сам не могу о нём судить, Быть может, зависть вымышляла Сие, чтоб автору вредить. Скажи мне мнение неложно, О брат по Апполону мой! Скажи — и ежели возможно Противным друга успокой! Уверь, что правдой Русь богата, Что в ней открыт таланту путь, Скажи: рукою Мецената Меня в храм Талии введут. Уверь, что наш поэт приятной Таков и сердцем, и душой, Что ложно шепчет мир развратной, Что я обманут сей молвой, Как стебль зелёный увядает Неоживляемый росой, Так часто гений исчезает Под злобной зависти рукой. Рассей моё недоуменье И разгони мои мечты: Тогда примусь за сочиненье, Тебе известное — прости!Наконец, чтобы закончить обзор материалов «Зелёной лампы», мы должны сказать о стихотворении с утраченными заглавием и началом первого стиха (л. 81). Писанное неизвестным нам почерком человека уже немолодого, с авторскими поправками, стихотворение это посвящено мифу о любви Аполлона к Гиацинту (см. в «Метаморфозах» Овидия, 10, 184) и вообще любви к прекрасному юноше, которого автор называет Лигуринусом. Некоторые строки этого стихотворения нельзя не признать весьма удачными и красивыми, — тем более досадно, что автор их не подписал под ними своего имени и что угадать его нам не удалось.
[Бог Солнца ?][54] часто оставляет Свой двухолмистый Геликон, Поля и рощи пробегает За Нимфою пугливой он; Но чаще от высот Тайгета К долинам, где Пеней шумит, Приманивает бога света Золотокудрый Гиацинт. Там житель неба голубова, Свою божественность забыв, Целует ловчего младова Под сению приютных ив; Пан зрит их ласки молчаливо, И Цинтия, царица снов, Полускрывает лик стыдливой За дым сребристых облаков. Во взорах отроков прекрасных Иль полногрудых дев младых Грозит равно бог чувствий страстных Жестоким жалом стрел своих; И Нимфе, близ тебя дрожащей, Урок любови первый дать Равно прелестно, как горящий Цвет друга юного сорвать. Что думать, Лигуринус милой! Летящий миг ловить спеши, Пока восторги легкокрылы Доступны жаждущей души! Скорей в свой уголок уютной, — Эроту часик подари, Невеждам дверью неприступной Храм наслажденья затвори! Там — в нише тайном, друг мой, чаще Лобзать тебя уста горят, Которых поцелуи слаще, Чем первый розы аромат, Чем многорощные Гиметы Благоуханный, чистый мед Или струя подземной Леты, Лиющая забвенье бед.Особняком от приведённых выше произведений стоят три сравнительно большие статьи в прозе, из которых первая («Lettre à un ami d’Allemagne sur les sociétés de Pétersbourg») сохранилась лишь в копии[55], — притом не вполне исправной. Эти статьи — едва ли не самые ценные и интересные для нас в ряду прочих произведений, читавшихся в «Зелёной лампе»: они дают важный и надёжный материал для суждения о политических взглядах их автора (или авторов), хотя о том, кто был этим автором, можно строить лишь более или менее достоверные догадки. Статьи «Conversation entre Bonaparte et un Voyageur Anglais» и «Un Rêve» писаны несомненно одним и тем же почерком (но на различной бумаге: «Conversation» — на белой, с водяным знаком 1817 г., a «Un Rêve» — на голубой, но также 1817 г.), с тождественным росчерком-грифом в конце и с авторскими, как мы полагаем, поправками в обеих. Почерк этот и мелкие автобиографические черточки, которые можно подметить в этих записках, не дают, однако, достаточно оснований для утверждения, кем именно они составлены. Несомненно одно, что автором их должен был быть (и был) человек политически образованный, хорошо знавший историю своего времени, — вероятно, участник или близкий свидетель событий Наполеоновских войн, настроенный либерально, патриот, мечтавший о коренных государственных преобразованиях в России. Он был из высшего общества (родственник его, по фамилии К., был сенатором), имел друга в Германии, сам был ещё в скромном чине, рос не в Петербурге и т. д. Из числа членов «Зелёной лампы» авторами записок нe были, судя по известным нам почеркам их, ни Н. Всеволожский, ни Я. Толстой, ни Д. Барков, ни П. Каверин, ни Якубович, ни Пушкин, ни кн. Трубецкой, ни Дельвиг, ни Родзянко, ни Глинка, ни Токарев, ни Гнедич, ни князь Долгоруков; могли же быть: Щербинин, Юрьев, Мансуров, Энгельгардт, Жадовский, А. Всеволожский, Улыбышев, произведений коих, однако, в бумагах «Зелёной лампы» мы не нашли и почерка которых той эпохи мы не знаем. Принимая, однако, во внимание общую нравственную фигуру перечисленных возможных семи авторов[56], мы высказываем убеждение, что наиболее возможно было бы видеть автора интересующих нас пьес в Александре Дмитриевиче Улыбышеве, человеке чрезвычайно интересном, образованном, живом и с литературными вкусами и навыками[57]. Он был и постарше некоторых других сочленов (родился он 2 апреля 1794 г.), и пользовался, по-видимому, их уважением (как увидим ниже, он председательствовал в третьем собрании кружка), — следовательно, надо полагать, отличался в нём весом и деятельностью; затем, автор записок обнаруживает особенно близкое знакомство с историей своего времени, — Улыбышев же до шестнадцати лет (до 1810 г.) жил и воспитывался в Германии, а затем служил в Петербурге, в центральном управлении — Коллегии иностранных дел; здесь с 1812 г. по 1830 г. заведовал он редакциею официоза Коллегии — «Journal de St.-Pétersbourg», для чего требовались, разумеется, особые дарования, способности, знания и умения; вообще он был «редактором» при Коллегии, то есть занимался переводами с французского на русский язык и обратно, перевёл, между прочим, на французский одно сочинение по интересовавшему тогда правительство вопросу о военных поселениях, составил описание коронации Николая I, а досуги свои посвящал занятиям музыкой и, частью, литературой[58]. Подчеркнём, что автор записки «Un Rêve» обнаруживает особенный интерес к музыке, говоря о музыкально-вокальном концерте в храме и о Гайдне: последнего Улыбышев очень любил и ещё в 1842 г., живя в Нижнем Новгороде, исполнял, с другими любителями, его произведения[59]; в области литературы он писал драмы, комедии, сатиры, шутки в драматической форме, — всегда при этом обличительно-бытового характера. Г. А. Ларош в обширной статье своей «О жизни и трудах Улыбышева», написанной для русского издания (в переводе М. И. Чайковского и г-жи Ларош) одного из двух известных сочинений Улыбышева — «Новая биография Моцарта», так определяет Улыбышева как писателя: «Улыбышев по-своему был человек образованный; он, по-видимому, кое-что прочёл из немецких философов; его мысль работала и влекла его к созданию своей собственной философии истории музыки; то и дело видны у него разные обрывки энциклопедических сведений, свидетельствующие если не об основательном знании, то по крайней мере о живом интересе, с каким он относился к вещам; особенно часто встречаются ссылки на русскую историю, очевидно им любимую»[60]. По словам другого биографа Улыбышева — А. С. Гациского, «драматические произведения его[61] всегда имели жизненно-обличительно-бытовую подкладку, казня глупость, взяточничество и другие дурные стороны современного общества; действующими лицами у него являются более или менее сильные мира нижегородского сороковых и пятидесятых годов». Из драмы «Раскольник» видно, что Улыбышев был ревностный защитник освобождения крестьян и свободы печати, — от этих и им подобных реформ он ожидал даже полного уничтожения раскола, хотя раскольники изображены у него в самых симпатичных чертах. Г. А. Ларош, изучив биографию и произведения Улыбышева, утвердительно писал, что он был «человек, полный самых возвышенных и гуманных стремлений, чутьём угадывал и горячо любил прекрасное в искусстве, глубоко ненавидел неправду в человеческих отношениях и в социальном строе». Его произведения — «впереди своего века и могли быть вполне оценены лишь после смерти автора. Обличение крепостного права, административного произвола, эксплуатации раскольников полициею и т. п. во времена Улыбышева не смело говорить громко, не могло показываться на свет печати, а ютилось в рукописной литературе, тайно и со страхом передававшейся из рук в руки»[62]. Зёрна всех этих настроений заметны в рассматриваемых анонимных произведениях, сохранившихся в бумагах «Зелёной лампы»[63].
К сожалению, было очень трудно прибегнуть к такому объективному средству доказательства, как почерк: в ленинградских хранилищах нам не удалось найти образцов раннего почерка Улыбышева, чтобы сличить его с почерком анонимных рукописей «Зелёной лампы»; однако, при любезном содействии Б. Е. Сыроечковского, мы всё же получили возможность сравнить почерк, которым писаны в 1819 году «Conversation entre Bonaparte et un Voyageur Anglais» и «Un Rêve», с несомненным почерком Улыбышева, — a именно с образцами его (правда, довольно незначительными), находящимися в Московском историческом архиве («Древлехранилище»), в делах б. Коллегии иностранных дел, — на «присяжных листах» и прошениях молодого Улыбышева — 1816, 1817 и 1821 гг.[64] и, кроме того, с указанным нам И. А. Бычковым письмом Улыбышева к кн. В. Ф. Одоевскому, хранящимся в Публичной библиотеке и относящимся к 1843 г. Образцы на «присяжных листах» и прошениях состоят лишь из нескольких слов и подписей чина, имени, отчества и фамилии, писанных по-русски и довольно старательным почерком, тогда как записки писаны менее тщательно и к тому же по-французски, а письмо к Одоевскому писано уже стариковским почерком; тем не менее все общие обоим языкам буквы, особенно прописные: Г, Д, К, А, Р и другие — настолько характерны и в подписях 1817—1821 гг., и в письме 1843 г., и в записках, что для нас не остаётся никаких сомнений в том, что автором интересующих нас записок является именно Улыбышев…[65] Правильность нашей экспертизы, представляющейся нам лично безусловной, признали также: хранитель Рукописного отделения Публичной библиотеки И. А. Бычков и хранитель Рукописного отделения Пушкинского Дома Н. В. Измайлов[66].
I. ПИСЬМО К ДРУГУ В ГЕРМАНИЮ[67] О ПЕТЕРБУРГСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Мой дорогой друг!
Вы спрашиваете у меня некоторые подробности о Петербургском обществе. Я удовлетворю вас с тем большим удовольствием, что лишён всякого авторского самолюбия, и правдивость — единственное достоинство, на которое я претендую.
Посещая свет в этой столице, хотя бы совсем не много, можно заметить, что большой раскол существует тут в высшем классе общества. Первые, которых можно назвать Правоверными (Погасильцами [?]), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — еретики — защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей. Эти две партии находятся всегда в своего рода войне, — кажется, что видишь духа мрака в схватке с гением света; из этой-то борьбы происходят умственные и нравственные сумерки, которые покрывают ещё нашу бедную родину.
Все различия и видоизменения, которые чувствуются в тоне и манерах здешних домов, могут быть сведены к этому главному различию.
Начнём с того, чтобы дать вам понятие о Правоверных. Их партия более многочисленна в провинциях, где они, как совы, кричат одни среди ночи, которая всё более и более сгущается по мере удаления их жилища от столицы; но здесь, к счастию, с каждым днём их делается меньше, и часто в доме, где отец принадлежит к царствованию Ивана Васильевича, дети живут в веке Александра. Этих, так называемых патриотов, можно узнать по некоторой грубоватости манер и дерзкой привычке говорить «ты» всем, на кого они смотрят, как на низших. Они говорят почти исключительно по-русски, и если им случается иногда произнести несколько французских слов, то, я думаю, они это делают из хитрости, потому что, надо признать, в их устах этот язык становится самым отвратительным жаргоном, какой только можно услышать. Излюбленным и обычным предметом их разговоров является служба, — не в отношении общественной пользы, которую она может иметь, но с точки зрения доставляемых ею личных выгод. Чины, кресты и ленты — их кумиры, исключительное мерило их уважения и почтения, главный двигатель их деятельности и единственная цель существования. Таким образом, степень достоинства определяется у них только густотою эполет или же табелью о 14 классах, которые составляют протяжение гражданской службы. Из этих непреложных принципов и вытекают обычай и этикет их домов, а также правила для приёма каждого посетителя.
Одним из самых ревностных поборников этих правил был мой покойный родственник, сенатор К[68]. Поступив в Сенат в звании кописта и с имением в 40 душ крестьян, он через полвека достиг чина действительного тайного советника и обладания состоянием в 8000 душ. Я был представлен ему спустя несколько дней после моего приезда в Петербург. Меня предупредили, что он очень дорожит титулом Превосходительства, как и большинство Скифо-Россов, его единомышленников, у которых в действительности ничего нет превосходного, кроме титула. Я ему расточал его при каждой фразе; и это внимание, вместе с его старинной дружбой с моим отцом, заслужило мне честь быть приглашённым у него отобедать, несмотря на полное моё ничтожество, так как я тогда не имел чина.
По примеру некоторых других домов, у г-на К. был определённый день для приёма гостей. Его днём было воскресенье. Я пришёл к нему в половине третьего, пройдя анфиладу комнат, отделанных штофом и украшенных зеркалами в золочёных рамах, я вошёл в гостиную, где нашёл старика в халате, сидящего на диване и окружённого своей семье. Было ещё очень мало народа; несколько человек держались в почтительных позах, и по тому малому вниманию, которое уделял им хозяин дома, я увидел, что они мало что значили. После я узнал, что они принадлежали к классу тех неутомимых паразитов, которые заодно с хорошим обедом охотно переваривают презрение и всевозможные унижения. Эта многочисленная в Петербурге порода заменила тут шутов, которые совсем вышли из моды и встречаются только в Москве. Я нахожу, что эта замена ничего не дала. Вскоре я увидел, как вошли лица с видом более независимым и с выражением менее подобострастным; движения и жесты Его Превосходительства, за которым я внимательно следил, определяли чин каждого почти так же точно, как при проезде через заставу. Одни получали кивок головой, другие — поклон, сопровождённый улыбкой. Кавалера св. Владимира, пришедшего на поклон, старец спросил, как он себя чувствует; он чуть было не приподнялся, увидя на шее крест св. Анны, встал совсем при виде звезды Александра Невского и сделал несколько шагов навстречу Андреевской ленте. Так как, вероятно, ждали именно его, то дворецкий, вооружённый салфеткой, пришёл доложить, что обед подан.
Его Превосходительство сам распорядился переходом из гостиной в столовую, указывая каждому его место и даму, которую он должен был сопровождать. Тот же этикет соблюдался и за столом. Сидя у верхнего края стола, Его Превосходительство имел справа даму, а слева — мужчину с самыми высокими титулами. Чины понижались по мере удаления от этого центра, так что мелюзга (canaille) 12, 13 и 14-го классов находилась на нижнем конце. И если даже случайно эта процессия оказывалась нарушенной, прислуга, подавая блюда, никогда не ошибалась, и горе тому, кто услужил бы титулярному раньше асессора или поручику раньше капитана. Иногда слуга, не зная в точности чин какого-нибудь лица, устремлял встревоженные взоры на своего хозяина, и один взгляд указывал тогда, что надо было делать. При равных чинах военный имел преимущество перед гражданским служащим, а чиновник с орденом перед тем, у кого в петлице было только великолепное вознаграждение, дарованное нашим щедрым государем Русскому дворянству за патриотические пожертвования, и, наконец, человеку, приехавшему в коляске, — перед пришедшим пешком. Разговор, всецело направляемый хозяином дома и в котором участвовало только два или три человека, касался большею частью крайностей модного воспитания, извращения национальных обычаев, происшедшего от мании путешествовать и несчастного пристрастия Русских к Французам, всё знание которых, говорили, заключается в пируэтах, а здравый смысл — в каламбурах. Всё же я заметил, что эта ненависть к иностранцам не распространялась на их вина; поблизости от хозяина дома я увидел две или три бутылки Французского вина, и те, кто более всего поносили эту страну, пили также более всего как бы для того, чтобы дать удовлетворение за нанесённую обиду[69]. А нам прочим было предоставлено патриотическое занятие вкушать квас и прозрачную Невскую воду, — напиток, действительно, столь отличный, что для императора, во время его пребывания в Москве, привозили её с эстафетой. Мы всё же пили, за неимением другого дела, потому что нас посадили, конечно, не для того, чтобы есть. Слуги предлагали нам только кости, которых никто не хотел, или же совершенно пустые блюда. Я не боюсь, что меня уличат в преувеличении те, кто имел несчастие посещать дома вроде дома г-на К. Пусть мой печальный опыт научит каждого бедного малого (pauvre diable), который за свои грехи получит подобное приглашение, никогда не являться туда, не приняв предварительно меры против голода, если только у него нет ещё чина 8-го класса. Этого, я думаю, довольно, чтобы познакомиться и избегать общества готов, прототипов коего был дом моего покойного родственника.
Я ещё должен заметить, что во всех Скифо-Росских домах прислуга многочисленна, плохо накормлена, плохо содержится и плохо одета, за исключением тех дней, когда на неё надевают парадную ливрею. Родственными связями очень дорожат, отмечают в них столько разных степеней, что для того, чтобы их знать все целиком, надо быть великим генеалогом. Там, как и всюду в Петербурге, именины и дни рождений справляются с великолепием и обилием, и было бы смертельной обидой не явиться в такой день с почтительнейшими поздравлениями. Таким образом, изучение календаря чрезвычайно полезно для того, кто много вращается в Петербургском обществе.
Но перейдём к изучению Европейского общества; нам стоит сделать всего один шаг, чтобы перенестись из XV в XIX век. Действительно, нет ничего разительнее контраста французского изящества и гиперборейской грубости, социального равенства, которое отдаёт предпочтение только уму или любезности, и этого рабского отличия по чинам — позорящим отметкам деспотизма. Можно подумать, что находишься в Париже, когда войдёшь в один из этих роскошных домов, которые стряхнули с себя иго древних предрассудков. Вкус и великолепие обстановки, костюмы, манеры и самый разговор — всё создаёт иллюзию, похожую на очарование; но после второго или третьего посещения она понемногу рассеивается. Некоторая холодность, сухость разговора, которая находит выход только в карточной игре или в гастрономических увеселениях, старание, которое мужчины и женщины прилагают к тому, чтобы держаться порознь, и неловкость в поддержании начатого с дамою разговора вскоре предупреждают вас, что вы не во Франции и что копия всегда далека от оригинала.
Пусть будет мне позволено не согласиться с общераспространённой мыслью, принятой с удовольствием моими соотечественниками; я имею в виду предполагаемое сходство между их характером и характером Французов. Мы имеем глупость гордиться тем, что нас называют Французами Севера. Мне кажется, что нет ничего менее подходящего, чем это наименование. Как же, в самом деле, влияние климата и образа правления, которые одни могут наложить на характер народа печать национальности, могли придать одинаковые черты двум народам, совершенно противоположным в этих обоих отношениях? Мы, правда, подражаем Французам более всякого другого народа и гораздо более того, чем это бы следовало; но самое это подражание, никогда не шедшее, несмотря на все наши старания, дальше самой поверхностной формы, не должно ли доказать нам, сколь мало мы похожи на наши образцы. Не являемся ли мы для них тем же, чем восковые фигуры для людей, которых они изображают? Они имеют те же черты, тот же рост, те же платья, но им недостаёт жизни и движения. Также и мы можем присвоить себе моды, смешные и дурные стороны Французов, но чего никогда не будет нам дано — это их живость, гений их воображения, и главным образом та общительность, которою они отличаются. Источник их обычаев и мод надо искать в их национальных качествах. Во всём, что касается его удовольствий, Француз вполне является творцом, он проявляет подвижность мыслей в многочисленных пустых намёках, иногда странных, но всегда грациозных и столь же мимолётных, как и породивший их каприз. В Париже каждая женщина — завоеватель в области моды: она с такою же тщательностью рассчитывает эффект каждой тряпки, как полководец значение батареи; в свои старания она вкладывает серьёзность, пропорциональную легкомыслию их предмета, и становится образцом для других, так как всё то, что оригинально, нравится, привлекает и вызывает подражание; но, к несчастью, это последнее всё портит и делает приторным. Вот почему Французские манеры, которые у нас так очаровывают иностранца, кажутся холодными и неуместными в Петербурге. Сразу же можно усмотреть, что они только условная маска, ни на чём не основаны и создают режущий диссонанс с истинным национальным характером, черты которого заметны в тех, кто говорит только на своём языке и никогда не покидал своей страны. Сохрани боже, чтобы я хотел прославить старинные русские нравы, которые больше не согласуются ни с цивилизацией, ни с духом нашего века, ни даже с человеческим достоинством; но то, что в нравах есть оскорбительного, происходит от варварства, от невежества и деспотизма, а не от самого характера Русских. Итак, вместо того, чтобы их уничтожать, следовало бы упросить Русских не заимствовать из-за границы ничего, кроме необходимого для соделания нравов Европейскими, и с усердием сохранять всё то, что составляет их национальную самобытность[70]. Общество, литература и искусства много от этого выигрывают. Особенно в литературе рабское подражание иностранному несносно и, кроме того, задерживает истинное развитие искусства. Есть ли на нашей сцене что-нибудь более пресное, чем обруселые водевили, переводы пьес Мольера, щёголи века Людовика XIV, солдаты, говорящие, как (нрзб) к небу, блестящая фривольность французских фраз и тяжеловесная резкость немецких шуток?
Но этот вопрос так интересен и обширен, что его стоит обсудить отдельно. Я удовольствуюсь тут замечанием, что костюм, который более всего нравится в России даже иностранцам, — это костюм национальный, что нет ничего грациознее русской женщины, что русские песни — самые трогательные, самые выразительные, какие только можно услышать; они доставили иностранным композиторам мотивы самых прекрасных вариаций; что, наконец, в театре трагедии, которые больше всего увлекают нас, имеют сюжеты, взятые из русской истории, а в комедии нам больше всего нравится изображение наших собственных смешных сторон, из которых главная, конечно, есть желание всецело отречься от нашего характера и нравов. Итак, не подбирая, жалким образом, колосья с чужого поля, а разрабатывая собственные богатства, которыми иностранцы воспользовались раньше нас самих, мы сможем когда-нибудь соперничать с Французами и после того, как мы отняли у них лавры Марса, мы будем оспаривать и лавры Аполлона[71].
Нам представляется, что живая и остроумная статья эта писана человеком, ещё сравнительно молодым; он, несомненно, был сам во Франции, и вероятно, во время Наполеоновских войн; он разумный галломан, но в то же время — патриот, любящий русские песни, русский национальный костюм; наконец, он любитель литературы и искусств, — в том числе театрального; он хорошо владеет пером и вообще человек весьма образованный. Надо отдать ему справедливость, что он довольно ярко нарисовал картину петербургского общества конца 1810-х годов, когда старина держалась в нём наряду с новизной и когда у молодёжи, вернувшейся из заграничных походов и увенчанной лаврами Марса, ещё кружилась голова от впечатлений и кипели чувства при сравнении своих заскорузлых «порядков» — государственных и общественных — с культурной жизнью Западной Европы.
II. БЕСЕДА БОНАПАРТА С АНГЛИЙСКИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ
Путешественник: Позвольте, государь, благословить счастливое мгновенье, когда мне было позволено лицезреть величайшего человека моего столетия.
Бонапарт: Положение, в котором вы меня находите, доказывает, сколь благодарно это столетие.
Путешественник: Когда человек так вознесён над другими, он должен им охотно прощать несправедливости, а если целая жизнь была рядом дел, из которых одного было бы достаточно, чтобы заслужить бессмертие, то и в несчастье можно всегда отыскать большое утешение.
Бонапарт: Вспоминают ли обо мне ещё в Европе?
Путешественник: Европа, среди тьмы, в которую её повергло отсутствие славы и гения, всё время устремляет взоры к Св. Елене, как к блистающему маяку.
Бонапарт: Что говорите вы о тьме? Разве солнце разума не поднялось именно теперь над её горизонтом?
Путешественник: Действительно, государь, всеобщее замирение на континенте, пробуждение свободы во всех сердцах, великолепные обещания наших государей были для нас зарёю прекрасного дня, но несколько туч, поднявшихся вскоре на политическом горизонте, до сих пор мешают нам видеть появление того солнца, о котором упомянули ваше величество.
Бонапарт: Что вы подразумеваете под этими тучами?
Путешественник: Большая часть народов Европы, стеная под игом нетерпимости, деспотизма и варварского законодательства, казалась неполноправным отпрыском в семье рода человеческого. Катастрофа 1812 года показалась им благоприятным моментом, чтобы захватить обратно своё законное наследие: терпимость и свободу. Они предъявили давно затерянные документы пред взоры государей, которые, чувствуя, что они пошатнулись на своих престолах, поторопились признать их, торжественно обещали установить права подданных наряду с правами правителей и указали на вас, государь, как на единственное препятствие к исполнению всеобщего желания. Тогда вам пришлось сражаться не с армиями, но с нациями. Исход этой битвы больше не мог быть сомнительным; но судьба как бы хотела показать и в превратностях ваше величие и доказать, что вы могли сдаться только перед высшими силами, — в России вас победили стихии, а в Лейпциге — гений XIX века.
Бонапарт: Ах, скажите лучше — самая недостойная измена, которую только можно найти в истории, — но продолжайте!
Путешественник: Ваше падение показало удивлённому миру, что существуют силы, не зависящие от вас. Так во время затмения можно увидеть, как блестят звёзды, которых нельзя было рассмотреть при сиянии дня. Союзники, соединённых усилий которых едва достало, чтобы вас низвергнуть, возгордились своими силами. Когда исчезла опасность, государи не подумали сдержать слово, вырванное у них одним только страхом. Им было горько отказаться от власти, которую долгая летаргия народов сделала как бы законной, а суеверие изображало исходящею от Бога. В век фанатизма и предрассудков слепое послушание воле государя сделалось своего рода культом. Какое унижение для тех, кто привык смотреть на себя, как на ставленников Провидения, — подчиниться законам, установленным представителями их подданных! Народы же со своей стороны не захотели, чтобы их кровь и их сокровища были расточены зря. Они громко требовали благ, купленных столькими жертвами. Некоторые государи благоразумно уступили голосу справедливости и совести, но большинство до сих пор ещё, под различными предлогами, откладывает исполнение своих обещаний[72]. Эта тяжба между народами и государями и есть как раз та наэлектризованная туча, которая нависла над Германией. Она скрывает в своих недрах громы и молнии.
Бонапарт: И всё же кончится тем, что государям придётся сдаться. Пусть они трепещут перед общественным мнением, — это оно причинило мою гибель.
Путешественник: Не всегда, государь, внимают урокам опыта; не надо других примеров, кроме Испании. Несчастная страна, в награду за славные усилия и героические жертвы, обременена теперь тройными цепями политической зависимости, внутреннего деспотизма и инквизиции. Нет такого притеснения или жестокости, которыми бы Фердинанд не пробовал утомить терпение Испанцев. Он истощает деньги своей страны, чтобы посылать своих подданных в Америку, где они массами гибнут и своей кровью закрепляют нарождающуюся свободу.
Бонапарт: Итак, Испанцы отказались от короля, поставленного мною, только для того, чтобы стать жертвою фантастического и бессмысленного тирана?!
Путешественник: Да, государь, но всему бывает предел. Даже из чрезмерного зла может родиться благо, и можно думать, что скоро пробьёт час освобождения Испании.
Бонапарт: Не сомневайтесь в этом: когда нация испробовала первые плоды свободы, она будет вздыхать о ней как о своём лучшем благе. Напрасно пытаются обратить вспять ход веков.
Путешественник: Всё же странно, что в стране, входящей в Священный Союз, смеют позволять себе такие крайности.
Бонапарт: Ваш Священный Союз — вещь тем более замечательная, что никто в ней ничего не понимает. Говорят, он основан на принципах христианской религии, но так как эти принципы те же, что и евангельские, проповеданные во всей Европе, то каким образом человеческий авторитет может прибавить новую санкцию к законам, исходящим от авторитета божественного? Какие гарантии представляет он союзникам одним против других или народам против их властителей? Не допуская иного судьи, кроме совести, к чему он послужит, если совесть союзников не будет в согласии? Совесть сильнейшего не будет ли всегда лучшею, и политические казуисты не поспешат ли высказаться за неё? Разве не сами основатели Священного Союза отняли у Саксонского короля половину его государства за то, что он сохранял свои первоначальные обязательства с верностью, может быть немного простоватой, но, несомненно, очень христианской?
Путешественник: Я, собственно, не вижу, что можно было бы противопоставить доводам вашего величества. Какова же была цель этой мировой сделки?
Бонапарт: Я вам это сейчас разъясню. Российский император, которому его характер, власть и, главным образом, события 1812 года обеспечили первое место среди союзников, почувствовал, что для достижения власти, равной моей, надо или стать завоевателем, или покорить мнение самыми сильными соблазнами. Мой пример должен был показать ему, сколь опасно первое средство, — он решился на второе. Сверх того, самолюбие говорило ему, что для него будет бесконечно лестно, если, сравнивая нас друг с другом, вселенная представит его добрым, а меня злым гением Европы. Итак, с этого момента его политика стала почти всегда согласною с моралью. Во всех крупных переговорах он брал сторону слабого против сильного (я исключаю Саксонию). На его мнение смотрели как на изречение справедливости, и было бы, так сказать, святотатством не подчиниться ему. Роль, которую играли его союзники, служила только для увеличения его блеска. Единственно его поведение было справедливо и благородно. Я довёл нашествие до самого сердца его государства, я занимал Москву, — он пришёл отдать мне визит в Париж: ничего не могло быть естественнее. Но король Прусский, император Австрийский и князья Рейнской конфедерации были моими союзниками и врагами Александра. Несчастья 1812 года не могли изменить сути их обязательств по отношению ко мне. Они обратили оружие против Франции, потому что тогда она была самая слабая, и они сочли случай благоприятным, чтобы отомстить за свои прежние поражения. В особенности император Австрийский, которого связывало самое близкое родство с императорской династией Франции, показал себя в наиболее отвратительном свете. Все эти государи, ничтожные по своему характеру и талантам, служили только украшением триумфальной колесницы Александра. Даже сами побеждённые не могли отказать ему в дани восторга и энтузиазма. Вход его в Париж был отмечен возгласами и криками радости: желая оправдать столь лесную встречу, он сделался защитником Франции против притеснения и мести её врагов. Эта последняя черта преисполнила меру его славы и утвердила наконец за ним то безграничное преобладание, которому так завидует ваша страна.
Путешественник: Отдавая справедливость своим врагам, вы хотите доказать, государь, что вы один соединяете в себе все виды славы. Но осмелюсь ли я вернуться к объяснению Священного Союза?
Бонапарт: Император Александр думал о потомстве, как и всякий, кто совершал великие дела. Он хотел оставить после себя памятник, который бы отметил одну из главнейших эпох в истории рода человеческого, как то: зарождение христианства, открытие Америки и Реформация. Все договоры, заключённые до тех пор, имели в виду нападение, защиту или частные интересы договаривающихся сторон. Его воображение поразила мысль положить в основу политики принципы религии и осуществить таким образом мечту о вечном мире. Он слишком был ослеплён величием своего предприятия и его последствий, чтобы почувствовать всю его невозможность. Уже ему казалось, что он слышит своё имя, из века в век повторенное с благословениями народов и произнесённое самыми отдалёнными поколениями, как имя их благодетеля. Отсюда — и Священный Союз. Александр думал много выиграть присоединением других государей, но в сущности выиграл он очень мало. Он забывал, что все существующие договоры были заключены во имя Бога и пресвятой Троицы, что не мешало их нарушению, что при каждом объявлении войны, справедливом или несправедливом, воюющие стороны всегда призывали Бога в свидетели правоты их дела и что, наконец, самый акт Священного Союза, решительно ни к чему не обязывая, смутной своей редакцией будет, в случае спора, каждым истолкован в своих интересах.
Путешественник: Замечания вашего величества так вески, а недостаточность средств сравнительно с целью так очевидна, что большинство мыслящих людей Европы приписывали императору Александру намерения, которые, конечно, никогда не приходили ему в голову. Одни думали, что он хотел пустить пыль в глаза, другие сочли Священный Союз как бы христианской федерацией против неверных, проектом крестового похода в XIX веке; некоторые думали, что это лига правителей против своих народов и что упорство, с которым несколько германских князей отказывали в конституции своим государствам, было, главным образом, основано и поддержано этим мировым союзом. Есть даже такие, которые доходят до того, что говорят, будто император Александр, наблюдая в философии круг человеческих мнений, который ведёт от фанатизма к неверию и после возвращает нас к суеверию, захотел воспользоваться мистическим направлением века, чтобы прибавить духовное влияние к своей военной и политической власти и стать, таким образом, верховным законодателем Европы, своего рода Папой, более могущественным, чем прежний, так как св. Пётр никогда не имел восьмисот тысяч апостолов для поддержания непогрешимости своих решений. Эти лица считают ещё, что путешествия и учение г-жи Крюденер, так же как и труды одного молодого дипломата, прослывшего столь же хорошим богословом, как дурным мыслителем[73], суть машины, тайной пружиной которых является рука императора Александра.
Бонапарт: Люди эти не знают, что говорят. Либеральные принципы, которые император России с гордостью исповедует, не должны ли доказать им ложность их предположений? Но расскажите мне лучше о Франции и о добром короле Людовике XVIII.
Путешественник: Если бы я был менее уверен в возвышенности и благородстве ваших чувств, то я побоялся бы оскорбить вас, сообщив, что Франция находится в состоянии полного благоденствия. Она наслаждается конституцией по образцу нашей, то есть наиболее совершенной политической комбинацией, какую до сих пор создал человеческий ум. Ярые роялисты, система которых, ненавистная народу, противная духу времени, несчастному двадцатипятилетнему опыту и даже самим намерениям короля, угрожала погрузить Францию в ужасы второй революции, стали теперь наконец столь же безопасны, как были презренны. Король, освободившись от их влияния, доверил исполнение своей власти людям, указанным ему голосом нации, — словом, Франция может быть очень счастлива, если только сумеет наслаждаться своим счастьем. Одно только обстоятельство заставляет меня трепетать за них — это характер французов, основанный на тщеславии. Они никогда не забудут, что их истинная свобода была основана в самое унизительное время их истории, что они приняли своего теперешнего государя из рук иностранца и что спокойствие купили потерею славы.
Бонапарт: Нет, ваши опасения неосновательны. Военная слава Франции существует во всём её блеске. Это лучшая её народная собственность, единственное наследие, которое я оставил ей. Вы вечно будете жить, о дни Маренго, Аустерлица, Иены, Эйлау! Только мои ошибки и привели к бедствию 1812 года, подняли всю Европу против Франции и призвали нашествие на её земли. После того, как французы были первым народом по оружию, они ещё будут царствовать над Европой не менее могучим влиянием цивилизации, изящных искусств, красноречия и гения. Вот что возвещает им тень Наполеона из глубины его чистилища, Св. Елены. Скажите им, возвратясь в Европу, что последняя мысль этой тени, в минуту её освобождения, будет пожелание им славы и благоденствия.
Автор этой интересной записки, составленной ещё при жизни Наполеона и Александра I и отличающейся смелостью, для своего времени, суждений, обнаруживает хорошее знакомство с политической историей своей эпохи и даёт ряд метких определений современного положения Франции и России. По некоторым тирадам мы заключаем, что она принадлежит перу кого-либо из членов «Зелёной лампы», а не является лишь переводом какой-нибудь английской статьи; но этот вопрос могут решить лишь специалисты — историки. Мы привели её здесь (в русском переводе), так как она чрезвычайно любопытна для суждения о темах бесед в собраниях у Н. В. Всеволожского.
III. СОН
Из всех видов суеверия мне кажется наиболее простительным то, которое берётся толковать сны. В них действительно есть что-то мистическое, что заставляет нас признать в их фантастических видениях предостережение неба или прообразы нашего будущего. Лишь только тщеславный предастся сну, долго бежавшему его очей, как он уже видит себя украшенным орденом, который и был причиной его бессонницы, и убеждает себя, проснувшись, что праздник Пасхи или же новый год принесут с собой исполнение его сна. Несчастный любовник наслаждается во сне предметом своих долгих вожделений, и почти угасшая надежда вновь оживает в его сердце. Блаженная способность питаться иллюзиями! Ты противовес реальных несчастий, которыми постоянно окружена наша жизнь; но твои очарования вскармливают не одни только эгоистические страсти. Патриот, друг разума и в особенности филантроп имеют также свои мечтания, которые иногда воплощаются в их снах и доставляют им минуты воображаемого счастья, в тысячу раз превосходящего всё то, что может им предоставить печальная действительность. Таков был мой сон в прошлую ночь; он настолько согласуется с желаниями и мечтами моих сотоварищей по «Зелёной лампе», что я не могу не поделиться им с ними.
Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но всё до того изменилось, что мне было трудно узнать их. На каждом шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях, до странности не похожих на их первоначальное назначение. На фасаде Михайловского замка я прочёл большими золотыми буквами: «Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город. Проходя перед Аничковым дворцом, я увидал сквозь большие стеклянные окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это Русский Пантеон, то есть собрание статуй и бюстов людей, прославившихся своими талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого дворца[74]. Очутившись на Невском проспекте, я кинул взоры вдаль по прямой линии, и вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидал триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма. Внезапно мой слух был поражён рядом звуков, гармония и неизвестная сила которых казались соединением органа, гармоники и духового инструмента — серпента. Вскоре я увидел бесчисленное множество народа, стекающегося к месту, откуда эти звуки исходили; я присоединился к толпе и оказался через некоторое время перед ротондой, размеры и великолепие которой превосходили не только все наши современные здания, но и огромные памятники римского величия, от которых мы видим одни лишь осколки. Бронзовые двери необычайной величины открывались, чтобы принять толпу; я вошёл с другими.
Благородная простота внутри соответствовала величию снаружи. Внутренность купола, поддержанного тройным рядом колонн, представляла небосвод с его созвездиями. В середине залы возвышался белый мраморный алтарь, на котором горел неугасимый огонь. Глубокое молчание, царившее в собрании, сосредоточенность на всех лицах заставили меня предположить, что я нахожусь в храме, — но какой религии, — я не мог отгадать. Ни единой статуи или изображения, ни священников, одежда или движение которых могли бы рассеять мои сомнения или направить догадки. После минутного предварительного молчания несколько превосходных по правильности и звучности голосов начали петь гимн созданию. Исполнение мне показалось впервые достойным гения Гайдна, и я думал, что действительно внимаю хору ангелов. Следовательно, там должны были быть женские голоса? Без сомнения, — и это новшество, столь согласное с хорошим вкусом и разумом, доставило мне невыразимое удовольствие. «Так, — рассуждал я, — если насекомое своим жужжанием и птица своим щебетанием прославляют Всевышнего, то какая смешная и варварская несправедливость запрещать самой интересной половине рода человеческого петь ему хвалы!» Чудесные звуки этой музыки, соединяясь с парами благовоний, горящих на алтаре, поднимались в огромную высь купола и, казалось, уносили с собой благочестивые мысли, порывы благодарности и любви, которые рвались к божеству из всех сердец. Наконец песнопения прекратились, — старец, украшенный неизвестными мне знаками отличия, поднялся на ступени алтаря и произнёс следующие слова: «Граждане, вознося дань благодарности подателю всех благ, мы исполнили священный долг; но этот долг будет пустой формой, если мы не прославим божество также и нашими делами. Только если мы будем жить согласно законам человечности и чувству сострадания к нашим несчастным братьям, которое сам Бог запечатлел в наших душах, мы сможем надеяться, ценой нескольких лет добродетели, достигнуть вечного блаженства». Сказав это, старец препоручил милосердию присутствующих нескольких бедняков, разорение которых произошло от несчастных обстоятельств и было ими совершенно не заслужено. Всякий поторопился по возможности помочь, — и через несколько минут я увидал сумму, которой было бы достаточно, чтобы десять семейств извлечь из нищеты. Я был потрясён всем тем, что видел, и по необъяснимой, но частой во сне непоследовательности забыл вдруг своё имя, свою страну и почувствовал себя иностранцем, впервые прибывшим в Петербург. Приблизясь к старцу, с которым я, несмотря на его высокий сан, заговорил беспрепятственно: «Сударь, — сказал я ему, — извините любопытство иностранца, который, не зная, должно ли верить глазам своим, осмеливается спросить у вас объяснения стольким чудесам. Разве ваши сограждане не принадлежат к греко-кафолическому вероисповеданию? Но величественное собрание, которого я только что был свидетелем, равно не похоже на обедню греческую и латинскую и даже не носит следов христианства».
— Откуда же вы явились? — ответил мне старец. — Или изучение истории до того поглотило вас, что прошедшее для вас воскресло, а настоящее исчезло из ваших глаз? Вот уже около трёх веков как среди нас установлена истинная религия, то есть культ единого и всемогущего бога, основанный на догме бессмертия души, страдания и наград после смерти и очищенный от всяких связей с человеческим и суеверий. Мы не обращаем наших молитв ни к пшеничному хлебу, ни к омеле с дуба, ни к святому миру, — но к тому, кого величайший поэт одной нации, давней нашей учительницы, определил одним стихом: Вечность имя ему и его созданье — мир. Среди простого народа ещё существуют старухи и ханжи, которые жалеют о прежних обрядах. Ничего не может быть прекраснее, говорят они, как видеть архиерейскую службу и дюжину священников и дьяконов, обращённых в лакеев, которые заняты его облачением, коленопреклоняются и поминутно целуют его руку, пока он сидит, а все верующие стоят. Скажите, разве это не было настоящим идолопоклонством, менее пышным, чем у греков, но более нелепым, потому что священнослужители отождествлялись с идолом. Ныне у нас нет священников и тем менее — монахов. Всякий верховный чиновник по очереди несёт обязанности, которые я исполнял сегодня. Выйдя из храма, я займусь правосудием. Тот, кто стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель Бога, источника порядка во вселенной? Ничего нет проще нашего культа. Вы не видите в нашем храме ни картин, ни статуй; мы не думаем, что материальное изображение божества оскорбительно, но оно просто смешно. Музыка — единственное искусство, которое с правом допускается в наших храмах. Она — естественный язык между человеком и божеством, так как она заставляет предчувствовать то, чего ни одно наречие не может выразить и даже воображение не умеет создать. Мой долг призывает меня в другое место, — заметил старец, — если вы захотите сопровождать меня, я с удовольствием расскажу вам о переменах и реформах, происшедших в России за триста лет, о которых вы, по-видимому, мало осведомлены.
Я с благодарностью принял его предложение, — и мы вышли из храма.
Проходя по городу, я был поражён костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским величием, и при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями.
— Мне кажется, — сказал я своему руководителю, — что Пётр Великий велел высшему классу русского общества носить немецкое платье, — с каких пор вы его сняли?
— С тех пор, как мы стали нацией, — ответил он, — с тех пор, как, перестав быть рабами, мы более не носим ливреи господина. Пётр Великий, несмотря на исключительные таланты, обладал скорее гением подражательным, нежели творческим. Заставляя варварский народ принять костюм и нравы иностранцев, он в короткое время дал ему видимость цивилизации. Но эта скороспелая цивилизация была так же далека от истинной, как эфемерное тепличное растение от древнего дуба, взращённого воздухом, солнцем и долгими годами, как оплот против грозы и памятник вечности. Пётр слишком был влюблён в свою славу, чтобы быть всецело патриотом. Он при жизни хотел насладиться развитием, которое могло быть только плодом столетий. Только время создаёт великих людей во всех отраслях, которые определяют характер нации и намечают путь, которому она должна следовать. Толчок, данный этим властителем, надолго задержал у нас истинные успехи цивилизации. Наши опыты в изящных искусствах, скопированные с произведений иностранцев, сохранили между ним и нами в течение двух веков ту разницу, которая отделяет человека от обезьяны. В особенности наши литературные труды несли уже печать упадка, ещё не достигнув зрелости, и нашу литературу, как и наши учреждения, можно сравнить с плодом, зелёным с одной стороны и сгнившим с другой. К счастью, мы заметили наше заблуждение. Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили также почти угасшую искру нашего народного гения. Стали вскрывать плодоносную и почти не тронутую жилу нашей древней народной словесности, и вскоре из неё вспыхнул поэтический огонь, который и теперь с таким блеском горит в наших эпопеях и трагедиях. Нравы, принимая черты всё более и более характерные, отличающие свободные народы, породили у нас хорошую комедию, комедию самобытную. Наша печать не занимается более повторением и увеличением бесполезного количества этих переводов французских пьес, устаревших даже у того народа, для которого они были сочинены. Итак, только удаляясь от иностранцев, по примеру писателей всех стран, создавших у себя национальную литературу, мы смогли поравняться с ними, и став их победителями оружием, мы сделались их союзниками по гению[75].
— Извините, если я перебью вас, сударь, но я не вижу той массы военных, для которых, говорили мне, ваш город служит главным центром.
— Тем не менее, — ответил он, — мы имеем больше солдат, чем когда-либо было в России, потому что их число достигает пятидесяти миллионов человек.
— Как, армия в пятьдесят миллионов человек! Вы шутите, сударь!
— Ничего нет правильнее этого, ибо природа и нация — одно и то же. Каждый гражданин делается героем, когда надо защищать землю, которая питает законы, его защищающие, детей, которых он воспитывает в духе свободы и чести, и отечество, сыном которого он гордится быть. Мы действительно не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров, — этого бича не только для тех, против кого их посылают, но и для народа, который их кормит, ибо если они не уничтожают поколения оружием, то они губят их в корне, распространяя заразительные болезни. Они нам не нужны более. Леса, поддерживавшие деспотизм, рухнули вместе с ним. Любовь и доверие народа, а главное — законы, отнимающие у государя возможность злоупотреблять своею властью, образуют вокруг него более единодушную охрану, чем шестьдесят тысяч штыков. Скажите, впрочем, имелись ли постоянные войска у древних республик, наиболее прославившихся своими военными подвигами, как Спарта, Афины, Рим? Служба, необходимая для внутреннего спокойствия страны, исполняется по очереди всеми гражданами, могущими носить оружие, на всём протяжении империи. Вы понимаете, что это изменение в военной системе произвело огромную перемену и в финансах. Три четверти наших доходов, поглощавшихся прежде исключительно содержанием армии, — которой это не мешало умирать с голоду, — употребляются теперь на увеличение общественного благосостояния, на поощрение земледелия, торговли, промышленности и на поддержание бедных, число которых под отеческим управлением России, благодаря небу, с каждым днём уменьшается.
В это время мы находились посреди Дворцовой площади. Старый флаг вился над чёрными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника.
— Как видите, мы изменили герб империи, — сказал мне мой спутник. — Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры.
Придя на набережную Невы, я увидел перед дворцом великолепный мост, наполовину мраморный, наполовину гранитный, который вёл к превосходному зданию на другом берегу реки и на фасаде коего я прочёл: Святилище правосудия открыто для каждого гражданина, и во всякий час он может требовать защиты законов.
— Это там, — сказал мне старец, — собирается верховный трибунал, состоящий из старейшин нации, членом которого я имею честь быть.
Я собирался перейти мост, как внезапно меня разбудили звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал, что исполнение моего сна ещё далеко…
Эта замечательная записка как нельзя нагляднее рисует нам некоторые мечты лучших, образованнейших людей конца александровского царствования, членов «Союза благоденствия», — будущих умеренных декабристов-конституционалистов. Через триста лет Россия рисуется им в виде конституционной монархии, процветающей под сенью закона, отнимающего у государя лишь возможность злоупотреблять своею властью. Они мечтают о превращении мрачного по воспоминаниям о Павле I Михайловского замка в «Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов на месте прежних казарм, Русский Пантеон в здании Аничкова дворца; единая безобрядная религия; действенная защита всякого гражданина равным для всех законом; упразднение кадровых войск и замена их всеобщим ополчением; цветущие искусства, литература и театр, развившиеся на основе древней народной словесности; наконец, общее развитие благосостояния, успехи земледелия, торговли, промышленности, широкая поддержка бедных, число которых с каждым днём уменьшается, — вот те мечты, которым предавался автор записки, а с ним и его сочлены по «Зелёной лампе». Мечты, конечно, весьма скромные и характера довольно общего[76], притом с оттенком некоторых масонских влияний и настроений[77], — но чрезвычайно типичные для ранней эпохи деятельности «Союза благоденствия», ставившего перед собою именно такие общие задания и подготовлявшего лишь фон для будущей деятельности своих членов, более определённой и радикальной…
* * *
Вот что можно извлечь из бумаг «Зелёной лампы» по части личного состава её членов и деятельности некоторых из них. Как видим, новые сведения значительно пополняют то, что мы знали ранее в этом отношении, а главное — пополняют на основании подлинных документов, не оставляющих более места сомнениям и предположениям.
Помимо того, бумаги дают и некоторые хронологические указания. Так, на стихотворениях Дельвига «Фанни» и «К мальчику» (л. 27) находим помету, показывающую, что 3-е заседание «Зелёной лампы» происходило 17 апреля 1819 г., — следовательно, начались её собрания, вероятнее всего, в марте этого года или даже в начале апреля[78]; есть затем указание (л. 48) на 13-е заседание; всех же собраний или заседаний, как можно судить по помете на обложке, в которую заключены бумаги, было не менее 22; даты «Репертуара», составленного Д. Н. Барковым, относят нас также к 20 апреля — 28 мая 1819 г.; к 27 мая 1819 г. относятся стихи Пушкина, записанные им у члена «Лампы» П. П. Каверина (см. их в книге Ю. Н. Щербачева «Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин», М., 1913, с. 16); к лету, осени и зиме этого же года приурочиваются известные послания Пушкина к членам «Лампы»: В. В. Энгельгардту, М. А. Щербинину, Ф. Ф. Юрьеву, Н. В. Всеволожскому, П. Б. Мансурову, Я. Н. Толстому… Есть указания, что собрания «Лампы» продолжались и после высылки Пушкина на юг, то есть после мая 1820 г., но имеющиеся в нашем распоряжении документы «Лампы» все писаны на бумаге с водяными знаками не позже 1818 г., так что можно предположить, что собрания окончились ранее 1820 г. или что до нас не дошло бумаг за более позднее время. Пушкин, уехав на юг, долго ничего не знал о судьбе «Лампы» и в письме своём к Я. Н. Толстому от 26 сентября 1822 г. спрашивал:
Горишь ли ты, лампада наша, Подруга бдений и пиров? Кипишь ли ты, златая чаша, В руках весёлых остряков? Всё те же ль вы, друзья веселья, Друзья Киприды и стихов? Часы любви, часы похмелья По-прежнему ль летят на зов Свободы, лени и безделья? В изгнаньи скучном, каждый час Горя завистливым желаньем, Я к вам лечу воспоминаньем, Воображаю, вижу вас: Вот он, приют гостеприимной, Приют любви и вольных муз, Где с ними клятвою взаимной Скрепили вечный мы союз, Где дружбы знали мы блаженство, Где в колпаке за круглый стол Садилось милое равенство; Где своенравный произвол Менял бутылки, разговоры, Рассказы, песни шалуна, — И разгорались наши споры От искр и шуток и вина… Я слышу, верные поэты, Ваш очарованный язык… Налейте мне вина кометы, Желай мне здравия, Колмык!Толстой, как известно, отвечал Пушкину, что «Лампа погасла, — не стало в ней масла»…
Любопытно отметить ещё, на основании наших бумаг, что собрания кружка происходили под председательством разных членов: так, в 3-м собрании председательствовал упомянутый выше А. Д. Улыбышев, служивший тогда в Коллегии иностранных дел. Участие в кружке Ф. Н. Глинки[79] должно было связывать «Зелёную лампу» с С.-Петербургским Вольным обществом любителей российской словесности — ареною деятельности Бестужева, Сомова, Кюхельбекера и др., хотя ближайших следов этой связи мы в бумагах «Лампы» и не находим.
* * *
Сделаем общие выводы по рассмотренным бумагам «Зелёной лампы». Всех произведений в нашем собрании — 41; из них: произведений стихотворных — 23 (Я. Н. Толстого — 9, бар. А. А. Дельвига — 3; Д. Н. Баркова — 2; кн. Д. И. Долгорукова — 2; А. А. Токарева — 2; Н. В. Всеволожского — 1; Ф. Н. Глинки — 1; неизвестных авторов — 3); статей, относящихся к истории, — 10 (Н. В. Всеволожского — 7; Я. Н. Толстого — 3); театру посвящено — 4 статьи (все Д. Н. Баркова); политических статей — 3 (А. Д. Улыбышева); к отделу смеси (перечень книг, составленный Трубецким) — 1.
По авторам степень участия выразится в следующих цифрах: Я. Н. Толстой — 13 № (9 стих. и 4 ист.), Н. В. Всеволожский — 8 № (7 ист. и 1 стих.), Д. Н. Барков — 6 № (4 театр. и 2 стих.), бар. А. А. Дельвиг — 3 № (стих.), А. А. Токарев — 2 № (стих.), кн. Д. И. Долгоруков — 2 № (стих.), Ф. Н. Глинка — 1 № (стих.), кн. С. П. Трубецкой — 1 № (смесь).
Неизвестным авторам принадлежат 3 № стихотворений, а 3 № политических статей принадлежат, по нашему убеждению, А. Д. Улыбышеву.
Не дошло до нас никаких следов активного участия в заседаниях «Лампы» следующих лиц (из числа 21): А. С. Пушкина (если не считать его посланий к отдельным членам «Лампы»), А. В. Всеволожского, М. А. Щербинина, Ф. Ф. Юрьева, П. П. Каверина, П. Б. Мансурова, А. И. Якубовича[80], В. В. Энгельгардта, Л. С. Пушкина[81], А. Г. Родзянко[82], И. Е. Жадовского и Н. И. Гнедича, — то есть 12 человек.
* * *
Вновь найденные бумаги «Зелёной лампы» ценны, однако, не этими выводами, а тем, что состав их с наглядностью показывает, что главною целью организации были не преобладавшие в ней количественно литературные занятия. Кружок объединял в себе, главным образом, военную молодёжь[83], для которой упражнения в литературе могли быть лишь приятным времяпрепровождением; чтение произведений весьма посредственных сочинителей (не говорим, разумеется, о произведениях двух истинных поэтов — Пушкина и Дельвига, да ещё, пожалуй, Гнедича и Глинки), то есть Я. Толстого, Долгорукова, Баркова, Токарева, Всеволожского, Родзянки, не могло представлять самодовлеющего интереса для передовых, образованных и с развитым литературным вкусом молодых людей, к тому же в большинстве военных: такое чтение было для них, в лучшем случае, по державинскому сравнению, лишь «как летом сладкий лимонад»; центр же тяжести собраний, несомненно, лежал в чтении и в обсуждении сообщений и записок вроде приписываемых нами А. Д. Улыбышеву, в обмене мнений, в критике современности, в спорах на политические темы и т. п.[84] Пушкинисты не могут, конечно, не подосадовать, что в найденных бумагах не оказалось новых данных об участии в «Зелёной лампе» Пушкина, — тем более что трудно, почти невозможно допустить, чтобы он бывал в собраниях кружка лишь немым участником и молчаливым наблюдателем выступлений других членов молодого и пылкого содружества: при своей живой и деятельной натуре и горячем темпераменте он, конечно, не ограничивался чтением в заседаниях «Лампы» своих ныне всем известных стихотворных посланий к некоторым сочленам; хочется думать, что он не отставал от наиболее деятельных и наиболее образованных, вдумчивых и передовых по умонастроению сотоварищей своих в пору создания оды «Вольность», «Деревни», политических эпиграмм… Но, повторяем, как ранее не располагали мы материалами для более точного суждения по этому вопросу, так и нынче не обогатились ими и должны ограничиваться лишь догадками и предположениями; но общий тон «Зелёной лампы» для нас значительно уяснился, как определилась и её роль в деле создания и развития политических настроений её участников.
1928
Пушкин под тайным надзором[85]
«Ты ни в чём не замешан, — это правда, — писал Пушкину Жуковский в апреле 1826 г., в ответ на его тревожные запросы друзьям о том, чего ему следует ожидать от нового царя, поглощённого в то время следствием над декабристами. — Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством» (XIII, 271)[86]. И действительно, просмотр показаний декабристов, сделанный П. Е. Щёголевым, показал, что имя Пушкина фигурировало, в совершенно определённом освещении либерального писателя, в ответах многих и многих членов тайного общества, данных ими Следственной комиссии на вопрос о том, «с которого времени и откуда заимствовали они свободный образ мыслей, то есть от общества ли, или от внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно» и кто вообще «способствовал укоренению в них сих мыслей»[87].
Таким образом, у членов Следственной над декабристами комиссии уже под влиянием одних этих ответов должно было сложиться определённое впечатление о Пушкине как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такой же определённой репутацией человека политически неблагонадёжного и зловредного должен был войти поэт и в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии — известного генерал-адъютанта Бенкендорфа; такое же представление сложилось о нём и у самого императора Николая I, — как известно, ближайшим и внимательнейшим образом наблюдавшего за ходом следствия и за показаниями лиц, привлечённых к делу, и входившего во все подробности дела. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда, вскоре за тем, 25 июня и 3 июля 1826 г., были учреждены корпус жандармов и III Отделение Собственной его величества канцелярии, заменившее Особенную (полицейскую) канцелярию Министерства внутренних дел, то Пушкин естественным образом и как бы по наследству сразу вошёл в круг клиентов новых учреждений «высшей полиции». Внесённый, конечно, и ранее в списки лиц, бывших под надзором Особенной канцелярии и её агентов, как человек, заслуживавший особого внимания, Пушкин сразу сделался предметом особенных попечений и Бенкендорфа, как главного начальника III Отделения, и его правой руки и фактотума — управляющего этим Отделением Максима Яковлевича фон Фока, перед тем заведовавшего упомянутою выше Особенною канцеляриею Министерства внутренних дел. Они оба, а второй в особенности, зорко следили за каждым шагом поэта даже тогда, когда он был ещё в изгнании, а после его освобождения из ссылки усугубили надзор и непрерывно плели ту, по выражению П. Е. Щёголева, «бесконечную серую пелену», которая, опутав Пушкина в 1826 г., «развёртывалась во всё течение его жизни и не рассеялась даже с его смертью…»[88].
Под «недрёманное око» полицейского надзора Пушкин попал, по всей вероятности, тотчас же по выпуске из Лицея, вернее, — по приезде своём, осенью 1817 г., в Петербург из Михайловского, где он отдыхал от выпускных экзаменов; по крайней мере уже в конце 1817 г. (а именно 12 ноября) А. И. Тургенев в одном письме своём к Жуковскому (ещё не изданном) с горечью сообщал, что он замечает в Пушкине-Сверчке «вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, XVIII столетия…»[89]. Либерализм Пушкина не был лишь пассивным, — он проявлялся и вовне, сперва в разговорах, а затем и в писаниях; его вольнолюбивые пьесы, его шумный разгул, его ранняя популярность не могли не обратить на него нарочитого внимания блюстителей общественной тишины и спокойствия и опекунов государственной безопасности. Последние были сосредоточены тогда в Министерстве полиции, возглавлявшемся известным А. Д. Балашовым, — в частности, в Особенной канцелярии этого министерства, а директором её уже в 1817 г. был вышеупомянутый М. Я. фон Фок[90]. Нет никакого сомнения, что в делопроизводстве этой канцелярии, — не сохранившемся до нашего времени или хранящемся ещё под спудом в архиве бывшего Министерства внутренних дел, — были следы надзора за Пушкиным и другими представителями гульливой молодёжи той эпохи, и надзор этот направлялся и осуществлялся фон Фоком и его агентами, для которых и сама личность юного поэта, и его пылкие стихотворения и эпиграммы были слишком заманчивым предметом для наблюдения… Поведение его рано обратило на себя внимание Фока, — и с этого времени он начал выковывать ту цепь, которая постепенно связывала Пушкина всё более и более и не отпускала его «на волю» уже до самой смерти.
Литература о Пушкине обладает уже большим количеством документальных данных, свидетельствующих о десятилетних «муках великого поэта», вызывавшихся сначала отдельными столкновениями его с тайной полицией, а затем — его почти непрерывными сношениями с Бенкендорфом, фон Фоком и преемником последнего — А. Н. Мордвиновым. Сообщаемый ниже материал, извлечённый нами из дел секретного архива бывшего III Отделения, дорисовывает эту картину и вносит в неё некоторые детали.
Участие тайной полиции (в частности, агента Фогеля) в деле о высылке Пушкина на юг в мае 1820 г. уже давно известно из рассказа поэта-декабриста Ф. Н. Глинки[91], но, так сказать, официально и открыто Пушкин вступил в непосредственные отношения к полиции в лице III Отделения и стал «поднадзорным» 30 сентября 1826 г., когда он, будучи в Москве, получил первое деловое письмо от Бенкендорфа[92]; но связь его с «высшей полицией» началась, как мы сказали, значительно раньше. Мы видели уже, как близко к последней поставила Пушкина деятельность Следственной комиссии по делу декабристов. «Дополнение, — говорит П. Е. Щёголев, — к данным, полученным официально из показаний привлечённых к делу, и укрепление создавшегося о Пушкине представления приносили доносы. Всегда была обильна доносами Русская земля, а в то время доносительство достигло степеней чрезвычайных. Во все концы России были разосланы офицеры, преимущественно флигель-адъютанты, для собирания под рукой доносов и сведений, не укрывается ли ещё где-нибудь гидра революции и остатки вольного духа. Все эти посланцы представляли рапорты и донесения о положении дел в губерниях, университетах и т. д. К сожалению, обо всём этом мы очень мало знаем; обрывки донесений встречаются в деле Следственной комиссии, но всё собрание их нам ещё недоступно. Был послан такой соглядатай и в Прибалтийский край, в область управления эстляндского генерал-губернатора Паулуччи. Проезжая через Псков, этот агент собрал сведения о Пушкине. Но донесение его нам неизвестно. Анненков слышал о посылке „особенного агента в начале 1826 года, с поручением объехать несколько западных губерний для узнания местных злоупотреблений и, при проезде через Псков, собрать точные и положительные сведения о самом поэте, что, по связям последнего со многими декабристами, было тогда мерой, входившей в общий порядок начатого следствия над заговорщиками“[93]. Анненков без всяких оснований полагает, что содержание его было благоприятно для Пушкина[94]. Мы же думаем, что донесение, вероятнее всего, не расходилось с теми данными, которые были получены Следственной комиссией»[95].
Так сказать, гласные полицейские материалы о Пушкине в настоящее время представляется возможным дополнить целою сериею материалов агентурного, секретного характера, сохранившихся в особом секретном отделе Архива бывшего III Отделения[96], в который вошли и документы предшествовавшего учреждению Отделения времени, начиная с февраля 1826 г., то есть от той поры, когда Бенкендорф и фон Фок ещё не носили соответствующих официальных званий, но заняты были частным поручением молодого императора — организацией секретного надзора, в виду предстоявшей коронации Николая I и отчасти в связи с шедшим тогда следствием по делу декабристов.
Ознакомление с этим секретным архивом даёт возможность довольно отчётливо установить схему наблюдательной деятельности III Отделения[97]. Она шла по двум путям, иногда параллельным, иногда сходившимся между собою: Бенкендорф, как шеф жандармов и командующий Императорскою Главною Квартирою, имел в своём ведении и распоряжении жандармских офицеров, раскинутых целою сетью по всей России и имевших, равным образом, своих собственных агентов; через начальников жандармских округов агентурные сведения из городов, губерний и уездов стекались к Бенкендорфу, а от него шли к Фоку, управляющему собственно III Отделением. Фок, кроме управления делопроизводством Канцелярии, в свою очередь, вёл широкую агентурную разведку, пользуясь для этого довольно обширным, по-видимому, штатом агентов и шпионов, живших в Петербурге, но иногда ездивших и в командировки. Из помощников Бенкендорфа назовем жандармов: генерала Петра Ивановича Балабина (начальника I Округа) в Петербурге, генерала Александра Александровича Волкова и полковника Ивана Петровича Бибикова в Москве[98], полковника Жемчужникова — в Ярославле, полковника Дейера — в Вологде и др. У Фока же состояли тайными агентами: довольно известный и плодовитый писатель-драматург Степан Иванович Висковатов (брат академика-математика)[99], князь Александр Фёдорович Голицын (камер-юнкер, служивший при Канцелярии Наследника Александра Николаевича), Екатерина Алексеевна Хотяинцова, бывшая Цизорова или Цызырева, рожд. Бернштейн (жена придворного актера Дмитрия Николаевича Хотяинцова[100], крещёная еврейка, слывшая у Фока под кличкою «Juive»); писательница Екатерина Наумовна Пучкова[101], осмеянная в эпиграмме Пушкина, и её сестра Наталья; Александр Саввич Лефебр, делавший свои сообщения Фоку по-французски; И. Локателли, также доносивший на французском языке; некий Гофман; еврей (?) Оскар Венцеславович Кобервейн, некий Гуммель (писавший по-немецки), Карл Матвеевич Фрейганг, Илья Ангилеевич Попов; неизвестная, «работавшая» среди солдат и носившая прозвище «Sibylle» (вероятно, гадалка), и многие, судя по почеркам донесений, другие, имена которых пока не представляется возможным разгадать, — люди образованные и совсем малограмотные, соответственно тем кругам, в которых они действовали.
Донесения этих агентов (всегда, по-видимому, письменные) стекались прямо к Фоку, а он из некоторых делал выборки, извлечения или сводку сообщений и представлял, в тщательно переписанном собственноручно виде, Бенкендорфу то, что, по его мнению, заслуживало внимания главы «высшей полиции»; через Бенкендорфа же секретные записки Фока восходили нередко и к самому Николаю I. К агентурной деятельности был близок также и барон И. И. Дибич (начальник Главного Штаба), зачастую сообщавший Бенкендорфу и от него получавший различные сведения, а также П. В. Голенищев-Кутузов — петербургский военный генерал-губернатор. Однако душою, главным деятелем и важнейшею пружиною всего сложного полицейского аппарата был неутомимый фон Фок, сосредоточивавший в своих опытных руках все нити жандармского сыска и тайной агентуры. Его деятельность была поразительно обширна, — он отдавался ей по-видимому, с любовью, даже со страстью, в буквальном смысле слова «не покладая рук». Количество сохранившихся в архиве III Отделения его писем, докладных и иных записок, справок, заметок, бюллетеней самого разнообразного характера, по самым различным поводам и вопросам — прямо изумительно[102]. Человек умный, хорошо образованный и воспитанный (бывший военный), он обладал знанием русского, французского, немецкого (ему родного) и польского языков и владел ими совершенно свободно. Своим большим образованием и кипучею деятельностью он как бы дополнял Бенкендорфа, — человека менее образованного и вялого, даже ленивого; их отношения друг к другу были самые дружественные, хотя Фок в своих письменных сношениях с «шефом» никогда не терял тона почтительности и уважения.
Присмотр этого-то обширного агентурного материала фоковского секретного архива за время 1826—1831 г. (то есть до смерти Фока, скончавшегося 27 августа 1831 г.) и дал возможность среди самых разнородных сведений о всевозможных событиях и о великом множестве лиц самого различного общественного или служебного положения разыскать немало новых сведений и о Пушкине, бывшем, как мы сказали, предметом особого внимания Бенкендорфа и Фока и их сотрудников.
Выборка из этого материала всего того, что так или иначе, в той или другой степени связано с именем Пушкина и с его биографией, расположенная в хронологическом порядке, даёт возможность проследить почти пять лет жизни Пушкина в её различных, крупных и мелких, событиях, отразившихся в работе III Отделения. Мы слышим здесь давно умолкнувший голос отца поэта, жалующегося своему брату и зятю в напыщенных, столь ему свойственных тонах, на сына в один из самых тяжёлых периодов их взаимных отношений; узнаём некоторые новые подробности жизни поэта, выясняем отношение к нему окружающей среды и отдельных лиц, наконец, читаем его собственные слова в письме его к Бенкендорфу от 7 мая 1830 г. Знакомство со всеми этими материалами подтверждает давно высказанные известным чиновником III Отделения, а некогда учителем Белинского — Михаилом Максимовичем Поповым слова, что уже с самого начала сношений своих с Пушкиным «высшая полиция» обратила особенное на него внимание и что «с того времени Бенкендорф и его помощник фон Фок ошибочно стали смотреть на молодого поэта не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи… Бенкендорф и его помощник фон Фок, не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец их предпримет какой-либо вредный замысел или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле слова дитя и, как дитя, никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд с одной стороны напоминаний, выговоров, а с другой — извинений, обещаний и вечных проступков!»[103]
Эта борьба двух противоположных начал ясно видна в печатаемых ниже материалах.
Когда умер Фок, то детски незлобивый, всепрощающий поэт записал о нём следующее: «На днях скончался в П. Б. фон-Фок, начальник 3 отделения государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твёрдый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: „J’ai perdu Fock; je ne puis que le pleurer et me plaindre de n’avoir pas pu l’aimer“[104]. Вопрос: кто будет на его месте? важнее другого вопроса: что сделаем с Польшей» (XII, 201).
Этими словами Пушкин ярко и верно очертил то значение, какое Фок имел в тогдашней русской общественной жизни, а в частности, следовательно, и в его собственной, и — не помянул его лихом[105].
Серия секретных материалов о Пушкине начинается запискою, которая находится в особом отделе Секретного архива, носящем название: «Bulletins et autres notices», — в картоне № 1, за февраль 1826 г.; здесь под № 35 имеется записка, писанная рукою деятельного агента III Отделения Степана Ивановича Висковатова — поэта и плодовитого драматурга, одного из ранних поклонников Шекспира в России, «обработавшего для Российского театра» «Гамлета» ещё в 1811 г.[106], во время своей службы в Канцелярии министра полиции Балашева; позже, в 1828—1829 г., он служил при Дирекции петербургских театров переводчиком[107] и в 1831 г., во время холеры, пропал без вести; вот эта записка:
«Прибывшие на сих днях из Псковской губернии[108] достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению определённый к надзору местного начальства в имении матери его, состоящем Псковской губернии в Апоческом уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: „Наконец не стало Тирана, да и оставший род его не долго в живых останется!!“ Мысли и дух Пушкина бессмертны: его не станет в сём мире, но дух, им поселённый, на всегда останется, и последствия мыслей его непременно поздно или рано произведут желаемое действие».
В одном из первых донесений только что назначенного агента Бенкендорфа — полковника жандармского полка И. П. Бибикова — из Москвы (Секретный архив, № 912) — читаем следующее:
Partageant vos nobles intentions, je songe sans cesse aux moyens de resserrer les liens qui unissent le Souverain à son peuple, et je pense qu’aprés les sujets importants dont j’ai eu l’honneur de vous entretenir dans mes lettres, il est indispensable de fixer l’attention sur les étudians et sur tous les élèves en général des instituts publics; nourris, pour la plupart dans des idées séditieuses et formés dans des principes irréligieux, ils offrent une pépinière qui peut un jour devenir funeste à la patrie et au pouvoir légitime.
On ne saurait aussi avoir une surveillance assez vigilante sur les jeunes poètes et les journalistes. Mais ce n’est pas par la sévérité seule qu’on peut porter remède aux maux que leurs écrits ont fait et peuvent encore faire à la Russie, car a-t-on gagné en reléguant le jeune Pouchkin en Crimée? Ces jeunes gens se trouvant seuls dans ces déserts, séparés, pour ainsi dire, de toute société pensante, privés de toute espérance au printemps de la vie, ils distillent le fiel de leur mécontentement dans leurs écrits, innondent l’Empire d’une foule de vers séditieux qui vont porter le flambeau de la révolte dans toutes les conditions et attaquer de l’arme dangereuse et perfide du ridicule la sainteté de la religion, — frein indispensable pour tous les peuples et particulièrement pour les Russes[109]. Que l’on essye de flatter la vanité de ces prétendus sages, et ils changeront d’opinion, car ne croyons pas que l’amour du bien ou le noble élan du patriotisme animent ces têtes exaltées, — non, c’est l’ambition qui les dévore et le désespoir d’être confondus dans la foule[110].
Je joins ici des vers qui circulent même en province et qui vous prouveront qu’il y a encore des malveillans:
Паситесь, русские народы, Для вас не внятен славы клич, Не нужны вам дары свободы, — Вас надо резать — или стричь.Je suis forcé, Général, d’entrer dans toutes sortes de détails avec Vous, parceque Vous ne devez pas compter sur la police d’ici, — c’est comme si elle n’existait pas et si tout est encore tranquille à Moscou, ne l’attribuez qu’à la Providence divine et au caractère paisible de la majeure partie des habitans.
B—ff.
Le 8 Mars 1826.
Au № 3[111]
В этом донесении Ивана Петровича Бибикова, сыгравшего позже, в 1834 г., уже по выходе своём в отставку, некоторую роль в жизни поэта Полежаева[112] (который увлёкся его дочерью Екатериной Ивановной, впоследствии, по мужу, Раевской), любопытно указание, — совершенно положительное, — о принадлежности Пушкину «Гавриилиады»: дело о ней возникло, как известно, лишь в 1828 г., — и поэту с трудом удалось тогда отвести от себя уже готовый разразиться над ним новый удар, а Бибиков, оказывается, ещё в 1826 г. определённо знал автора поэмы и указывал на него Бенкендорфу, который тогда ещё только готовился взять под своё особенное наблюдение Пушкина. Затем, по странному совпадению, Бибиков приводит в своём письме, хоть и не совсем точно, стихи Пушкина же: выписанные Бибиковым четыре стиха взяты из стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный», сообщённого автором в письме к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г., а напечатанного лишь в 1867 г. В рукописи приведённые стихи читаются так:
Паситесь, мирные народы, Вас не пробудит чести клич! К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.До Бибикова они дошли уже в искажённом виде — и с прямым приурочением к России — в одном из списков, разошедшихся, конечно, с лёгкой руки самого Тургенева.
* * *
В тех же упомянутых выше «Bulletins» за июнь 1826 г., в сообщении петербургского агента I. Locatelle (за № 352), делавшего свои наблюдения в обществе в связи с работами заседавшего тогда Верховного уголовного суда над декабристами, читаем следующее: «On est fortement étonné que célèbre Пушкин qui de tout temps est connu par sa manière de penser, ne soit impliqué dans l’affaire des conspirés»[113]. Действительно, хотя имя Пушкина и фигурировало в показаниях многих декабристов, однако отсутствие формальных поводов не позволило привлечь его к следствию, — а этого он сам сильно опасался.
* * *
Ко времени, непосредственно следовавшему за казнью декабристов, относятся три любопытных документа: во-первых, хорошо известная историкам русской общественности конца 1820-х гг. и напечатанная впервые в 1877 г.[114] записка «Нечто о Царскосельском Лицее и о духе оного», — записка, автор коей оставался до сих пор неизвестен[115]; во-вторых, записка об «Арзамасе»[116] и, в-третьих, особое «дело» Секретного архива (№ 758) из бумаг, оставшихся после смерти графа И. О. Витте, с расследованием о Пушкине, произведённом Александром Карловичем Бошняком, состоявшим в ведомстве Коллегии иностранных дел.
Помещик Херсонской губернии, «однокашник» Жуковского, бывший нерехотский (Костромской губернии) уездный предводитель дворянства, человек, по отзыву декабриста князя С. Г. Волконского, «умный и ловкий и принявший вид передового лица по политическим мнениям», — Бошняк, состоял секретным агентом при начальнике херсонских военных поселений графе И. О. Витте и в 1824—1826 гг. играл роль провокатора в кружке членов Южного тайного общества, в которое он проник, не внушая опасений, как человек светский, образованный, ботаник-любитель и литератор, автор нескольких книг[117]. По поручению того же Витте Бошняк, в середине июля 1826 г., то есть тотчас после казни декабристов, был отправлен в Псковскую губернию, для «возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян», и для «арестования его и отправления куда следует, буде бы он оказался действительно виновным». Приводим черновой рапорт Бошняка и его записку о Пушкине по тексту, опубликованному и комментированному А. А. Шиловым в журнале «Былое» 1918 г., в статье «К биографии Пушкина»[118].
Командиру резервного кавалерийского корпуса
генерал-лейтенанту графу Витту
Коллегии иностранных дел
от коллежского советника Бошняка
Рапорт
В следствие словесного приказания вашего сиятельства, отъехав Псковской губернии в город Ново-Ржев для препорученного исследования текущего года июля 19 дня, окончил я оное того же месяца 24 числа вечером, почему и отправил ожидавшего меня на станции Бежаницах фельдъегеря Блинкова 25 числа, в 8 часов утра, обратно в С.-Петербург. Что ж найдено мною прямо касающегося до известного предмета, равно как и до других, довольно важных обстоятельств, изъяснено в двух прилагаемых при сём записках под литерами А и В. Равным образом честь имею при сём представить для препровождения куда следует выданный под мою росписку из Канцелярии Дежурства его императорского величества и оставшийся без употребления открытый лист за № 1273 на имя фельдъегеря Блинкова, также и отчёт в издержанных на прогоны деньгах из числа выданных из той же Канцелярии на оные 300 рублей, оставшиеся от которых 51 р. 70 к. при сём же прилагаются.
Москва[119]. Августа 1 1826Записка о Пушкине[120]
Целью моего отправления в Псковскую губернию было сколь возможно тайное и обстоятельное [рассмотрение поступков][121] исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и в арестовании его и отправлении куда следует, буде бы он оказался действительно виновным.
Следуя через Порхов[122] на Ново-Ржев, первые сведения о Пушкине получил я на станции Ашеве. Знали, что Пушкин жил в некотором расстоянии от Ново-Ржева, но совсем никаких слухов об нём не было, и потому заключали, что он вёл себя весьма скромно.
По прибытии в Ново-Ржев [роспустя слух, что я путешествующий ботаник], я успел вскоре привлечь доверенность хозяина гостиницы, в которой я остановился, Дмитрия Степанова Катосова. От него я узнал о Пушкине следующе:
1-ое. Что на ярмонке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в руке[123].
2-ое. Что, во всяком случае, он скромен и осторожен, о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов об нём по народу не ходит.
3-ие. Что отнюдь не слышно, чтобы он сочинял или пел какие-либо возмутительные песни, а ещё менее — возбуждал крестьян.
Стремясь к дальнейшим открытиям, я решился искать знакомств в Ново-Ржеве.
Успевши познакомиться с уездным судьёю Толстым [которого удалось мне также уверить, что я учёный ботаник, намеренный провести несколько дней в Ново-Ржеве и в окрестностях оного, я возбудил его откровенность], о Пушкине я узнал как от него, так и от бывшего у Толстого в гостях смотрителя по винной части Трояновского, что Пушкин живёт весьма скромно, ни в возбуждении крестьян, ни в каких-либо поступках, ко вреду правительства устремлённых, не подозревается.
Познакомясь в гостинице с уездным заседателем Чихачевым, я услышал от него, что он, Чихачев, с Пушкиным сам лично знаком, что Пушкин ведёт себя весьма скромно и говаривал не раз: «Я пишу всякие пустяки, что в голову придёт, а в дело ни в какое не мешаюсь. Пусть кто виноват, тот и пропадает; я же сам никогда на галерах[124] не буду».
За обедом у Толстого, к которому и я был приглашён, находился близкий Пушкина сосед, г. Львов, бывший сряду два последние трехлетия Псковским губернским предводителем[125], — человек богатый и отменно здравым рассудком одарённый. Львов, исполненный, как казалось, истинного негодования противу злонамеренных, конечно, не скрывал своих замечаний о Пушкине. Он говорил:
1-ое. Что известные по сочинениям мнения Пушкина, яд, оными разлитый, ясно доказывают, сколько сей человек, при удобном случае, мог бы быть опасен; что мнения его такого рода, что, отравив единожды сердце, никогда уже измениться не могут.
2-ое. Что, впрочем, поступки Пушкина отнюдь с прежними писаниями его не согласны; что он, Львов, хотя и весьма близкий ему сосед, но ничего предосудительного о нём не слышит; что Пушкин живёт очень смирно, и что совершенно несправедливо, чтоб он старался возбуждать народ.
Поелику все сии известия были неудовлетворительны [!], я решился ехать к отставному генерал-майору Павлу Сергеевичу Пущину, от которого вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиною моего отправления[126]. [Название путешествующего ботаника и ложный поклон будто бы от графа Ланжерона, которого я никогда не видал, открыли мне путь]. Мне посчастливилось открыть себе путь к знакомству с ним, с женою и сестрою его. Пробыв в селе его Жадрицах целый день, в общих разговорах узнал я:
1-ое. Что иногда видали Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе.
2-ое. Что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними.
3-ие. Что иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу.
4-ое. Думали, что Пушкин продолжает писать, но никаких новых стихов его или песен ни в простом народе, ниже в дворянстве известно не было.
5-ое. Пушкин ни с кем не знаком и ни к кому не ездит, кроме одной госпожи Есиповой[127], своей родственницы; чаще же всего бывает в Святогорском монастыре.
6-ое. Впрочем, полагали, что Пушкин ведёт себя несравненно осторожнее противу прежнего; что он говорун, часто взводящий на себя небылицу, что нельзя предполагать, чтобы он имел действительные противу правительства намерения, в доказательство чего и основывались на непричастности его к заговору, которого некоторые члены состояли с ним в тесной связи; что он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить; наконец, что он человек, желающий отличить себя странностями, но вовсе не способный к основанному на расчёте ходу действий.
Видя, что все собранные в доме Пущиных сведения основываемы были, большею частью, не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках, я решился искать истины при самом источнике, то есть в Святогорском монастыре [отстоящем в 3 1/2 верстах от местопребывания Пушкина и столь часто им посещаемом].
По прибытии на ночь в монастырскую слободу [при Святогорском Успенском монастыре состоящую], я остановился у богатейшего в оной крестьянина — Ивана Никитина Столарева. На расспросы мои о Пушкине Столарев сказал мне следующее:
1-ое. Что Пушкин живёт в 3 1/2 в. от монастыря, в селе Зуеве[128], где, кроме церкви и господского строения, нет ни церковно-служительских, ни крестьянских домов.
2-ое. Что Пушкин обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям.
3-ие. Что ему всегда случалось видать его в сюртуке и иногда, в жары, без косынки.
4-ое. Что Пушкин — отлично добрый господин, который [давал на водку] награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведёт себя весьма просто и никого не обижает.
24-го, в субботу, рано по утру, отправился я в Святогорский Успенский монастырь к игумену Ионе[129] и, обратя внимание его щедротами на пользу монастырскую, провёл я у него целое утро [в молитве, осматривании строений и разговорах]. От него о Пушкине я узнал следующее:
1-ое. Пушкин иногда приходит в гости к игумену Ионе, пьёт с ним наливку и занимается разговорами.
2-ое. Кроме Святогорского монастыря и госпожи Осиповой[130], своей родственницы, он нигде не бывает, но иногда ездит и в Псков.
3-ие. Обыкновенно ходит он в сюртуке, но на ярмонках монастырских иногда показывался в русской рубашке и в соломенной шляпе.
4-ое. Никаких песен он не поёт и никакой песни им в народ не выпущено.
5-ое. На вопрос мой — «не возмущает ли Пушкин крестьян», игумен Иона отвечал: «он ни во что не мешается и живёт, как красная девка».
По возвращении на квартиру и расплатись с хозяином [щедрою рукою], я узнал от него ещё, в подтверждение слышанного, что Пушкин ни у кого не бывает, кроме родственницы своей, г-жи Осиповой, не посещает [никогда] окружных деревень и заходит только в их монастырь; ни с кем не знается и ведёт жизнь весьма [скромную] уединённую. Слышно о нём только от людей его, которые не могут нахвалиться своим барином.
Не находя более никаких средств к дальнейшим разведываниям, в 2 часа пополудни отправился я обратно в Ново-Ржев. Проезжая через удельную деревню Губину, соседственную с селом Пушкина, я нашёл в оной, по причине рабочей поры, только одного крестьянина, который подтвердил мне, «что Пушкин нигде в окружных деревнях не бывает, что он живёт весьма уединённо, и Губинским крестьянам, ближайшим его соседям, едва известен». Таким образом удостоверясь, что Пушкин не действует решительно к возмущению крестьян, что особого на них впечатления не произвёл, что увлекается, может быть, только случайно к неосторожным поступкам и словам порывами неукротимых мнений, а ещё более — желанием обратить на себя внимание странностями, что действительно не может быть почтен, — по крайней мере, поныне, — распространителем вредных в народе слухов, а ещё менее — возмутителем, — я, согласно с данными мне повелениями, и не приступил к арестованию его и, возвратясь на станцию Бежаница, где оставлял прибывшего со мною фельдъегеря, отпустил его, как более не нужного, обратно в С.-Петербург.
«Что же послужило, — спрашивает А. А. Шилов в цитированной статье своей, — причиною надвинувшейся над ничего не подозревавшим Пушкиным грозы, — надвинувшейся как раз в то время, когда он „желал бы вполне и искренне помириться с правительством“ и беспокоился, „что его оставили в покое“[131], и даже 19 июля 1826 г. представил на высочайшее имя прошение о дозволении ему ехать в Москву или С.-Петербург, или же в чужие края для излечения болезни?
Из „Записки о Пушкине“, — говорит Шилов, — видно, что его подозревали в „сочинении и пении возмутительных песен и в возбуждении крестьян к вольности“. Источником этого подозрения не был донос, а только сплетни-слухи, „столь обыкновенные в деревнях и уездных городах“ и вышедшие, главным образом, от соседа по имению П. С. Пущина; их основанием, конечно, послужили и образ жизни поэта, и отношение его к соседям-помещикам.
Отношение к уединённому образу жизни Пушкина, подчёркнутому неоднократно разными лицами: „ни с кем не знаком, ни к кому не ездит“ — удивительно живо напоминает отношение помещиков к Евгению Онегину, который тоже вызвал к себе неодобрение своих соседей:
…За то в углу своём надулся, Увидя в этом страшный вред, Его расчётливый сосед, Другой лукаво улыбнулся, И в голос все решили так: Что он опаснейший чудак[132].Поражало окрестных помещиков и гуманное отношение Пушкина к крестьянам, — опять напоминающее Евгения Онегина, — как к своим, так и к жившим в соседних деревнях: „Он дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними“, — показывает П. С. Пущин; „отлично добрый господин, который давал на водку за услуги даже собственным своим людям; ведёт себя весьма просто и никого не обижает; люди не могут нахвалиться своим барином“, — вторит содержатель гостиницы.
Близость к простому народу, какие-то разговоры с крестьянами, посещение ярмарок в Святогорском монастыре, интерес к народным песням, конечно, тоже интриговали помещиков и даже послужили основанием для легендарного предания об участии Пушкина в хоре слепцов и заарестовании его исправником, не узнавшим поэта[133]. Соседние помещики, не понимая, что мог поэт получать от крестьян, могли только сделать предположение, что Пушкин сближается с ними в целях распространения своих „возмутительных“ произведений. По крайней мере, посланный Бошняк получил ответ: „никаких песен он не поёт и никакой песни им в народ не выпущено“.
Окончательно приводил в недоумение совершенно необычный для дворянина костюм Пушкина: русская рубашка, розовый пояс, соломенная широкополая шляпа и железная трость в руках — фигурируют во всех ответах лиц, знавших и встречавших поэта. Досужие умы, любившие вести „благоразумные разговоры“
О сенокосе, о вине, О псарне, о своей родне, —недоумевали, чем можно объяснить все эти странные поступки опасного молодого соседа. И, конечно, ссылка на юг России и высылка на жительство под надзор полиции, в имение, создали Пушкину среди Псковских помещиков совершенно определённую репутацию автора „возмутительных и вольных“ стихотворений. Большинство произведений тогдашней „потаённой“ литературы связывалось с его именем, и недаром Пушкин бросил в письме к Вяземскому раздражённую фразу: „Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова“[134].
Все эти толки-сплетни о странных поступках Пушкина после 14 декабря 1825 г. получили в глазах перепуганных и мало что понимавших „Пустяковых, Зарецких, Буяновых, Петушковых“ до некоторой степени логическое объяснение. Политический заговор декабристов, близость Пушкина к многим из них, „вольные его стихотворения“ и близкое отношение к крестьянам были поставлены в тесную связь, — и о Пушкине стали говорить как о человеке, возбуждающем крестьян к вольности. Вероятно, случайный разговор П. С. Пущина сделал известным эти досужие слухи в Петербурге и вызвал необходимость назначить особое расследование о поступках Пушкина; тем более, что правительство, отыскивая следы влияния декабристов на крестьян, не могло оставить без внимания слухов о „возбуждении крестьян к вольности“ столь известным своим злонамеренным поведением сосланным поэтом.
К счастию для поэта, — пишет А. А. Шилов, — проверка, осторожно произведённая опытною рукою доверенного человека, выяснила всю неосновательность этих вымыслов. Расследование, произведённое среди крестьян и содержателей гостиниц и постоялых дворов (хозяин Новоржевской гостиницы, крестьянин Святогорской слободы, хозяин постоялого двора в той же слободе, крестьянин удельной деревни Губиной), решительно опровергло все слухи о сочинении „возмутительных песен“, а тем более о возбуждении крестьян и даже выставило поэта в удивительно мягком и привлекательном свете. Зато местные чиновники и помещики, знавшие и встречавшиеся с Пушкиным (уездный судья Толстой, смотритель по винной части Трояновский, уездный заседатель Чихачев, предводитель дворянства Львов, П. С. Пущин), в своих отзывах не пожалели тёмных красок при характеристике Пушкина: „Яд, разлитый его сочинениями, показывает, сколь человек, при удобном случае, мог быть опасен“; „Пушкин — говорун, часто взводящий на себя небылицы“; он „так болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его присвоить“; что он „человек, желающий отличить себя странностями, но вовсе неспособный к основанному на расчёте ходу действия“. Но и они вынуждены были опровергнуть подозрение в возбуждении крестьян и в „поступках, ко вреду государства устремлённых“.
Таким образом, никаких открытий не удалось сделать, и надвинувшаяся вплотную на ничего не подозревавшего Пушкина гроза в виде ловкого самозванца-ботаника, специалиста по розыскным делам, и фельдъегеря Блинкова, несколько дней дожидавшегося на почтовой станции намеченной жертвы с открытым листом об аресте, на этот раз пронеслась мимо: Пушкин „действительно не может быть почтен, по крайней мере поныне, распространителем вредных в народе слухов, а ещё менее — возмутителем“, — заканчивает свою „Записку о Пушкине“ А. К. Бошняк.
Весьма возможно, — пишет А. А. Шилов, — что негласный розыск, по времени совпадающий с подачею Пушкиным, через Псковского губернатора Бор. Ант. Адеркаса, всеподданнейшего прошения о снятии опалы, и благоприятные для Пушкина результаты расследования могли ускорить удовлетворение его просьбы. 30 июля 1826 г. прошение было послано Министру Иностранных Дел графу К. В. Нессельроде, а 31 августа того же года Б. А. Адеркасу было уже отправлено требование дежурного генерала Главного Штаба И. И. Дибича — немедленно доставить Пушкина в Москву с нарочным фельдъегерем, причём „г. Пушкин мог ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта“[135]».
* * *
Второй упомянутый нами выше документ той же эпохи, нашедшийся в Архиве III Отделения, известная записка «Нечто о Царскосельском Лицее». Чистовая рукопись её, писанная рукою писаря-каллиграфа для представления императору Николаю на прочтение, хранилась в секретном отделе Военно-Учёного архива Главного Штаба, с пометою на ней: «Единственно для высочайшего сведения»[136]; основываясь на черновой подлинной рукописи этой записки, сохранившейся в секретном архиве того же Архива III Отделения (под № 1123) вместе с запискою об «Арзамасе», мы можем сообщить более исправный текст её и, что ещё важнее, с достоверностью установить по почерку автора обеих: это был не кто иной, как пресловутый издатель «Северной пчелы» — Фаддей Булгарин, ретиво помогавший III Отделению, особенно в начале его деятельности, — по-видимому, как доброволец-осведомитель, а не как наёмный агент сыска, — и выказавший себя в этих записках убеждённым «гасителем»[137]. Обе записки, как мы сказали, — черновые, «брульоны», написаны обе «с маху», со многими поправками и зачёркнутыми целыми абзацами: они, по-видимому, послужили лишь материалом для представленного через Дибича мемуара, подвергшись при этом некоторым редакционным сокращениям под опытной рукой фон Фока. В виду тесной связи этих записок (а особенно — конца первой) с дальнейшею судьбою лицеиста Пушкина, из которого и сам Бенкендорф, и его помощники столь старательно искореняли и вытравляли ненавистный им, как и Булгарину, «лицейский дух», а также потому, что в автографах Булгарина они представляют очень значительные дополнения к известному в печати тексту и притом дают возможность восстановить то, что автором было написано, но затем зачёркнуто, — мы приводим обе записки полностью.
1. Нечто о Царскосельском Лицее и о духе оного
Что значит Лицейский дух. — Откуда и как он произошёл. — Какие его последствия и влияние на общество. — Средства к другому направлению юных умов и водворению истинных монархических правил
1. Что значит Лицейский дух. В свете называется Лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сём порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на Русском языке, а на Французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и Русским патриотом. К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдумано ими слово шагистика. Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почётные названия. Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной весёлости.
Вот образчик молодых и даже многих не молодых людей, которых у нас довольное число. У лицейских воспитанников, их друзей и приверженцев этот характер называется в свете: Лицейский дух. Для возмужалых людей прибрано другое название: Mépris souverain pour le genre humain[138], a в сокращении mépris[139]; для третьего разряда, т. е. сильных крикунов, — просто либерал. Например: каков тебе кажется такой-то? Хорош, но с Лицейским душком, или, хорош, но mépris или прямо: либерал.
2. Откуда и как он произошёл? Первое начало либерализма и всех вольных идей имеет зародыш в религиозном мистицизме секты Мартинистов, которая в конце царствования императрицы Екатерины II существовала в Москве, под начальством Новикова, и даже имела свои ложи и тайные заседания. Иван Владимирович Лопухин, Тургенев (отец осуждённого в Сибирь)[140], Муравьёв (отец Никиты, осуждённого) и многие лица, которые здесь не упоминаются, сильно содействовали Новикову к распространению либеральных идей посредством произвольного толкования Священного писания, масонства, мистицизма, распространения книг иностранных вредного содержания и издания книг чрезвычайно либеральных на Русском языке. Хотя сих последних осталось весьма немного, но о истреблении оных должно поручить попечение людям умным, расторопным и благомыслящим — независимо от какой-нибудь министерской власти. Подобные комиссии поручаются обыкновенно людям, служащим по Министерству Просвещения, где менее всего находится людей сведущих, умеющих различить пользу от вреда и знающих Русскую библиографию. Из желания выслужиться, они бросаются на какие-нибудь фразы и вместо пользы для правительства производят соблазн и вред. Об этом в другом месте поговорим подробнее.
Когда Новиков был сослан в Сибирь (sic! — Б. М.) и секта его рушилась, рассеянные адепты стали по разным местам отдельно проповедовать его учение. Тургенев был Попечителем Московского Университета, находился в дружбе с Мих. Никитичем Муравьёвым и рекомендовал ему многих молодых людей своего образования, которых сей последний пускал в ход, по своим связям. Другие делали то же, — и вскоре люди, приготовленные неприметно, большая часть сами не зная того, взяли перевес в свете и по службе, и по отличному своему положению, стоя, так сказать, на первых местах картины, сделались образцами для подражания. Новикова и Мартинистов забыли, но дух их пережил и, глубоко укоренившись, производил беспрестанно горькие плоды. Должно заметить, что план Новиковского общества был почти тот же, как Союза благоденствия, с тою разницею, что Новиковцы думали основать малую республику в Сибири, на границе Китая, и по ней преобразовать всю Россию.
Французская революция была благотворною росою для сих горьких растений. Ужас, произведённый ею, исчез, — правила остались и распространились множеством выходцев, коим поверяли воспитание и с коими дружились без всякого разбора. Кратковременное царствование императора Павла Петровича не погасило пламени, но покрыло только пеплом. Настало царствование императора Александра, и новые обстоятельства дали новое направление сему духу и образу мыслей.
До 1807 года продолжались различные благие начинания в отношении к воспитанию, к просвещению и государственному управлению. Но как по несчастному стечению обстоятельств не было довольного числа способных людей для управления всеми частями нововведений, то они, при всём благом намерении государя императора, с сего времени начали разрушаться или приняли совсем другое направление. Завели везде народные школы, не имея достаточного числа порядочных учителей и смотрителей, — и от того они не достигли своей цели. Университеты, образованные не в нравах Русских, но на Немецкую ногу, не принесли ожиданной пользы. В Германии юношество приезжает охотою учиться, и молодые люди живут без надзора на вольных квартирах, посещая по произволу лекции. У нас этот порядок или, лучше сказать, беспорядок имел самое вредное влияние на нравы и образ мыслей. Молодые люди утопали в разврате и вовсе не учились, и если из сего времени вышло несколько образованных людей, то это из Московского Университетского Пансиона, где воспитанники жили под присмотром; из Университета же вышло несколько из Остзейских дворян и несколько бедняков, пристрастных к учению, но весьма мало. Управление Университетов на Германский образец также не принялось в России: чинопочитание исчезло, а науки мало подвинулись вперёд. Словесность и науки представляют едва несколько учёных из всего этого огромного заведения и ни одного литератора.
Неспособность некоторых частных лиц исказила прекрасное учреждение Министерств[141]. Вместо того, чтобы посредством министерской власти содействовать успехам различных частей государственного управления, вместо того, чтобы министр, держа в руке последнее звено электрической цепи, мог по произволу сообщать движение всей массе и, обнимая орлиным взглядом целое, наблюдать за ходом машины, — всё действие министров ограничилось подписыванием бумаг, мелочами, деталями, а всё действия чиновников — производством бумаг, получением и отправлением оных. Переходя от одной мелочи к другой, занимаясь пустою перепискою, министры пренебрегали общими видами, усовершенствованиями, ходом, направлением дел. Корыстолюбцы, интриганы и пролазы воспользовались этим и замешали более дела, чтобы, как говорится, в мутной воде ловить рыбу. Главное внимание обращалось на то, чтобы всё было по штату и на бумаге, о настоящем заботились только те, которые имели в том личные свои выгоды. Из сего произошло то, что теперь уже сделалось известным мудрому нашему монарху. В просвещении — пренебрежено главнейшее: воспитание и направление умов к полезной цели посредством литературы[142]. [В финансах — упадок кредита, торговли и фабрик, истребление государственных лесов, недоверчивость в сделках с правительством, питейная система, гильдейское положение и т. п. В юстиции — взятки, безнравственность, решение и двойное, тройное перерешение дел по протекциям, даже после высочайшей конфирмации. В Министерстве Внутренних Дел — совершенный упадок полиции и безнаказанность губернаторов и всех вообще злоупотреблений. В Военном Министерстве — расхищения. Возник всеобщий ропот, который был приглушён громом оружия. Наступил мир. Почти целое юношество, возвратясь из-за границы, начало сравнивать, судить, толковать, перетолковывать и, не видя или не постигая или даже не желая видеть, что всё зло произошло не от порядка вещей, а от недостатка способных людей, всё приписывало дурному учреждению порядка вещей. Никто не заботился направлять общее мнение, воспитывать, так сказать, взрослых людей, доказать им, что Россия по составу своему, по обширности, по малонаселённости, по разнообразию народов, по недостатку всеобщего просвещения неспособна принять образа правления, выхваляемого в иностранных государствах. Вредоносное дерево росло на открытом воздухе: почва его тучнела от разглашения различных злоупотреблений, которые были общим предметом разговоров и суждений]. О других Министерствах здесь упоминать не место.
Во время самой сильной ферментации умов, в 1811 году новозаведённый Лицей наполнился юношеством из хороших фамилий. Молодым людям преподавали науки хорошие профессоры, их одевали чисто, помещали в великолепных комнатах, кормили прекрасно, — но никто не позаботился, даже не подумал, что этому новому рассаднику должно было дать свет и влажность в одинаковой пропорции и не оставлять одни произрастения расти в тени, а другие — на солнце, одни на тучной, другие на бесплодной земле. Всё это предоставлено было случаю. Никто не взял на себя труда испытать нравственность каждого ученика (а их было весьма не много), узнать, в чём он имеет недостаток, какую главную страсть, какой образ мыслей, какие понятия о вещах, чтобы, истребляя вредное в самом начале, развить понятия в пользу настоящего образа правления и к сей цели направлять всё воспитание юношества, назначенного занимать важные места и по своему образованию давать тон между молодыми людьми. Это именно ускользнуло от наставников, — впрочем, людей добрых и благомысленных.
В Царском Селе стоял Гусарской полк, там живало летом множество семейств, приезжало множество гостей из столицы, — и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. Должно заметить, что тогда было в тоне посещать молодых людей в Лицее; они даже потихоньку (т. е. без позволения, но явно) ходили на вечеринки в домы, уезжали в Петербург, куликали с офицерами и посещали многих людей в Петербурге, игравших значительные роли, которых я не хочу называть. В Лицее начали читать все запрещённые книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещённое, то прямо относились в Лицей.
После войны с французами (в 1816 и 1817 годах) образовалось общество под названием Арзамасского. Оно было ни литературное, ни политическое в тесном значении сих слов, но в настоящем своём существовании клонилось само собой и к той, и к другой цели. Оно сперва имело в намерении пресечь интриги в словесности и в драматургии, поддерживать истинные таланты и язвить самозванцев-словесников. Члены общества были неизвестны или хотя известны всем, но не объявляли о себе публике; но общество было явное. Оно было шуточное, забавное, и во всяком случае принесло бы более пользы, нежели вреда, если б было направляемо кем-нибудь к своей настоящей цели. Но как никто о сём не заботился, то Арзамасское общество без умысла принесло вред, особенно Лицею. Сие общество составляли люди, из коих почти все, за исключением двух или трёх, были отличного образования, шли в свете по блестящему пути и почти все были или дети членов Новиковской мартинистской секты, или воспитанники её членов, или товарищи и друзья и родственники сих воспитанников. Дух времени истребил мистику, но либерализм цвёл во всей красе! Вскоре это общество сообщило свой дух большой части юношества и, покровительствуя Пушкина и других Лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень. Не упоминаю о членах Арзамасского общества, ибо многие из них вовсе переменили образ мыслей и стоят на высоких степенях[143].
И так, не науки и не образ преподавания оных виновны в укоренении либерального духа между Лицейскими воспитанниками. Во-первых, политические науки преподавались в Лицее весьма поверхностно и мало; во-вторых, едва несколько слушали прилежно курс политических наук, и те именно вышли не либералы, как, например, Корф и другие; либеральничали те, которые весьма дурно учились и, будучи школьниками, уже хотели быть сочинителями, судьями всего, — одним словом, созревшими. Профессоры Кайданов, Кошанский, Куницын, — все люди добрые, образованные и благонамеренные; они почли бы себе за грех и за преступление толковать своим ученикам то, чего не должно. Но направление (impulsion) политическое было уже дано извне, и профессоры, беседуя с учениками только в классах, не только не могли переделать их нравственности, но даже затруднялись с юношами, которые делали им беспрестанно свои вопросы, почерпнутые из политических брошюр и запрещённых книг. Весьма вероятно, что составившееся в 1816 году Тайное общество, распространив вскоре круг своего действия на Петербург, имело умышленное и сильное влияние на Лицей. Начальники Лицея, под предлогом благородного обхождения, позволяли юношеству безнаказанно своевольничать, а на нравственность и образ мыслей не обращали ни малейшего внимания. И как с одной стороны правительство не заботилось, а с другой стороны частные люди заботились о делании либералов, то дух времени превозмог — и либерализм укоренился в Лицее, в самом мерзком виде. Вот как возник и распространился Лицейский дух, который грешно назвать либерализмом! Во всех учебных заведениях подражали Лицею, и молодые люди, воспитанные дома, за честь поставляли дружиться с Лицейскими и подражать им.
3. Какие последствия и влияния его на общество? Молодые люди, будучи не в состоянии писать о важных политических предметах, по недостатку учёности, и желая дать доказательства своего вольнодумства, начали писать пасквили и эпиграммы противу правительства, которые вскоре распространялись, приносили громкую славу молодым шалунам и доставляли им предпочтение в кругу заражённого общества. Они водились с офицерами гвардии, с знатными молодыми людьми, были покровительствованы Арзамасцами и членами Тайного общества, шалили безнаказанно, служили дурно и, за дурные дела пользуясь в свете наградами и уважением, тем давали самое пагубное направление обществу молодых людей, которые уже в домах своих не слушали родителей, в насмешку называли их верноподданными и почитали себя преобразователями, детьми нового века, новым поколением, рождённым наслаждаться благодеяниями своего века. Все советы были тщетными. Они почитали себя выше всех[144]. «Дух Журналов» был отголоском их мнения — может быть и неумышленно.
4. Средства к другому направлению юных умов и водворению истинных монархических правил. Если кто хочет переменить течение ручья, то должен начинать его у самого истока; лестницу должно мести с верхних ступеней. Для истребления чего-либо не довольно приказать, чтобы исполняли новые правила, — надобно выбрать исполнителей и наблюдать за ними, а не то — новое положение останется только в наружности и на бумаге. Ныне нельзя уже употреблять тех средств, которые пригодились бы лет 30 тому назад или даже 15. Если стадо бежит вперёд, то пастырю нельзя остановить его или воротить, не двигаясь с места: надобно, чтобы он забежал вперёд и чтобы имел искусных и послушных псов. Правительству также надобно подвигаться вперёд и действовать сообразно с духом времени и с понятиями тех, коих должно поставить на истинный путь. Первый шаг уже сделан: мудрый государь наш начал пещись о воспитании. Дай бог, чтобы, ему удалось выбрать на безлюдьи хороших начальников учебных заведений. Но у нас нет вовсе педагогов, и один только счастливый случай может указать полезных людей, которые бы с искусством исполняли благие виды государя.
Ныне наступил век убеждения, и чтобы заставить юношу думать, как должно, надобно действовать на него нравственно. Но пример лучше покажет недостатки средств и меры, кои должно употреблять.
Несколько лет тому назад воспитанник Виленской Гимназии, Платер, написал на доске: «Виват, да здравствует Конституция 3 Мая!» В России это вышло бы из обыкновенного порядка вещей, но в Польше, где каждый помнит прежний порядок вещей и толкует о нём, вещь эта не была сама по себе удивительною. Принявшись поправлять, испортили дело… Это случилось именно в день 3 Мая. Один учитель донёс о сём; всех школьников разогнали, Платера отдали в солдаты, наставников удалили — и сделали то, что юноши, которые прежде не думали о Конституции 3 Мая, почли её священною вещью, а себя — мучениками! Родители и учители превратились в недовольных, и дух, усыплённый прежде, возник и распространился со вредом для правительства, без пользы для правительства, без пользы для юношества. Я бы сделал так: 1) Сперва узнал бы я, откуда родилась в голове юноши идея прославлять Конституцию? Если в училище, то от кого; если из дома, то в каком виде сообщилась ему. 2) Я бы удостоверился, способен ли мальчик к принятию других идей. 3) Сделано ли сие по мгновенному порыву юности, или с целью? Исследовав сие, я бы решил: должно ли изгнать мальчика, не возбуждая в других сильного к нему участия, или оставить его и перевоспитать. Я бы не сказал: не делайте и не говорите, а не то — выгоню и высеку. За другие шалости можно так обходиться, но где действует мысль и убеждение, там должно противодействовать убеждением. Я уверен, что этим я бы не истребил зла, — сделал бы только лицемеров и упустил бы из виду зло, за которым мне надлежало наблюдать. Я бы взял на себя труд заняться направлением юных умов, сбившихся с истинного пути. Я бы растолковал юношам, что географическое пространство России, смешение различных народов, малонаселение, степень просвещения — требуют настоящего образа правления; поставил бы в пример падение конституционной Польши и возвышение самодержавной России, — словом, согрел бы юные умы историческими примерами, великими видами на поприще монархическом и, вероятно, будучи умнее и учёнее воспитанников, убедил бы их в противном и искоренил зло в самом его начале. Если б я удостоверился тайно, что труды мои тщетны, — тогда бы распустил учеников и набрал новых.
Вообще с юношеством гораздо легче ладить, нежели с взрослыми: стоит только заняться их нравственностью, привязать к себе ласкою и строгим правосудием, а не заниматься одною механическою частию учения. Нынешние начальники Лицея — люди добрые и благонамеренные, но неспособные к великому делу преобразования духа и образа мыслей. Ученики не любят их, не уважают и не имеют к ним доверия. В целой России я вижу одного только способного к тому человека, — это именно: полковник Броневский, Инспектор классов Тульского Училища, которое всем обязано ему одному[145]. Колзаков там Директором для формы. Я читал замечания Броневского обо всех корпусах и военных училищах в Петербурге; он показывал мне это по доверенности. Чудная вещь! Броневский — человек необыкновенно умный и совершенно знает своё дело. Это единственный педагог, которого можно употребить для преобразования. Он отменно привязан к царской фамилии и со слезами непритворными рассказывал мне о наследнике престола. Он беден — и это одно заставит его переселиться сюда или куда угодно.
Для истребления Лицейского духа в свете должно, во-первых, употребить благонамеренных писателей и литераторов, ибо всё это юношество льнёт к словесности и к людям, имеющим на оную влияние. В новом Цензурном Уставе[146] находится одна важная погрешность, препятствующая преобразованию мыслей, — погрешность, с первого взгляда неприметная: там сказано, что все писатели должны непременно, под лишением собственности, стараться направлять умы к цели, предназначенной правительством. Это надлежало делать, но не говорить, потому что сим средством истребляется доверенность к правительству и писателям, и юношество не станет ничему верить, что писано будет по-русски, полагая, что всё пишется не по убеждению, не по соображению ума, а по приказу. Надлежало бы заставить писателей доказывать, рассуждать и убеждать силою красноречия. По нынешнему Уставу этого делать нельзя, ибо каждый может перетолковать как ему угодно фразу и посредством интриги сделать несчастие человека самого благонамеренного: сим Уставом писатели и журналы подчинены безусловной воле министра, который может одним словом запрещать издания и книги. Прежде это делалось не иначе, как с высочайшего повеления, а писатели и публика были спокойны и не боялись интриг, влияний на министра его приближённых и т. п.[147]
Должно также давать занятие умам, забавляя их пустыми театральными спорами, критиками и т. п. У нас, напротив того, всякий бездельный шум в свете от критики возбуждает такое внимание, как какое-либо возмущение. И вместо того, чтобы умным и благомыслящим людям радоваться, что в обществах занимаются безделицами с важностью, — начальники по просьбам актрис или подчинённых им авторов тотчас запрещают писать, преследуют автора и цензора за пустяки, — и закулисные гнусные интриги налагают мёртвое молчание на журналы. Юношество обращается к другим предметам и, недовольное мелочными притеснениями, сгоняющими их с поприща литературного действия, мало-помалу обращается к порицанию всего, к изысканию предметов к порицанию, наконец, — к политическим мечтам и — погибели.
Должно знать всех людей с духом Лицейским, наблюдать за ними, исправимых — ласкать, поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему образу правления; возможность этого доказывается членами Арзамасского общества, которые, будучи все обласканы Правительством, сделались усердными чиновниками и верноподданными[148]. Неисправимых — без соблазна (sans scandal et sans éclat[149]) можно растасовывать по разным местам государства обширного на службу, удаляя их только от пороховых магазинов, то есть от войска в бездействии и от легионов юношей, служащих для виду при Министерствах и толпящихся в столицах вокруг порицателей (frondeurs) и крикнув. Должно стараться, чтобы крикуны и недовольные не имели средоточия действия, мест собраний; должно пресечь их влияние на толпу — и они будут неопасны. С действующими противозаконно и явными ругателями — другое дело, — об этом не говорится.
Должно бы истребить весьма лёгкое перехождение в дворянство — с чином 8 класса. Множество дворян без имени и без собственности унижает звание, почётное в монархии, и рождает толпы беспокойных, которые имеют в виду многое, не опасаясь потерь. Это — важное обстоятельство, требующее особенного внимания.
Действуя и поступая таким образом, с развитием во всей обширности всего того, о чём здесь только говорено намёками, я уверен, что в десять лет Россия будет тем, чем была в среднее время царствования императрицы Екатерины II, — славная, сильная, с просвещением, без идей революционных. Честолюбию и славолюбию будут открыты поприща; стоит ввести юношество на путь, — оно пойдёт по нём с радостью и увлечёт за собою всё дворянство.
Урок и наставления Булгарина, данные в этой записке, не прошли бесследно, и агенты III Отделения к ним, несоменно, прислушались. По отношению, в частности, к Пушкину, в это время жившему ещё в ссылке, решено было поступить по второму пункту рецепта-панацеи Булгарина: поэта, одержимого несомненным «Лицейским духом», положено было, как дававшего ещё надежду на «исправление», «приласкать», — для чего вызвать к царю, а затем — «следить» за ним, «поддерживая», «убеждая» и «привязывая к настоящему образу правления», — в надежде сделать из него нового арзамасца-сановника.
Записка Булгарина об «Арзамасе» была составлена в следующих выражениях, развивавших положения, высказанные вскользь в записке о «Лицейском духе»:
2.
Арзамасское общество не было вовсе Политическое, не имело никакого образования, ни устройства, не было тайным, а потому бывшие его члены ни в каком случае не могли упоминать о нём при подписке, данной Правительству о знании или участии в тайных обществах.
О сём Арзамасском обществе упомянуто было в Записке о Лицее для того только, что некоторые его члены имели влияние на дух Лицейских воспитанников. Арзамасское общество возникло от раздражённого самолюбия. Когда, по проискам актрис и князя Тюфякина, запрещено было писать о театре, а между тем некоторые драматические писатели, а именно: князь Шаховской, Загоскин и другие, начали выводить на сцену неприязненных им людей (даже кроткого Жуковского князь Шаховской выставил в комедии «Липецкие воды»)[150], то Уваров, Тургенев и другие составили союз или общество, названное (по вотчине одного из них в Арзамасе) Арзамасским. Туда собирались читать критики, а после — сатиры и эпиграммы на театральные пьесы и авторов. Вскоре Арзамасское общество вооружилось противу всех противников Карамзина и его школы и противу всех писателей, не желавших явно содействовать обществу. Оно критиковало также все так называемые старообрядческие, славофильские сочинения, то есть Шишкова, Шихматова и их приверженцев. И так не общество имело влияние на дух Лицея, но некоторые люди, принявшие в свой круг Пушкина, Кюхельбекера и других Лицейских студентов. Главная характеристическая черта членов Арзамасского общества, по которой и теперь можно отличить их между миллионами людей, есть: чрезвычайно надменный тон, резкость в суждениях, самонадеянность. Всё это называется теперь: Mépris souverain pour le genre humain. Этими словами означали членов Арзамасского общества, исключая некоторых скромных, двух или трёх — не более. Сергей Семёнович Уваров и Николай Тургенев суть два прототипа духа сего общества. Всё, что не ими выдумано, — дрянь; каждый человек, который не пристаёт безусловно к их мнению, — скотина; каждая мера правительства, в которой они не принимают участия, — мерзкая; каждый человек, осмеливающийся спорить с ними, — дурак и смешон. Вот какими выражениями они изъяснялись без обиняков. С равными они относились несносно и надменно, с низшими — как с чёрными невольниками, высших всех ругали без памяти за глаза и представляли в эпиграмматическом виде. Между тем, когда надлежало искать, то и надменные Катоны изгибались. Уваров сам примеривал кокошники и сарафаны мамкам Канкрина, а Николай Тургенев нашёл, что у Аракчеева прекрасное Русское лицо, когда он доставил ему 1000 черв. на дорогу! Этот несносный тон, это фрондёрство всего святого, доброго и злого в смеси, без различия, по одним страстям, заразило юношество, как было о сём упомянуто в Записке о Лицее. Из двадцати юношей в обществе тотчас можно узнать Лицейских воспитанников первого времени. Голова вверх, гордый взгляд, надменный тон, резкость в речах, ответы вроде приговоров, вопросы в виде повелений. Все они почитают себя рождёнными не в своё время, выше своего века, гениями! Все они вылиты в форму главных членов Арзамасского общества Уварова и Тургенева (Николая). Такая самонадеянность и гордость в молодых летах порождает неуместное честолюбие, желание новости и увлекает юношей на все пути, где они видят для себя возвышение и где полагают дать обширный круг деятельности своему уму. Если б только правительство хотело, — всё можно употребить в свою пользу, и для сего надобно только одной деятельности. Но о сём будет впоследствии изложено подробно. Итак, вот в каком отношении Арзамасское общество было вредно! То есть некоторые члены общества. Общество не имело ни малейшей политической цели; но как правительство не заботилось о том, чтобы каждому обществу дать своё направление, свою цель, то некоторые члены отдельно приготовляли порох, который впоследствии вспыхнул от буйного пламени Тайного общества. Арзамасское общество умерло своею смертью; когда кончилась причина, кончилось и действие. Великое и мудрое правило для искоренения всего злого. Покойный государь приехал к графине Софье Владимировне Строгановой и она сказала ему, что во время его отсутствия (в 1815 г.) запрещено писать о театре. Государь не хотел верить, после смеялся долго над этою мерою и велел тотчас снять запрещение. Le combat finit faute de combattants: загорелась война в журналах, — и Общество Арзамасское рушилось само собою. Когда запрещают печатать, то пишут тайно. Много, много было беды от закулисных интриг, будет ещё, если правительство не возьмёт эту часть в надзор и в употребление высшей полиции. Dixi!
Эта записка, в которой, как и в первой, был нарочито назван Пушкин, тоже, конечно, не прошла для него бесследно и способствовала определению того курса, который был принят по отношению к поэту-арзамасцу, да ещё насквозь пропитанному «Лицейским духом». Дальнейшие выписки из секретных dossiers Архива III Отделения покажут нам, как внимательно следили за Пушкиным в это время.
* * *
В ночь с 3 на 4 сентября 1826 г. Пушкин был увезён из Михайловского, в сопровождении фельдъегеря, в Москву, где его пожелал видеть император Николай, только что принявший коронование. Восьмого сентября он был в первопрестольной столице, где и был представлен Государю. Отмечая в своих «bulletins» все выдававшиеся из ряду происшествия, фон Фок не обошёл молчанием и этого события, — и в сентябрьских сообщениях его мы уже встречаем писанную его прелестным бисерным почерком записку, имеющую № 594 и дату «Le 17 Septbr», следующего содержания:
«Pouschkin, l’auteur, a été mandé à Moscou. En partant de Pleskow, il a écrit à son ami intime et camarade de Collège Delwig, pour lui annoncer cette nouvelle et lui demander un envoi d’argent qu’il voulait employer pour des parties fines et pour sabler du champagne[151]. — Cet individu est connu généralement pour être un philosophiste, dans toute la force du terme, donc, pour professer un égoisme systématique, avec un mépris des hommes, un dédain des sentiments comme des vertus, enfin une volonté active de se procurer les jouissances de la vie aux dépens de tout ce qu’il y a de plus sacré. C’est un ambitieux, consumé par la faim du désir, qui, observe-t-on, a une si mauvaise tête qu’on sera obligé de le morigéner à la première occasion. On dit que le Souverain lui a fait un accueil gracieux et qu’il ne justifiera pas les bontés que Sa Majesté a eu pour lui»[152].
Агент Локателли доносил фон Фоку в записке без числа[153], но около того же времени:
«On assure, que l’Empereur a daigné pardonner au célèbre Пушкин les torts dont ce jeune homme s’est rendu fautif sous le règne de son Bienfaiteur, feu l’Empereur Alexandre. — On dit que Sa Majesté l’a fait venir à Moscou et lui a accordé une audience particulière de plus de 2 heures, qui avait pour but de lui donner des conseils et démonstrations paternels. — On se réjouit sincèrement de la généreuse condescendance de l’Empereur qui aura sans doute les plus heureux résultats pour la littérature Russe. On sait que le coeur de Пушкин est bon, — il n’a besoin que d’être guidé; alors la Russie devra se glorifier et s’attendre à de plus belles productions de son génie»[154].
Другим, кроме сыска, орудием в руках фон Фока была издавна излюбленная тайной полицией перлюстрация частной корреспонденции; в собрании выписок из писем 1826 г. (Секретный архив, № 842) имеются две, за № 17 и 18, помещённые в обложку с надписью, сделанной фон Фоком: «Включаемые у сего выписки ничего замечательного не представляют. Сергей Львович Пушкин жалуется на сына своего Александра, известного стихотворца». Вот эти выписки:
№ 17. Выписка из письма Сергея Пушкина из С.-Петербурга от 17 октября 1826 года к Василию Львовичу Пушкину в Москву[155]
Non, mon bon ami, ne croyez pas qu’Александр Сергеевич sente jamais ses torts envers moi. S’il a pu au moment de son bonheur et lorsqu’il ne pouvait pas ignorer que j’ai fait des démarches pour obtenir sa grâce, me renier et me calomnier, — comment supposer qu’il revienne un jour? N’oubliez pas que depuis deux ans il nourrit cette haine que ni mon silence, ni mes procédés pour adoucir son exil n’ont pu diminuer. Il est très persuadé que c’est moi qui dois lui demander pardon, mais il ajoute que si je m’avisais de le faire, il sauterait plutôt par la fenêtre que de me l’accorder. Quant à moi, mon bon ami, je n’ai pas besoin de lui pardonner, puisque je ne demande à Dieu que la grâce de m’affermir dans ma résolution de ne pas me venger. — Je n’ai pas encore pour un seul instant discontinué de faire des voeux pour son bonheur et, comme l’ordonne l’Evangile d’aujourd’hui, j’aime en lui mon ennemi et je lui pardonne si ce n’est en père, puisqu’il me renie, — c’est en chrétien; mais je ne veux pas pu’il le sache: il l’attribuerait à ma faiblesse ou à l’hypocrisie, et ces principes d’oubli des injures que nous devons à la religion lui sont tout à fait étrangères[156].
Другая выписка — из письма того же С. Л. Пушкина и от того же числа — к своему зятю — мужу сестры его Елизаветы Львовны Сонцовой:
№ 18. Выписка из письма с подписью Serge (Пушкин) из С.-Петербурга от 17 октября 1826 года к Матвею Михайловичу Сонцову в Москву
Ma position est terrible et les chagrins auxquels je m’attends sont incalculables, mais ma résignation et ma confiance en Dieu me restent. Je le prie tous les jours, afin qu’il m’affermisse dans la résolution que j’ai prise — de ne pas me venger et de supporter tout. Je veux bien espérer qu’Alexandre Сергеевич sera fatigué de poursuivre un homme qui se tait et qui ne demande qu’à être oublié. Ce qu’il y a de plus singulier dans sa conduite, c’est que tout en m’insultant et en brisant nos coeurs, il compte retournet à notre campagne et naturellement jouir de tout ce dont il a joui, quand il n’avait pas la liberté d’en sortir. Comment concilier ceci avec la manière dont il parle de moi, car il ne peut pas ignorer que je le sais.
Тургенев Alexandre et Жуковский, pour me consoler, me disoient que je devois me mettre au dessus de ce qu’il disoit de moi; que c’étoit par imitation de Lord Byron, auquel il veut rassembler. Byron detestoit sa femme et en parloit mal partout. Александр Сергеевич m’a choisi pour sa victime; mais ces raisonnements ne sont pas consolants pour un père, si je puis encore me nommer ainsi. Au reste je repète encore une fois: qu’il soit heureux, mais qu’il me laisse tranquille[157].
Следующая выписка была сделана тайной полицией из письма лица, оставшегося, к сожалению, не выясненным перлюстраторами; письмо шло из Москвы, где тогда находился на свободе, уже два месяца, Пушкин.
№ 32. Выписка из письма без подписи из Москвы от 6 ноября 1826 г. к Графу Михаилу Юрьевичу Виельгорскому в С.-Петербург[158]
Вероятно встречусь с Пушкиным, с которым и желал бы познакомиться; но с другой стороны слышал так много дурного на счёт его нравственности, что больно встретить подобные свойства в таком великом Гении. Он, говорят, несёт большую дичь и — публично. Жена Николая В. мне вчера сказала, что Вяземский и Пушкин ждут меня с нетерпением, а по какой причине, — не знаю.
В пачке донесений и писем полковника жандармского полка Ивана Петровича Бибикова к Бенкендорфу (Секретный архив, №912) находятся две записки, относящиеся тоже к началу ноября 1826 г., то есть ко времени пребывания Пушкина в Москве:
1) «Je surveille l’auteur P… autant que possible. Les maisons qu’il fréquente le plus souvent sont celles de la P. Zénéide V<olkonsky>, du Prince Viasemsky, le poète, de l’ex-ministre Dmitreff et du procureur Gihareff. Les conversations y roulent, la plupart du tems, sur la littérature. Il vient de composer la tragédie de Boris Godounoff, qu’on a promis de me lire et où, à ce que l’on prétend, il n’y a rien de libéral. Il est vrai que les femmes encensent et gâtent le jeune homme; par exemple, sur le désir qu’il manifestat, dans une société, de prendre du service, plusieurs femmes s’écrièrent à la fois: „Pourquoi servir! Enrichissez notre littérature de vos sublimes productions, et d’ailleurs ne servez-vous pas déjà les niuf soeurs? Ex-ista-t-il jamais un plus beau service?“ Une autre dit: „Vous servez déjà dans le génie“ et ainsi de suite. — Je ne vous en ai pas parlé jusqu’à présent, car les propos sans conséquence ne feraient qu’absorber un tems précieux».
2) «Ce 8 Novembre 1826. L’auteur P…, dont j’ai eu l’honneur de Vous parler dans ma dernière lettre, vient de quitter Moscou pour aller dans ses terres de Pskow. — Sa tragédie de Boris Godounoff, qu’un de mes amis a lu, est, dit-on, un chef-d’oeuvre de Poésie. Elle est purement historique, composée dans le genre de celles de Schiller et écrite en vers blancs»[159].
В том же ноябре 1826 г. имя Пушкина снова попало под руку фон Фока по косвенному поводу, — в связи с заинтересовавшею Бенкендорфа личностью А. Д. Илличевского, поэта и лицейского товарища Пушкина. В записке под № 723, писанной Фоком, читаем такое сообщение:
«Le jeune fendant qui a dîné chez l’aide-de-camp Abaza et y a prêché l’égalité, s’appelle Illiczewski. Il est élève du Lycée, d’où il est sorti en même tems avec Pousckin, Pouschtschin et Küchelbecker. Infecté du même mauvais esprit, il a séjourné quelque tems à Paris, où il a fréquenté souvent la maison de madame Narischkin»[160].
Бенкендорф на записке этой сделал следующую заметку карандашом: «Le jeune Очкин qui avait été légèrement compromis dans la grande histoire a rapporté cette conversation»[161].
Через месяц, в декабрьские «Bulletins» 1826 г., под № 786, была включена записка упомянутого уже выше жандармского полковника И. П. Бибикова, с надписью «Secrète» и следующего содержания:
«Votre Excellence trouvera ci-joint le journal de Михайла Погодин de 1826, où il n’y a aucune tendence libéral: il est purement littéraire. Néanmoins je fais strictement surveiller le rédacteur et je suis parvenu à connaître tous ses collaborateurs que je ferai suivre de même, — ce sont:
1) Пушкин.
2) Востоков.
3) Калайдович.
4) Раич.
5) Строев.
6) Шевырёв.
Les pièces que Pouschkin lui a fait tenir pour être insérées dans son journal, sont des tirades de sa tragédie de Boris Godounoff, mais qu’il ne peut communiquer à personne, parceque d’après les lois de la rédaction il ne peut pas les faire connaître avant l’impression. Je sais de bonne part cependant que cette tragédie ne renferme rien de contraire au gouvernement.
Le 7 Décemb. 1826»[162]*.
Затем в течение двух месяцев агенты III Отделения молчали о Пушкине и лишь 5 марта 1827 г. сам начальник 2-го округа корпуса жандармов генерал-майор Александр Александрович Волков доносил Бенкендорфу (в своём втором по вступлении в должность письме), между прочим:
«О поэте Пушкине, сколько краткость времени позволила мне сделать разведании, — он принят во всех домах хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой и променял Музу на Муху, которая теперь из всех игр в большой моде»[163].
После этого лаконического и претендующего на остроумие сообщения — опять большой перерыв в сообщениях о Пушкине, и только в агентурных сведениях за июль 1827 г. мы находим записку, писанную рукою фон Фока:
«Des vers qu’on attribue à Pouschkin circylent en ville et on les dit par coeur. Les voici tels qu’on me les a répétés[164]:
Россия, в оба ты гляди! Министрам товарищи даны. Но от Дашки, от Блуда И от Рюрикова уда Чего ты можешь ожидать!»К слову «Рюрикова», подчёркнутому карандашом, Бенкендорф сделал пояснение: «Долгоруков», имея в виду бывшего в 1827—1830 гг. товарищем министра юстиции и управляющим этим министерством «Рюриковича» князя А. А. Долгорукова; под Дашкой и Блудом разумеются арзамасцы Д. В. Дашков[165] и Д. Н. Блудов, назначенные тогда тоже товарищами министров, первый — внутренних дел, а второй — народного просвещения. Эти скверные стихи, конечно, Пушкину не принадлежали, но приписывались ему, лишний раз подтверждая и оправдывая его собственные слова о том, что «все возмутительные рукописи ходили под его именем, как все похабные — под именем Баркова».
В тех же агентурных сведениях, относящихся тоже к июлю 1827 г., встречаем записку, писанную рукою фон Фока и — по странной случайности — в самый день первой годовщины казни декабристов.
«13 Juillet 1827
La Surveillance n’a pas perdu de vue la conduite et les liaisons du Comte Alexandre Zawadoffski, dont elle a quelque raison de se méfier[166].
Sous le rapport politique on n’a rien observé jusqu’ici, si ce n’est que quelques jeunes badauds y viennent raisonner et fronder, mais sans suite.
La principale occupation de Zawadoffski, pour le moment, est le jeu. Il a loué une maison de campagne au côté de Vibourg, chez Pflug, où se réunissent presque chaque soir les individus suivans et plusieurs autres, moins marquans:
Le Colonel Drouville, officier de mérite, à ce qu’on prétend, mais hableur et fanfaron insupportable.
Le Colonel Гудим-Левкович.
Le Général Lewanski.
Un officier démissionnaire Якунчиков et un certain Вереянов. Joueurs de profession qu’on surveille.
Le P-ce Basile Meschtcherski dont la nomination comme président de la Censure de Moscou a produit, généralement, le plus mauvais effet[167].
M. Stolipin, Conseiller d’état, qui est dans les fermes d’eau de vie.
Le jeune Poniatowski, de Kieff, fils du fameux fermier, et son camarade le S-r Piniadzek.
Le Général Anselme de Gibori ne quitte plus Zawadoffski; il s’est installé tout à fait chez lui.
M. Pouschkin, l’auteur, y a été quelques fois. Il paraît bien changé et ne s’occupe que de finances, en tâchant de vendre ses productions littéraires à des conditions avantageuses. Il demeure à l’hôtel Demouth, où le viennent voir ordinairement: le Colonel Bezobrazoff, le poëte Baratinski, le littérateur Fédoroff et les joueurs Schichmakoff et Ostolopoff. Dans ses épanchemens d’amitié il avoue tout franchement qu’il n’aurait jamais fait tant de folies et de sottises, s’il n’avait pas été mené par Alexandre Rayeffski, qui, d’après toutes les notices recueillies de différens côtés, doit être un homme fort dangereux»[168].
В сентябрьских «Известиях» 1827 г. находим любопытную записку фон Фока с неоднократным упоминанием имени Пушкина[169].
О начале собраний литературных
После нещастного происшествия 14 декабря, в котором замешаны были некоторые люди, занимавшиеся словесностью, Петербургские литераторы не только перестали собираться в дружеские круги, как то было прежде, но и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления правительства. Нелепое мнение, что государь император не любит просвещения, было общим между литераторами, которые при сём жаловались на Ценсурный Устав и на исключение литературных обществ из Адрес-Календаря, по повелению Министра Просвещения. Литераторы даже избегали быть вместе, и только встречаясь мимоходом изъявляли сожаление об упадке словесности. Наконец, поступки государя императора начали разуверять устрашённых литераторов в ошибочном мнении. Чины, пенсионы и подарки, жалуемые от щедрот монарших, составление Комитета для сочинения нового Ценсурного Устава и, наконец, особенное попечение государя об отличном поэте Пушкине совершенно уверили литераторов, что государь любит просвещение, но только не любит, чтобы его употребляли, как вредное орудие для развращения неопытных софизмами и остроумными блестками, скрывающими яд под позолотою.
В прошлое воскресенье, 28 августа, давал литературный обед Павел Петрович Свиньин, издатель «Отечественных Записок». На сём обеде давно небывшие вместе литераторы сошлись, как давнишние знакомые, но с некоторою недоверчивостью и боязнию. Вино усладило конец беседы, стали воспоминать о прошедшем и положили, чтобы все литераторы с состоянием дали по два вечера в зиму для своих собратий и художников. Но сей обед и последовавший за ним вечер был притом несколько холоден по той причине, что на нём люди были из разных литературных партий, и откровенность не могла между ними воцариться.
Но дух здешних литераторов лучше всего обнаружился на вечеринке, данной Сомовым 31 августа по случаю новоселья. Здесь было немного людей, но всё, что, так сказать, напутствует мнение литераторов, — журналисты, издатели альманахов и несколько лучших поэтов. Между прочими был и ценсор Сербинович. Совершенная откровенность председательствовала в сей беседе, говорили о прежней литературной жизни, вспоминали погибших от безрассудства литераторов, рассказывали литературные анекдоты, говорили о ценсуре и т. п. Издатель «Московского Телеграфа» Полевой один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах. Ему сделали вопрос: каким образом он успевает помещать слишком смелые и либеральные статьи? Полевой, не зная ценсора Сербиновича, начал рассказывать при нём, как он потчует своих ценсоров и под шумок выманивает у них подпись.
Это оскорбило целое собрание, а ему отвечали, что у нас это почитается обманом, которого ничто не извиняет. Полевой хвастал, как великим подвигом и заслугою, что Московский Военный Губернатор князь Голицын несколько раз уже жаловался на него Попечителю Писареву за либеральность, но что он не боится ничего под покровом князя Вяземского, который берёт всю ответственность на себя, будучи силён в Петербурге. На сие его неуместное хвастовство также отвечали презрительным молчанием. За ужином, при рюмке вина, вспыхнула весёлость, пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром[170]. Начали говорить о ненависти государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера, о желании дать России законы, — и, наконец, литераторы до того вспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровие государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровие ценсора Пушкина, чтобы провозглашение имени государя не показалось лестью, — и все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино.
«Если б дурак Рылеев жил и не вздумал взбеситься, — сказал один, — то клянусь, что он полюбил бы государя и написал бы ему стихи». — «Молодец, — дай Бог ему здоровие — лихой», — вот что повторяли со всех сторон.
Весьма замечательно, что ныне при частных увеселениях вспоминают об государе произвольно, как бы по вдохновению, как то было и на серенаде 21 августа на Чёрной Речке, где при пении: Боже, царя храни, всё, что было лучшего, — офицеры и словесники, — воскликнули ура! и рукоплескали не из лести, ибо сие происходило в темноте.
Если литераторы станут собираться, то на сие будет обращено особенное внимание: начало предвещает хороший дух и совершенно противный Московскому.
Рукою начальника Главного Штаба барона И. И. Дибича на этом докладе, писанном фон Фоком, сделана была следующая помета с обращением к Бенкендорфу: «9 Sept. Je Vous prie, cher général, de me parler de ce papier quand nous nous verrons».
Эта записка, как и некоторые другие, возможно, были составлены по сведениям, дошедшим до фон Фока от его добровольного сотрудника — Булгарина. Отношение к последнему Пушкина в это время были ещё вполне спокойное, даже приязненное.
К той же эпохе относится и находящаяся в перлюстрации 1827 г. (Секретный архив, № 843) следующая любопытная выписка:
Выписка из письма г. Соболевского[171] из д. Устинова от 20 сентября 1827 года к Николаю Матвеевичу Рожалину в Москву
Старайтесь, молодые люди, о Вестнике[172]. И я стараюсь, то есть еду завтра в Псков к Пушкину условливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно (т. е. piano). Вот пожива Киреевскому.
Мне смерть горько приходит в Петербурге, и как только дела позволят, то я вырвусь отселе окончательно, т. е. по возвращении моём из Пскова, где я и пробуду дня 4. Впрочем, мне жизнь смертельно опротивела, и с тех пор, как я всех моих здешних отыскал и обнял, то опять вспомнил, что мне скучно жить в свете. В этом я нашёл себе товарища, Мальцова, и мы в запуски проклинаем жизнь и уговариваемся взаимно расстрелиться, что и будет в скором времени произведено в действие. Киреевский! Тебя, мой верный Санхо-Панса, благодарю за готовность. Так, решено (т. е. почти что), — посоветуюсь с молодецкою твоею душою и двинемся в поход. Вот тебе моё честное слово, что все ахнут, услыша повесть о нас, а повесть будет совершенно в роде Байрона.
Далее, в мелких агентурных петербургских сведениях за октябрь 1827 г. находим большую записку, писанную рукою фон Фока и озаглавленную: «Разные слухи и толки»; здесь, в пункте 7-м, читаем следующее[173]: «Поэт Пушкин здесь. Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит на свой счёт. Соболевского прозвали брюхом Пушкина. Впрочем, сей последний ведёт себя весьма благоразумно в отношении политическом», а далее: «Князь Вяземский беснуется в Москве, что Полевому запретили издавать газету. Он поговаривает ехать в Париж, но долги не пускают».
На записке есть помета Бенкендорфа, из которой видно, что записка эта представлялась на прочтение императору Николаю…
К тому же месяцу относится ещё другая записка фон Фока, составленная быть может, опять не без участия Булгарина[174]:
«Поэт Пушкин ведёт себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнию, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть. Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над Правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: „Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, — свободу: виват!“».
На записке этой сделана помета рукою Бенкендорфа, карандашом: «Приказать ему явиться ко мне завтра в 3 часа».
В сведениях за ноябрь 1827 г. на особом листке находится написанное рукою фон Фока стихотворение «Русскому Геснеру» (начало: «Куда ты холоден и сух!»), с ошибкою в 3-м стихе и с подписью: А. Пушкин. Под заглавием его рукою Бенкендорфа, карандашом, написано: «На Федрова», — то есть на Бориса Михайловича Фёдорова; это, однако, неправильно, так как известно, что стихотворение это было направлено против «идиллика» В. И. Панаева. Заметим, кстати, что эти стихи появились в печати лишь в 1828 г., в «Опыте Русской Анфологии» М. А. Яковлева, — следовательно, до Фока они дошли агентурным путём.
К декабрю 1827 г. относится записка фон Фока о праздновании именин у Н. И. Греча (6 декабря) с сообщением о том, как вёл себя здесь же бывший Пушкин. Вот эта любопытная записка, составленная, вернее всего, по информации Булгарина[175]:
В день св. Николая журналист Николай Греч давал обед для празднования своих именин и благополучного окончания Грамматики. Гостей было 62 человека: всё литераторы, поэты, учёные и отличные любители словесности. Никогда не видывано прежде подобных явлений, чтоб столько умных людей, собравшись вместе и согрев головы вином, не говорили, по крайней мере, двухсмысленно о правительстве и не критиковали мер оного. Теперь, напротив, только и слышны были анекдоты о правосудии государя, похвала новых указов и изъявление пламенного желания, чтобы государь выбрал себе достойных помощников в трудах. На счёт министров не женировались, как и прежде, — каждый рассказывал какие-нибудь смешные анекдоты и злоупотребления, всегда прибавляя: «При этом государе всё это кончится. На него вся надежда; он всё знает; он всё видит, всем занимается; при нём не посмеют угнести невинного; он без суда не погубит; при нём не оклевещут понапрасну, он только не любит взяточников и злодеев, — а смирного и доброго при нём не посмеют тронуть».
Под конец стола один из собеседников, взяв бокал в руки, пропел следующие забавные куплеты, относящиеся к положению Греча и его Грамматики:
1. Уж двадцать лет прошло, как Греч Писать Грамматику затеял; Конец труду и — тяжесть с плеч, Пусть жнёт теперь, что прежде сеял. Лились чернила, лился пот, Теперь вино польётся в рот. 2. Явись, бокал, — ты наш союз, Склонение — к любви и славе; Глагол сердец — причастье Муз, Знак удивительный в забаве! Друзья, кто хочет в счастьи жить, Спрягай почаще: пить, любить! 3. В отчаяньи уж Греч наш был, Грамматику чуть-чуть не съели: Но царь эгидой осенил, И все педанты присмирели. И так, молитву сотворя, Во-первых — здравие царя! 4. Теперь, ура, друг Николай! (то есть Греч) Ты наш жандарм языкознанья. Трудись, живи да поживай Без всяких знаков препинанья. Друзья, воскликнем, наконец: Ура, Грамматики творец!Трудно вообразить, какое веселие произвели сии куплеты[176]. Но приятнее всего было то, что куплеты государю повторены были громогласно всеми гостями с восторгом и несколько раз. — Куплеты начали тотчас после стола списывать на многие руки. Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал прохаживаясь:
И так, молитву сотворя, Во-первых — здравие царя!Он списал эти куплеты и повёз к Карамзиной. Нечаев послал их в Москву.
Все удивляются нынешнему положению вещей: прежде не было помину о государе в беседах, — если говорили, то двухсмысленно. Ныне поют куплеты и повторяют их с восторгом!
L’opinion publique a besoin qu’on la dirige[177]. Но направлять общее мнение тогда только можно, когда есть элементы к возбуждению хороших впечатлений и когда честные и умные люди, видя и чувствуя благие виды Правительства, охотно содействуют к направлению мнений в хорошую сторону. Теперь всё это есть — и элементы, и добрые люди, а через несколько лет можно надеяться, что образ мыслей вообще и в целом примет самый лучший оборот.
Мы уже упоминали во вступительной своей заметке, что у фон Фока были агенты самого различного положения, — сообразно тому, в каких кругах эти агенты должны были вращаться. Образчик «высокой» агентуры — например, Висковатова или Локателли — мы уже видели, а вот образец донесений агента, судя по его произведениям (очень многочисленным), тёршегося в лакейских и прихожих. Этот безграмотный образчик находится в числе агентурных сведений за февраль месяц 1828 г. (Секретный архив, № 1078, л. № 33); передаём его со всеми особенностями пунктуации:
Пушкин! известный уже, сочинитель! который, не взирая на благосклонность государя! Много уже выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!! колких для правительствующих даже, и к государю! Имеет знакомство с Жулковским!! у которого бывает почти ежедневно!!! К примеру вышесказанного, есть оного сочинение под названием Таня! которая быдто уже, и напечатана в Северной Пчеле!! Средство же, имеет к выпуску чрез благосклонность Жулковского!!
Жулковский здесь, конечно, — Жуковский, а под сочинением «Таня» следует угадывать «Евгения Онегина», которого IV и V главы вышли в свет как раз в начале февраля 1828 г.
Далее мы приводим записку (Секретный архив, № 915, л. 1) упомянутой в предисловии еврейки Екатерины Хотяинцовой о княгине Евдокии Ивановне Голицыной, известной по прозвищу Princesse Nocturne[178] и воспетой Пушкиным. Имя последнего лишь упоминается в списке знакомых княгини, но мы приводим здесь эту записку о Голицыной, равно как и другую о ней же, ввиду того внимания, которое уделял «Княгине Ночной» наш поэт:
Записка о княгине Голицыной
Княгиня иногда через девушку свою Ольгу Ивановну раздаёт солдатам деньги, но это большая часть солдат, отданных из её вотчины; есть и другие, но очень мало; ни один из них не служит в Преображенском полку, а в Измайловском, Семёновском и в Конногвардейском. Сама княгиня никогда не говорит с солдатами.
У княгини часто проводит ночи Николай Семёнович Мордвинов. Кн. Николай Борисович Голицын 7-го числа сего месяца провёл у неё время с 10-ти часов вечера до 3-х часов.
У княгини живёт для компании девица Жеребцова, воспитанница Екатерининского Института; у неё брат полковник, находящийся в поселенных войсках; сия девица переписывает у княгини бумаги; она говорила мне, что княгиня пишет по части математики.
Княгиня весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет их в сундук, стоящий в её спальне. Все её люди говорят, что она набожна, но я была в её спальне и кабинете и не нашла ни одной набожной книги; лежат книги больших форматов, — я открывала некоторые; это была Французская революция с естампами, Римская история и проч. Я взяла из одной книги вложенную в неё бумагу, на коей написано множество имён: я удержала оную у себя, дабы можно было из оной видеть, с кем знакома княгиня, и которую при сём прилагаю.
Фогель[179] не отходит от её дома, и я опасаюсь, дабы он не дал знать, чтоб меня береглись.
Я Жеребцовой обещала доставить место гувернантки или компанионки.
Вчерашний день княгиня наняла к себе человека, но сегодня велела его отпустить, сказавши, что ей не нравится его физиогномия.
9 Апреля 1828 года
Екатерина ХотяинцоваНа отдельной пришитой к записке бумажке написано рукою княгини Е. И. Голицыной:
Корсакова — 3.
Кн. Софья Голицына — 2.
Княг. Голицына — 4.
Хитрова — 1.
Толстая — 1.
Хитрова — 4.
Г. Строганова — 2.
Нарышкин — 1.
К. Лабанов — 1.
Пратасов — 1.
Цицианов — 3.
Мелиен — 3.
Урусовы — 3.
Голицын — 1.
К. Вяземский — 1.
Пушкин — 1.
К. Долгоруков — 1.
Суворов — 1.
Пашков — 1.
Голицын — 1.
Кастинецкой — 1.
<и т. д.>[180]
К апрелю или маю месяцу 1828 г. относится очень интересная, типично инквизиторская записка (Секретный архив, № 1034), вышедшая из лаборатории фон Фока (она вся писана его рукою) и касающаяся неосуществившегося издания газеты «Утренний листок», которую, по слухам, намеревался предпринять кружок молодых писателей во главе с князем П. А. Вяземским, Пушкиным и другими[181]. Записка фон Фока в числе других подобных (они все носили название «Секретной газеты») была послана им к Бенкендорфу, — находившемуся тогда на театре военных действий в Турции, в свите императора Николая, — при письме от 30 мая 1828 г. за № 9. Здесь записка была передана на прочтение Дмитрию Васильевичу Дашкову, бывшему арзамасцу, приятелю А. И. Тургенева, Жуковского, Блудова, Уварова и других членов этого общества, в заседаниях которого он встречался и с Пушкиным; Дашков, будучи в это время товарищем министра внутренних дел, находился также в свите императора, в Главной квартире действующей армии; на досуге он внимательно прочёл переданную ему Бенкендорфом записку (имя её автора последний, конечно, не открыл Дашкову), сопроводив её своими замечаниями, и, кроме того, приложил отдельный лист со своими на неё объяснениями и возражениями[182]. Как человек весьма литературный и высокопросвещённый, знавший близко многих писателей, он в своих отповедях на отдельные места «Газеты» дал очень любопытные отзывы о Вяземском, Пушкине, В. П. Титове, князе В. Ф. Одоевском. Печатаем сперва записку фон Фока, а затем — возражение на неё Дашкова.
а. Секретная газета
4.
В Москве опять составилась партия для издавания газеты политической, ежедневной, под названием «Утренний Листок». Хотят издавать или с нынешнего года с июня, или с 1-го января 1829. — Главные издатели те же самые, которые замышляли в конце прошлого года овладеть общим мнением для политических видов, как то было открыто из переписки Киреевского с Титовым.
Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырёв, князь Одоевский, два Киреевские и ещё несколько отчаянных юношей. Но ныне такое между ними условие: поручить издателю «Московского Вестника» Погодину испрашивать позволение. Погодин, переводя с величайшими похвалами и лестью сочинения Академиков Круга etc., Ректора Эверса и других, успел снискать благоволение учёных, льстя их самолюбию. За свои детские труды он сделан Корреспондентом Академии и весьма покровительствуем Кругом, Аделунгом и другими немецкими учёными. — Сей Погодин — чрезвычайно хитрый и двуличный человек, который под маскою скромности и низкопоклонничества вмещает в себе самые превратные правила. Он предан душою правилам якобинства, которые составляют исповедание веры толпы Московских и некоторых Петербургских юношей, и служит им орудием. Сия партия надеется теперь через немецких учёных Круга и Аделунга снискать позволение князя Ливена, через князя Вяземского и Пушкина — действовать на Блудова посредством Жуковского, а через своего партизана Титова, племянника статс-секретаря Дашкова, — снискать доступ к государю чрез графа Нессельроде или самого Дашкова.
Издание частной газеты в Москве будет весьма вредно для общего духа и мнения, ибо, как известно из переписки сей партии, вся их цель состоит в том, чтоб действовать на дух народа распространением либеральных правил. От сего не убережётся никакая ценсура, ибо издатель, поместив две или три фразы пошлые в похвалу правительства, может спокойно молчать о том, что производит хорошее действие, и помещать всё, в виде фактов с пояснениями, что воспламеняет умы к переворотам. Москва, удалённая от центра политики и министерств и не будучи подвержена непосредственному надзору в нравственном отношении, может наделать много зла газетами, ибо пока здесь хватятся за статью, — она уже разойдётся по России.
Уже эта Московская партия показала свой образ мыслей на счёт газет не только в Секретной переписке[183], но даже и в печатном. В № 8 «Московского Вестника» на сей 1828 год критикуют наши газеты и дают чувствовать, как они сами будут издавать газету. В начале сей статьи упрекают газеты, что они извещают Русскую публику о безделицах и представляют одни голые, неудовлетворительные известия о происшествиях вместо того, чтобы ставить нас на такую точку, с которой мы могли видеть, что занимает умы в настоящее время в державах Европейских, наиболее обращающих на себя внимание всякого просвещённого, — вместо того чтоб изображать нам перемены, происходящие во внутреннем устройстве Государства с их причинами, постепенным развитием и последствиями, вместо того, чтобы выводить вперёд современные лица, действующие на поприще политическом, с их характерами и мнениями и проч…. — Здесь цель издателей ясная. Что занимает умы в Европе? — Конституции. Перемены во внутреннем устройстве государств с их причинами, постепенным развитием и последствиями — суть революция и оппозиция. А выведение политических лиц с их действиями и мнениями поведёт к проповедованию карбонаризма. Вот чем привлекают к себе публику новые издатели газеты в Москве.
Далее издатели говорят следующее[184] (Выписка из 8 № Московского Вестника): «Сколько в прошлом году случилось важных происшествий в Европе, о которых читатели наших газет остались в совершенном неведении, узнавши только их заглавия, вместе с заглавиями многих мелких случаев, здесь и там встретившихся.
Издатели новой газеты хотят, чтобы им описывать важные происшествия. Эти подробности поведут весьма далеко.
Эти подробности не поведут далеко людей благоразумных; а неразумных остановит тотчас хорошая ценсура и бдительное правительство. Но как же не описывать с некоторою подробностию важных происшествий?
Но, перечитав все книги и брошюрки, вышедшие в Европе в прошлом году, подам ли я понятие слушателю о ходе Европейского Просвещения?
Под именем Европейского Просвещения разумеется либерализм: слово, введённое князем Вяземским.
C’est une mèchanceté gratuite [185] . Успехи словесности, наук и художеств принадлежат также к Европейскому Просвещению.
Русской публике не столько нужно знать все марши маркиза Хавеса в Португалии, все движения лорда Кохрена на водах Архипелагских, как выразуметь постановления о ввозе хлеба в Англии или прения о ценсуре во Франции или другое важное явление в этом роде.
Какое важное явление в роде вольности книгопечатания? Все рассуждения по сему предмету ведут к обузданию самодержавия, как видно из речей депутатов во Франции.
Это умышленная натяжка. И по смыслу речи, и по грамматике слова: другое важное явление относятся столько же к постановлениям о ввозе хлеба, сколько и к прениям о ценсуре. Таковы суть споры о католиках в Англии и другие предметы, о коих благоразумный и благонамеренный газетчик будет говорить дельно и с пользою.
К преступной цели могут вести не только рассуждения о ценсуре, но и о всякой безделице. Это другое дело. Но хороший закон о ценсуре сам по себе не уменьшает почтения к самодержавию, а напротив умножает оное.
К преступной цели могут вести не только рассуждения о ценсуре, но и о всякой безделице. Это другое дело. Но хороший закон о ценсуре сам по себе не уменьшает почтения к самодержавию, а напротив умножает оное.
Объяснили ли нам, например, по поводу занятия Каннингом, потом Робинсоном (а ныне Веллингтоном), первого места в Министерстве, почему так скоро и легко составляются и переменяются Министерства в Англии, как будто бы дело шло о каком-нибудь частном споре, который приятелями решается полюбовно в комнате?
Цель издателей очевидна, чтобы показать, что в Англии общее мнение делает и низвергает Министров.
Натяжка.
Показала ли она нам систему Каннингова управления, в противоположность системе Кастелриговой?
Система Каннингова управления — либерализм, Кастелригова — монархическое ограниченное правление. Нужно ли его изъяснять Русской публике?
Есть множество других различий между сими системами в отношении к торговле, внешней политике и проч.
Почему при Ливерпуле не было такого неудовольствия против Каннинга, какое обнаружилось при вступлении его в должность первого Министра, хотя он прежде равное почти принимал участие в делах?
Это повело бы далеко, изъясняя прения Парламента.
Почему Пиль, Веллингтон и пр. оставили Министерство, а прежде действовали в оном вместе с Каннингом?
Высшая политика, которая поколебала бы слабые умы.
Нимало не поколебала бы, если только издатель не захочет рассевать вредных учений под видом изложения фактов. А если у него будет такая цель, то он пойдёт к ней, говоря не только о Каннинге, но и о каком-нибудь авторе или о герое древнем. Где же будет ценсура? Где полиция?
Показали ли нам в ясном свете распрю в Англии о католиках и протестантах: как до сих пор, при всех переменах в Министерстве, какая бы партия ни взяла преимущество, Виги или Торисы, всегда партия католическая и анти-католическая имеют почти равную силу? Точно также должно было изложить перемены в уголовном законодательстве, предложенные Пилем, участие, которое Англия принимала в делах Португалии. — Франция в прошедшем году представила множество явлений любопытных.
Борение либералов и революционеров и победа сих последних над королём, — вот что было в прошлом году.
Неправда. В 1824 г. распущена национальная гвардия и нанесены другие удары либералам. Министерство Виллеля упало уже в 1828.
При известии о распущении королём национальной гвардии, для Русской публики должно бы было прибавить историческое известие об этой гвардии, о времени её учреждения, её обязанностях, цели, о постановлениях, до неё касающихся.
Объясняя обязанности и цель национальной гвардии, надлежало бы представить революцию в благоприятном виде, ибо национальная гвардия есть создание революции.
Почему же в благоприятном виде? Напротив того, живое и беспристрастное описание ужасов того дня, когда началась национальная гвардия, было бы лучший антидот против желания революции — по крайней мере, для юношей неопытных и пылких, но не развращённых.
О причинах, почему король нашёлся принуждённым распустить её и почему сия мера возбудила неудовольствие.
Явно хотят показать, что отступление от революционных правил и постановлений возбуждает неудовольствие в народе.
Опять умышленно кривое толкование. Изложение факта не есть ещё одобрение оного. Всё зависит от цели автора, а не от предмета.
Точно так же должно было бы поступить и при сообщении известия о возведении 76 чел. в достоинство перов, объяснить перемену в образе мыслей Палаты Депутатов,
Объяснять перемену образа мыслей в Палатах есть объяснять переход к либерализму.
Всё дело в том, как будет объясняемо.
в которой под конец её заседаний вся почти правая сторона сделалась левою.
Известно, что левая сторона либеральная.
При Португальских происшествиях оставили в неизвестности причины отъезда инфанта Дона Мигуэля из Португалии и причины его возвращения и вступления в регентство.
Опять надлежало бы толковать о Конституции.
Мы не получили также никакого ясного понятия об отношениях Испании к Португалии, Франции и Англии к Испании.
Высшая политика, которой не должно давать уроки в газетах.
А почему же нет? Как просвещённому человеку не знать различных отношений каждой державы Европейской к другим? Если же под видом распространения сих полезных знаний захотят рассевать учения развратные, то это уже другое дело. На то есть ценсура и бдительная полиция. Нельзя и не должно запрещать употребления ножей, хотя ими можно резать и людей.
Ничего не может быть скучнее известий о Греческих происшествиях, в которых никак нельзя было добраться до толку.»
б. <3аписка Д. В. Дашкова>
Цель сей статьи есть та, чтобы побудить правительство к запрещению издания в Москве предполагаемой политической газеты. Я и сам не дозволил бы оной, но потому только, что там иные издатели скорее могли бы поместить нескромные статьи — не с умысла, а по неосторожности или по умничанью. Я твёрдо уверен, что неразумное умничанье и необузданная болтовня играют большую роль в так называемом Русском либерализме.
Сочинители записки видят в Московских литераторах общество заговорщиков; но истинное побуждение их так явно, что даже открывает мне имена их. Скажу безошибочно, что они суть Петербургские журналисты, имевшие много литературных сшибок с «Московским Вестником» и «Телеграфом» и желающие приобрести разными путями прибыльную монополию политической газеты. Vous êtes orfèvre, M-r Josse![186] — Они описали мнимое Московское общество весьма неверно и слили в оное лица, кои равно им нелюбы и кои между собою не имеют связей. Таковы кн. Вяземский и молодые издатели «Московского Вестника».
Из наименованных в записке людей я не скажу ничего о Погодине, коего мало знаю. Шевырёва знал только по виду, а Киреевских никогда не видывал. Но прочие мне весьма известны, и я считаю долгом сказать о них своё мнение — по чести и совести.
Кн. Вяземский известен Правительству с самой дурной стороны и справедливо терпит за невоздержность языка и пера своего. Переписка его была вредна и ему, и другим. Но сердце Вяземского совсем не злое и не способно к измене: тому может служить доказательством и невинность его по делу о злоумышленных тайных обществах, хотя он верно был знаком с 3/4 составлявших оные негодяев. По долголетним связям моим с его шурином, незабвенным Карамзиным, я знаю Вяземского с самых молодых его лет за человека с умом, с душою, с честию, — но без всякого esprit de conduite[187]. Вся его вина — в эпиграммах и письмах, наполненных вредным для него умничаньем и острословием: к тому присоединилось оскорблённое самолюбие неудачами по службе и забота о расстроенном имении. Если он хочет быть издателем политической газеты, то верно для денег. Для сей же цели он хотел нынешнею зимою переводить Вальтера Скотта и будет ещё биться, как рыба об лёд, пока не разорится до конца. Но он не заговорщик и не враг правительству: в этом поручатся все его знающие. Верный Карамзин по чутью узнал бы в нём изменника и отвергся бы его тогда с омерзением.
О Пушкине говорить нечего: его хорошие и дурные качества известны, кажется, правительству в прямом виде.
Третьим в записке поставлен Титов[188]. Он мне родной племянник и с минувшего года живёт у меня в доме. Я должен знать его — и скажу всё, что знаю. По нём можно будет судить о приятеле его князе Одоевском и вероятно о прочих их совоспитанниках, коих сочинители записки называют отчаянными юношами.
После долгого отсутствия быв в Москве в 1825 г., я нашёл Титова оканчивающим курс учения в Московском Университете. Ему было 18 лет. Голова у него не из самых пылких; но к несчастию он попал в руки, вместе с другими юношами, к человеку — самому честному, самому благонамеренному, самому неспособному к злодейству, но и к самому вредному на Философской кафедре — к профессору Давыдову.
Несчастная Немецкая Философия вскружила ему и питомцам его головы. Вместо того, чтобы преподавать её, как историю науки, он приучал их искать в ней основания наук и даже нравственности. Молодые люди привыкли отдавать себе во всём отчёт силлогизмами и презирать тех, коим силлогизмы сии были незнакомы: стали умничать, болтать и судить о том, чего не понимали и до сих пор понимать не могут: sie wurden pädantisch und vorwitzig[189], — но ни учитель, ни ученики не были и не суть заговорщики… Я предварил о сём сестру мою, живущую в отдалённой деревне, — и Титов был немедленно взят из Университета и помещён покуда в Московский Архив, а при первой возможности прислан в Петербург, где он работает с утра до вечера в Азиатском Департаменте и сушит свой мозг над выписками и переводами. Там довольны и прилежанием его, и поведением.
Князя Одоевского узнал я по Министерству Внутренних дел и начал употреблять при себе для чистого письмоводства. Его кротость и прилежание заслуживают полную похвалу: и я по совести не могу признавать его отчаянным юношею. Отъезжая из Петербурга, я счёл долгом представить его к чину и жалею, что его величеству не благоугодно было утвердить сего представления. Боже сохрани, чтобы правительство искало привлечь к себе подобных ему юношей незаслуженными милостями; но когда сия милость действительно заслужена ими, то неполучение оной может ввергнуть в отчаяние и растравить юное сердце, ещё не затверделое в правилах, кои велят ставить долг выше всех обстоятельств жизни.
Теперь, узнав, кто таковы мнимые Московские заговорщики, можно судить, до какой степени справедливы показания сочинителей записки о средствах, коими сия партия надеется действовать. Не знаю коротко ни князя Ливена, ни Круга, ни Аделунга[190] и потому о них молчу. Но на Блудова надеются действовать посредством князя Вяземского, Пушкина и Жуковского! В первом Блудов принимает участие по памяти Карамзина и по 20-ти-летнему знакомству, — но верно не спросит никогда его совета; Пушкина тоже, ибо уважает в нём один талант; а Жуковского! Ему ли, сей чистой, возвышенной душе, коей вверена надежда России[191], быть орудием, даже слепым, гнусных козней и умыслов!.. На меня будет сия партия действовать чрез Титова и чрез меня и графа Нессельрода получит доступ к государю! Чрез Титова, 21-летнего мальчика, держимого на узде и ежечасно прохлаждающего своё воображение!.. Едва ли можно верить, чтобы сочинитель сих нелепостей ошибался от доброго сердца.
Наконец, что ещё более меня в сём убеждает, есть приложенная выписка из 8 № «Московского Вестника» с замечаниями. Сделанные мною карандашом возражения на сии замечания показывают, с какою ядовитостью толкуется каждое слово и как извлекается смысл преступный из речей вялых и тысячу раз перебитых. Прочитав сказанное в «Московском Вестнике», я ощутил одно чувство: неудовольствия, видя, как дети судят и рядят обо всём с полною уверенностью в своей безошибочности и с надутостию поседелого профессора. Но и только: злого намерения в сём отрывке не вижу и не могу предполагать оного в молодых Издателях.
Вот какую решительную отповедь дал Дашков на инквизиторскую записку фон Фока… Последний оставил эту отповедь без возражений; по крайней мере, в дальнейшей переписке своей с Бенкендорфом он уже не касался ни кружка молодых передовых писателей, ни их плана об издании «Утреннего листка», который так и остался в области одних предположений и неосуществившихся мечтаний. А предпринимался он, конечно, в целях противодействия булгаринской «Северной пчеле», умело, при покровительстве фон Фока и Бенкендорфа, монополизировавшей тогдашнее общественное мнение…
В середине 1828 года у фон Фока завелся новый корреспондент-доброволец, человек образованный и умный, сообщавший ему, в литературной и лёгкой форме «Писем Наблюдателя», различные сведения о событиях, отголоски мнений, слухи и сплетни, а также и собственные размышления по самым разнообразным вопросам. С фон Фоком он был на «ты» и очень удовлетворял его своими письмами. В одном из них, по счёту VI, от 6 августа 1828 г. (Секретный архив, № 1034.), он писал ему, между прочим, о Лицее, причём упоминал и о Пушкине и его товарищах. Приводим здесь эту часть любопытного письма неизвестного автора, в противовес напечатанной выше записке Булгарина о «Лицейском духе», — тем более что письмо неизвестного, будучи послано фон Фоком Бенкендорфу, находившемуся тогда в свите Николая на возвратном пути последнего с театра турецкой войны, было читано, как и все другие письма и сообщения фон Фока, государем:
Царскосельский Лицей существует только по имени: он мало-помалу превратился в Военно-Сиротское Отделение. Воспитанники не имеют никаких книг, кроме учебных, не смеют ничем заниматься в свободное от классов время; не смеют даже оставаться в своих комнатах, а должны гулять кучею или провождать время в праздности в общей зале. От этого в их комнатах чисто, да за то и в головах не будет ни пылинки. Не спорю, что им в прежнее время давали много воли, что некоторых из них избаловали; но за то и какую пользу принесло сие заведение! Двенадцать человек из Лицея служат в Канцелярии государя. Во всех Министерствах, во многих военных частях — лучшие чиновники суть Лицейские воспитанники. Барон Корф, князь Горчаков, Вальховский, Саврасов, Ломоносов, двое Комовских, трое Безаков, Малиновский, Маслов и много, много ещё молодых отличных людей служат доказательством, что прежний Лицей был, конечно, первый из наших Институтов. Когда говорят о Лицее, то враги его всегда вспоминают о 14-м декабре. Да помилуйте! Сколько там было Лицейских? Один Пущин, да сумасшедший Кюхельбекер. И так, за этих двух выродков и за шалости Пушкина предать анафеме всё заведение? А сколько там было из Корпусов Пажеского, Сухопутного, Морского? — Что из этого следует? — Может быть, что при нынешнем положении Лицея не выпустят из него ни Пущина, ни Кюхельбекера. Это может быть, но достоверно то, что не будет и тех отличных людей, о которых я говорил выше.
Далее в материалах Секретного архива не находится о Пушкине никаких сведений почти за целые два года[192], — начиная со второй половины 1828 г. — за весь 1829 г. и начало 1830-го, — то есть за время, проведённое поэтом сперва в Петербурге, в неприятностях по делу о «Гавриилиаде», а затем — в разъездах (Тверская губерния, Москва и Петербург, Кавказ, Москва, снова Тверская губерния и Петербург): из поездок он возвратился лишь к середине ноября 1829 г. (причём сразу же должен был выслушать выговор Бенкендорфа за то, что «странствовал за Кавказом и посещал Арзерум», не получив на то специального разрешения), а затем первые месяцы 1830 г. провёл в новых сборах к отъезду и в поездке в Москву, где вскоре и состоялось его сватовство к Наталье Николаевне Гончаровой. К этому сватовству и имеет отношение печатаемое ниже письмо Пушкина к Бенкендорфу от 7 мая 1830 г.
Известно, что сватовство Пушкина было принято скептически его будущей тёщей, Н. И. Гончаровой, которая, как писал поэт Бенкендорфу 16 апреля 1830 г., страшилась выдать дочь свою за человека, «имевшего несчастие подвергнуться неудовольствию императора»… Поэтому Пушкин в этом письме и просил о том, чтобы Бенкендорф выяснил его официальное положение и отношение к нему правительства: «Счастие моё зависит от одного благосклонного слова того, к которому моя преданность и моя благодарность бескорыстны и безграничны», — писал Пушкин (XIV, 78, 406). Бенкендорф отозвался на эти строки письмом от 28 апреля, в котором, успокаивая Пушкина, писал, что государь с удовольствием услышал о намерении его жениться и поручил ему сообщить, что он, Пушкин, находится не под гневом, а под отеческим попечением его величества и что он доверен Бенкендорфу не как шефу жандармов, но как человеку, которому император оказывает своё доверие, и лишь для того, чтобы наблюдать за ним и руководить его своими советами. В конце письма Бенкендорф писал, что уполномачивает Пушкина показывать настоящее его письмо всем тем, кому он сочтёт нужным, — чтобы тем самым рассеивать неблагоприятные о нём слухи, будто он находится в дурных отношениях с правительством. Получив это письмо, Пушкин и написал Бенкендорфу свой благодарственный ответ; придя в Петербург, письмо не застало здесь Бенкендорфа, попало в руки фон Фока и последним было переслано, при письме от 18 мая, к шефу, после чего так и оставалось при бумагах, не будучи включено в «дело» Пушкина. Вот что писал фон Фок из Петербурга, 18 мая 1830 г. (Секретный архив, № 1029), Бенкендорфу, за несколько дней перед тем выехавшему оттуда для сопровождения Николая I в одну из его поездок: «J’annexe à ma missive un chiffon de lettre de notre fameux Pouschkin. Ces lignes le caractérisent parfaitement dans toure sa légèreté, dans toute son étourderie insouciante. Malheureusement, c’est un homme ne songeant à rien, mais prêt à tout. C’est l’impulsion momentanée qui le fait agir…»[193] A вот и самое письмо Пушкина к Бенкендорфу:
Mon Général.
C’est à la sollicitude de Votre Excellence que je dois la grâce nouvelle dont l’Empereur vient de me combler: veuillez recevoir l’expression de ma profonde reconnaissance. Jamais dans mon coeur je n’ai méconnu la bienveillance, j’ose le dire, toute paternelle que me portoit Sa Majesté, jamais je n’ai mal interprêté l’intérêt que toujours vous avez bien voulu me témoigner; ma demande n’a été faite que pour tranquilliser une mère inquiète et que la calomnie avoit encore effarouchée.
Veuillez recevoir, mon Général, l’hommage de ma haute considération.
Votre très humble et très obéissant serviteur
7 Mai 1830. Moscou[194]
Alexandre PouschkinЧерез месяц после этого письма, 10 июня того же года, в письме из Петербурга к Бенкендорфу, продолжавшему находиться в отсутствии, фон Фок писал (Секретный архив, № 1029):
«Toutes les nouvelles de l’Intérieur continuent d’être très rassurantes et ne présentent aucun accident à marquer. J’ajoute quelques petites notices, ainsi qu’une lettre très drôle de Pouchkin, que Vous déciderez dans Votre sagesse»[195].
Это, конечно, было письмо Пушкина из Москвы от 29 мая 1830 г., в котором поэт просил Бенкендорфа исходатайствовать ему разрешение у государя на переливку находившейся в Полотняном Заводе, у деда его невесты Гончаровой, бронзовой статуи Екатерины II, за которую скупщики меди предлагали сорок тысяч рублей. Письмо это давно известно в печати[196].
В одном из следующих своих писем, от 11 октября 1830 г. (Секретный архив, № 1029), фон Фок писал Бенкендорфу в Москву: «Je Voue envoie un numéro de la Gazette littéraire de Viazemski, Pouchkin et consorts. Vous y trouverez un article mystique, que j’ai marqué au crayon. Ce parti cherche des adhérens»[197].
К сожалению, номер «Литературной газеты» при письме Фока не сохранился, и трудно догадаться, какая именно статья привлекла на себя внимание управляющего III Отделением; скажем только, что на письме фон Фока имеется помета императора Николая, который ездил тогда в Москву, чтобы внести успокоение в народ, пришедший в отчаяние от свирепствовавшей там холеры; Николай, следовательно, читал донесение фон Фока и вновь встретил в нём имя Пушкина, в это время сидевшего за холерными карантинами в Болдине.
Через три дня после этого, 14 октября 1830 г., фон Фок писал своему шефу в Москву, между прочим, следующее (Секретный архив, № 1029):
«On a publié dans la Gazette littéraire un charmant quatrain sur l’Empereur, qui doit être de Pouchkin ou de Baratinsky. Il est signé Москва, mais ce qui est remarquable, c’est que ces vers sont le premier éloge que cette société de jeunes gens ait imprimé en faveur de l’Empereur. Je copie ici ces vers:
УТЕШИТЕЛЬ Москва уныла: смерти страх Престольный град опустошает; Но кто в неё, взвивая прах, На встречу ужаса влетает? Петров потомок, царь, как он Бесстрашный духом, скорбный сердцем, Летит, услыша Русских стон, Венчаться душ их самодержцем.L’idée est sublime, et le public se déchire à copier ces vers»[198].
На письме опять есть помета, свидетельствующая о том, что император читал его, — а следовательно, и стихи, ему посвящённые. Последние, однако, не принадлежали перу ни Пушкина, ни Боратынского, и автор их нам неизвестен[199].
Этим кончаются материалы о Пушкине, сохранённые фон-фоковским секретным архивом[200]. После смерти Фока, при его заместителе, статс-секретаре Александре Николаевиче Мордвинове, в III Отделении наступили, по-видимому, другие порядки, и агентурные сведения уже не сберегались в архиве, как прежде. Мы нашли только одну имеющую косвенное отношение к Пушкину записку, а именно — характеристику трёх писателей: князя В. Ф. Одоевского, П. А. Плетнёва и А. А. Краевского (Секретный архив, № 645). Полагаем, что характеристика эта была сделана для Бенкендорфа по поводу предположений о продолжении издания «Современника», за которое, после смерти Пушкина, немедленно взялись ближайшие друзья поэта. Записка писана рукою А. Н. Мордвинова и не имеет на себе ни даты, ни каких-либо помет, но относится, если правильно наше предположение о причине её составления, к февралю — марту 1837 г.
«Князь Одоевский, камергер, служит по Министерству Внутренних Дел и состоит сверх того в Министерстве Народного Просвещения библиотекарем при Комитете Иностранной Ценсуры. Принадлежит к кругу здешних литераторов; участвует в издании газеты под названием Литературных Прибавлений; имеет хорошие способности; Министр Народного Просвещения весьма доволен занятиями его по Иностранной Ценсуре.
Плетнёв, Ординарный Профессор Российской Словесности в здешнем Университете. Преподаёт Русский язык их императорским высочествам великим княжнам. Состоит под особенным покровительством действительного статского советника Жуковского.
Краевский состоит при Министерстве Народного Просвещения редактором издаваемого от сего Министерства Журнала. Он же Редактор журнала Литературные Прибавления.
Все сии три лица, принадлежа к здешнему литературному кругу, состоят в близкой между собою связи: все были короткие приятели Пушкину и покровительствуются Жуковским».
Так, под знаком «III Отделение», протекали дни Пушкина в годы расцвета его гения. Войдя в кабинет Чудовского дворца, 8 сентября 1826 г., на аудиенцию к Николаю I, хотя и ссыльным, но духовно свободным человеком, он вышел оттуда, по меткому выражению Н. О. Лернера[201], «свободным поднадзорным», — и с этого дня голубая, громоздкая, но мягкая фигура жандарма Бенкендорфа становится рядом с поэтом и неотступно, по пятам, сопровождает его уже до самой могилы, преследуя даже за пределами гроба.
1918
К истории ссылки Пушкина в Михайловское[202]
Со дня смерти Пушкина прошло девяносто лет. Это средняя мера жизни поколений: наши отцы, мы (я говорю о людях моего возраста) и наши дети — вот эти три поколения; из них старшее увидело свет в годы, близкие к смерти поэта (мой отец, например, родился две недели спустя после кончины Пушкина), и росло в атмосфере идеалистических настроений 40—60 гг., под влиянием Белинского и плеяды представителей гоголевской литературной школы; мы, поколение среднее, произошли в те годы, когда русское общество уже пережило волнения, сомнения и отрицания 60—70-х гг., с их временным отвержением Пушкина, и были свидетелями того, как имя Пушкина постепенно вырастало в сознании нашего общества, как он сам становился символом всей нашей культуры, её олицетворением. Дети наши выросли уже в эпоху общего признания всей великости и всего значения гения Пушкина. Таким образом, можно сказать, что эти девять десятков лет, протекших со смерти поэта, в значительной степени прошли «под знаком Пушкина».
Но можем ли мы сказать, что мы знаем Пушкина, что нам известно всё в нём и о нём? Увы, мы должны сознаться, к стыду нашему, что нет, — не знаем, что многое нам ещё неизвестно. И в этом незнании мы должны винить не столько себя, сколько поколение старших и младших современников Пушкина и тех, кто, созрев в годы, когда память об ушедшем гении была ещё так свежа, и впитав в себя многое от духовных даров Пушкина, не приложил стараний к тому, чтобы по горячим следам, в среде, близкой к Пушкину, заняться тщательным собиранием его произведений, его писем и других писаний, сведений о нём самом и о его жизни, о его друзьях, врагах и просто знакомых, сохранением вещественных памятников, с ним связанных, вроде его библиотеки и житейской обстановки, наконец, охранением мест, в которых он жил, страдал и творил… Действительно, что сделали для этого такие признанные друзья и приятели Пушкина, как Вяземский, Жуковский, Тургеневы, Плетнёв, Нащокин, Соболевский, Погодин, брат поэта Лев Пушкин, его отец и сестра Павлищева? Если для последних это был просто «Alexandre», то для первых, людей образованных, это был великий писатель, гениальный человек, украшение своей нации и своей эпохи… Для Боратынского, для Языкова, для Тютчева, для Гоголя и многих других ведь это был учитель, образец. И кто из них позаботился собрать для нас что-либо цельное, существенное, важное? Кто из перечисленных выше писателей дал себе труд написать о нём для нас свои воспоминания? Мы имеем от них лишь жалкие крохи, как будто они не знали, что им следовало рассказать нам о Пушкине. Присяжный историк Погодин уже в 1848 г. восклицал: «Голос современника, близкого человека — самое драгоценное свидетельство, которое ничем не заменишь. А потом Пушкин! Пушкина уже у нас забывают! Пушкина! Что это за ужасное время! Имени его не попадается в печати!» Сетуя на то, как «забываются у нас примечательные и важные люди», он восклицал: «О любезное Отечество! Что за равнодушие, что за неблагодарность! Какое мертвенное безмолвие! Когда же будет этому конец?» И тот же самый Погодин, исписавший и напечатавший тысячи листов, проживший до 1875 г., не удосужился рассказать для нас то, что он знал о Пушкине, — а знал он много! «Ничего нет назидательнее, как созерцание и изучение жизни великого поэта», — писал Плетнёв, а в другом месте говорил: «Всё, что попадается нам у Пушкина, Байрона, Гёте и Шиллера в роде суда литературного, — мы ловим всё это с жадностью и усвояем, как лучшее убеждение наше» — или утверждал, что без биографии Пушкина, «как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой поэзии». Что же сделал Плетнёв для этой биографии, — он, кропотливый литературный критик и автор биографий множества посредственностей и сомнительных знаменитостей? Ничего! Он даже не сберёг всех писем к себе поэта, большую их часть затерял… «У нас всё родное теряется в молве и памяти, и внуки наши должны будут искать назидания в жизнеописаниях людей не русских; к своим же поневоле охладеют, потому что ознакомиться с ними не могут: свои будут для них чужими, а чужие сделаются близкими. Хорошо ли это?» — спрашивал более добросовестный современник поэта — Даль, призывая всякого сносить в складчину всё, что знает о Пушкине. «Много алмазных искр Пушкина рассыпались тут и там в потёмках; иные уже угасли и едва ли не навсегда; много подробностей жизни его известно на разных концах России: их надо было снести в одно место…»[203] А ещё раньше, в 1839 г., известный немецкий критик Варнгаген фон Энзе, по поводу выхода в свет трёх первых томов «посмертного издания сочинений Пушкина», писал: «Биография Пушкина, которая представила бы откровенно и искренно все его отношения и его судьбу, была бы богатый подарок, заслуживающий благодарность, но в настоящее время трудно ожидать такой. Впрочем, пусть его соотечественники вместо того собирают и предварительно издают материалы для будущего употребления…»[204]
К призыву этому ближайшие к Пушкину люди остались глухи, и лишь немногие из его знакомцев собрались набросать на бумагу свои воспоминания о сношениях с поэтом. Заметки Даля, Шевырёва, Вельтмана, Пущина, Льва Пушкина, А. П. Керн — вот главнейшее, чем мы располагаем, когда обращаемся к поискам живых свидетельств о поэте; все эти заметки к тому же более или менее случайны, эпизодичны, о многом умалчивают. А сколько могли бы рассказать нам, в связном и целом повествовании, такие близкие к Пушкину люди, надолго его пережившие, как Жуковский, Вяземский, Гоголь, Соболевский, Плетнёв, Кукольник, Греч и все другие писатели-современники, Нащокин, Вульф и его сёстры и великое множество его родных, знакомцев, «минутных друзей его минутной младости», свидетелей его пёстрой и обильной превратностями жизни, лиц, с которыми бывал он в деловых или иных отношениях. Не говоря о его недоброжелателях, что могли бы мы узнать от его почитателей, среди которых было так много людей талантливых, владеющих пером…
Почему не записали своих воспоминаний о Пушкине такие его поклонницы, как А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово, кн. В. Ф. Вяземская, гр. Е. К. Воронцова и многие, многие другие? Но Воронцова, например, не сберегла для нас даже писем к себе поэта (есть основание думать, что таковые были[205]), а Хитрово сохранила не все, а те, что сохранила, утаила под спудом…
Приведённых примеров, кажется, достаточно для того, чтобы видеть, как мало, досадно, преступно мало сделали для нас, потомков, наши предки, те, которые жили в эпоху Пушкина, имели счастие его знать, видеть, наблюдать. Что же мы имеем от людей следующего поколения? Если мы назовем пять-шесть имён, то и это будет много…
Не считая Д. Н. Бантыш-Каменского, современника Пушкина и личного его знакомого, автора первой, более или менее подробной биографии Пушкина в «Словаре достопамятных людей Русской земли», 1847 г. (при составлении её он использовал лишь некоторые рассказы отца поэта), мы можем назвать лишь Петра Ивановича Бартенева, П. В. Анненкова, Н. В. Гербеля, К. П. Зеленецкого, М. Н. Лонгинова, С. Д. Полторацкого… Пушкинианцам известны труды их, — особенно первых двух, сделавших для познания Пушкина очень много, — но мы не можем не сетовать на них за то, что они не сделали во много раз больше, ибо в те времена, когда они жили, можно было собрать от живых свидетелей множество сведений о поэте, его произведениях, лицах, ему близких, обстоятельствах и обстановке его жизни, — то есть сделать то, что теперь для нас, уже поздних потомков, представляется совершенно невозможным. Пушкиноведение развивалось очень медленно, — что видно хотя бы по известной Puschkinian’e Межова (СПб., 1886). Мощный сдвиг, стремление к изучению Пушкина проявились в 1880 и 1899 гг. — в эпоху празднования открытия памятника Пушкина в Москве и столетия дня его рождения. По поводу первой даты, ознаменованной, между прочим, устройством пушкинских выставок в Петербурге и Москве, в одной современной заметке читаем: «1880-й год составил эпоху в изучении Пушкина, и можно сказать без преувеличения, что лишь с этой поры установляется у нас как его личная биография, так и достаточно полная оценка исторического значения Пушкина. Мы нисколько не уменьшаем заслуги, оказанной в этом последнем отношении Белинским и его продолжателями 50-х годов, — они уже выяснили существенные стороны великого исторического факта, представляемого поэзией Пушкина; но чего недоставало в этих прежних трудах, это — разработки подробностей биографических и историко-литературных. Исторический факт явится перед нами во всей полноте только тогда, когда мы получим возможность определить личность во всех чертах её психологической жизни, со всеми подробностями общественной обстановки, среди которой она действовала»[206].
Ещё большее историографическое значение имеет юбилейный 1899 г; но лишь за последние два десятилетия пушкиноведение выросло в целую специальную науку и захватило в свою орбиту многочисленных исследователей, группирующихся в Ленинграде, Москве, Одессе; оно послужило к основанию целого специального учреждения — Пушкинского Дома и располагает первым и единственным в России специальным органом — сборником «Пушкин и его современники», насчитывающим уже 36 выпусков и продолжающим выходить[207]; пушкиноведение и пушкиноведы непрерывно и настойчиво изучают отдельные вопросы жизни и творчества Пушкина, постоянно при этом встречаясь с пробелами, неясностями, противоречиями, недомолвками, полным отсутствием данных в той или иной области изучений, пробелами досадными и незаполнимыми, которые ещё десяток-другой лет назад можно было заполнить.
Ведь ещё так недавно здравствовали личные знакомцы Пушкина, от которых так много можно было узнать, которые в бумагах своих, теперь исчезнувших бесследно, хранили порой драгоценные материалы о прошлом. Давно ли были уничтожены некоторые письма Пушкина, давно ли, с другой стороны, мы были свидетелями находки многих рукописей Пушкина в имуществе Ивана Васильевича и Павла Васильевича Анненковых (в Петербурге и в Симбирской губернии); всего несколько лет тому назад значительное количество автографов и бумаг Пушкина найдено было в имении его внука под Москвою, наконец, уже совсем недавно в архиве родственников Е. М. Хитрово открыто было двадцать семь интереснейших писем поэта. И это теперь, когда всякий просто грамотный человек знает и понимает цену Пушкина и его рукописей, когда им уж не так легко погибнуть, когда автографы поэта ценятся на вес золота. Что же было двадцать пять, тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад? Сколько материалов было рассыпано повсюду, как много их погибло от невежества и небрежения. Да, прав был поэт, когда утверждал, что «мы ленивы и нелюбопытны»…
Теперь, может быть, мы стали прилежнее и любознательнее, но уже слишком поздно. Теперь нам приходится по крупицам собирать те жемчужины, которые оставил нам поэт, как след своей творческой, гениальной деятельности и жизни. Теперь мы с напряжением и затратой огромных усилий выясняем те или иные подробности биографии или творчества Пушкина, — и процесс этого выяснения и собирания далеко не закончен. Этим объясняется тот, без сомнения, прискорбный факт, что мы до сих пор, несмотря на девять протекших со смерти Пушкина десятилетий, не имеем ещё полной биографии его, то есть полной истории его изумительной жизни и деятельности: некоторые основные вопросы пушкиноведения ещё не выяснены в достаточной степени, требуют тщательного исследования, определения, обоснования. Рукописи Пушкина ещё не в полной мере изучены, нет полного их перечня. Мы не знаем в точности обстановки детских лет поэта, — та среда, в которой он рос, ещё недостаточно изучена, не обследовано имущественное состояние родителей поэта, — лишь недавно, например, в нижегородских архивных хранилищах обнаружено двенадцать дел нижегородской Палаты гражданского суда, содержащих в себе данные об имениях отца, дядей и тётки поэта; лишь после революции удалось проникнуть в дела секретного архива бывшего III Отделения и изучить вопрос об отношении к Пушкину тайной полиции; год тому назад, как мы уже указали, неожиданно открылись в архиве Юсуповых письма Пушкина к Хитрово, весьма важные для суждения о политических воззрениях Пушкина в 1830—1831 гг., нам многое ещё неясно в обстановке последних лет жизни поэта, — обстановке крайне сложной и запутанной… Мы не знаем ближайших виновников последней дуэли Пушкина и можем строить лишь предположения о вдохновителях и исполнителях интриги против поэта; столь же мало исследованы и многие другие, более частные вопросы биографии Пушкина, как, например, вопрос о его ссылке в Михайловское. О том, какие существенные материалы и по этому вопросу находятся ещё до сих пор под спудом, покажет моё дальнейшее небольшое сообщение о новых данных о ссылке Пушкина в Михайловское и об освобождении его оттуда.
Не будем разбираться в причинах этого грустного факта и попусту сетовать. Постараемся доказать, что к нам не приложимо обидное слово поэта, что «мы ленивы и нелюбопытны», — сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы искупить вину наших отцов. Образование государственного заповедника «Пушкинский уголок», а затем и Общества друзей заповедника и быстрый рост числа его членов убедительно показывают, что любовь и интерес к Пушкину как поэту и человеку растут неудержимо, что мы хотим работать для укрепления его памяти среди наших современников и среди молодого поколения, идущего нам на смену.
Это убеждение даёт мне право надеяться, что собравшиеся здесь сегодня наши сочлены и гости не поскучают слушанием моего небольшого сообщения на довольно специальную тему: я хочу сказать несколько слов о нескольких новых фактах, предшествовавших ссылке Пушкина в Михайловское и последовавших за отъездом его оттуда. Факты эти открыты в не изданных ещё материалах Пушкинского Дома, и как они на первый взгляд ни мелки, они приобретают значение в той общей цепи причин, которые молодого поэта, проникнутого величайшей жаждой жизни, шедшего навстречу этой жизни с неудержимою потребностью свободы, ярких, сильных и глубоких чувствований, столь неожиданно для него с залитого светом и красками Черноморского побережья забросили в новую, неизмеримо тягчайшую прежней, ссылку, похожую больше на одиночное заключение, чем на ссылку, — бросили в заточение в Михайловское. Правда, из этого двухгодичного заточения гениальная природа поэта извлекла максимальную пользу, обратив его к плодотворному творчеству, — ссылка не сломила поэта, а закалила его и принесла нам лучшие произведения Пушкина — «Бориса Годунова» и серединные главы «Евгения Онегина» (III—IV), не говоря о нескольких десятках лирических жемчужин, — ибо
…тяжкий млат, Дробя стекло, куёт булат.Но переживать эти годы Пушкину было безмерно трудно. Мы знаем, как он, впоследствии без горечи вспоминавший о «том уголке земли,
где он провёл Изгнанником два года незаметных», —мы знаем, как он рвался на волю и изыскивал все способы к освобождению. Только что открытое нами письмо к сестре, писанное ровно (почти день в день) через год по приезде в Михайловское, показывает нам всю силу этого стремления на свободу. По поводу неудачных и неудавшихся попыток матери и друзей получить для него разрешение на поездку в один из больших городов России или за границу он писал с горечью: «Я очень грустен от того, что со мною произошло, но я это предсказывал. Я не жалуюсь на мать, — наоборот, я ей очень признателен: она думала сделать для меня хорошо, она горячо принялась за это, и не её вина, что она ошиблась. Но мои друзья, они сделали как раз то, что я заклинал их не делать. Что за безумное упорство принимать меня за дурака и толкать меня в беду, которую я предвидел, на которую я им указывал. Они возбуждают неприязненные чувства в его величестве, продляют моё изгнание, издеваются над моим существованием, и когда поражаются всеми этими ошибками, — они говорят комплименты насчёт моих прекрасных стихов и — идут себе ужинать. Что ты хочешь? я грустен и обескуражен, мысль ехать во Псков представляется мне в высшей степени нелепой; но так как будут довольны, если я буду не в Михайловском, то я и ожидаю, чтобы мне на то было дано приказание. Всё это — дело легкомыслия, жестокости непонятной. — Ещё одно слово: здоровье моё требует другого климата, а его величеству не сказали о том ни слова. Его ли вина, что он ничего об этом не знает? Мне говорят, что общество в негодовании, — я — тоже, но я негодую на беспечность и легкомыслие тех, которые мешаются в мои дела. О, Боже мой, избавь меня от друзей!»[208] Вот как досадовал поэт.
Что же послужило поводом и причиною такой жестокой расправы с пылким молодым человеком? Посмотрим, как постепенно накоплялся материал для ответа на этот вопрос.
Первые биографы Пушкина, писавшие о нём ещё под надзором николаевской цензуры, естественно, должны были обходить вопрос о причинах ссылки Пушкина как на юг, так затем и в Михайловское: например, Плетнёв в своем некрологе-биографии Пушкина выразился кратко: «В конце 1824 г. Пушкин оставил Одессу», — и больше ничего[209]; неизвестный автор очерка о Пушкине, помещённого в первом выпуске «Портретной и биографической галереи словесности, наук, художеств и искусств в России», вышедшем через четыре года после смерти поэта (СПб., 1841), также должен был ограничиться лишь заявлением, что «в конце 1824 года, оставив страны Южной России, Пушкин возвратился в село Михайловское, свою псковскую деревню» (стр. 8); Бантыш-Каменский мог сказать немногим больше: у него читаем: «8 июля он [Пушкин], по высочайшему повелению, уволен был от службы, а 11 числа велено перевести его из Одессы на жительство в Псковскую губернию, с тем, чтобы находился под надзором местного начальства. Он сам подписал приговор свой резкими суждениями и вольными чересчур стихами, которые переходили из рук в руки и были предметом общего разговора и удивления»[210].
Добросовестный собиратель сведений о жизни Пушкина в Кишинёве и Одессе К. П. Зеленецкий в «Москвитянине» 1854 г. (№ 9, отд. V, стр. 12) ограничился указанием на то, что, «живя в Одессе, Пушкин продолжал шалить» и что то обстоятельство, что «никакой особенной должности, никаких занятий по службе он не имел, наводило в большей части публики сомнение в его дельности»; упомянув о смехотворном участии Пушкина в экспедиции в Херсонский уезд против саранчи, Зеленецкий писал: «…подобные истории ещё бы ничего; но шалости 25-летнего поэта иногда переступали всякую меру, особенно в эпиграммах: это-то, равно как и разные знакомства, было причиною, что вскоре после своей херсонской командировки, Пушкин принуждён был оставить Одессу».
Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина» выразился ещё короче, не сказав ничего о причинах «перевода на жительство» Пушкина из Одессы в Михайловское и лишь упомянув, что он был, по роду своих занятий, мало способен к деятельности чиновничьей[211].
Свидетель одесской жизни Пушкина И. П. Липранди в 1866 г. писал, что в свои приезды в этот город в 1823—1824 гг. он находил Пушкина всё более и более недовольным и что мрачное настроение духа поэта «породило много эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих из канцелярии графа Воронцова, — так, напрмер, про начальника отделения Артемьева особенно отличалась от других своими убийственными, но верными выражениями. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражили всех. Начались сплетни, интриги, которые ещё более тревожили Пушкина. Говорили, что будто бы граф, через кого-то, изъявил Пушкину своё неудовольствие и что это было поводом злых стихов о графе», причём Пушкин заверял Липранди, что стихи эти написаны не были, но как-то раза два или три им были повторены и так попали на бумагу. «Услужливость некоторых тотчас распространила их». Это известное четверостишие:
Полу-герой, полу-невежда К тому ж ещё полу-подлец… Но тут однако ж есть надежда, Что полный будет наконец[212].«Не нужно было искать, к чьему портрету они метили! — говорит Липранди. — Граф не показал вида какого-либо негодования; по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами». У Воронцова бывали в зиму 1823 г. танцевальные вечера по два раза в неделю, и наш поэт, по словам К. П. Зеленецкого, был непременным их посетителем[213]. По свидетельству Липранди, Воронцов, посылая Пушкина, 23 мая 1824 г., в известную экспедицию против саранчи в уезды Херсонский, Александрийский и Елисаветградский[214], не только не имел в виду оскорбить Пушкина, но, наоборот, хотел иметь повод к тому, чтобы, по окончании командировки, представить поэта к какой-либо награде; но «нашлись люди, которые, вместо успокоения раздражительности Пушкина, старались ещё более усилить оную или молчанием, — когда он кричал во всеуслышание, — или даже поддакиванием», — и последствием этого было остающееся нам неизвестным письмо Пушкина к Воронцову на французском языке, написанное, по словам Липранди, «в сильных и — можно сказать — неуместных выражениях…»[215]. Опубликование Анненковым в «Вестнике Европы» 1874 г. (№ 2, с. 510 и сл.) извлечений из письма Воронцова от 28 марта 1824 г. с представлением об удалении Пушкина из Одессы и из ответа Нессельроде от 11 июля[216] внесло некоторый свет во весь этот эпизод, — по крайней мере, подробная мотивировка просьбы, выраженная весьма подробно Воронцовым, показывала, как он смотрит на Пушкина и почему просит удалить его из Одессы. Новую путаницу в дело внесли «Записки» Ф. Ф. Вигеля в полном их издании[217]: в них передавалось сообщение о том, что действительным, но скрытым поводом высылки Пушкина послужила для Воронцова любовь поэта к его жене, причём будто бы поэт, сам не ведая того, играл лишь роль ширмы для давно и безнадёжно влюблённого в графиню Александра Раевского, который, введя Пушкина в салон Воронцовой и разжигая его чувство, поведением Пушкина отвлекал внимание ревнивого мужа и общества от своего собственного поведения. Прошло много лет, прежде чем М. О. Гершензон доказал, что предание о роли, которую будто бы сыграл Раевский в истории высылки Пушкина из Одессы, должно быть безусловно отвергнуто, как построенное на ничем не подкреплённой сплетне[218]. Однако тот же исследователь справедливо утверждал, что «обстоятельства, результатом которых явилась высылка Пушкина из Одессы… остаются до сих пор не выясненными. В этой истории несомненно есть какое-то тёмное место. Факты, нам известные: оскорбительное отношение Воронцова к Пушкину и взаимная антипатия между ними — объясняют не всё. Есть достаточно оснований думать, что острая ненависть к Пушкину, заставившая надменного и выдержанного „лорда“ унизиться до жалкой мести человеку, стоявшему так неизмеримо ниже его по общественному положению, — была вызвана каким-то личным столкновением между ними на интимной почве. Эта уверенность заставляет отвести данному эпизоду видное место не только во внешней биографии Пушкина, но и в истории его душевной жизни»[219]. Допуская, что поводом к столкновению могла послужить какая-то романтическая история, соперничество в любви обоих к какой-то посторонней женщине, и утверждая, что Пушкин несомненно был влюблён в Воронцову (упоминание о ней в «Донжуанском списке»), Гершензон приходил к выводу, на основании ряда документов, что Пушкин был удалён из Одессы вследствие политического доноса на него, сделанного, быть может, не самим Воронцовым, а кем-либо другим, им подкупленным[220].
Не рассеяла окончательно недоуменных вопросов и находка нового документа, впервые опубликованного Н. О. Лернером в 1910 г.[221], — а именно, письма Воронцова к гр. Нессельроде от 2 мая 1824 г., из Кишинёва, с новым, вторичным упоминанием об отозвании Пушкина. В этом письме он писал гр. Нессельроде о прибывших в Молдавию греческих выходцах, к которым русское правительство, объятое реакцией и страшившееся революционных вспышек, относилось подозрительно и недоброжелательно. Сообщая об установлении наблюдения за всем, что делается среди греков и молодых людей других национальностей, Воронцов так заключал своё письмо: «À propos de celà je repète ma prière — delivrez-moi de Pouchkin; celà peut être un excellent garçon et un bon poète, mais je ne voudrais pas l’avoir plus longtemps ni à Odessa, ni à Kichineff. Adieu, cher comte…» («По этому поводу я повторяю мою просьбу — избавьте меня от Пушкина: это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишинёве. Прощайте, дорогой граф…»)
Теперь к этим документам о Пушкине мы можем прибавить ещё несколько новых. Первый — и едва ли не самый интересный — сообщен нам в извлечении и в переводе на русский язык А. А. Сиверсом; документ этот вскоре будет опубликован полностью в сборнике «Пушкин и его современники»[222]; это выдержка из письма Воронцова к П. Д. Киселёву (тогда начальнику штаба 2-й армии) из Одессы от 6 марта 1824 г. (то есть ещё за три недели до первой письменной просьбы Воронцова к гр. Нессельроде об увольнении Пушкина), в котором читаем: «Я хотел бы, чтобы взглянули, кто находится при мне и с кем говорю я о делах. Если имеют в виду Пушкина и Александра Раевского, — то скажу вам о последнем, что я не могу помешать ему жить в Одессе, когда ему того хочется, но с тех пор, что мы говорили с вами о нём, я едва соблюдаю с ним формы вежливости, которые требуются по отношению к старому товарищу и родственнику, и уж конечно мы никогда не обмениваемся ни словом о делах или о назначениях по службе: однако, по всему, что до меня о нём доходит, он разумен и сдержан во всех своих разговорах и чувствует, я полагаю, своё положение и в особенности вред, который он причинил своему отцу. Что касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели, — он боится меня, так как прекрасно знает, что при первом же шуме, о котором я узнаю, я отошлю его отсюда, и что тогда уж никто не пожелает взять его на своё попечение; я вполне уверен, что он ведёт себя гораздо лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове, который забавлялся тем, что вступал с ним в споры, думая исправить его логическими рассуждениями, а потом дозволял ему жить одному в Одессе, между тем как сам он находился в Кишинёве. По всему тому, что я узнаю о нём и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, — он очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, — я бы отослал его, — и лично я был бы в восторге от этого, потому что не люблю его манер; к тому же я не столь пламенный поклонник его таланта — нельзя быть истинным поэтом без постоянных занятий, а он совершенно не работает».
Этот резкий отзыв — первый в ряду других отзывов Воронцова о Пушкине. Отправив через три недели, 28 марта, уже официальную просьбу к Нессельроде об отозвании Пушкина из Одессы, Воронцов лишь через два месяца получил отзыв этого министра, который в письме к нему из Петербурга от 16/28 мая 1824 г. писал (по-французски): «Я представил императору ваше письмо о Пушкине. Он был вполне удовлетворён тем, как вы судите об этом молодом человеке, и даст мне приказание уведомить вас о том официально. Но что касается того, что окончательно предпринять по отношению к нему, он оставил за собою дать своё повеление во время ближайшего моего доклада»[223]. Между тем, написав Нессельроде официальное письмо 28 марта, Воронцов послал и другое сообщение о Пушкине в Петербург, вставив его в совершенно частное письмо своё к своему старому и интимному другу — Николаю Михайловичу Лонгинову, многолетнему управляющему канцелярией императрицы Елисаветы Алексеевны, с которым был в давней, деятельной и интимной переписке, хранящейся ныне в Пушкинском Доме (в архиве его сына, известного библиофила и библиографа М. Н. Лонгинова)[224]. Именно, в письме от 8 апреля 1824 г., из Белой Церкви (киевского имения своей тёщи, графини А. В. Браницкой) Воронцов писал Лонгинову следующее: «К Синявину (это адъютант Воронцова. — Б. М.) писал младший брат его, что отец по нему тоскует, и я его отпустил на время, но надеюсь, что он его не совсем задержит, ибо он малой прекрасной и лутчий у меня адъютант; можно сказать, что он редкой молодой человек. A propos de молодых людей, я писал к гр. Неселроду, прося, чтоб меня избавили от поета Пушкина. — На теперешнее поведение его я жаловаться не могу, и, сколько слышу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лености, другое — такскается с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много; он думает, что он уже великой стихотворец, и не воображает, что надо бы ещё ему долго почитать и поучиться прежде, нежели точно будет человек отличной. В Одессе много разного сорта людей, с коими едакая молодёжь охотно видится, и, желая добро самому Пушкину, я прошу, чтоб его перевели в другое место, где бы он имел и больше времени, и больше возможности заниматься, и я буду очень рад не иметь его в Одессе…»[225]
Через три недели после этого и спустя месяц после письма своего к Нессельроде Воронцов снова писал Лонгинову, уже из Одессы, 29 апреля 1824 г.: «О Пушкине не имею ещё ответа от гр. Несселроде, но надеюсь, что меня от него избавят. Сегодни вечеру отправляюсь в Кишинёв дней на пять»[226]; отсюда, из Кишинёва, он снова писал Лонгинову, 4 мая 1824 г., о Пушкине, вспомнив о нём по связи с именем Туманского — Василия Ивановича, молодого поэта, с которым Пушкин, ценя в нём юный талант и добрый нрав, в то время сблизился[227] и увековечил в «Евгении Онегине»: «Казначеев мне сказывал, что Туманской уже получил из П-бурга совет отдаляться от Пушкина, и я сему очень рад, ибо Туманской — молодой человек очень порядочный и совсем не Пушкинова разбора. Об эпиграмме, о которой вы пишите, в Одессе никто не знает, и может быть П. её не сочинял; впрочем нужно, чтоб его от нас взяли, и я о том ещё Неселроду повторил»[228]. В этом повторном письме, от 2 мая, цитированном нами выше, Воронцов, как мы видели, просил «избавить его от Пушкина», прибавляя: «…это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишинёве». О какой эпиграмме Пушкина, дошедшей до Петербурга, сообщал Воронцову Лонгинов, мы не знаем, так как письма Лонгинова к Воронцову не опубликованы, — но вряд ли это могла быть известная цитированная нами эпиграмма на Воронцова: трудно допустить, что Лонгинов решился сообщить своему другу столь резкие о нём слова; вероятнее предположить, что это была одна из эпиграмм, сказанных тогда Пушкиным про кого-либо из одесских чиновников, — эпиграмм, о которых мы выше приводили сообщение Липранди.
Наконец, укажем ещё на письмо гр. Нессельроде к Воронцову, предшествовавшее чуть ли не на две недели его решительному письму о Пушкине от 11 июля: в письме от 27 июня 1824 г. Нессельроде писал: «Император решил и дело Пушкина: он не останется при вас; приэтом Его Императорскому Величеству угодно просмотреть сообщение, которое я напишу вам по этому предмету, — что может состояться лишь на следующей неделе, по возвращении его из военных поселений»[229].
Один из ближайших друзей Пушкина, кн. П. А. Вяземский, уже в мае месяце узнал о грозившей поэту беде и писал о том А. И. Тургеневу, который, в свою очередь, сообщал 1 июля своему корреспонденту: «Граф Воронцов прислал представление об увольнении Пушкина. Желая, coûte que coûte (во что бы то ни стало), оставить его при нём, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно; что уже несколько раз, и давно (28 марта и 2 мая), граф Воронцов представлял о сём pour cause (по делом): что надобно искать другого мецената начальника. Долго вчера толковал я о сём с Севериным и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более, что Пушкин и псковский помещик. Виноват один Пушкин: Графиня (Воронцова) его отличала, отличает, как заслуживает талант его, но он рвётся в беду свою. Больно и досадно. Куда с ним деваться»[230].
Одиннадцатого июля[231] Вяземский писал в Одессу своей жене, уехавшей туда с детьми на морские купанья, поручая ей отдать поэту свой денежный долг, и, предвидя уже, по письму Тургенева, возможность его выезда оттуда, прибавлял: «Если как-нибудь перед отъездом его понадобились бы ему деньги сверх того, то дай ему несколько сотен рублей, под залог его будущего бессмертия, т. е. новой поэмы»[232]. В письмах к мужу Вяземская, в свою очередь, сообщала новости о Пушкине: его столкновение с Воронцовым, подача им прошения об отставке и затем высылка из Одессы прошли на её глазах, причём она была посвящена Пушкиным как единственное, по-видимому, лицо, к которому он относился с полным доверием и симпатией, — во все подробности событий. В первом же письме своём по приезде в Одессу, от 13 июня, княгиня Вяземская писала мужу (по-французски) следующее: «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича, поэте Пушкине. Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не сможет совладать. Он натворил новых проказ, из-за которых подал в отставку. Вся вина — с его стороны. Мне известно из хорошего источника, что отставки он не получит. Я делаю всё, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяя его, что, разумеется, ты первый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог бы так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу — и сделал это, что стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно, что меня очень огорчает, но никогда не приходилось мне встречать столько легкомыслия и склонности к злословию, как в нём: вместе с тем, я думаю, у него доброе сердце и много мизантропии; не то чтобы он избегал общества, но он боится людей; это, может быть, последствие несчастий и вина его родителей, которые его таким сделали»[233]. Сообщая А. И. Тургеневу вышеприведённую выдержку из письма жены, князь П. А. Вяземский писал ему 7 июля: «Разумеется, будь осторожен с этими выписками. Но, видно, дело так повернули, что не он просится: это неясно. Грешно, если над ним уже промышляют и лукавят. Сделай одолжение, попроси Северина устроить, что можно, к лучшему. Он его, кажется, не очень любит; тем более должен стараться спасти его; к тому же, верно, уважает его дарование, а дарование не только держава, но и добродетель»[234]; 10 июля он отвечал жене на её письмо и говорил: «…этот каламбур сообщи Пушкину, если он ещё у вас. Эх он шалун! мне страх на него досадно, да и не на его одного. Мне кажется по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном. Сообщи и это Пушкину: тут есть и ему мадригал, и эпиграмма»[235].
Из этих писем кн. Вяземской видно, что ни она, ни Пушкин не ожидали того, что случилось; с гр. Воронцовой Пушкин видался до самого последнего времени, когда она была в Одессе[236]; на опасения мужа Вяземская отвечала, что поэт, по её мнению, виноват лишь в некоторых ребяческих выходках, да в том, что он справедливо был раздосадован поручением ехать на саранчу, чему он, однако, повиновался; что он влюблён сразу в трёх дам, что он вообще несчастлив, что он ничего не знает, что делается о нём в Петербурге, особенно в виду отсутствия Воронцова[237], так как графиня, в конце концов, узнала лишь то, что Пушкин должен покинуть Одессу — по той причине, что, по словам Воронцова, он не имеет для Пушкина дела в Одессе[238]. После высылки Пушкина гр. Воронцова через А. Н. Раевского передала ему о своём живом сочувствии его несчастию[239]. Однако никаких намёков ни на ревность Воронцова, ни на предательство Раевского, ни на политические выходки Пушкина в письмах Вяземской не находим, — а она, конечно, была в полном курсе всего, что происходило тогда в Одессе и что касалось Пушкина, к которому она относилась с живой и нежной симпатией и дружбой[240].
Что же, в конце концов, послужило ближайшим поводом к ссылке Пушкина в деревню? Мы думаем, что совокупность четырёх обстоятельств: во-первых — подача известного доноса генерала Скобелева на Пушкина, относящегося ко второй половине января 1824 г., во-вторых, перехваченное почтою письмо поэта к одному из его друзей (по всей вероятности, к князю П. А. Вяземскому), датируемое первой половиной марта 1824 г. и содержавшее высказанные в непринуждённой форме суждения об атеизме, который поэт, по его словам, изучал у некоего англичанина, «глухого философа, единственного умного афея», им встреченного[241]; в-третьих, опасения Воронцова, чтобы в Петербурге не осудили его за близость к Пушкину, — и, наконец, — вероятно, лишь как ближайший повод или основание, — недовольство и оскорбительное для Пушкина раздражение Воронцова, эпиграммы поэта, его ухаживание за женой начальника, наговоры и сплетни и т. п. К сожалению, точного представления о том, в какой последовательности развёртывались события, у нас нет и, несмотря на обилие прежних и на несколько новых найденных нами данных в современных письмах, вряд ли когда-нибудь будет.
По поводу упомянутого в криминальном письме Пушкина об атеизме «англичанина, глухого философа», у которого поэт брал уроки безбожия, мы можем сказать также несколько слов на основании тех же писем Воронцова к Лонгинову; они будут небезынтересны ввиду той роли, которую, хоть и неожиданно для себя, сыграл этот англичанин в деле высылки Пушкина из Одессы. По свидетельству одесского знакомца Пушкина и правителя походной канцелярии Воронцова А. И. Левшина, этот англичанин звался Гунчисон и был доктором; есть и другое указание, будто этот англичанин-атеист был профессор Ришельевского лицея в Одессе Вольсей, но это опровергается указанием на то, что Вольсей покинул Одессу гораздо ранее приезда туда Воронцовых; доктор же Гутчинсон (а не Гунчисон, как называет его Левшин) действительно жил в 1824 г. у Воронцовых в Одессе, не первый уже год состоя у них домашним детским врачом. Вот что писал М. С. Воронцов H. М. Лонгинову из Парижа 21 октября (2 ноября) 1821 г.:
«С нами живёт один doktor Hutchinson, которого рекомендовали нам чрезвычайно в Лондоне; он с нами поедет и в Россию; человек прекрасной, учёный, хорошо воспитанный, имел уже довольно практики и, что особенно для нас выгодно, был при Детском Гошпитале в Лондоне, в коем в полтора года лечил до 2000 детей[242]. Один маленький недостаток в нём, что немного глух, но, привыкнув к голосу, ето почти неприметно»[243].
Из писем графа и графини Воронцовых в ноябре 1824 г. видно, что в это время доктор Гутчинсон (они называют его в других местах Гутчисоном) продолжал жить в их семействе, ухаживая за детьми и наблюдая за их боннами; 17 ноября Воронцов писал Лонгинову, что он с женой получил из Лондона «хорошее известие», что «прекрасной человек doctor Lee найден вместо почтенного нашего доктора Гутчисона, и что он скоро сюда будет»[244]. Добавим к этому, что, без сомнения, именно Гутчинсона имеет в виду Вигель, когда в «Записках» рассказывает о своём приезде в Одессу в середине мая 1824 г., что он нашёл Воронцовых в большой печали из-за болезни их четырёхлетней единственной дочери Александры, премилой девочки, причём «лысый доктор, особенно для неё из Англии выписанный, не ручался за её жизнь…»[245].
Дальнейшая судьба глухого и лысого доктора-философа нам в точности не известна; есть лишь указание на то, что в конце 1820-х гг. Гутчинсон сделался в Лондоне ревностным пастором одной из англиканских церквей[246].
Сообщим ещё небольшой эпизод, касающийся ссыльной жизни Пушкина в Михайловском, остававшийся неизвестным до настоящего времени (мы обязаны им А. А. Сиверсу): эпизод этот относится к хлопотам родных поэта об освобождении его из невольного пребывания в Михайловском.
Как известно, летом 1825 г. мать поэта, по совету Жуковского и Карамзина, обратилась с просьбой к императору Александру I о помиловании сына; результат просьбы этой был неожиданный: вместо разрешения отправиться для лечения аневризма за границу, Пушкину позволено было съездить в ближайший губернский город, а именно — во Псков, где и подвергнуться операции, — у местного, как саркастически писал Пушкин, коновала или ветеринара. Со смертью Александра I у Пушкина возродилась надежда на освобождение, и он дважды, в марте и в мае 1826 г., делал попытки обратиться к новому императору. Просьба его от 11 мая 1826 г. о разрешении покинуть деревню и ехать для лечения в Москву, Петербург или чужие края получила надлежащее движение, причём в пушкинские места был послан особый шпион, коллежский советник Бошняк, который в июле 1826 г. объехал окрестности Михайловского и Святых Гор, собрал о Пушкине сведения, — к счастию, оказавшиеся для него благоприятными, — и послал их «по команде»[247]. Результатом расследования было решение вызвать Пушкина в Москву, к вновь принявшему коронование императору Николаю, и известное представление поэта государю в кремлёвском дворце. Но теперь оказывается, что почти одновременно с этим новые хлопоты о помиловании сына предприняла и мать поэта, Н. О. Пушкина: проводя лето 1826 г., как и предыдущие, в Ревеле, на морских купаниях, с мужем и дочерью, она обратилась к молодому императору Николаю I с прошением, в котором изъясняла, что «ветреные поступки, по молодости, вовлекли сына её в нещастие заслужить гнев покойного государя, и он третий год живёт в деревне, страдая аневризмом без всякой помощи, — но что ныне, сознавая ошибки свои, он желает загладить оные, а она, как мать, просит обратить внимание на сына её, даровав ему прощение». Просьба Пушкиной попала 31 августа 1826 г., как адресованная, как говорилось, на высочайшее имя, в Комиссию прошений; но лишь 4 января 1827 г., — вероятно из-за коронационных и иных подобных хлопот, она была заслушана в заседании Комиссии прошений членами её В. С. Ланским, И. А. Соколовым, А. В. Казадаевым и H. М. Лонгиновым (тем самым, с которым в 1824 г. переписывался о Пушкине Воронцов), причём постановлено было «довести прошение Пушкиной до высочайшего его императорского величества сведения». Это было сделано 30 января 1827 г., причём прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе. «Надежда Пушкина, — читаем здесь, — изъясняя, что сын её имел нещастие навлечь на себя гнев покойного государя императора, — почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год одержим болезнию и без всякой помощи, но ныне, усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, — просит о возвращении его к семейству и о даровании прощения». Прочтя подлинный доклад Комиссии, Николай I поставил на нём условный карандашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика, статс-секретаря Лонгинова, сделана была на докладе помета: «Высочайшего соизволения не последовало. 30 Генваря 1827 г.»[248].
Последняя помета чрезвычайно любопытна своим внутренним противоречием: 4 сентября 1826 г. Пушкин был вызван в Москву, извещённый о «Высочайшем разрешении по всеподданнейшему его прошению», — просил же он о разрешении выехать в Москву, Петербург или за границу для лечения; кроме того, шеф жандармов Бенкендорф в первом же письме своём к Пушкину, написанном 30 сентября, извещал поэта в ответ на его недоумения, что ему предоставляется полная свобода приезжать в столицу, — каждый раз лишь с особого разрешения. Пушкин так и понял себя свободным: из Москвы он совершил поездку в Михайловское и во Псков, затем опять в Москву: он чувствовал себя легко и радостно:
В надежде славы и добра Гляжу вперёд я без боязни, —писал он в своих известных «Стансах» Николаю; между тем Николай I, как теперь оказывается, даже после свидания с Пушкиным и откровенной беседы с ним, не снял своих, запоздавших, подозрений с чистого сердцем поэта и в резолюции на столь поздно дошедшее к нему прошение Н. О. Пушкиной о помиловании раскаивающегося сына положил помету, свидетельствующую о том, что соизволения на дарование прощения поэту он в своём сердце найти не смог…
Так в двойственном лике, прощённого, обласканного и осыпанного комплиментами писателя, а с другой стороны — вечно подозреваемого, окружённого недоверием и слежкой человека, и вошёл Пушкин во вторую половину своей творческой жизни. Эта двойственность, часто и досадно искажая перед нами светлое лицо нашего поэта, заставляет нас всегда помнить о тягости пройденного им жизненного пути; с тем большими любовью и сочувствием к поэту все мы должны работать для увековечения его памяти.
Роман декабриста Каховского[249]
Личность Каховского и его судьба — исключительная по яркости романтическая страница в декабрьской эпопее 1825 г.: человек совсем ещё молодой, не отличавшийся ни особенной знатностью породы, ни богатством, ни родственными или иными связями, ни влиянием среди того общества, к которому примкнул более или менее случайно, — одним словом, человек, ничем, казалось, не выделившийся из толпы сотен и сотен таких же, как он, «отставных поручиков», — Каховский, в силу роковым для него образом сложившихся обстоятельств, попал в число пяти наиболее выдающихся декабристов, поставленных «вне разрядов» и погибших на эшафоте в памятный день 13 июля 1826 г. … За что, собственно, Каховский подвергся такой жестокой участи, чем именно дал он повод к произнесению смертного приговора над своей молодой жизнью? Если мы знаем теперь, что было поставлено Каховскому в вину, чем именно выделился он из сотен других осуждённых и как формулирована была его виновность в приговоре Верховного уголовного суда, — то мы всё-таки не были в состоянии до сих пор хоть отчасти раскрыть завесу, за которою скрывался его человеческий облик: правда, по нескольким его письмам к Николаю I, по смелым показаниям, данным Следственной комиссии, и по тому, что говорили о нём в Комиссии его товарищи по несчастию, мы могли догадываться, что Каховский был человек исключительной пылкости темперамента, восторженный энтузиаст по характеру, пламенно преданный чувству любви к свободе, самоотверженный искатель правды и справедливости… Но нам не было известно в подробностях ни одного сколько-нибудь достоверного случая из его ранней, краткой, но полной превратностей жизни; мы знали лишь, что девятнадцатилетним юношей он, будучи гвардейским юнкером, подвергся, за какую-то небольшую провинность, разжалованию в рядовые и переводу в армейский полк и что лишь через два года добился производства в кирасирские корнеты, но, прослужив офицером только около двух лет, вышел в отставку и поехал лечиться на Кавказ, а потом путешествовал за границей… Но все эти сведения были неопределённы, — как бы в тумане, без ярких очерков, без сути дела и без каких-либо подробностей: ни в чём состояли его полковые провинности и «шалости», ни почему он ездил лечиться, ни где путешествовал, — мы ничего этого не знаем. Прав был поэтому П. Е. Щёголев, подчёркивая то обстоятельство, что даже товарищи-декабристы говорят о Каховском всего одну-две незначительные фразы, что он — какой-то чужой, неизвестный им человек, что он, несмотря на свою смертную запечатленность, чужд им не только нравственно, но даже, так сказать, и физически — до смешного: они не знают точно даже его имени, они путаются в нём и ошибаются…
Все эти странности, столь неожиданные в биографии человека, которого признано было справедливым и необходимым «казнить смертию», особенно разжигают наше любопытство, — нам тем более хочется узнать хоть что-нибудь об этой личности, которую постигла такая необычная и такая ужасная судьба. Поэтому надо быть особенно благодарными случаю, доставившему нам возможность хоть несколько ближе познакомиться с Каховским и лучше узнать его по одному романтическому эпизоду его жизни. Эпизод этот передаётся нами ниже по подлинным документам, которые сохранились в составе архива известной семьи Боратынских, хранящегося теперь в Рукописном отделении Пушкинского Дома Академии наук. Он переносит нас за столетие назад — к середине 1824 г. и ближайшим образом касается Каховского и его увлечения молодою восемнадцатилетнею девушкой, Софьей Михайловной Салтыковой, в которую страстно влюбился этот не столь молодой, как она, летами, но столь же, по-видимому, юный душою пламенный энтузиаст. Переписка Салтыковой с подругой сохранила для нас все подробности её кратковременного романа с Каховским, — и роман этот, благодаря откровенности корреспондентки, встаёт перед нами в совершенно живом, ярком образе и даёт нам возможность хотя бы отчасти уяснить, по каким психологическим причинам этот романтик так легко и так сознательно пошёл на гибель, почему он с таким самоотвержением пожертвовал своею жизнью, отдавшись обуявшему его порыву к общему благу, к свержению деспотической ненавистной ему самодержавной власти.
Письма Софьи Михайловны Салтыковой[250], в которых ею рассказана история увлечения Каховского, обращены ею к подруге и сверстнице — Александре Николаевне Семёновой, впоследствии, по мужу, Карелиной; они раскрывают перед нами все детали этого непродолжительного романа, с самого его зарождения до конечного момента — разрыва; писаны они с такою обстоятельностью, что их можно читать почти без всяких дополнительных объяснений; но, чтобы понять и оценить эпоху и тот «местный колорит» — ту среду, в которой развернулись события романа, нам необходимо ознакомиться со всеми участвующими в нём лицами, которые выступают в нём не столько как главные, но и как второстепенные персонажи, не столько действующие, сколько составляющие фон, на котором развёртываются события, и присутствующие при развивающихся на их глазах перипетиях романа.
I
Группа этих лиц невелика, и во главе её надлежит поставить отца Софьи Михайловны — Михаила Александровича Салтыкова. В 1824 г. это был уже человек преклонного возраста: ему было пятьдесят семь лет; он находился не у дел, хотя и числился на службе в ведомстве Коллегии иностранных дел, состоя действительным камергером при дворе Александра I. Потомок московских бояр, член многочисленной и оригинальной семьи — сын и племянник типичных представителей русского передового дворянства середины XVIII в., — он возрос в среде, проникнутой «волтерианством», и сам с молодых ногтей пропитался этим миронастроением, которое сохранял до конца своей жизни. Питомец Шляхетского кадетского корпуса поры графа Ангальта, он был предан театральным и литературным интересам и сам впоследствии много писал (хотя ничего и не печатал), а читал — ещё больше. Отдав дань военной службе, он в 1794 г. был уже полковником Санкт-Петербургского драгунского полка и состоял при президенте Военной коллегии графе Н. И. Салтыкове, своём родиче. Судьба ему улыбнулась: в это время он «попал в случай» у Екатерины II и был даже помещён во дворце, в комнатах фаворита Платона Зубова[251]; но фавор его длился недолго, — со смертью Екатерины он был уволен Павлом I от службы[252], поселился в Смоленской губернии (вероятно, у вотчима своего, П. Б. Пассека), и лишь при Александре I звезда его вновь засияла: он был сделан камергером, зачислен в службу и вошёл в интимный круг друзей молодого государя, с которым был близок ещё в предыдущие годы мрачного павловского царствования. Александр, по воцарении, предлагал ему, по словам Н. И. Греча, какое-то место; но Салтыков отказался от него, «объявив, что намерен жениться и жить в уединении». И действительно, вскоре он женился на неродовитой, но красивой молодой девушке — Елизавете Францевне Ришар, одной из дочерей швейцарской француженки Марии Христиановны Ришар, содержавшей известный тогда в Петербурге пансион для девиц, и хотя, по свидетельству того же Греча, брак этот был заключён «по страсти», Салтыков жил с женою «не очень счастливо»[253]. Он имел от неё сына Михаила (род. 1804) и дочь Софью (род. 1806); в 1814 г., 4 ноября, Е. Ф. Салтыкова умерла в Казани, где М. А. Салтыков был с 1812 по 1818 г. попечителем учебного округа и университета[254]. По выходе в отставку Салтыков переселился в Москву, а вскоре затем переехал в Петербург для воспитания дочери и жил здесь не у дел. К этому времени относится характеристика Салтыкова, принадлежащая Д. Н. Свербееву и находящаяся в его «Записках»: «Замечательный умом и основательным образованием, не бывав никогда за границей, он превосходно владел французским языком, усвоил себе всех французских классиков, публицистов и философов, сам разделял мнения энциклопедистов и, приехав в первый раз в Париж, по книгам и по планам так уже знал все подробности этого города, что изумлял этим французов. Салтыков, одним словом, был типом знатного и просвещённого русского, образовавшегося на французской литературе, с тем только различием, что он превосходно знал и русский язык…»[255] Но отличительною чертою натуры Салтыкова была склонность его к ипохондрии. В 1816 г. профессор Броннер откровенно писал ему: «Характер у вас любезный, миролюбивый, мягкий; сердце у вас открытое, искреннее, даже в степени большей, нежели сами могли бы вы предполагать это. Вы легко привязываетесь к людям, вас окружающим», — но тут же прибавлял: «Боже избави вас от ипохондрии, — оставьте её в удел злодеям! С вашим добрейшим характером, невольно привлекающим к вам все сердца, вы всегда найдёте возможность окружить себя честными людьми, достойными вашего доверия и которые будут в состоянии ценить ваши достоинства. Если вы хорошенько вдумаетесь в окружающее, вы придёте к несомненному заключению, что у двуногих животных, именуемых людьми, имеется в наличности несравненно более слабостей, нежели действительной злобы. Будьте же великодушны и — прощайте им!»[256] Салтыков отвечал на это профессору Броннеру: «Я стал избегать общества, чтобы не заводить в нём новых связей. Я жажду уединения, и опыт, предпринятый мною минувшим летом, которое я провёл в деревне, дал мне ясно убедиться в том, что только на лоне природы мыслимо для меня совершенное счастье, среди деревенских занятий, среди деревенской жизни, чуждой здешних страстей и треволнений», — но, прибавлял он: «откровенно говоря, в моём характере больше застенчивости и нелюдимости, нежели мизантропии; я не ненавижу людей, но только избегаю их, потому что я невысокого, в общем, о них мнения. Вот вам моя душевная исповедь». «Жажда власти, отличий, почестей, — писал он в начале 1817 г. ему же, — является, в большинстве случаев, у людей неутолимою, и они нередко упиваются ими до водянки. Я рано познал скользкость этого пути и тщательно избегал его: яд честолюбия никогда не отравлял моего сердца. Будь у меня достаточные средства и отсутствие забот о будущности моих детей, — я не задумался бы бросить и служебное положение, и призрачные обаяния ранга и происхождения, с тем, чтобы удалиться к жизни свободной и независимой, — жизни под небом более счастливым, среди богаче одарённой природы, среди менее эгоистически настроенного общества, вдали от двора, вельмож, от очага всех бурных страстей. Я счёл бы себя счастливым даже в бедной хижине, если бы она в состоянии была обеспечить мне спокойное состояние духа, мир и тишину. Только полное сельское уединение способно ещё возвратить мне счастье…»[257] Вигель даёт в своих «Записках» подробную и верную характеристику Салтыкова, называя его «человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в сорок лет и тона самого приятного»; по его словам, Салтыков «во время революции (французской) превозносил жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал; но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем… Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно, красно… С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал; разгорался же только — нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарта…»[258] В этом смысле Салтыков был типичным представителем своей эпохи, — можно видеть, между прочим, по замечательному портрету современника Салтыкова, нарисованному Л. Н. Толстым в лице «Князя Ивана Ивановича» в XVIII главе «Детства»: «Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрёл в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочёл всё, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII в., основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра… Несмотря на это французско-классическое образование, которого остаётся теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость» и т. д.[259]
Приведённые отзывы о Салтыкове согласуются с тем впечатлением, которое выносится от знакомства с ним по письмам его дочери к А. Н. Семёновой. Несомненно, что в общежитии он был человек с тяжёлым характером, — меланхолик, брюзга, приходивший в дурное настроение духа от всякого пустяка, мнительный и раздражительный, с большою дозою эгоизма и деспотизма, хотя и сдобренного личиною свободомыслия. К сыну своему относился он с повышенною строгостью и требовательностью, держал его в чёрном теле и не всегда был справедлив к нему; дочь — любил, но внушал ей страх к себе; очень расположившись сперва к жениху дочери — добродушному поэту Дельвигу, он затем внезапно и без видимой причины изменился к нему, и между ними впоследствии вместо родственной близости создалась, по-видимому, взаимная отчуждённость; к тому же в конце 1828 г. (7 декабря) Салтыков был назначен сенатором в 6-й (Московский) Департамент Сената и, одинокий, уехал в Москву[260], где в 1830 г. (10 февраля) назначен был ещё почётным опекуном Московского опекунского совета[261]. Он был членом Московского Английского клуба[262], вице-президентом Российского общества садоводства с самого его основания в Москве в 1835 г.[263], посещал вечера А. П. Елагиной[264], был в то же время в приятельских отношениях с Чаадаевым[265], бывал у И. И. Дмитриева, который однажды, в 1833 г., на вопрос кн. П. А. Вяземского о том, что делает М. А. Салтыков, отвечал: «Всё вздыхает об изменении французского языка…»[266]
Следует особенно припомнить, что Салтыков был членом «Арзамаса». Ещё в 1812 г. он был дружески знаком с Батюшковым, Дашковым и другими представителями молодого литературного поколения; а когда в конце 1816 г. основался «Арзамас», — Салтыков был приобщён к числу почётных членов этого содружества с титулами «почётного гуся» и «природного члена»[267]; есть указания, что он участвовал и в самых заседаниях «Арзамаса»[268], просуществовавшего, как известно, недолго. Здесь он мог встречаться и с юным арзамасцем Пушкиным, который впоследствии относился к Салтыкову с особенным уважением. Так, узнав о помолвке своего нежно любимого друга Дельвига, поэт писал ему: «Цалую руку твоей невесте и заочно люблю её, как дочь Салтыкова и жену Дельвига» (XIII, 192) — или, незадолго до свадьбы: «Кланяйся от меня почтенному, умнейшему Арзамасцу, будущему своему тестю — а из жены своей сделай Арзамаску — непременно…» (XIII, 241)[269]. С горестною вестью о смерти Дельвига Пушкин, находившийся тогда в Москве, немедленно отправился к Салтыкову, чтобы сообщить ему об ужасном событии, но — «не имел духу» сделать это…[270]
В начале 1846 г. Салтыков был, по отзыву Плетнёва, «довольно ещё здоров и даже как будто свеж»[271]; действительно, он прожил после того ещё пять лет — и умер в Москве 6 апреля 1851 г., года за два до смерти выйдя в отставку[272]; однако, по словам Греча, он под конец жизни «от старости и болезни лишился ума…»[273].
II
После Салтыкова нам придётся, в первой половине нашего рассказа, встретиться с другою, не менее оригинальною личностью, — с дядей С. М. Салтыковой, Петром Петровичем Пассеком. Это был единоутробный брат М. А. Салтыкова: мать последнего, Мария Сергеевна, рожд. Волчкова, известная в своё время красавица, ещё задолго до смерти своего мужа, Александра Михайловича Салтыкова[274], сошлась с Петром Богдановичем Пассеком, одним из главных пособников Екатерины II при восшествии её на престол[275]. По словам Г. И. Добрынина, она «в самых цветущих летах разладила с мужем и, в таком горьком случае, искала пособия и защиты по Петербургу. Пассек тогда был при дворе камергером. Он ей предложил своё покровительство, которое показалось ей тем надёжнее, что и он, разладя с женою, из фамилии Шафировых, не меньше имел нужду в покровительстве себя молодыми и пригожими женщинами. Сей случай двух горевавших половин сочетал их на всю жизнь»[276]. От этого-то союза и родился, около 1775 г., сын Пётр, который получил отчество и фамилию своего отца Пассека, хотя и прижит был М. С. Салтыковою без развода её с мужем. П. Б. Пассек, своенравный до дикости вельможа и всесильный временщик, любил, по свидетельству Добрынина, хоть и незаконного, но единственного своего сына «беспримерно», ибо, при всех своих недостатках, даже пороках, был «наилучший отец, наилучший любовник и муж, добрый и чувствительный друг…»[277]. Мальчик «назывался, по отцовскому и по своему имени, Петром, а по нежности — Пипинком и Панушком»[278]. Мать свою он называл «тётею» и, по свидетельству одного француза-путешественника, видевшего мальчика в 1788—1789 гг., был «так же ласков и льстив, как и его отец, красотою походил на тётку, а притворством напоминал обоих»[279]. Мария Сергеевна, малолетний сынок и… манежные лошади Пассека были, по выражению Добрынина, «три струны, которые были приятнейшею в жизни для его сердца музыкою, и без них он жить не мог»[280]. Он перевёз их, то есть «друга» своего и сына, — при назначении своём в 1782 г. белорусским генерал-губернатором, — в Могилёв и, «любя всякого рода удовольствия», устраивал у себя по вечерам «собрания, дабы вкусить приятность жизни Марье Сергеевне и Панушке…»[281]. Сожительство Пассека с Салтыковой заключилось браком, совершённым в селе Яковлевичах, Ельнинского уезда Смоленской губернии, осенью 1796 г.[282]; здесь и в селе Крашневе, того же уезда, проживала она и раньше, в 1792 г., и здесь бывал у неё сын — М. А. Салтыков[283]; эти имения, равно как и красивая загородная усадьба Пипенберг, под Могилёвом, достались вскоре «Пипинке», то есть Петру Петровичу Пассеку, как единственному наследнику отца[284].
П. П. Пассек воспитывался в отцовском доме, под руководством англичанина Макгрегора (который так и остался потом жить у него в доме), а затем служил в военной службе, в которую был зачислен ещё в 1782 г.; произведённый 27 марта 1795 г. в подполковники, он в 1796 г. состоял генерал-адъютантом при фельдмаршале графе Румянцове-Задунайском[285]. Затем, в чине полковника, был командиром Московского гренадерского полка[286], 7 июня 1799 г. был произведён в генерал-майоры и назначен шефом Киевского гренадерского полка[287], во главе которого стоял до 1804 г., когда место его заступил И. Н. Инзов[288], впоследствии начальник Пушкина в Кишинёве[289]. Он ещё служил во время второй войны с Наполеоном[290], а когда, в июле 1812 г., составилось Смоленское ополчение, то в числе дворян, вступивших в службу в это ополчение, был и отставной генерал Пассек, местный помещик. Ополчение принимало участие в бородинском и малоярославецком боях и было распущено в апреле 1813 г.[291], причём Пассек получил орден Анны 1-й степени[292]. В 1818 г. мы встречаем Пассека живущим в Париже[293], а в 1820 г., состоя отставным генерал-майором, он проживал в своих Смоленских поместьях — Крашневе и Яковлевичах; к этому времени относится любопытный рассказ о нём М. С. Николевой (род. 1808), которая, благодаря соседским отношениям её родителей с Пассеком, в детстве и юности часто видывала этого оригинального человека. «Генерал Пётр Петрович Пассек, — пишет она, — был с нами коротко знаком, так же, как и жена его Наталья Ивановна. Часто они проводили у нас по нескольку суток со всем своим штатом, который составляли двое англичан: один из них Макгрегор — воспитатель Петра Петровича, поселившийся у своего ученика на всю жизнь, и другой, Джек, почти слепой. Пассек на свой счёт лечил его у лучших окулистов в Москве, поддержавших его зрение. Тут же жила побочная сестра бездетного Петра Петровича — Екатерина Петровна[294], получившая в его доме порядочное образование. У Пассека в селе Крашневе был большой сад с беседками, киосками, мостиками, множеством цветов и теплицей, а в другом селе, Яковлевичах, где Пассек проводил зиму, была довольно большая библиотека и Ланкастерская школа для крестьянских мальчиков на 30 человек. <…> Я любила и уважала Петра Петровича. Зная, что он любит хорошую обувь, — так, бывало, натяну чулок и крепко подвяжу, что трудно ходить, но терплю, лишь бы заслужить его одобрение. Он ездил с женой за границу, что тогда не было так обыкновенно, как теперь, и привёз нам всем разные безделушки, между прочим — новую тогда игру лото»[295].
К тому же времени относится и рассказ о Пассеке декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, также смоленского помещика: описывая приезд декабриста М. А. Фонвизина к нему в имение Жуково, Вяземского уезда, Якушкин пишет: «От меня мы поехали к Граббе[296] в Дорогобуж и познакомились с отставным генералом Пассеком, который пригласил нас в своё имение недалеко от Ельни. Он недавно возвратился из-за границы и жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, — в том числе и крепостное состояние. Имение его было прекрасно устроено, и с своими крестьянами он обходился человеколюбиво, но ему всё-таки хотелось как можно скорее уехать за границу…»[297] На известном съезде членов «Союза благоденствия» в Москве в январе 1821 г. Якушкин, очевидно, доложил о Пассеке как о человеке, которого было бы полезно привлечь на свою сторону, — и ему было поручено вовлечь Пассека (и П. Я. Чаадаева)[298] в члены нового тайного общества. Это вскоре и удалось Якушкину. «Возвратясь в Жуково, — пишет он в своих „Записках“, — я заехал к Пассеку и принял его в члены Тайного Общества. Он был этим чрезвычайно доволен; когда он бывал с Граббе, Фонвизиным и со мной, он замечал, что у нас есть какая-то от него тайна, и ему было очень неловко. Он всегда был добр до своих крестьян, но с этих пор он посвятил им всё своё существование, и все его старания клонились к тому, чтобы упрочить их благосостояние. Он завёл в своём имении прекрасное училище, по порядку взаимного обучения, и набрал в него взрослых ребят, предоставляя за них тем домам, к которым они принадлежали, разные выгоды… Курс учения оканчивался тем, что мальчики переписывали каждый для себя в тетрадку и выучивали наизусть учреждения, написанные Пассеком для своих крестьян. В этих учреждениях, между прочими правами, предоставлено было в их собственное распоряжение отдача рекрут и все мирские сборы. Они имели свой суд и расправу. По воскресеньям избранные от мира старики собирались в конторе и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассек за грубость послал своего камердинера с жалобой на него к старикам, — и они присудили его заплатить два рубля в общественный сбор. Камердинер же этот получал от своего барина 300 рублей в год. Пассек в этом случае остался очень доволен и стариками, и собой. Он вообще двадцатью годами предупредил некоторые учреждения Государственных Имуществ. Бывши сам уже не первой молодости и желая насладиться успехом в деле, которое было близко его сердцу, он употреблял усиленные меры для улучшения своих крестьян и истратил на них в несколько лет десятки тысяч, которые он имел в Ломбарде; зато уже при нём в имении было много грамотных крестьян, и состояние их до невероятности улучшилось. Но крепостное состояние в этом деле всё испортило. Теперь это имение принадлежит племянникам Пассека, и очень вероятно, что ни одно из благих его учреждений уже более не существует…»[299]
Деятельность Пассека на пользу его крестьян была известна и Александру I, который однажды, в беседе с князем П. М. Волконским, указал на Пассека, Якушкина, Фонвизина и других помещиков, которые «кормили целые уезды» во время тогдашнего неурожая в Смоленской губернии[300]. В 1824 и 1825 гг. Пассек, как увидим ниже, встречался с молодыми членами тайного общества — Якушкиным, Кюхельбекером, Повало-Швейковским, Каховским (принятым в члены, впрочем, позже). Все они навещали его в Крашневе, а последний, приходясь двоюродным братом жене Пассека, гостил у него в деревне подолгу. В одно из таких гощений здесь и разыгрался его роман с С. М. Салтыковой. Внезапная смерть Пассека в конце апреля 1825 г.[301] избавила его от последствий участия в тайном обществе, — и в известном «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ» осталась о нём лишь краткая запись: «Пассек, Пётр Петров, отставной генерал-майор, помещик Смоленской губернии. — Умер. Якушкин показал, что он принял его в общество, имевшее целью введение представительного правления».
Подробную, хоть и одностороннюю характеристику Пассека даёт в своих, приводимых ниже, письмах к подруге С. М. Салтыкова; из них же видно и отношение Пассека к своей жене, Наталье Ивановне. Последняя происходила из большой помещичьей семьи Олениных, той же Смоленской губернии[302], и была в родстве со многими местными семействами; так, например, Каховский, как мы указали, приходился ей двоюродным братом: Н. И. Пассек была дочерью Ивана Михайловича Оленина, а Каховский — сыном его сестры — Настасьи Михайловны, бывшей замужем за смоленским помещиком, коллежским асессором Григорием Алексеевичем Каховским. Декабрист Иван Семёнович Повало-Швейковский был тоже её кузеном, будучи сыном брата её матери, Анастасии Ивановны, — Семёна Ивановича Повало-Швейковского; таким образом, декабрьские события 1825 г. должны были тяжело на ней отразиться. Она, однако, прожила довольно долго вдовою и умерла в конце 1842 г. в Яковлевичах[303]. Превосходный профильный портрет её, равно как и два портрета её мужа, П. П. Пассека, исполненные гравюрой и литографией, можно видеть в прекрасном издании А. В. Морозова «Каталог моего собрания гравированных и литографированных портретов»[304].
III
Наконец, нам надлежит сказать и о самой героине переданного ниже романа — о Софье Михайловне Салтыковой. Она на год или на два была младше своего брата Михаила, в 1824 г. бывшего ольвиопольским гусаром, и родилась 20 октября 1806 г. Мать свою она потеряла, как мы видели, в 1814 г., будучи совсем ещё маленькой девочкой; воспитание и образование закончила она в петербургском женском пансионе девицы Елизаветы Даниловны Шрётер, помещавшемся на Литейном проспекте[305]. Одним из её преподавателей здесь был Пётр Александрович Плетнёв — известный писатель, поэт, друг Дельвига и Пушкина, впоследствии профессор и академик; Плетнёв с большим расположением и, кажется, не без сердечной нежности относился к своей даровитой и симпатичной ученице, дочери почётного члена «Арзамаса»; она, в свою очередь, питала к нему чувства дружеского уважения, очень любила его уроки, и ему, по-видимому, была обязана развитием большой любви к словесности вообще и к русской — в особенности. Пушкин был для неё кумиром, — по крайней мере, судя по её письмам, она знала наизусть всё, что он успел написать к 1824 г.; от Плетнёва она знала и о Дельвиге и Боратынском, о Рылееве и Бестужеве, помнила наизусть их произведения, с жадностью узнавала новые… Их имена и произведения, как увидим ниже, часто мелькают в цитируемых нами письмах её к пансионной подруге[306] — Александре Николаевне Семёновой.
К сожалению, Плетнёв не оставил нам отзывов о своей ученице и жене своего нежно любимого друга Дельвига, хотя Софья Михайловна и впоследствии изредка поддерживала с ним переписку[307]. Облик её выяснится для читателя из того, что мы расскажем о ней в конце настоящего очерка, теперь же не будем упреждать впечатления, получающегося о ней от чтения её писем. О главном герое романа — П. Г. Каховском — мы здесь также не распространяемся: подробности его жизни многим читателям известны из живо написанной и ещё не так давно переизданной работы П. Е. Щёголева об этом декабристе-романтике[308]; некоторые данные о нём мы, однако, сообщили уже выше, а сведения о разных других лицах, упоминаемых в письмах С. М. Салтыковой-Дельвиг, приводим попутно, в ссылках. Укажем здесь ещё, что все вообще письма Софьи Михайловны писаны по-французски; встречаются лишь немногие отдельные места, изложенные по-русски[309]; это большею частию её разговоры с Каховским и письма последнего.
Переходя теперь к этим письмам, скажем, что они начинаются письмом от 9 июня 1824 г., уже по приезде в смоленское имение П. П. Пассека; приводим начало его.
Крашнево. 9 июня 1824
Дорогой друг! Вот наконец я и прибыла в знаменитое Крашнево, где нахожусь уже с позавчера, т. е. с 7 числа сего месяца. Я была в восторге от того, что окончила путешествие, которое было более чем неприятно, но теперь должна сознаться, что я предпочла бы быть в дороге, чем оставаться здесь. Вот, дорогой друг, тот крест, который я так просила у Иисуса: он дал мне его, наконец: на сердце у меня так тяжело, что я не знаю, что говорю, — пишу тебе непоследовательно, мысли у меня путаются до крайности; постараюсь, однако, привести их в порядок и рассказать тебе о моём путешествии от начала до конца.
Из дальнейшего рассказа Софьи Михайловны видно, что она выехала из «дорогого Петербурга», «с Кирошной улицы», вместе с отцом, в воскресенье 1 июня, в 6 часов; однако, начало путешествия было неудачно: но прежде чем они успели выехать за городскую заставу, встречный крестьянин остановил их, указав, что одно колесо их экипажа попорчено. «Папа разгневался на Ефима и Фадея за их небрежность и даже ударил шляпою этого последнего (заметь, что с ним никогда не случалось, чтобы он бил людей); Фадей рассердился в свою очередь, забывая, как опасно раздражать папá, который не любит шутить в таких делах; я делала знаки Фадею и просила его ради бога замолчать, наконец он меня послушался, и дело обошлось…» Не без приключений подобного рода проехали путешественники Царское Село, Гатчину и направились далее к Белоруссии, часто под проливными дождями и в холодную и ветреную погоду. Через Витебскую губернию они доехали до Смоленска, где обедали у своей хорошей знакомой Лизы Храповицкой, и 6 июня после обеда отправились дальше; до Кишинёва оставалось всего 70 вёрст, но неудачи преследовали путников. Проехав ещё 50 вёрст и прибыв на станцию, дальше которой ехать на почтовых было уже нельзя, они рассчитывали встретить здесь, как было заранее условлено, лошадей от П. П. Пассека, чтобы проехать остальные 20 вёрст до Крашнева. «Мы прибыли на станцию ночью, — рассказывает Салтыкова, — справляемся насчёт лошадей, а нам отвечают: •„нет их, и не бывали!“• Папа пришёл в ярость и не знал, что думать, так как ему известна точность моего дяди; он уже полагал, что люди сбежали вместе с лошадьми; затем он начал винить в этом дядю; и действительно, всё говорило против него, потому что он сказал нам, что лошади будут на этой станции 4 июня и что они будут ждать нас там, когда бы мы ни захотели прибыть туда; мы приехали 6-го, а лошадей нет! Папа, в минуту гнева, хотел уже писать дяде, что он не позволит ему дурачить себя (он был уверен, что тот хотел сыграть с ним шутку), что хотя нам и осталось сделать всего ещё 20 вёрст, — это не помешает ему вернуться в Петербург и никогда ногой не ступать в Крашнево. К счастью, однако, гнев папа скоро прошёл; но что меня особенно удивило, — это то, что он сам стал хохотать над теми странными мыслями, которые впали ему в голову, затем пришёл в хорошее настроение духа, согласился провести ночь на станции, чтобы дать отдохнуть лошадям, которые нас туда привезли, и затем нанять их ещё до Крашнева, хотя за них и приходилось заплатить вчетверо дороже против обыкновенного. На другой день утром мы прибыли сюда, причём дядя был совершенно сконфужен тем, что произошло: так как он человек довольно рассеянный, то он забыл, что лошадей надо было послать 4-го, и был уверен, что они нам будут нужны только 7-го. Минуту спустя появилась тётушка; она приняла меня с ангельскою добротою, я была тронута до слёз её ласками, очень искренними, — в чём можно ручаться; я не думала, что на свете может быть столь почтенная, столь мягкая, столь терпеливая, столь совершенно-добродетельная женщина, как тётушка…»
Переходя затем к впечатлениям о дядюшке, П. П. Пассеке, Софья Михайловна пишет о нём:
«Правда, дядя мой человек умный, — но он употребляет свой ум на то, чтобы насмехаться надо всем, что есть святого, — не говорю уж о мощах, — но и над самим Христом; наиболее частым предметом его острот является евангелие. То, что, ты слышала, говорит папа, ничто по сравнению с тем, что говорит дядя: он заставил бы дрожать меня даже во время моего самого сильного безверия; он не довольствуется тем, что сам себе делает зло, поворачивая в смешную сторону религию, но причиняет зло и бедной тётушке, насмехаясь над нею ежеминутно. Она сносит это с редкою незлобивостию; она умиляет меня постоянно и до такой степени, что я с трудом удерживаюсь, чтобы не расплакаться. У неё есть брат[310], которого она нежно любит и который пользуется полным её доверием. Дядя не пропускает случая, чтобы поиздеваться и над ним, — он говорит, что тот расстроен в уме и что тётушка также становится такою: он делает это замечание тогда, когда она не может чего-нибудь вспомнить или произносит одно имя вместо другого, — что может случиться со всяким. Что хуже всего, — это что он старается говорить ей эти вещи в присутствии многих. Я не понимаю, как не обезоружит его её незлобивость и терпение! Она его любит чрезвычайно, но мне кажется, что он не платит ей тем же; когда она хочет приласкать его, — он её отталкивает или говорит колкость, — не всегда по поводу религии, и даже очень редко, — но на каждом шагу, который она делает, на каждое слово, которое она произносит. А между тем она не лишена ума; она очень рассудительна; я никогда не слышала от неё чего-нибудь, что давало бы повод к насмешке. Часто он даёт ей чувствовать, что досадует, что женат; она принимает это спокойно, не показывая ни малейшего вида, и всегда утверждает, что вполне счастлива».
В следующем письме, от 15 июня, Салтыкова возвращается к рассказу о своих дяде и тётке. «Теперь я уже гораздо меньше грущу, — пишет она. — Тётушка даёт мне удивительный пример терпения и безропотности; с каждым днём я всё более привязываюсь к ней и позволяю себе назвать её прямо совершенством; невозможно, зная её, не ценить и не любить всем сердцем. Что касается дяди, то он человек на редкость весёлый и умный; но признаюсь тебе, что я совсем не уважаю его, хотя и не могу помешать себе любить его, — из признательности, так как он выказывает мне действительно много любви и внимания. Вчера у меня был длинный разговор с ним; начался он с шуток, но затем сделался очень серьёзным. Дело шло о колкостях. Я откровенно высказала ему то, что думаю о нём. Упрекала его за его несправедливость, за его слишком строгие суждения, за его насмешки над предметами, которые заслуживали бы большего уважения, за его пристрастия и т. д. Он согласился, что я права в этом последнем отношении и что он находит всё прекрасным в особе, которую он любит, тогда как порицает многое и несправедливо в особе, которая не пользуется его расположением. „Но, — сказала я ему, — вам очень трудно понравиться, дорогой дядюшка; для этого нужно быть красивой и в особенности иметь хорошенькую ножку, быть хорошо сложённой, умною, колкою; без всего этого люди вам не нравятся, так как вы не придаёте никакой цены качествам душевным; вы доказываете это на каждом шагу, насмехаясь над особами, достойными уважения и даже не лишёнными ума, но которые имеют один грех — быть некрасивыми, — и за это вы с ними даже не разговариваете“.
Дядя. У меня на это не хватает смелости: они отталкивают меня своею некрасивостью.
Я. Вы преувеличиваете: те, о которых я говорю (при этом я называю их ему), некрасивы не до такой уже степени.
Он. Но они не говорят ни слова.
Я. Это оттого, что они вас боятся; вы известны своею несправедливостию и своею язвительностию; они прекрасно говорят с другими, но вам могут отвечать только односложными словами, — и это происходит от робости, потому что у них есть ум; сознаюсь вам, дядюшка, что я тоже вас боюсь, так как я также имею несчастие быть некрасивой и молчаливой, перед вами же я говорю ещё меньше.
Дядя. Я в отчаянии, дорогая Софи, что ты такого дурного обо мне мнения. Я покажу тебе письмо, которое я написал сегодня и в котором идёт речь о тебе: ты увидишь, что напрасно меня боишься.
При этом он меня поцеловал. Я не хотела читать его письма, я знаю, что он меня любит и что это то пристрастие, за которое я его упрекнула, заставляет его говорить обо мне хорошо. М-ль Энгельгардт, присутствовавшая при нашем объяснении, была одного со мною мнения, и это дало мне смелость продолжать разговор: однако я сама удивляюсь смелости, с которой я говорила столь неприятные истины дядюшке. Я сообщаю тебе лишь четвёртую часть нашего разговора: нужно было бы много времени на то, чтобы передать тебе его письмо целиком; но если бы ты сама его слышала, ты бы удивилась, а если бы ты знала дядю, я уверена, что ты согласилась бы с моим мнением».
Далее Салтыкова описывает дядино имение, — и описание это настолько любопытно, что мы приводим его здесь, в подтверждение свидетельства декабриста Якушкина о блестящем состоянии деревенского хозяйства почтенного вольтерьянца. «Не имея возможности (из-за постоянных дождей) прогуливаться пешком, мы ездили в коляске по окрестностям Крашнева, которые восхитительны. У дяди тринадцать деревень, — и все они видны сразу, так как расположены на возвышенностях. Самая красивая — это Яковлевичи, где находится церковь и Ланкастерская школа, которую дядя основал для крестьян; с удивлением видишь успехи, которые они делают. Нужно сознаться, что дядя прекрасно умеет управлять имением; он достиг того, что распространил цивилизацию посреди варварства, так как Смоленская губерния в отношении невежества хуже всех других, даже сами помещики здесь более „провинциальны“, чем в других местах. В Яковлевичах дядя и тётушка живут по зимам; там красивый тёплый дом, там находится библиотека, бильярд и всевозможные игры, чтобы заменить летние прогулки; наконец, всё это в чудесном порядке. Церковь великолепна; мы сегодня там были, так как сегодня — воскресенье; поют очень хорошо; священники совершают службу благородно и с достоинством, слышно всё, что они говорят; в конце концов, ничего лучшего и желать нельзя, это было бы превосходно даже для Петербурга. Затем нам показывали скотный двор и молочную, где нас угощали очень хорошими сливками, простоквашей и превосходным маслом, — всё величайшей чистоты. — Я ещё немного играю на фортепиано, так как моё очень скверно; но г. Глинка (один из соседей) обещал нам прислать своё…»[311]
IV
Очень интересно, в следующем письме (от 29 июня), описание празднования именин П. П. Пассека[312]. Собралось у него много гостей; среди них люди очень, для провинции, приличные (comme il faut): «мадам Волховская, очень умная женщина, г-н Швейковский, который понравился бы и в самых приятных обществах столицы; жена его, говорят, прелестна, но она не могла приехать, однако же я надеюсь познакомиться с нею в течение лета. Здесь также молодой человек, прекрасно воспитанный, — он, по моему мнению, лучше всех тех, которых я здесь видела: это барон Черкасов; правда, он из Петербурга и лишь год, как живёт в этих местах. Он очень образован и очень недурён лицом[313]. Остальная часть общества составлена из карикатур, чудаков и жеманниц [précieuses ridicules]. Я оставила их всех в саду и убежала к себе, чтобы писать тебе…»
В том же письме С. М. Салтыковой мы находим интересное сообщение о приехавшем в Крашнево новом знакомом, встреченном ею на именинах у П. П. Пассека, — а именно, об Иване Дмитриевиче Якушкине, будущем декабристе, рассказ которого о Пассеке мы привели выше.
30 июня, полдень
Вчера, прервав беседу с тобою, я вошла в гостиную и нашла там ещё одного человека. Это был г. Якушкин, которого уже давно ожидали в Крашнево. Я очень довольна, что не приходится ничего убавлять из того, что мне о нём говорили, — я не могу достаточно высказать похвал этому молодому человеку; он очарователен, прекрасно воспитан, умён, имеет, как говорят, прекрасную душу, всеми вообще любим и ценим, наконец, все говорят (и я не нахожу в этом преувеличения), что этот молодой человек положительно совершенство; природа не отказала ему даже во внешних выгодах: у него лицо совершенно своеобразное, но очень приятное и полное ума. Я сделала страшную неловкость по отношению к нему. Ты знаешь, что я близорука, но никогда моя близорукость не причиняла мне такую досаду, как вчера. Я отыскивала Якушкина в продолжение десяти минут, прежде чем с ним поздороваться: последовательно я принимала за него папа, г. Черкасова, Швейковского и т. д.; всё это время он стоял и должен был быть очень удивлён, видя, как я здороваюсь с людьми, которых я уже видела и которые поэтому не спешили отдать мне поклон; к тому же они все были на противоположной от него стороне комнаты. Впрочем, я надеюсь, что он не посмеялся надо мною: он ни о ком решительно не отзывается дурно, — напротив, всегда становится на сторону того, кого хотят сделать предметом насмешек. Его приезд произвёл здесь целую революцию. Дядя и папа обожают его. У него, говорят, жена 17-ти лет[314], которую он привезёт через две недели, и 9-месячный ребёночек, которого мать ещё кормит. Дядюшка немного посмеялся над тем, что со мной случилось, когда мы были уже одни; впрочем, мы уже заключили с ним мир и в течение восьми уже дней дружны; я его люблю более чем когда-либо. Что мне нравится в нём, это откровенность: он не стесняется со мною и говорит мне, как добрый дядюшка, всё, что ему не нравится. Он показывает мне много доверия и побуждает меня платить ему тою же монетой. — На днях он говорил со мной о моих приключениях с Константином и заставил меня рассказать все подробности этой истории; он откровенно высказал мне своё мнение по этому поводу и сообщил мне, что он даже слышал, что некоторые здешние молодые люди, которые хорошо его знали, нехорошо о нём отзывались; он был в восторге, узнав, что я больше об нём не думаю, и убеждал меня взять отныне его самого в свои наперсники. Я не премину это сделать; я вижу, что я неблагодарна по отношению к Богу, что жаловалась на свою судьбу, и по отношению к моим добрым родственникам, что не сумела их оценить, в особенности дядю, ибо тётю я полюбила с первого дня, как её увидела… Оставляю тебя, чтобы одеваться и идти снова к обществу, так как скоро будут обедать. Дядя, который, как ты знаешь, блещет умом, будет, я думаю, сегодня много нас развлекать, так как приезд Якушкина приводит его в хорошее настроение…
В письме от 7 июля Салтыкова снова возвращается к рассказу о Якушкине: «Якушкин, о котором я говорила тебе в предыдущем своём письме, провёл здесь три дня; весь дом сожалеет об его отъезде, но мы надеемся снова увидеть его в середине этого месяца, — и даже ещё с его женою и маленьким Вячеславом, который, говорят, очень мил. Швейковский тоже покинул нас; он страстно любит немецкий язык и, узнав, что я читаю на нём, предложил мне несколько книг. Теперь, благодаря ему, я читаю „Германа и Доротею“ и восхищаюсь ею; он обещал мне также прислать „Agathocles“, известный роман m-me Пихлер, о котором ты, наверное, слышала. Я вошла во вкус немецкого языка более чем когда-нибудь: тебе я обязана первыми шагами, сделанными мною в немецкой литературе; Швейковский увеличивает во мне этот счастливый вкус; он читает, но не говорит на этом языке, так же, как и я. Он ему так же не нравился раньше, как и мне; но он женился на немке, которая заставила его бросить его предубеждение и воспользоваться её библиотекою, составленною из лучших немецких сочинений; теперь он только и делает, что благодарит её за такой хороший совет…»
Далее Салтыкова рассказывает о шутливом столкновении своём с дядей Пассеком; оно хорошо характеризует его, а потому мы и приводим этот рассказ.
«Меня только что прервали, — и если бы ты знала, каким образом! Представь себе, что дядя вошёл в комнату, в которой я писала, и во что бы то ни стало хотел прочесть моё письмо: уже давно он меня мучит по этому поводу, но я не хотела исполнить его желание. Тут я побежала за ним, вся в испарине, так как пустила в ход все свои силы, чтобы вырвать у него из рук это несчастное письмо, которое всё измялось при этом. Наконец он сам отдал мне его и сказал мне серьёзно, что никогда бы не имел низости прочесть его, но что хотел только помучить меня немножко и, увидев мой ужас, воспользовался этим, чтобы позабавиться на мой счёт. Затем он мне сказал: •„Верно это война будет описана“• (и он не ошибся!); он утверждает, что я тебе напишу: •„Ах, ma chère, что я тебе расскажу!• В какое волнение поверг меня толстяк-дядя!“ Мы много вчера говорили с ним о тебе, и он велел мне сказать тебе, что он принадлежит к числу твоих поклонников, так как я рассказала ему, что ты не любишь золотой середины, а так как он также стоит за крайности, то это ему и нравится; затем он сказал, что не любит тех, кто всегда „на земле“, но что нужно парить, как он выражается, чтобы ему нравиться; поэтому-то он и удивляется тебе, что ты также любишь парить — не правда ли? Этот упрёк делала тебе всегда и мадам Шрётер. Я могу теперь сказать ему ещё нечто, что окончательно сделает тебя очаровательною в его глазах: это — что ты не любишь мадам Жанлис (а он её терпеть не может)… Из того, что я тебе рассказала о дяде, — надеюсь, ты получила о нём представление. Он очарователен. Всё, что он говорит, исполнено ума; он имеет особенный талант рассказывать; его рассказы всегда кратки, но энергичны и очень остроумны; я не могу дать тебе о них ясное представление, — нужно слышать его самого, чтобы знать, что это такое; ты бы много смеялась, если бы была здесь. Он часто говорит мне по поводу тебя: •„Зачем ты её сюда не привезла?“• Тётушка также очень любит тебя… Дядюшка хочет меня уверить, что он распечатает моё письмо, когда я передам его ему для отправки на почту, что он его прочтёт, так как я не хочу ему дать твоего письма, и даже что он припишет к нему несколько строк, которых он мне не покажет; но я прекрасно знаю, что он шутит, так как он дал мне честное слово, что не будет читать твоего письма, если бы даже я положила его на столе; он говорит также, что советует тебе не адресовать твоих посланий на его имя, так как он сделает вид, что не заметил, что внизу стоит •„а вас прошу“• и т. д., и что он распечатает пакет. У него в доме живёт некий англичанин, над которым он часто потешается[315]. Представь себе, что за обедом вчера он поставил перед ним солонку с сахаром, зная, что тот кладёт много соли во всё, что он ест; как только ему подали тарелку супу, он не преминул положить в неё обычную порцию соли, — и каково же было его удивление, когда он попробовал суп! Затем дядя выслал за чем-то на минуту казачка, присутствовавшего при этой сцене, и во время его отсутствия снова положил в солонку соль, а когда малыш вернулся, он сказал ему: •„Ванька, хочешь соли? дай я тебе в руку насыплю и съешь при мне“.• Тот, думая, что солонка всё ещё наполнена сахаром, с радостью принял предложение — и проглотил достаточное количество соли, чтобы сделать страшнейшую гримасу, которая заставила нас много смеяться. Вот образчик шуток моего дорогого дядюшки; но это ничто в сравнении с умными и забавными вещами, которые он заставлял нас ежедневно слушать…»
Четырнадцатого июля Софья Михайловна рассказывает подруге, между прочим, о новом знакомстве — с Е. И. Олениным, братом тётушки Пассек. «Он бывал, если ты припомнишь, у нас в Петербурге, но я его никогда не видала, потому что он приходил ненадолго. Он очень похож на тётю, как физически, так и с моральной стороны. Это человек весьма почтенный, преданный своей родине, храбрый, с 14 ранами; теперь он больше не служит. Дядя смеётся над ним и говорит, что он сумасшедший, — но это вовсе неправда, а говорит он это по своему насмешливому характеру; я уверена, что он этого не думает, и мы всегда с ним из-за этого ссоримся; я упрекаю его за то, что он не проведёт и нескольких часов без того, чтобы не сказать чего-нибудь злого; а он в ответ начинает насмехаться надо мною, но с таким умом, что я не в состоянии сердиться на него за это. Мы с ним добрые друзья. На этих днях я много смеялась. К нам приехал некий г. Николев, который произносит букву л, как маленькие дети: например, вместо Ельни он говорит Ейна; пьякать вместо плакать и т. д. Тётя спрашивает его: •„Где ваша матушка?“• (а она была в Ельце), — и так как он не мог произнести это слово, он должен был ответить: •„в яйце“•. Ты легко можешь себе представить, что мы должны были изо всех сил удерживаться, чтобы не расхохотаться; к довершению несчастья, он повторил это несколько раз, — а ты сама знаешь, как тяжело удерживаться, когда умираешь от желания смеяться. А это с нами часто случается, так как у нас соседи очень смешные и говорят преуморительные вещи. Нужно слышать в особенности, как дядюшка даёт их портреты: он пользуется для этого настоящими красками. Суди сама, что должны мы испытывать, когда снова видим тех господ, которых он нам так хорошо представлял».
В следующем письме (от 22 июля) находим рассказ Салтыковой о том, как она «серьёзно» поссорилась с дядей несколько дней тому назад. «Была прекрасная погода; он предложил мне проехаться верхом с Катериной Петровной[316] и конюхом; я приняла, конечно, предложение, радуясь, что лошадь мою больше не поведут за повод и что я поеду дальше двора; между тем дядя потихоньку приказал конюху, который должен был нас сопровождать, привязать к моей лошади верёвку, держать за неё, не позволять мне скакать в галоп и не ездить далее чем за полверсты; когда я увидела всё это, я страшно рассердилась, всю дорогу ворчала, а вернувшись домой, объявила дядюшке, что это в последний раз, что я ездила верхом, что если бы я знала его тайные распоряжения, то я не дала бы себе труда и одеваться, потому что мой туалет продолжался дольше, чем самая прогулка, и что, наконец, я хотела ездить исключительно для удовольствия, и что, не найдя никакого удовольствия в том, чтобы меня водили на верёвке и чтобы ехать шагом, я решила больше не вдевать ногу в стремя. Дядя хотел обратить это в шутку, но, увидев, что это не удаётся, начал убеждать меня на другой день поехать на прогулку верхом без верёвки и так далеко, как я пожелаю; но я не захотела этого, говоря с насмешливым видом, что я очень ослабла, что у меня будут болеть нервы и что я буду падать в обморок всякий раз, как моя лошадь захочет пойти немного быстрее, чем шагом. Дядя хотел меня приласкать, но я сделала вид, что не заметила этого, и отвернулась. Тогда он рассердился и, чтобы меня ещё больше помучить, ничего не говоря, надулся на меня. На другой день он был в течение всего дня со мной в высокой степени натянуто вежлив; наконец, к вечеру я не могла больше удерживаться и попросила у него прощения (и действительно я была кругом виновата); он не захотел объяснений, но был до чрезвычайности нежен со мною во весь вечер… Он мне также обещал поехать со мною верхом в ближайший день и — без корды; он даже сказал: •„Я рад тебя сбросить с лошади, чтоб ты была довольная“.• Он очарователен, дорогой, добрый дядя! У нас здесь провели несколько дней г-н и г-жа Якушкины; его я уже знала, но она была для меня новым знакомством. Ей нет ещё 17 лет, она никогда не бывала в свете и никогда в нём не будет, от этого она очаровательна своею естественной простотой. Она красива, интересна, вполне своеобразна; муж её соединяет в себе самые восхитительные качества в смысле внешности, ума, тона, характера, манер и т. д. Их маленький Вячеслав будет красив; он похож на своего отца, бледного, с чёрными усами (хотя он и в отставке), с великолепными глазами, живыми и чёрными; нос у него вроде носа Павла Нащокина[317], но более красивый, отличные зубы; несмотря на все эти внешние достоинства, можно ещё сказать о нём, что его внутренние качества превосходят его внешнюю очаровательность. Невозможно, однако, составить себе представление об этом человеке, не зная его лично. Это семейство в полном смысле очаровательное: юная и красивая мать, кормящая своего прелестного младенца, отец, который так хорошо с ним играет и берёт его на руки в простынку после ванны, — всё это восхитительно! Ах, если бы ты это всё видела! У нас был также в течение нескольких дней молодой барон Черкасов, о котором я тебе уже говорила; он из Петербурга и был в восторге, найдя в этой далёкой стороне свою землячку, — поэтому мы с ним много разговаривали, и я имела случай заметить его прекрасный тон, образованность и ум. Он очень хорошо воспитан и довольно весёлый. Нужно же так, чтобы у меня с тобой была всегда какая-нибудь симпатия, милая Саша! Ты писала мне, что твои локоны развиваются при приходе Ждановича[318], — и вот, мои с некоторого времени хотят делать то же при виде появляющегося Черкасова! Вот уже четыре дня без дождя, а несмотря на это локоны упадают, как только он входит в комнату; а сегодня они держатся хорошо, несмотря на то, что был дождь: это потому, что Черкасов вчера уехал. Он попрощался с нами на три недели: он отправляется в Петербург повидаться с родителями и будет стараться — как он сказал нам — быть в отсутствии возможно меньше. Я хотела бы, чтоб он сдержал слово: мне он очень нравится, — право, он прекрасный молодой человек. Надеюсь, что он будет с нами к 25 августа, так как 26-го — день именин тётушки…»
V
Но ещё прежде наступления этого торжественного дня С. М. Салтыковой пришлось познакомиться с двумя интересными молодыми людьми, из которых один весьма сильно задел её чувства и ум своею незаурядною личностью и заставил её забыть всех ранее ею встреченных в Крашневе мужчин: Швейковского, Якушкина, Черкасова и других: это были В. К. Кюхельбекер и П. Г. Каховский; из них последний ровно через два года погиб на виселице на кронверке Петропавловской крепости, а первый, пламенный поэт-романтик, годами долгого заключения в крепостях, а затем прозябанием в сибирской каторге и ссылке заплатил за увлечение идеями свободы, равенства и братства.
Романический эпизод, разыгравшийся между Каховским и С. М. Салтыковой в смоленской деревне одного из старших по возрасту членов тайного общества — П. П. Пассека, очень интересен и вносит новую яркую черту в образ пылкого декабриста Каховского, — образ, с большой отчётливостью нарисованный нам талантливым пером П. Е. Щёголева. Использовав весь материал следственного дела о Каховском и немногие показания о нём его современников и друзей по тайному обществу, П. Е. Щёголев рассказал нам всё, что было известно о Каховском как о человеке до выступления его на поприще революционной деятельности. Рассказ этот, по бедности находившихся в распоряжении историка материалов, не отличается отчётливостью: пробелы в фактической стороне биографии чувствуются на каждом шагу; у биографа также не было красок, которые дали бы возможность оживить человеческую жизненную фигуру одного из тех пяти, чья жизнь, по его же выражению, «оборвалась 13 июля 1826 г. на виселицах Петропавловской крепости». Теперь, благодаря дошедшим до нас девичьим письмам Софьи Михайловны Салтыковой к её столь же юной подруге Александре Николаевне Семёновой, к тому, что мы знаем из прекрасной книги П. Е. Щёголева о Каховском, мы можем прибавить один красочный и жизненный эпизод — его кратковременный, но серьёзный роман с С. М. Салтыковой. Любовь заставляет человека обнаруживать себя всего, во всех проявлениях душевных свойств и качеств, — как положительных, так, нередко, и отрицательных. Страсть выносит наружу то, что в спокойном состоянии человек может и умеет скрыть, спрятать, утаить. Откровенные, точные записи С. М. Салтыковой — часто в диалогической форме — дают нам возможность услышать страстную речь влюблённого Каховского; в его репликах молодой девушке мы видим его суждения, узнаём его образ мыслей, наблюдаем игру его чувств и воображения, — словом, становимся лицом к лицу с этим энтузиастом, который, как теперь можно с уверенностью сказать, был и в личной жизни таким же пламенным, ни перед чем не останавливающимся, беспредельно дерзким и дерзновенным, по выражению Щёголева, человеком, каким он был в своей такой кратковременной, но такой яркой политической деятельности, когда, влюблённый в своё отечество, этот патриот хотел во что бы то ни стало принести себя в жертву этому отечеству и свободе его граждан. Щёголев указывает, что, при огромном самолюбии, Каховский был и «несколько чувствителен, сентиментален; романтику 20-х годов нельзя было не быть без этого свойства». «Я, приговорённый к каторге, лишусь немногого; если тягостна, то одна разлука с милыми моему сердцу». У Каховского неудачно сложилась жизнь; по свидетельству декабриста барона В. И. Штейнгейля, он, в эпоху перед 14 декабря, имел вид «человека, чем-то очень огорчённого, одинокого, мрачного, готового на обречение»[319]; он был как бы всеми заброшен; с известной долей пренебрежения относился он к жизни, а разочарование, модное в то время и вполне понятное у Каховского после пережитых им волнений, вызывало его и на рисовку: «Жить и умереть — для меня одно и то же. Мы все на земле не вечны; на престоле и в цепях смерть равно берёт свои жертвы. Человек с возвышенной душой живёт не роскошью, а мыслями, — их отнять никто не в силах… Мне не нужна свобода; я и в цепях буду вечно свободен: тот силён, кто познал в себе силу человечества…»[320]
Так писал Каховский, сидя в каземате Петропавловской крепости, не подозревая, что рок готовил ему не каторгу, а виселицу… Одна мысль, по его словам, была ему тягостна, — мысль о разлуке с милыми сердцу. Мы знаем, что Каховский был чем-то огорчён, расстроен и к тому же совершенно одинок к этому времени: родители его уже умерли[321], а единственный брат его жил в Витебской губернии и совершенно не интересовался судьбою заключённого. Кто же были эти милые его сердцу? Конечно, некоторые близкие по духу члены тайного общества, — но они ли одни? Мы знаем теперь, что в числе их была и Софья Михайловна Салтыкова, для решительного свидания с которой он и приехал в Петербург в конце 1824 г., как увидим ниже). Декабрист Е. П. Оболенский припоминал впоследствии появление в Петербурге Каховского в исходе 1825 г.: по его словам, он приехал сюда «по каким-то семейным делам», но Каховский приехал в столицу не в исходе 1825 г., а в декабре месяце 1824 г.[322], и по делам не семейным, а, так сказать, сердечным и матримониальным. Это мы видим и из несколько неблагоприятных для Каховского слов одного декабриста, который в статье своей «Четырнадцатое декабря»[323] прямо пишет, что Каховский, «проигравшись и разорившись в пух, приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте», но что «дело это ему не удалось»; то же увидим мы и ниже из дальнейших писем С. М. Салтыковой; не забегая, однако, теперь вперёд, прочитаем, что она пишет своей подруге о знакомстве с Каховским в Крашневе, имении своего дяди П. П. Пассека.
Письмо своё, очень пространное, от 22 августа 1824 г., и ещё приумноженное несколькими приписками, Софья Михайловна начинает предуведомлением, что с тех пор, как она не писала подруге, с нею приключилась «тысяча вещей», что сердце её «переполнено». «Я не представляла себе, что мне придётся испытать какое-нибудь огорчение; но — ничто не вечно в этом мире — и два месяца счастия довольно редко встречаются: как же можно иметь гордость думать, что солнце будет сиять всегда, не затемнённое мрачными тучами! Однако, безрассудная, я думала так и вскоре была разочарована. Впрочем, не будем забегать вперёд, — ты впоследствии узнаешь, что именно вызывает мои жалобы. Прости эти отрывочные фразы, этот беспорядок в мыслях, дорогой друг, — я тщетно пытаюсь внести стройность в мой рассказ, — сердце у меня так переполнено, что мне трудно говорить о безразличных вещах; но ты должна знать в подробностях, как проводила я время, пока была ещё счастлива. После жалоб, которые я тебе наговорила на дядю по поводу нашей прогулки верхом, я стала лихой амазонкой; мне позволяли делать верхом по десяти вёрст вместе с Катериной Петровной, в сопровождении одного лишь конюха, — и мы проделывали это, как ничто. Я так вошла во вкус этого упражнения, что повторяла его как можно чаще; особенно в конце июля и в начале этого месяца я ездила верхом почти каждый день, так как погода нам теперь благоприятствует — у нас наконец лето». Поговорив затем об общих подругах, Салтыкова пишет, что сделала много новых знакомств, — между прочим, с некоей м-м Энгельгардт и с её шестью дочерьми, которые очень ей понравились. «Какое тесное единение в этом большом семействе! Какие невзыскательные привычки мать сумела привить своим дочерям, очень хорошо воспитанным, но вполне невинным и скромным, — что делает их очаровательными, — особенно две из них соединяют с добрыми качествами и с ангельским характером интересные личики, на которых отражается их сердечная доброта; другие не отличаются красотой, но ни про одну нельзя сказать, что она неприятна. Я провела очень хорошие минуты в их обществе. В Крашнево приезжал ещё один молодой человек, которого я была очень рада видеть, это — г. Кюхельбекер. Уже давно я хотела познакомиться с ним, но не подозревала, что могу встретить его здесь. Г. Плетнёв очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нём с величайшим интересом; я нашла, что он вовсе не преувеличивал мне его добрые качества; правда, это горячая голова, каких мало; пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, — но он так умён, так любезен, так образован, что всё в нём кажется хорошим, — даже это самое воображение; признаюсь, что то, что другие хулят, мне чрезвычайно нравится. Он любит всё, что поэтично; он желал бы, как говорит, всегда жить в Грузии, потому что эта страна поэтическая. Он парит, как выражается дядя (и я сама стала любить таких людей: я люблю только стихи, проза же кажется мне ещё более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего, и для того, чтобы жить, он вынужден быть редактором плохенького журнала под названием „Мнемозина“, который даже его друзья не могут не находить смешным, — и сочинять посредственные стихи (ты, может быть, помнишь одну вещь, под заглавием „Святополк“, в „Полярной Звезде“, — она принадлежит его перу)[324]. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо! Он хорошо знает Дельвига, Боратынского и всех этих господ. Я доставлю большое удовольствие г. Плетнёву, дав о нём весточку. К моему великому сожалению, он остался здесь только на один день».
«На другой день после его посещения, 2 августа, в 9 часов вечера, Пётр Григорьевич Каховский, двоюродный брат тётушки, молодой человек 25 лет, друг Кюхельбекера, приехал из Смоленска в Крашнево с намерением остаться здесь до сентября месяца. Тут, мой друг, наступает наиболее интересная эпоха моих приключений, и я не знаю, как продолжать, что сказать тебе? Мне приходится высказать ту же жалобу, что и один из действующих лиц романа „Agathocles“, который я теперь читаю: „Ich habe dir so viel zu sagen, so viel zu erzählen — und muss mit Schreiben, diesen armseligen Behülf, für ein volles Herz begnügen“[325]. <…> В тот вечер, что он приехал, я провела в обществе Каховского лишь одну минуту; на другой день я также лишь немного говорила с ним, — таким образом, мы ещё с ним не познакомились как следует, но ещё через день произошло некоторое сближение благодаря приезду трёх старых девиц Корсаковых, дальних кузин моей тётушки[326], жеманниц, кривляк, гримасниц, которых нужно видеть, чтобы иметь о них понятие. Младшая — приблизительно в том возрасте и совершенно в том же роде, как Каролина Юрио [Uriot], но ещё в тысячу раз смешнее, потому что она, в 45 лет, влюблена, делает всевозможные невероятные гримасы; все её движения, звук её голоса, её походка, её выражения — всё крайне аффектировано; вместе с тем — у неё наружность летучей мыши; ростом она — с Каролину. Читает она всегда, даже когда одна, вслух и декламируя. Старшая — тоже совершенна и единственна в своём роде: крикунья, говорит во всех тонах, как Плетнёв, когда он произносит: •„Оне поют“,• но с тою разницею, что она это делает не в шутку и во сто раз смешнее, в особенности когда она сердится, что бывает с нею очень часто. Вторая — наименее смешна, — она глупа, но добродушна. Эти-то три грации и были причиною того, что Каховский и я часто оказывались с глазу на глаз, так как мы выходили с ним в другую комнату, чтобы посмеяться: нам стоило неимоверных усилий удерживаться от смеха при них. Он очень умён и шутил на их счёт, что меня чрезвычайно забавляло, а это заставляло меня искать случая удаляться с ним из их общества. Эти частые отсутствия ни в ком не возбуждали неудовольствия, даже в тётушке, которая в этом отношении очень щепетильна, — ибо она знала предмет наших разговоров и смеялась сама от всего сердца. Корсаковы уехали после трёхдневного пребывания, и мы долго потешались на их счёт: Каховский заставлял нас много смеяться; наконец они были позабыты, и разговоры наши стали более интересными, особенно в присутствии Каховского. Ах, дорогой друг, что это за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! Сердце его чисто, как кристалл, — в нём можно легко читать, и его уже знаешь, повидав два или три раза. Он также очень образован, очень хорошо воспитан, и хотя никогда не говорит по-французски, однако знает этот язык, читает на нём, но не любит его в такой мере, как русский; это меня восхитило, когда он мне сказал об этом. Русская литература составляет его отраду; у него редкостная память, — я не могу сказать тебе, сколько стихов он мне продекламировал! и с каким изяществом, с каким чувством он их говорит! Пушкин и в особенности его „Кавказский пленник“ нравятся ему невыразимо; он знает его лично[327] и декламировал мне много стихов, которые не напечатаны и которые тот сообщал только своим друзьям. Если ты имеешь представление о Кюхельбекере по тому, что я тебе о нём рассказала, ты должна иметь понятие и о Каховском, потому что они оба — в одном и том же роде и очень между собою близки. Я знаю твой вкус и уверена поэтому, что ты страшно увлеклась бы Петром К<аховским>, если бы его увидела. Он говорит, что ему мало вселенной, •что ему всё тесно и что он уже был влюблён с семи лет: теперь ты его знаешь•».
«Наши беседы с ним вдвоём день ото дня становились всё более частыми, более продолжительными, более живыми и более приятными. Я почувствовала, что полюбила его всею душою, а вскоре заметила, что и я ему не безразлична; за столом, украдкою, мы бросали взгляды друг на друга и тотчас отводили глаза в сторону, причём оба краснели. Вечером, когда все расходились, мы вместе делали часть пути, чтобы прийти к себе, так как флигель, в котором он помещался, был по соседству с нашим. Папа уходит к себе до ужина, а потому мы шли только вдвоём, при свете луны, очень смущённые, не зная, что говорить. Зная, что я каждое утро гуляю по саду, он всегда приходил туда искать меня и спрашивал, какую часть сада я люблю больше, чтобы легче меня найти, — однако мы ни разу не встретились. Однажды он сказал мне, что видел только мои следы и что пошёл по ним, но был так несчастлив, что никак не мог меня встретить; с этих пор я сочла долгом не ходить утром на прогулку, так как он подумал бы, что я его ищу… Однажды вечером, — это было, кажется, 14 августа, — я пошла с Катериной Петровной погулять по зале и через несколько минут вижу, что к нам идёт мой дорогой Пьер, который оставил дядю, тётю и папа одних и без стеснения пришёл походить с нами; это меня немножко испугало, но вскоре радость быть с ним без опасных свидетелей (Катерина Петровна — человек верный) заставила меня забыть все сомнения, и я просто растаяла от удовольствия; меня даже удивляло, что наша беседа продолжалась больше часа и никто не приходил посмотреть, где мы, что мы делаем и о чём говорим. Только папа прошёл мимо нас, и то чтобы идти к себе; он на минутку остановился, чтобы пожелать мне спокойной ночи, и, как мне показалось, не захотел нам долго мешать. Это придало мне смелости, я подумала, что моя любовь не неприятна папá; впрочем, я заметила, что молодой человек ему нравился, что он говорил с ним с удовольствием и охотно вступал с ним в споры. Дядя и тётя также говорили о нём много хорошего. Это ввело меня в заблуждение: я полагала, что моя любовь встречает сочувствие моих родных; но последующее показало противное. В этот вечер мы говорили о наружности. Я расхваливала, между прочим, красоту одной м-ль Лярской, а он утверждал, что она не может нравиться, •потому что у неё души нет• (а для него это главное — он всегда прежде всего ищет душу). Я же говорила, что она не разговаривает и кажется холодной единственно от застенчивости, но что она всё так же хорошо чувствует, как и он сам. „А вы хотели бы восклицаний с её стороны?“ — говорила я. „Нет, — сказал он, — я их не люблю, но есть люди, лица которых изменяются, когда они испытывают какое-нибудь чувство живое и благородное, и это придаёт им невыразимое очарование; они не красивы, но в них есть трогательное выражение, которое восхищает: между тем м-ль Лярская, кажется, никогда не проявляет восхищения перед красотою: •стихи Пушкина, Шиллера, Жуковского не возвышают её души, — нет, она без души“• (Я только что говорила ему, что восторгаюсь этими тремя волшебниками.) Мы долго ещё говорили, после чего был подан ужин и я его оставила, сказав, что никогда не видала человека с таким пылким воображением, как у него. Идя вместе домой, он сказал мне:
•„Так пылкое у меня воображение?“
Я. Ужасно! Оно пугает меня, я вас боюсь.
Он. Поверьте, у вас не менее моего воображения, но вы не хотите признаться в том. А я знаю вас, Софья Михайловна, я очень проницателен. Вы застенчивы, но сильно чувствуете, это видно.•
Он хотел продолжать, но помешал слуга, догнавший нас, чтобы нам светить, — и мы должны были холодно расстаться.
На следующий день, 15 августа, был праздник, и у нас с Катериной Петровной предположено было направиться в одну деревню поесть мёду у одного крестьянина. Пьер попросил у тёти позволения сопровождать нас, чтобы оберегать, как он говорил, от крестьянских собак, которые могли бы причинить нам беспокойство. Получив позволение, он пришёл к нам весь сияющий и предложил нам сопровождать нас; я приняла это благосклонно, как ты можешь себе представить, — и мы отправились в поход втроём. Тогда-то он стал говорить множество нежных стихов, смотря на меня выразительно и в то же время застенчиво. Он картавит, что придаёт ему ещё более прелести; сказав:
•Ты мог бы, пленник, обмануть Мою неопытную младость, —он сделал такое замечание: „Как Пушкин хорошо знал сердце женщины: обманывай, но не разочаровывай!“• В этой фразе много р, — и от этого он произнёс её восхитительно! Прости, любезный друг, эти мелочные подробности, — твоё терпение должно страдать от них, но я уверена, что ты меня извинишь: ты сама знаешь, как приятно повторять то, что мы слышали от предмета своей любви; что касается меня, то я помню малейшее слово, сказанное Пьером, и не ошибусь в том, на каком месте, в какой день он его сказал.
Мы зашли к одной крестьянке, которая угостила нас сливками и мёдом; мы заставили её болтать; она сказала, что Катерина Петровна, конечно, — сестра Пьера. Он казался восхищённым этим и спросил у неё, думает ли она, что я ему родственница; она ответила, что не знает, но он настаивал и во что бы то ни стало хотел знать её мнение. Он думал, вероятно, что она скажет, что я — его жена; но, к счастию, она этого не сказала, иначе я была бы очень смущена. Моё смущение было и без того довольно велико. Я себя изучала, старалась скрыть от него свою любовь, — а это мне было очень трудно, так как я пылала уже очень сильным огнём. На обратном пути он сказал мне по-французски целую выдержку из письма Абеляра к Элоизе. Это было нечто очень пылкое и было произнесено с большим чувством. Я просила его перестать, потому что мне запрещено даже открывать эту книгу, „а если вы мне будете её цитировать целиком на память, — это будет всё равно, что я её прочла“ (истинная же причина была та, что всё это относилось ко мне, и это меня крайне смущало). Тогда он спросил меня, знаю ли я стихи Дмитриева, которые он сейчас же и сказал, но которых я не помню, кроме одного стиха, который он повторил много раз, смотря на меня пристально:
•„Без умысла пленяешь ты…“• Я не знала, что сказать, и спросила у него, который час; он ответил мне:
•„У меня нет с собой часов. Знаете ли вы „Модную жену“ Дмитриева?“
Я. Нет, не знаю.•
Он (с насмешливым видом). •Знаете!
Я. Нет, я вас уверяю!
Он. Позвольте мне не верить вам; помните, что там говорят о часах:
Амур, на стрелке прикорнув, и проч.•[328]Смущение моё достигло высшей степени; я попыталась перевести разговор на другой предмет, подтолкнула Катерину Петровну, которая меня сразу поняла и начала говорить ему о его путешествии в чужие края; он удовлетворил несколько её вопросов, а потом опять обратился ко мне и спросил, часто ли я получаю от тебя известия (он слышал, как дядя говорил о тебе); я отвечала ему, что с некоторого времени я лишена их, потому что ты, вероятно, находишься в пути. Он пожелал узнать, куда ты отправилась, и узнав, что в Оренбург, обрадовался.
„Ах, — сказал он, — у меня в Оренбурге есть друг, его зовут Жемчужников, он адъютант Эссена, я напишу ему и буду говорить о м-ль Семёновой; он будет в восторге познакомиться с такою очаровательною особою“.
•Я. Но вы её не знаете!
Он. Всё равно, — вы её знаете, вы любите её, этого довольно.
Я. Но вы и меня не знаете.
Он. Нет, я вас очень хорошо знаю, Софья Михайловна.
Я. В такое короткое время?
Он. С той минуты, как я увидел вас.
Я. Потому вы должны иметь обо мне худое мнение. Вы не терпите холодных, а я должна казаться вам таковою, потому что почти так же молчалива, как Лярская, на которую вы вчера так нападали. Я думаю, что вы и про меня говорите, что я без души.
Он. Помилуйте! Я этого ни минуты не думал. Вы так хорошо чувствуете красоты Жуковского, Пушкина! Ах! я бы желал, чтоб вы прочитали Абеларда и Елоизу! Вот где чувства сильны и хорошо описаны! Если вам позволили читать „Кавказского пленника“, то можно дать вам и это.
Я. Кто мог бы не дать мне „Кавказского пленника“? Я бы прочла его украдкою.
Он. Отчего, вы бы ещё не знали сокровищ, которые в нём заключаются.
Я. Отчего? От пристрастия к Пушкину.
Он (вполголоса). Как он счастлив.•
Я не буду больше надоедать тебе подробностями остальной части нашего разговора, который, может быть, интересен только мне; всё, что скажу я тебе, это что он наговорил столько вещей, что даже Катерина Петровна заметила, до чего мы дошли, и на другой день не переставая меня дразнила, так что за столом я не могла смотреть на неё без смеха. После обеда он спросил меня, почему я смеялась; на это я ответила, будто смеялась потому, что не могу видеть, как кто-нибудь другой смеётся, без того, чтобы не сделать того же. Он хотел узнать причину, заставившую смеяться Катерину Петровну; я сказал, что этого я не знаю, но он настаивал, и я имела неосторожность сказать, что это потому, что она — злюка и дразнит меня целый день, насмехаясь надо мною.
Он. Почему она вас дразнит?
Я. Этого я не могу и не хочу вам сказать.
Он. А если я догадываюсь?
Я. Это невозможно.
Он. Пожалуйста, скажите мне, — я уверен, что я догадался.
Я. Зачем же вы тогда меня спрашиваете?
Он. Потому что я хочу в этом убедиться.
Я. Нет, если бы вы догадались, вы бы знали, что мне невозможно этого сказать вам в эту минуту; я вижу, что вы совсем не знаете, в чём дело.
Он. Когда же вы мне про это скажете?
Я. Со временем, может быть. Но переменимте разговор. •Мы скоро едем; как грустно!
Он. Я думал, что вы желаете возвратиться в Петербург.
Я. Нет, я не могу думать об отъезде без досады. Что меня может привлекать в Петербурге?
Он. Вы недавно говорили, что со слезами выезжали оттуда.
Я. Вы всё помните!
Он. Всё, сударыня, всё, что вы говорите!• (Я это сказала на другой день его приезда.)
•Я. Я тогда не знала Крашнева, а теперь буду верно плакать, расставаясь с ним.
Он. Счастливое Крашнево! Но вы, конечно, от того будете плакать, что не можете видеть, как другие плачут…
Я. Никто, кроме меня, не будет плакать.
Он. Софья Михайловна! И вы это думаете? Неужели вы не знаете… вы не хотите знать… простите, я сам не знаю, что говорю. Я несчастлив, — пожалейте меня!•
В эту минуту, на моё счастие, нас прервали: тётя должна была ехать с визитом за несколько вёрст, и я просила её оставить меня дома, под предлогом составить компанию папа, который не мог выходить по причине недомогания; тогда она обратилась к Пьеру и предложила ему взять его с собою; он умолял её избавить его от этого, но она, не знаю почему, и слушать его не захотела. Когда она вышла, он сказал мне:
•„Боже мой, мне непременно велят ехать, — как скучно! Что мне там делать?“
Я. Велят! Это невозможно, тётушка шутит, от вас зависит остаться.
Он. Нет, я очень вижу, что она не шутит. Софья Михайловна, нельзя ли вам ехать?
Я. Это очень покойно, Пётр Григорьевич! Я за вас должна ехать скучать, а вы останетесь?
Он. Нет, я бы тогда не остался.•
Однако он поехал, так как тётушка и слушать не хотела его просьб. Я же оставалась без него с 4 часов пополудни до 9 часов вечера. Как длинно показалось мне время! Представь себе, что я имела слабость расплакаться от этой разлуки на несколько часов. Наконец он вернулся, мы провели остаток вечера вместе очень приятно, я ушла позже обыкновенного, не могла заснуть до 4 часов утра; я была в восторженном настроении, в упоении; я видела во сне Пьера и проснулась ещё более безумно влюблённою в него. Это было 17 августа, в воскресенье, — чудесный день. Мы отправились втроём на прогулку, ещё более продолжительную, чем первая, — мы сделали восемь вёрст, — так что у него было время, чтобы сделать мне полупризнание в своей любви, — а полупризнания ещё более приятны, чем полные… Однако я сделала вид, что не поняла его. Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; произнеся:
Непостижимой, чудной силой Я вся к тебе привлечена[329].Я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я не вышла из рассеянности и сказала бы то, что думала в тот момент, я погибла бы, — вот что это было:
Люблю тебя, Каховский милый, Душа тобой упоена…К счастию, я выговорила „пленник“; но, как сказала мне потом Катерина Петровна, я произнесла эти слова с такою выразительностью (чего я сама не заметила), что я не удивляюсь тому, что он тотчас ответил с сияющим видом и радостным голосом:
Надежда, ты моя богиня, Надежда, луч души моей!Затем он начал говорить о чувствах, но, видя, что я боюсь этого разговора, искусно перевёл его на другой предмет, потом спросил, что я думаю о молодой особе, которая отдаёт свою руку мужчине, которого она не знает. Я ответила ему, что такая особа достойна презрения. „Но как же она может узнать его, — сказал он, — если она избегает случаев говорить с ним серьёзно, узнать образ его мыслей, его чувства? Ибо в обществе она услышит от него лишь избитые фразы, по которым она не сможет судить о нём; между тем если бы, отбросив в сторону чрезмерную женскую осмотрительность, она позволила ему беседовать почаще с собою без свидетелей, она могла бы узнать его в несколько дней“. Я нашла, что он прав, и созналась ему в этом. Затем он сказал, что презирает людей, которые обращаются сперва к родителям, а потом уже к девушке; таким образом они могут насильственно повлиять на её склонность, а это — возмутительно. На это я сказала, что в отношении себя я никогда не боюсь быть принуждённой, что отец мой — человек слишком умный.
— Но, — сказал он, — если вы полюбите кого-либо, кто не совсем ему по душе, — согласился ли бы он на наш брак?
— Не знаю ничего, — ответила я ему.
— Если бы у вашего дяди была дочь, — сказал он, — я уверен, что он не воспротивился бы её счастию.
Я сделала обиженный вид и сказала ему, что отец мой только и думает об моём счастии, но что он… (я не знала, что сказать).
Он прервал меня:
•— Но его труднее уломать?
Я. Это правда.
Он. Однако же, если захотите, верно уломаете?•
Он сказал мне затем, что знает тысячу подобных примеров, и что если дочь пожелает, она сможет уломать и самого сурового отца. Увы! он не знает моего отца, он не знает, до какой степени он твёрд в своих мнениях! Я видела, что всё это клонилось к тому, чтобы подготовить меня к признанию к любви. Я ещё раз прибегла к Катерине Петровне, которая пришла мне на помощь, — однако он нашёл способ сказать мне ещё тысячу вещей, которых я не буду тебе повторять, так как их чересчур много, но которые мне хорошо показали, что вскоре в Крашневе произойдёт некое событие.
На другой день, 18 августа, папа предложил совершить утром прогулку верхом. Кавалькада состояла из Катерины Петровны, папá, Пьера, меня и двух конюхов. Я была вне себя от радости. Пьер ехал около меня, а папа — около Катерины Петровны, болтая с нею и, казалось, нисколько не думая о том, что делается позади его. Мы часто пускали лошадей вскачь, чтобы не вызвать его подозрений, но зато мы часто пропускали их вперёд и сами ехали шагом. У него поэтому было время, чтобы поговорить со мною так, как ему хотелось. Он сказал мне:
•„Когда же вы мне скажете, отчего Катерина Петровна зла?“
Я. Не теперь, а может быть и совсем нельзя будет вам сказать этого.
Он. Что же надобно сделать, чтоб вы могли мне это сказать?• (по этим словам я поняла, что он знал, о чём шла речь).
•Я. И того не могу сказать вам.
Он. Не терзайте, скажите, ради бога, я несчастлив, меня это мучает; по крайней мере скажите, до кого это касается?
Я. До меня.
Он. Только?
Я. Только!
Он. По истине?
Я. Не приставайте, я когда-нибудь вам это скажу.
Он. Может быть, вы долго заставите ждать меня!
Я. Нет, мы скоро едем, а вы непременно будете это знать через несколько дней; я вам обещала сказать и не хочу уехать, не сдержавши слова.• (Я была уверена, что скоро всё кончится и я буду иметь возможность сказать то, что ему так нетерпеливо хотелось знать.)
•Он. И мне нужно вам что-то сказать, только не при всех.
Я. Я не так любопытна, как вы, не желаю знать ваших тайн.
Он. Но мне непременно нужно, чтобы вы знали.
Я. Я не хочу слышать их.
Он. Вы не хотите — это другое дело.•
С этими словами он пришпорил лошадь и подъехал к моему отцу; однако его недовольство длилось недолго, — он скоро вернулся, я немного упрекнула его за вспыльчивость, он попросил у меня прощения и не решился говорить мне про свои тайны. Он сказал мне только:
— •Бог с вами! Вы хотите мучить меня, не хотите пожалеть меня, бог с вами!•
В тот же день, 18 августа, день навсегда памятный, я пошла после обеда в сад погулять: Катерина Петровна не могла сопровождать меня, будучи занята, — поэтому я шла одна. Вдруг я встречаю Пьера, — мы продолжаем прогулку вместе. Я старалась поскорее вернуться домой, но так как сад огромен, — он успел сказать мне многое, прежде чем мы пришли. Когда мы были уже около дома, он упросил меня сделать ещё один круг, — я не могла отказать ему в этом, однако сказала, что нахожу неудобным быть с ним наедине (т. е. заставила его понять это), но он ответил, что, шутки в сторону, у него есть нечто сказать мне и что он заклинает меня его выслушать. Я позволила ему говорить. Однако он не знал, как начать.
•— Я бы много дал, чтобы быть смелее, Софья Михайловна! Что я скажу вам? Вы так строги; несколько раз я собирался сказать вам, что чувствую, но вы одним словом заставляли меня молчать. Вы, верно, меня понимаете…
Я. Нет, я вас не понимаю.
Он. Потому что не хотите понимать; я не могу говорить яснее, — есть чувства, которых нельзя выразить, Софья Михайловна! Я все эти дни между страхом и надеждой, не мучьте меня более, я… Боже мой! Я… люблю вас, скажите, любим ли я? Не опасайтесь меня, говорите со мной откровенно, как с другом.
Я. К чему это всё, Пётр Григорьевич? Мы скоро едем.
Он. Нет, вы не уедете, неужели вы почитаете меня бесчестным?
Я. Признаюсь, не смею верить вам; часто молодые люди говорят всё то, что вы мне теперь сказали, не имея другой цели, как посмеяться и после рассказать всем.
Он. Вы меня убиваете! Ради бога, скажите, что вы чувствуете, будьте уверены во мне.
Я. Пётр Григорьевич! Вы довольно благоразумны. Если бы вы сами не заметили, что я чувствую, то не решились бы сказать мне, что вы мне сказали.
Он. Но я, может быть, обманываюсь.
Я. Нет.
Он. Дайте ручку!!!•
Ты можешь понять моё смущение! По счастию, на мне была шляпа, которая скрывала то краску, то бледность на моём лице. Я протянула Пьеру свою дрожащую руку, он прижал её к своим губам и покрыл её радостными слезами; я сама плакала, но от волнения. После нескольких мгновений молчания он сказал мне:
•— Что нам теперь делать? Думаете ли вы, что вас отдадут за меня?
Я. Мне кажется, что отец мой вас очень любит.
Он. Но я не богат, не знатен.
Я. Это ничего не значит.
Он. Как я буду говорить с ним? Как начать? Дайте совет!
Я. Советую вам прежде всего поговорить с дядюшкой, а я всё скажу тётушке.
Он. Ради бога, не откладывайте, говорите сегодня!
Я. Хорошо, только оставьте меня, — нас могут встретить.
Он. Не могу, как я покажусь туда? Я лучше пройду прежде к себе.
Я. Куда хотите, только в другую сторону, нежели я! Поберегите меня, подите скорей!
Он. Дайте ручку в последний раз! Скажите, об том ли шутила с вами Катерина Петровна?
Я. Об том. Боже мой, уйдёте ли вы?!•
Он не выпускал моей руки, которую держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе самой те стихи, которые я слышала от него так часто[330].
•Бледна, как тень, она дрожала; В руках любовника лежала Её холодная рука…•Наконец мы расстались. Я вижу отсюда выражение твоего лица, когда ты читаешь рассказ о моих похождениях. Да! брани меня, дорогой друг, — я того заслуживаю, но в то же время и пожалей хоть немножко твою бедную Соню. Я пришла к тётушке совершенно расстроенная, дрожащая. Я рассказала ей всё, — она меня утешила и побежала тотчас говорить с дядюшкой, потом послала искать Пьера, потом снова побежала к дядюшке, потом ко мне. В ожидании я заперлась в её кабинете, не смея пошевельнуться и ожидая решения моей участи. Тётушка пришла мне сказать, что она не думает, чтобы это могло устроиться, что дядюшка рассердился, что всё это произошло у него, потому что папа может подумать, что это он всё устроил. Он сказал мне, однако, что поговорит с моим отцом и постарается сделать это так, чтобы никого не поставить в неловкое положение, и что отказ будет сделан в мягкой форме.
— Отказ? — сказала я.
— Да, — ответили дядя и тётя. — Папá никогда не согласится на ваш брак; это человек для тебя неподходящий, — горячая голова, которая не сумеет сделать тебя счастливой. И я бы тебе посоветовал самой отказать ему.
— Нет, — сказала я, — я не могу говорить против своего сердца, — к тому же он уже знает мои чувства.
— Пусть это тебя не стесняет, — сказала тётя, — я выпутала тебя из дела как только могла лучше, — я сказала своему двоюродному брату, что он не должен принимать в буквальном смысле всё то, что ты ему сказала, потому что ты была так смущена, что не знала, что сказать. Я прибавила, что ты сама мне это говорила. Хорошо ли я сделала?
Я. Нет! Он должен знать, что я люблю его. Может быть, папá согласится на наше счастье. Дядюшка! Ради бога, поговорите с ним!
Он обещал мне постараться получить от папá его согласие, — и мы расстались. Я не могла спать всю ночь. Дядя и тётя также провели её в рассуждениях, — они подготовляли то, что должны были сказать папá. Не могу сказать тебе, что за суматоха была в доме! Наконец в 5 часов утра, 19-го, дядюшка отправился к папá, и едва начал он говорить ему — с величайшею осторожностью, — как папá вскричал: „Они убьют меня!“ — и тут сделались с ним его спазмы, продолжавшиеся два часа, — после чего он заснул. Тогда Пьеру объявили о том, что произошло, затем услали его и позвали меня. Я плакала, просила, — меня бранили, говорили, что я убью отца. Дядюшка ужасно разгорячился, наговорил мне самых жёстких вещей. Я рыдала, тётушка также плакала… Наконец дядюшка успокоился, даже попросил у меня прощения, раскаявшись в том, что оскорбил меня, и обещал ещё поговорить с моим отцом. Последний проснулся, меня отослали прочь, спросили его решительного мнения, он произнёс страшное „нет“ и умолял тётю и дядю не говорить мне, что он знает о том, что произошло, — чтобы ему не нужно было говорить со мною, — „ибо, — сказал он, — об этом я не знаю, что говорить ей. Я предпочитаю сделать вид, что ничего не знаю: и она и я будем от этого только спокойнее“.
После этого разговора меня позвали и сделали наставление о той невинной роли, которую я должна была разыгрывать перед отцом; это привело меня в отчаяние, так как я не смела уже умолять его согласиться на моё счастие, — •не к чему придраться.• Весь день я оставалась с ним, в его комнате, из которой он не хотел выходить под предлогом болезни (но настоящая причина была та, что он не желал видеть Пьера). Он был очень ласков со мною, я же выходила из себя, не имея возможности говорить с ним и побыть хоть одну минуту с Пьером, встречи с которым старались заставить меня избегнуть. Катерина Петровна пришла повидать меня; она сказала, что у неё был разговор с Пьером, что он сказал ей, что на следующий день уезжает, и умолял её передать мне письмо, которое он приготовил. Она этому воспротивилась, но он заклинал её не делать его несчастным и не отказывать ему, тогда она сжалилась надо мною и над ним и передала мне эту драгоценную записку. Вот что в ней было[331]:
•„Ваша репутация, от которой, полагаю, зависит всё счастие жизни нашей, может ли быть недорога мне? Прошу вас, Софья Михайловна, всё сказать Петру Петровичу[332], вы знаете его, я с ним совершенно искренен. Надобно решиться, чтоб успокоить его, ради Бога решите судьбу мою. От вас всё зависит, говорите с Батюшкой, неужели вы с тем сказали мне люблю, чтоб сделать меня несчастливым? Отвечайте мне прошу вас и не сомневайтесь во мне“.•
Я просила Катерину Петровну сказать ему, что я не могу отвечать ему письмом, но что я не осмелилась говорить с отцом, что же касается дядюшки, то я ему всё сказала, но что он не мог быть мне полезен, несмотря на всё доброе желание, которое при этом проявил. Катерина Петровна сказала мне затем, что она слышала разговор Пьера с моим дядей: он спрашивал, есть ли надежда, а дядя ответил, что нет, и при этом советовал ему уехать и написать моему отцу из Смоленска. Пьер благодарил его за всё, что он для него сделал, и на другой день, 20 августа, рано утром он уехал, причём я не могла проститься с ним… Сердце моё разрывалось, я плакала целый день и до сих пор слёзы мои не иссякают. Я самое несчастное создание в свете, дорогой мой друг! Вот всё, что остаётся мне сказать тебе. Одна добрая Катерина Петровна разделяет мою горесть, — все говорят о посторонних предметах, как будто бы ничего не случилось, стараются забыть об этом и думают, что всё устроили к лучшему, так как никого не перессорили… Они не знают, что я испытываю. Я уверена, что ты меня понимаешь и жалеешь меня, дорогой друг!»
2 сентября
Я получила письмо от Саши Копьевой, из которого узнала, что ты выехала 25 июля на почтовых лошадях; ты должна, значит, быть уже в Оренбурге; я не ожидаю известий от тебя, чтобы отправить к тебе моё длинное послание. У меня ещё есть тысяча вещей рассказать тебе. Я получила известие от Пьера, мой друг, — он написал мне через человека, который отвозил его в Смоленск: это старый кучер, человек очень верный, которому к тому же он дал много денег, умоляя его передать письмо Катерине Петровне. Он так и сделал, и добрая Катерина Петровна не побоялась скомпрометировать себя из-за нас в глазах этого человека. Она передала мне письмо, не будучи в состоянии отказать в этом, так как Пьер написал ей очень трогательное умоляющее письмо. Вот содержание его письма ко мне:
•Употреблял все способы пробыть в Крашневе, чтобы ещё видеть вас, но всё напрасно; читал записку вашего Батюшки к Петру Петр.: он жесток против меня. Говорили ли вы с ним? Бога ради скажите, что он сказал вам? Есть ли какая надежда, что должен делать я? Отвечайте, заклинаю вас! Можете ли опасаться меня, я дышу вами, не могу выразить, что чувствую, как терзаюсь, расставшись с вами, и так неожиданно. Ехать ли мне в Петербург? Писать ли к брату вашему, просить ли его, чтоб он помог нам? Неужели всё погибло для меня? Вы ещё можете быть счастливы, но я, — где найду ту точку земли, где бы мог забыть, не любить вас? Её нет для меня во вселенной, верьте, бури глас не в силах выразить мук моих. Софья Михайл.! Я не казался против вас иначе, как я есть, вы должны знать меня, я уверен в вас, вы не захотите играть мною, я много уважаю вас, чтоб мог это думать. Пишите ко мне, скажите, как, на кого писать мне к вам в Петерб.: дайте совет мне, что должен я предпринять? От вас всё зависит, вы можете убедить вашего батюшку. Скажите, могу ли положиться на вашу девушку, могу ли отдать ей к вам письмо в Смоленске? Прощайте, друг, бог, жизнь моя, если любите меня, пишите всё, всё, что произошло без меня, что говорил с вами П. П., Наталья Ивановна. Катер. Петр. перешлёт или передаст мне письмо ваше, отвечайте скорей, молчание ваше убьёт меня.
Прощайте, и за пределом гроба, если не умирает душа, я ваш… 21 августа.•
Я не могла ответить на это письмо, так как человек, который привёз его, вскоре снова уехал в Смоленск с поручением, данным ему дядей, и возвратился 26 августа, причём я получила ещё следующее письмо:
•К чему могу приписать молчание ваше, несравненная Софья Мих.! можно ли тому не верить, кого любишь? Я болен, скажите, если вы шутили надо мной? Мне легче будет прервать несносную нить жизни: заклинаю вас счастием, всем вам священным! отвечайте! Что делается в душе моей, я не умею сказать, докончите всё, дайте вдруг удар, смерть без вас мне благо, она прекратит мои страдания. Простите, если я вас оскорбляю. Ваше молчание остановит биение моего сердца, по крайней мере тогда всё узнаете, сколько я любил вас. От вас всё зависит, могу ли верить, чтобы вы не могли убедить вашего батюшку? Самого Бога ради отвечайте. 25 августа.•
В тот день, как я получила это письмо, у нас было много народу по случаю дня именин тётушки[333]; посуди же о страданиях, которые я испытывала, вынужденная быть любезной со всеми, нося смерть в душе! Я решила написать Пьеру, — мне было чересчур жаль его, — но не могла этого сделать, так как человек, на которого я могла рассчитывать, не был более ни разу послан в Смоленск.
Моё единственное утешение теперь — это говорить о Пьере с Катериной Петровной, ходить с нею гулять туда, где мы были вместе с ним; наиболее часто я хожу в сад, в аллею из дерновых деревьев, которая очень мне дорога, так как именно там он сказал мне, что любит меня. К довершению несчастия, мы вскоре уезжаем отсюда, и я буду за 800 вёрст от Пьера, от милого Крашнева… Вот когда я почувствую себя одинокой! Ах, зачем ты уехала! Если бы мне хоть в Смоленске повидать его! Он знает, где мы остановимся, знает, что мы останемся там два дня; может быть, он пройдёт перед домом, даст Нениле письмо для меня… Нет, он не должен думать, что я играла с ним, раз я не написала ему даже после последнего письма его: он не знает причин, которые помешали мне сделать это. Всё это убивает меня. Саша, пожалей меня, милый друг, как я несчастна!
Письмо это оставалось неотправленным целую неделю, и лишь в следующий вторник Софья Михайловна сделала новую приписку к письму далёкой подруге, всё ещё жалуясь ей на своё тяжёлое душевное состояние:
9 сентября, вторник
•Саша, друг мой, сейчас получила я письмо твоё из Оренбурга, бедная моя Саша, как мне тебя жалко, твоё письмо разрывает мне душу. Дай Бог, чтоб дядиньке легче было. Извини, мой друг, я тебе писала много вздору, тебе теперь не до того, чтоб читать мои глупости. Ах, как ты меня перепугала, что же ты мне об маминьке не слова не пишешь? Я это письмо пошлю к тебе из Петербурга, мы едем завтра, пробудем, я думаю, два дня в Смоленске, а к семнадцатому будем в Петербурге; как приеду, так пошлю тебе письмо, а теперь невозможно: признаюсь, очень страшно вручить такой большой пакет дядиньке, хотя он не имеет привычки распечатывать писем, но в теперешних обстоятельствах надобно быть осторожнее.
Друг мой, пиши ко мне скорее, ради Бога, скажи, легче ли дядиньке, я ужасно беспокоюсь. Душечка, прости меня, что такое длинное и неинтересное для тебя письмо тебе присылаю. Прощай, друг, будь покойна, прошу Бога от всего сердца, чтоб он пособил тебе. Как ты добра, что в таких хлопотах и в горести вспомнила обо мне и написала хотя несколько строк.
Прощай, обнимаю тебя и с нетерпением ожидаю от тебя известий. Дай Бог, чтобы они были хороши.
Твоя до гроба Соня.•
VI
Накануне дня своих именин С. М. Салтыкова с отцом и горничною девушкою была уже в Петербурге.
К оренбургской своей подруге С. М. Салтыкова собралась написать лишь через две недели после возвращения, — а именно 2 октября. Высказывая благодарность А. Н. Семёновой за её письмо от 2 сентября, пересланное к ней из Крашнева П. П. Пассеком, Софья Михайловна писала:
«Я уже послала тебе отсюда огромное письмо, написанное в Крашневе; думаю, что оно теперь дошло до тебя, и я жду на него твоего ответа с большим нетерпением; я сгораю от желания знать, что ты думаешь о том, что произошло со мною, и ожидаю некоторых упрёков с твоей стороны: я их заслужила, сознаюсь в этом, однако уверена, что ты принимаешь участие в моём горе, — и это очень для меня утешительно». По поводу болезни дяди своей подруги она пишет ей: «Впрочем, я очень довольна, что ты немного поуспокоилась, — продолжай быть спокойной, если можешь, — ибо какая польза приходить в отчаяние? Следует покоряться всему, что с нами случается, — так, по крайней мере, говорят философы; я нахожу, что они правы, и очень хотела бы следовать их советам, но бывают минуты, что я их совершенно забываю, — думая о Пьере и о той горести, которую я испытываю оттого, что я вдали от него. Не могу сказать тебе, мой друг, как ненавистен мне Петербург! Мы здесь с 16 сентября, и я до сих пор ещё не могу привыкнуть к шуму, пошлым разговорам, к людям, которые так отличны от тех, что были в Крашневе, и которых я должна видеть и слышать ежедневно; я полюбила деревенскую жизнь, жизнь в столице, по-моему, несносна, и мне трудно будет к ней привыкнуть. Я чувствую себя очень несчастной, — особенно когда подумаю о расстоянии, отделяющем меня от существа, которое я люблю больше всего на свете. Также сожалею о разлуке с дядей и тётей, я чрезвычайно привязалась к ним. Бог знает когда я снова увижусь с ними! Но ты, может быть, хочешь знать, что случилось со мной с тех пор, что я не писала тебе, — так вот в подробностях продолжение моей грустной истории.
Мы выехали из Крашнева 10 сентября, после обеда; дядя и тётя провожали нас; печаль и слёзы Катерины Петровны раздирали мне сердце; я не могла без слёз покинуть её, кроме того, я расставалась, быть может навсегда, с этими местами, ставшими для меня столь дорогими, — особенно с той поры, что в них жил Пьер. Проехав 25 вёрст от Крашнева, мы остановились на ночлег; а на следующее утро снова пустились в путь и вечером были в Смоленске. Надежда увидеться там с Пьером воодушевила меня; я перестала плакать, рассчитывая на то, что он, конечно, пройдёт перед нашими окнами, так как он знал, где мы остановимся; но каково было моё удивление, когда, по приезде, я узнала, что вместо двух дней, которые мы должны были оставаться в Смоленске, мы выезжаем на следующий день рано утром! К довершению несчастия, дом, где мы находились, выходил окнами во двор, и дядя, для большей осторожности, велел закрыть въездные ворота. Нет, Саша, не могу выразить тебе, что я тогда почувствовала, — это были адские мучения, как ты легко можешь себе представить, поставив себя на моё место. В тот же вечер мы пошли к Лизе Храповицкой, ангельская доброта которой тебе известна: у неё прирождённое благородство чувств и возвышенная душа, — совершенно отличная от чувств и души остальных членов её семейства; отец мой, вообще довольно разборчивый, всегда нежно любил её. Она увела меня в другую комнату, пока отец разговаривал с её мужем, и стала задавать мне вопросы о Пьере. Она ничего не знала, но кое-что подозревала, так как, по её словам, с того времени, как Пьер столь внезапно покинул Крашнево, где он предполагал остаться довольно долго, — он стал навещать её гораздо чаще, даже почти ежедневно, и только и делал, что говорил обо мне, причём был поразительно грустен. Тогда я со слезами бросилась в её объятия и рассказала всё, что у нас произошло. Она была тронута до слёз моим горем и доверием, которое я ей оказала и которое она мне обещала не употребить во зло. Она сказала мне, что теперь больше не удивляется вопросам Пьера о том, сколько времени останемся мы в Смоленске, и о точном дне нашего приезда.
— Ах, — сказала она, — как будет он огорчён, узнав, что вы уезжаете так внезапно, — он даже и узнает об этом только после вашего отъезда!
Я просила её сказать ему, что ей всё известно, утешить его, быть его другом, посоветовать ему написать к отцу моему в Петербург письмо, которое могло бы его тронуть. Она пообещала мне всё это, сказав, что Пьер — прекрасный юноша, что она его всегда любила, а теперь будет принимать в нём ещё большее участие. Добрая Лиза заставила меня пообещать, что я ей непременно напишу, и заверила меня, что не замедлит ответить мне и сообщить о разговоре, который она будет иметь с Пьером. Наконец мы расстались и, на следующий день с горестию распрощавшись с тётей и дядей, мы покинули Смоленск. Не стану говорить тебе, что я испытала, — ты можешь себе представить это! 16-го числа, по приезде сюда, я побежала разыскивать Сашу[334] и была очень утешена, увидев её: она тоже несчастна, и мы поплакали вместе. Я провела день своих именин у Полетик[335]; все тебя приветствуют, особенно же Пётр Иванович, Надинька и Мишель. Последние сообщили мне нечто весьма грустное, — а именно, что причиною, заставившею папá отказать Пьеру, является то, что у него нет ничего; в этом он признался Михаилу Ивановичу, который сказал об этом своему сыну и невестке; они не могли этого выдумать, так как я ничего им не говорила и даже не намекнула. Что касается Петра Ивановича, то я ничего от него не скрываю, и представь, что он непременно хочет говорить с папá и не оставляет мысли быть мне полезным даже в том случае, если его предприятие сразу не удастся. Он хочет представить моему отцу, что он рискует тем, что его дочь зачахнет или что её похитят (он знает, что последнее невозможно, но хочет немножко напугать отца). Я уже писала Лизе и тёте; от последней мы имеем известия: она писала нам, что смертельно скучает и чувствует невыразимую пустоту, так же, как и дядя… Я могу сказать, как некий Марков, в стихах, написанных им на прощание со Смоленском: в начале он говорит, что в детские годы он учился географии •и что он блуждал с указкою по всей обширности света,• а потом прибавляет:
•Смоленск! И ты бывал в уроке. Но я был чужд красам твоим; Не знал, чем можешь ты гордиться, Чему должно в тебе дивиться И кто зовёт тебя своим!..•В последнем письме своём я забыла сообщить тебе мой адрес… — вот он: на Литейной, в доме Гассе, № 399».
В следующем письме, уже от 13 октября, Салтыкова всё ещё ждет известий из Смоленска о Каховском и боится этих известий… «Каждый день я поджидаю ответа от Лизы Храповицкой на письмо, которое я ей написала, — хочу его и боюсь: может быть, оно поведает мне, что я больше не любима! Мысль эта заставляет сжиматься моё сердце, но постоянно преследует меня. Дай Бог, чтобы это не было предчувствием».
Между тем пришло письмо от Н. И. Пассек. «Я получила письмо от тётушки, — сообщала Софья Михайловна своей подруге 25 октября, — в котором она убеждает меня забыть Пьера и отнестись с полным доверием к отцу; но ты сама знаешь, легко ли это с ним; к тому же если я стану откровенно говорить с ним о своих чувствах, то ничего хорошего из этого выйти не может. Я солгу, если скажу, что больше не люблю Пьера, и рассержу его, если признаюсь ему, что люблю его больше, чем когда-либо; к тому же он запретил говорить об этом. Между тем он писал тётушке, что недоволен мною, потому что я скрываю от него свои мысли и чувства. Какое противоречие! Но его надо пожалеть, — это в его характере; я уверена, что он от этого сам страдает, создавая себе новые огорчения и прибавляя их в добавление к тем, которые уже имеет. Что делать? В его годы уже не меняются, и мне приходится сообразовать своё поведение с его вкусами и с его характером, но это очень трудно, — в его поступках столько противоречий, что я не знаю, что должна делать, чтобы угодить ему. Он попросил у меня прочесть письмо тётушки — и потом не говорил со мной из-за этого в течение целого дня. Я не думаю, чтобы таким способом можно было приобрести моё доверие. К увеличению моих горестей, Лиза Храповицкая не подаёт признака жизни; не знаю, что и думать о её молчании, но я очень склонна истолковать его в неблагоприятную сторону. Мне сдаётся, что Пьер изменил мне, что она не хочет огорчать меня этим сообщением и в то же время совестится обманывать меня на этот счёт. Но она причиняет мне ещё больше огорчений, оставляя меня в неизвестности; я бы предпочла, чтобы она поскорее сказала мне то, что я подозреваю…»
Через неделю, отвечая на письмо А. Н. Семёновой, Софья Михайловна писала ей (2 ноября): «Упрёки, которые ты мне делаешь, в высшей степени справедливы; я ожидала их от тебя и чувствительно тронута участием, которое ты принимаешь в том, что у меня происходит; но разреши мне сделать тебе одно возражение: как можешь ты сравнивать мою теперешнюю историю с историей с Гурьевым?[336] Какая разница между Пьером и им! Помня всё, что произошло у меня с тем, я люблю Пьера всё больше и больше, так как вижу, что он неизмеримо выше того негодника благородством чувств и красотою души, которая так чиста, что можно видеть всё, что в ней происходит. Я узнала ужасные вещи про Гурьева в последнее время: представь себе, что, не говоря о его дурной нравственности, у него есть ещё страшные пороки: он занимается шпионством, он даже предал одного своего друга, который и пострадал через него невинно. Как я благодарна небу, что оно избавило меня от несчастия сделаться его женой! Тебе не нужно, дорогой друг, советовать мне не быть слабой в третий раз: я думаю, что если даже я забуду Пьера, то никогда никого не полюблю. Быв несчастливой в своих привязанностях дважды, уже на всю остальную жизнь охладеваешь: чувствительность притупляется, её заменяет безразличие. Мне бы очень хотелось, чтобы ты познакомилась с Жемчужниковым, — продолжает она, — чтобы узнать, каков он; не знаю, говорила ли я тебе о его лаконизме, — у меня с некоторого времени стала довольно дурная память, я забываю всё, что пишу тебе, так что мне думается, что я часто повторяю одно и то же. Во всяком случае, дам тебе о нём понятие. Уже давно тому назад Пьер писал ему, — и… •ах, извини, Саша! Я это тебе рассказывала, теперь я вспомнила! Какая я дура!»•
Прошло ещё две недели… Приезд брата 4 ноября и страшное петербургское наводнение 7 ноября, естественно, отвлекли внимание Софьи Михайловны от предмета её постоянных размышлений; сам Каховский не подавал о себе известий, со стороны их тоже не было; тем не менее и в письме, которое Салтыкова посвятила подробному описанию наводнения (от 16 ноября), она вернулась к беседе о своём романе, который пока ещё не был изжит, несмотря ни на разлуку, ни на воздействие отца, тётки и дяди и, по-видимому, далёкой подруги. «Ты напрасно думаешь, — говорит ей Салтыкова, — что я хотела бы искусать тебя за то, что и как ты думаешь о моих крашневских похождениях: я ожидала суждений, которые ты выскажешь по этому делу; впрочем, я вовсе не утверждаю, что любовь моя будет продолжаться вечно: как и ты, я думаю, что разлука — хорошее лекарство, которое, надеюсь, принесёт и мне пользу; но также полагаю, что только разлука и время могут излечить страсть, так как все усилия, которые делаешь сама для того, чтобы забыть любимого человека, почти всегда бесполезны. Как Жуковский, я говорю:
•Все поневоле улетаем К мечте своей, Твердя: „забудь“, — напоминаем Душе об ней.•[337]Ты по опыту должна знать, что я права. Не правда ли?.. Всё спит в доме, — кончает она своё письмо, — я также сейчас брошусь в постель, повторяя за Пушкиным:
•Морфей, до утра дай отраду Моей мучительной любви, Приди, задуй мою лампаду, Мои мечты благослови! Сокрой от памяти унылой Разлуки страшной приговори проч. и проч.»•
14 декабря 1824 г., — в тот самый день, который, ровно через год, стал днём гибели Каховского и его друзей, мечтавших, по выражению поэта, написать свои имена «на обломках самовластья», — Салтыкова снова возвращается к обычной для неё теме беседы с подругой. Последняя в это время также переживала какой-то душевный кризис, — по-видимому, это была пора каких-то семейных неладов и в то же время эпоха начала её романа с Григорием Силычем Карелиным, молодым, впоследствии весьма известным натуралистом, проживавшим тогда в ссылке в Оренбурге и ставшим вскоре мужем А. Н. Семёновой. Говоря с нею о её душевных переживаниях, Салтыкова писала: «Молю Бога, чтобы он дал тебе силы и желание оставаться в том же хорошем душевном настроении; несомненно, что тогда ты не будешь нуждаться ни в каком земном утешении, и всё, что я могу сказать тебе, — это что живейшим образом сочувствую тебе в угнетающих тебя огорчениях и заклинаю тебя сделать всё, что в твоих силах, чтобы сохранить благочестивые мысли, посланные тебе Богом, несомненно с тем, чтобы облегчить тебе тяжесть твоих страданий. Он был милосерд также и ко мне, видя те ужасные заблуждения, в которые я впала, и ту пропасть, которую сама для себя выкопала. Тебе известно, что в течение пяти месяцев у меня не было ни единой добродетельной или благочестивой мысли, — я думала лишь о тех романических удовольствиях, которые испытывала в Крашневе с Пьером Каховским, а затем — о печали при виде того, как они прошли, подобно сну. Но теперь я о них не сожалею, раскаиваюсь в том, что забывала о Боге в течение столь долгого времени, стараюсь загладить свою вину и не теряю надежды исправиться…»
Таким образом, время брало своё; молодая, романтическая, мистически настроенная девушка, стараясь загасить в себе любовь, постепенно достигала цели и — радовалась тому, что начинала забывать своего героя. «Ты говоришь, — читаем в её письме к подруге от 21 декабря, — что ты смеёшься над влюблёнными и боишься, как бы это не напугало меня настолько, чтобы я не потеряла доверия к тебе. Нет, мой друг, ничто на свете не может помешать мне открывать тебе мою душу, и если бы у меня были для рассказа тебе какие-нибудь любовные истории, я не преминула бы это сделать; но, к счастию, я начинаю терять к ним вкус и молю Бога, чтобы это было уже на всю жизнь. Если я когда-нибудь выйду замуж за кого-нибудь, то не хочу больше, чтобы это случилось „по старости“: я вижу, что все порывы страсти — лишь безрассудство, которое ведёт только к раскаянию и даёт лишь преходящие, а потому и призрачные радости. Думаю, что двух опытов достаточно, чтобы вернуть девушку самой себе. Любовь представляется болезнью неизлечимой только в романах, на самом же деле вовсе не то: только дружба, любовь к Богу, любовь сыновняя и материнская — вот истинные чувства, прочные и к тому же никогда не оставляющие пустоты в нашей душе».
VII
Казалось, что роман Салтыковой и Каховского пришёл к своему естественному, хотя и не столь романтическому, как можно было думать поначалу, окончанию. На деле же оказалось не так… Следующее письмо к Семёновой заключало в себе намёки на некоторую новую симпатию к товарищу брата, молодому офицеру и хорошему музыканту, барону Ф. А. Раллю, появившемуся в гостиной Салтыковых; ему, наряду с другими сообщениями, было уделено много внимания в этом письме от 4 января 1825 г., о Каховском же вовсе не упоминалось ни прямо, ни косвенно. Однако судьбе было угодно, чтобы этот «дерзновенный», уже полузабытый герой ещё раз выступил на сцену, и притом в такой необычайной обстановке и с такими романическими приёмами действий, что молодая, влюблённая в него девушка едва не потеряла голову. Предоставим, как и выше, рассказ ей самой, приведя письмо её к А. Н. Семёновой от 15 января 1825 г.
«Хотя ты и не любишь романов, дорогой друг, — начинает она это письмо, — однако я надеюсь, что ты пожелаешь выслушать продолжение моего собственного романа. Ставлю тебя в известность о том, что со мною случилось. Нужно тебе прежде всего знать, что в полку моего брата есть некий капитан Воецкой (я вижу отсюда твоё смущённое лицо при виде этого неизвестного имени, не имеющего никакого отношения к моим приключениям, — но слушай дальше). Вот, в прошлую среду, т. е. 7-го числа сего месяца, в 9 часов вечера (брата моего не было дома), к Ефтею, бывшему у ворот, неожиданно подошёл человек большого роста, брюнет, закутанный в плащ, и спрашивает у него с таинственным видом:
•— Здесь ли живут Салтыковы?
Ефтей. Здесь, а кто вы?
Он. Это я скажу вашему молодому барину, которого я желал бы видеть. Нельзя ли его сюда вызвать?
Ефтей. Его дома нет, но если вам угодно взойти и оставить ему записку, то я её отдам ему.
Он. Нет, мне никак невозможно взойти, а скажи Михайле Михайловичу, что к нему приходил товарищ его, Воецкой, что он недавно приехал и желает его видеть. Не забудь сказать ему, что я остановился в трактире Лондон, № такой-то[338], и что я его очень прошу приехать ко мне завтра поутру, в такой-то час.•
Мой Ефтей — в полном удивлении, видя человека, вовсе не похожего на Воецкого и к тому же во фраке, который называет себя его именем; однако он говорит об этом Мишелю, который на другое утро и спешит повидать своего товарища. Он входит, видит молодого человека, ему совершенно незнакомого, который с поспешностью идёт ему навстречу; полагая, что он ошибся, брат просит указать ему комнату Воецкого, — но каково же было его удивление, когда он услышал то, что незнакомец ему сказал:
•— Я мнимый Воецкой, — прошу вас взойти в комнату и садиться. Извините, Михайло Михайлович, что я употребил эту хитрость, чтоб видеть вас: мне очень нужно говорить с вами. Я — Каховский, вы, верно, слышали обо мне.•
Мишель, знавший мою историю, был тем не менее очень удивлён, — как ты легко можешь себе представить. После многих приветствий и многих фраз, Пьер просит взять на себя его защиту и быть представителем его перед моим отцом, — полагая, что Мишель его любимец: по его словам, в этом последнем уверила его Лиза Храповицкая. Брат говорит ему, что принимал самое большое участие в его несчастии (так Пьер называет свою неудачу), но что не может ему помочь, не имея ни малейшего влияния на отца, который к тому же непреклонен, но (как он сказал мне потом) у Пьера был такой, действительно, несчастный и отчаянный вид, что он не мог не тронуться им и не сказать ему (однако не обещая ему этого), что попытается что-нибудь для него сделать; это немного его успокоило, и он настойчиво просил брата прийти к нему опять на следующий день.
Подумав хорошенько, мы с Мишелем решили ничего не говорить папá, так как это было бы совершенно бесполезно и только расстроило бы его, а на нас навлекло бы неприятные сцены. Мишель не пошёл в этот день к Пьеру, так как не знал, что ему говорить, а вечером получил от него письмо, в котором тот жаловался, что тщетно прождал его целый день, и именем неба просил вывести его из томительного состояния, придя повидаться с ним тотчас же или утром на другой день. Мишель решил обмануть его, чтобы заставить его поскорее отсюда уехать, потому что мы были в страшном беспокойстве за последствия этой сумасбродной выходки. Поэтому он написал ему, что он говорил с папá, что, не быв в состоянии никакими способами склонить его, он видит себя вынужденным признаться ему, что он не предвидит для него никакой надежды и что советует ему отказаться от меня. Должна сознаться тебе, что мне было очень горько читать это письмо, которое я отчасти сама диктовала; но необходимо было безропотно покориться и хоть раз в жизни сделать что-нибудь благоразумное. Приезд Пьера взволновал меня немного и, естественно, вновь зажёг тот пламень, искр которого ещё много оставалось во мне. На следующий день брат отправился на свидание с Пьером и старался его успокоить, — но тот не хотел слушать голоса рассудка, — он решил не уезжать отсюда без меня! Мишель всячески представлял ему, что это невозможно, — но он не слушал его и говорил, что хочет постараться получить место, а именно то самое, которое занимал А. Пушкин в Одессе при Воронцове, и что, получив его, он надеялся получить также и меня, так как будет немного более богат, ибо место может дать ему достаточно средств, в особенности же для жизни в Одессе. Мишель расстался с ним в большом смущении от всего этого, обещав ему, однако, прийти повидаться с ним ещё раз, что и сделал на другой день. Он нашёл Пьера поверженным в совершенное уныние, похудевшим, — одним словом, как мертвеца; тот сказал ему, что не сомкнул глаз во всю ночь, думая о том, что он должен предпринять, и что решил, после того, как получит место, больше не говорить с моим отцом, так как это было бы бесполезно, а прибегнуть к другому способу для достижения желаемого.
— •Я знаю,• — сказал он, — •что вашего отца невозможно склонить; я всё знаю, — мне Пётр Петрович сам описал его характер; но я не могу забыть Софью Михайловну. Умоляю вас, поговорите с ней: не согласится ли она уехать тихонько, — мы отсюда — прямо в какую-нибудь загородную церковь, а обвенчавшись, в ту же минуту поедем в Одессу. Если она меня любит, то она согласится на это, — ради Бога, спросите у неё об этом, сжальтесь надо мной, — я не знаю, что делать, нельзя быть несчастнее меня…•
Мой брат представил ему на это тысячу возражений, но он прервал его:
•— Вы брат Софьи Михайловны и — не желаете её щастия?
Брат. Какое это щастие? Вы не думаете о последствиях?
Он (с величайшим жаром бегая по комнате). Какие последствия? Что может сделать нам Михаил Александрович? Судиться со мной? Я вам отвечаю, что он всегда проиграет. Так же отвечаю вам, что сестра ваша не будет раскаиваться о своём поступке. Она будет счастлива, не будет иметь ни малейшей неприятности!
Брат. Можно ли ручаться за это?
Он. Неужели вы почитаете меня бесчестным? Ежели я её увезу, то я должен употреблять всё возможное, чтобы сделать её счастливою, — даже если б я не любил её, — а я дышу ею! Но ежели она не решится, — это другое дело: её счастье для меня дороже всего!•
После этого он принялся заклинать моего брата помочь ему, если я соглашусь дать себя увезти, но, не получив такого обещания, просил его не противиться, по крайней мере, этому и взять •отсрочку[339],• — самое большее на 15 дней, — чтобы не оставить папá одного после этого события.
— Что касается приготовлений, — сказал он, — я всё беру на себя. Отвечаю вам, что мы не будем пойманы на месте; теперь нужно только согласие вашей сестры.
Узнав об этом, не могу сказать тебе, что я почувствовала, — но ты можешь себе это представить. Я должна была выдержать страшную борьбу. Сознаюсь тебе, что один момент я была совсем готова уступить желанию принадлежать Пьеру, но мысль о горе, которое это причинило бы папá, к счастию, меня удержала. Мишель также побуждал меня отказать, — и после многих терзаний и волнений я приняла это последнее решение…
Отъезд Мишеля назначен на завтрашний день; вчера он получил от Пьера письмо, в котором тот спрашивает моего решительного ответа и предлагает ему, в случае, если всё устроено, в тот же день отправиться в Главный Штаб, где он всех знает, и получить продление отпуска. Он написал мне и просил Мишеля передать мне его письмо. Брат отослал его ему, сказав, что я не пожелала взять его, и написал, что благодарит за предложение похлопотать об отсрочке, что обстоятельства вынуждают его ехать и что к тому же я не согласилась на увоз, хотя и очень склонялась к этому решению; но что я принимаю слишком близко к сердцу состояние моего отца после этого происшествия для того, чтобы я могла решиться бежать. Пьер ответил ему в немногих словах, что просит его зайти к нему до своего отъезда. В настоящую минуту Мишель находится у него; не знаю, что из этого выйдет. Если подробности эти тебе не слишком скучны, я сообщу тебе их разговор, когда он вернётся.
Не говорю тебе о том, что я чувствую, — ты хорошо можешь себе это представить; я в безвыходном положении, всё это меня расстраивает ужасно и, в довершение всего, я должна завтра расстаться с братом на целых два года! •Ах, Саша! Пожалей обо мне!• Никогда я не чувствовала такой привязанности к Мишелю, как теперь, — это потому, что он сильно изменился к лучшему, мы очень близко сошлись, — и вот он должен уезжать! •Я совсем осиротею без него!• Если бы, по крайней мере, ты была со мной! Саша Копьева прекрасная девушка, хотя и ветреная, — я очень люблю её, но, сознаюсь тебе откровенно, я иногда становлюсь с нею в тупик. Меня мучит ещё и то, что после отъезда брата Пьер может сыграть со мною какую-нибудь штуку, сделать какую-нибудь попытку обратиться к папá, — и тогда я потеряю голову, у меня не будет никого, с кем я могла бы поделиться своими заботами, кто бы утешил меня. Извини, мой друг, — всё письмо моё наполнено одним предметом, — это потому, что я так взволнована, что не могу ничего сказать тебе более разумного и менее скучного. Кстати, вот ещё романическое недоразумение, которое произошло по этому поводу. Ты знаешь, что Ралль, о котором я говорила тебе в последнем своём письме, служит в том же полку, что и мой брат и Воецкой[340]. Так вот, Мишель, узнав, что последний приехал, сказал сейчас же об этом Раллю, который и поспешил повидаться с ним; он пришёл туда раньше брата, — тот (т. е. Каховский) принял его за него и начал говорить с ним о том, что тебе уже известно. К счастью, он не успел ничего сказать, что могло бы открыть его тайну. Ралль заметил его ошибку и вывел его из заблуждения.
P. S. Только что вернулся брат. Боже! Какое известие принёс он мне! Пьер рвёт и мечет, он в отчаянии, он умоляет Мишеля передать мне письмо, и у того не хватило на этот раз духу отказать ему. Письмо это писано наспех, я не в состоянии была всего в нём разобрать, да и к тому же я сожгла его, но скажу тебе его содержание. Он заклинает меня решиться, чтобы вернуть жизнь моему другу, и на случай, если я уступлю его просьбе, уведомляет, что будет ждать меня завтра около нашего дома в 10 часов вечера, что всё подготовлено и что мне остаётся сказать одно слово. Я только что ответила ему, под диктовку брата, самым кратким и самым холодным образом, что я не могу решиться покинуть моего бедного отца, которому горе может нанести смертельный удар; я кончила мольбами забыть меня и пожелала ему всякого возможного счастья. Брат прибавил несколько слов к моему письму и отослал пакет. Не знаю, что из этого выйдет, но хочу, чтобы всё это поскорее кончилось.
7 часов вечера. Какое ужасное письмо написал он брату! Он заклинает его склонить меня и передать мне записку, которую я перепишу для тебя здесь так, как она есть.
•„Жестоко! Вы желаете мне счастия — где оно без вас? Вам легче убить меня — я не живу ни минуты, если вы мне откажете! Я не умею найти слов уговорить вас; прошу, умоляю, решитесь! Чем хотите вы заплатить мне за любовь мою? Простите, я вас упрекаю, заклинаю вас, решитесь, или отвечайте — и нет меня! Одно из двух: или смерть, или я счастлив вами; но пережить я не умею. Ради Бога, отвечайте, не мучьте меня, мне легче умереть, чем жить для страдания. Ах! Того ли я ожидал? Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра — но ваш я буду и за гробом“.•
А! Что ты скажешь? что ты скажешь? Я не знаю, что делать. Сегодня мне невозможно ему отвечать, но завтра, рано поутру, я повторю ему мою просьбу забыть меня и жить, если он так меня любит, как говорит. Не правда ли, что это самое лучшее, что я могу ему сказать? Правильно говорят, что жизнь женщины — почти всегда роман. Но прощай, мой друг, всё же нужно, чтобы я когда-нибудь кончила. Со следующей почтой я сообщу тебе то, что будет интересного дальше в моих приключениях. Нежно целую все десять пальцев твоей маменьки и миллион раз обнимаю тебя от всей души. Твоя Соня».
События достигли своей кульминационной вершины; ясно, что идти дальше с тем же напряжением они не могли и что Салтыкова не пойдёт на отчаянные призывы Каховского: читатель уже и сам заметил у неё, особенно в начале только что приведённого письма, нотки некоторой иронии по адресу героя романа. Её, несомненно, трогает любовь Каховского, она льстит её женскому самолюбию, ей хочется, но в то же время и страшно стать героиней романа с похищением, с тайным венчанием, со всеми последующими возможными осложнениями; в ней борются чувства влюблённой с чувствами дочери; советы брата, собственный рассудок подсказывают ей окончательное решение. И несомненно, что к моменту последнего появления героя в последнем акте разыгрываемой пьесы решение её принято: она будет совершенно и сознательно глуха к мольбам влюблённого…
Нам остаётся дочитать последние страницы, даже строки романа Каховского и Салтыковой. Пообещав своей подруге сообщить со следующей почтой то, что будет интересного в её приключениях, она действительно в письме от 28 января — и то уже во второй его части, — холодно поведала ей следующее:
«Что касается меня, то скажу тебе, к большой моей радости, что, хорошенько испытав моё сердце, я нашла, что в нём не осталось уже ни одной искры любви к Пьеру Каховскому. Его приезд сюда причинил мне страшное волнение, но никакого другого чувства не вызвал: могу сказать это смело, и я этим очень довольна.
Нужно дать тебе отчёт о том, что произошло после отправления моего последнего письма. Ты знаешь, что я должна была ответить на письмо, в котором г-н Каховский уверял меня, что он убьёт себя, если я не решусь бежать. И вот на следующий день, на который был назначен отъезд брата, слуга молодого человека прибегает за этим моим ответом; но Мишель, рассудительность которого всё более и более меня поражает, посоветовал мне не писать и не опасаться за жизнь Пьера. „Поверь мне, — сказал он, — так легко себя не убивают; не давай подкупать себя этими красивыми словами; ручаюсь тебе, что ты не раскаешься в том, что последовала моему совету, и увидишь, что я был прав“.
Я послушалась его, посланный вернулся с чем пришёл, а брат велел сказать Пьеру, который просил его прийти к нему ещё раз повидаться перед отъездом, что это невозможно, так как он уезжает сию минуту. Я была так огорчена разлукою с братом, что меня раздражали постоянные посылки этого Каховского, который написал ему ещё два раза, не получив, однако, удовлетворительного ответа. Наконец, настала минута отъезда; ах, мой друг, никогда ещё не чувствовала я такого горя, расставаясь с братом, как в этот раз. Завтра — две недели, что он уехал, а я ещё не могу привыкнуть к тому, что я далеко от него. Не знаю, что со мной делается, — уж не предчувствие ли это какое-нибудь? Увижу ли я его когда-либо? Я не могла плакать, прощаясь с ним, но чувствовала, что задыхаюсь от ужасной тоски; слёзы очень облегчили бы меня в то время, но они не шли почти совсем. Барон Ралль (о котором я тебе говорила), весьма привязанный к брату, поехал провожать его до Стрельны и предложил папá поехать в санях хотя бы до заставы, чтобы подышать свежим воздухом и немного рассеять мрачные мысли, угнетавшие его, как и меня. Мы так и сделали, и тогда я смогла немного поплакать: этим я обязана барону Раллю, он старался меня утешать, показывал трогательное ко мне участие и говорил мне вещи, которых я не могла слушать от умиления. Он делал это нарочно, чтобы заставить меня плакать, — я уверена, — так как у него доброе сердце, а он видел, что я страдаю, и хотел доставить мне облегчение, зная, что, поплакав, лучше себя чувствуешь… Два часа спустя после отъезда брата Каховский прислал ещё раз спросить, уехал ли он; ему сказали, что уехал. Я думала, что наконец избавилась от него, — ничуть не бывало: на следующее утро он присылает толстый пакет на имя отца; я отсылаю его, — он велит сказать, что придёт сам. Тогда я потихоньку приказываю Нениле (через которую доходили до меня все посылки) сделать так, чтобы он ни в коем случае не был принят и чтобы отец ничего об этом не узнал. К счастию, он не пришёл вовсе, но написал мне: тогда-то я и узнала, что не люблю его больше, так как отослала его письмо обратно нераспечатанным, не имея ни малейшего желания прочесть его, и велела сказать, что не должна и не хочу иметь переписку с человеком, который всегда будет мне чужим, так как он отнюдь не должен рассчитывать на то, чего никогда не случится, и что я прошу его не преследовать меня больше своими письмами, которые будут возвращаться к нему не распечатанными. Однако мне жаль его, этого бедного молодого человека, так как у меня сердце не каменное; но страсти у меня к нему как не бывало. Ничто не могло бы служить мне лучшим ответом на его преследования, которые меня уже утомили, как элегия Боратынского; перепишу её тебе здесь, так как она очень красива:
•Не искушай меня без нужды Возвратом нежности твоей! Разочарованному чужды Все обольщенья прежних дней. Уж я не верю увереньям; Уж я не верую в любовь И не могу предаться вновь Раз изменившим сновиденьям. Слепой тоски моей не множь; Не заводи о прежнем слова; Друг попечительный, больного В его дремоте не тревожь! Я сплю; мне сладко усыпленье; Забудь бывалые мечты: В душе моей одно волненье, А не любовь пробудишь ты.•Однако надобно перестать говорить тебе об этом молодом человеке, так как кончится тем, что он тебе наскучит…»
VIII
Итак, увлечение было изжито окончательно, и стихи Боратынского припомнились кстати. Но личность Каховского изредка ещё вспоминалась по какому-либо случайному поводу. Так, 12 февраля Салтыкова писала своей подруге, что накануне она получила известия о Каховском от своей тётушки Ришар, которая видела его в одном доме и много с ним беседовала. «Он говорил ей, что способен ждать хоть десять лет, — сообщает Софья Михайловна, но тут же прибавляет: — я надеюсь, однако, что огонь этот погаснет гораздо раньше. То, что он потом сказал ей, заставило бы меня отречься от этого молодого сумасшедшего человека, если бы у меня ещё была страсть к нему. Тётушка сказала ему, что она удивляется, как он мог полюбить меня так глубоко, не зная меня хорошо; он ответил ей, что он видал меня целые дни, с утра до вечера, в продолжение более трёх недель. Но тётушка возразила ему, что этого недостаточно, что она думает, что было бы рискованно выйти замуж, когда не знаешь друг друга больше.
— Ах, — сказал он на это, — я чувствую, что я был бы счастлив вашею племянницею; да наконец, если бы оказалось, что мы не подходим друг к другу, — это зло очень быстро можно исправить: мы разойдёмся.
Как покажутся тебе эти последние слова? Я бы предпочла, чтобы он не говорил их, так как они вредят ему в глазах тётушки и всякого другого благоразумного человека, а это огорчает меня, так как я всё-таки люблю этого бедного Каховского, — не любовью, конечно».
Однако временами оригинальный образ Каховского представал перед Софьей Михайловной, как ни старалась она забыть о своём пламенном и настойчивом поклоннике и как ни развенчивала его в своих собственных глазах.
«•У нас время очень хорошее, весна приближается, часто появляется солнце, — пишет она подруге 28 февраля, — но меня теперь и солнце не радует!• Вдобавок к тягости того бремени, которое давит моё сердце, — всё прошлое снова представилось в моей памяти; ты будешь удивлена моими противоречиями, моими странностями, — я сама им дивлюсь, но тем не менее верно, что — поверишь ли? что я сама не знала себя, что я небезразлично отношусь к Пьеру. Да, я люблю его, я не хотела себе в этом сознаться, но я не могу больше скрывать это от себя; я перечитываю его письма, припоминаю всё, что он мне говорил, все обстоятельства, все подробности моих приключений; я вспоминаю затем, что он тут, что я его, быть может, увижу, — и вижу, что я сама ошиблась, что я старалась уверить себя в том, что я вылечилась, не вылечившись в действительности. Не брани меня, добрый друг, пожалей меня, — всё это, может быть, пройдёт вместе с моею болезнью, которая, весьма возможно, и есть причина всего того, что я чувствую… Дорогой друг! Если бы я могла выйти за Пьера! Ах, мне этого хочется ещё больше с тех пор, что я получила твоё письмо» (о сватовстве Г. С. Карелина, благосклонно принятом А. Н. Семёновою). «Надо кончать, — говорит она в том же письме, в приписке от 2 марта, — и постараться не говорить больше о Пьере, потому что, когда я касаюсь этой струны, я опять впадаю в грусть и отравляю радость, которую меня заставляет испытывать перемена твоей судьбы. Боже мой, что случится ещё со мною? Откуда это, что я всё ещё принадлежу вся ему? Не смогла ли бы ты объяснить мне эту перемену?
•Минувших дней очарованье, Зачем опять воскресло ты? Кто разбудил воспоминанье И замолчавшие мечты?..•»[341]В следующем письме (от 11 марта) она пишет, что серьёзно сердится на подругу, которая причинила ей огорчение своим последним письмом: «Ты несправедлива к Пьеру, — да, очень несправедлива: ты называешь его бездельником, потому что брат не захотел помочь ему меня похитить. Это не основание, мой друг; брат не захотел этого сделать единственно для того, чтобы избегнуть огорчений, которые почти всегда бывают, как последствие похищений, — даже тогда, когда бегство совершается с человеком величайших достоинств. Нет, Пьер не заслуживает того мнения, которое ты составила о нём, — уверяю тебя, что ты полюбила бы его, если бы его знала.
Но оставим это! Пока я буду чувствовать ещё любовь к нему, я не буду говорить тебе о нём, так как ты стала бы бранить его, а это причинило бы мне невыразимое огорчение».
И действительно, с этого момента Салтыкова в течение целых полутора месяцев ни разу не упоминает в своих письмах о Каховском.
Только в письме от 27 апреля, в ответ на какие-то неблагоприятные отзывы о Каховском упоминавшегося выше Александра Аполлоновича Жемчужникова (адъютанта командира Оренбургского отдельного корпуса генерала Эссена)[342], Салтыкова писала А. Н. Семёновой: «Твоё письмо от 31 марта своим приходом третьего дня доставило мне несколько минут чрезвычайно приятных, — как и всегда, когда я читаю тебя, — но никогда удовольствие не бывает без печали: я испытала её, читая три последние страницы твоего письма, которые заставили сжаться моё сердце; каждое слово, которое я читала, вызывало во мне желание плакать или, скорее, быть в состоянии заплакать, ибо я чувствовала себя столь придавленной, что не могла уронить ни одной слезы. Ах, если то, что говорит Жемчужников, правда, — как я несчастна! Как тяжко мне было переносить всё то, что ты рассказываешь мне о Каховском! Не удивляйся, что я принимаю это так близко к сердцу, — поставь себя на моё место, и ты увидишь, что даже если бы я совсем больше не думала о Каховском, я должна была бы быть огорчена, узнав, что он — негодяй, так как, к сожалению, это уже не первый раз, что я так ошибаюсь, и те, кому известна моя первая история[343], должны иметь очень скверное мнение обо мне, о моём вкусе и о моих правилах, если они узнают также, что и предмет моей второй любви не многим лучше, чем первый. Ничего нет легче для женщины, как потерять своё доброе имя, а после того что остаётся ей, и не является ли невозможным делом восстановить его? Два таких случая, как мои, достаточны для того, чтобы поставить себя дурно в представлении многих; третий — довершит мою гибель; и хотя я сомневаюсь в этом, что можно полюбить три раза, я приму решение отныне избегать даже приближения мужчины: это более верно, потому что, если когда-нибудь я забуду Пьера и полюблю кого-либо другого (вещь, которая, повторяю, кажется мне невозможной), я уверена, что снова ошибусь; по крайней мере, мне кажется, что такова моя судьба и что я родилась под дурною звездою. Не правда ли, мой друг, что я хорошо сделаю, если буду избегать мужчин? Мне кажется, что это было бы более благоразумно и что нисколько не зазорно умереть девушкой. Благодарю тебя за добрые советы, которые ты мне даёшь, мой друг, но как тяжко не иметь права уважать того, кого любишь. Говорят (и я этому верю), что подобная любовь не прочна; это меня утешает, ибо у меня ещё осталось немножко ума, и я желала бы быть в состоянии не любить больше, несмотря на счастие, которое это чувство даёт нам вкушать. Мне много раз хотелось думать, что Жемчужников солгал, но потом я подумала, что ты, конечно, не сказала бы мне того, что не было бы достоверно; кроме того, слова, которые Каховский сказал моей тётушке, которые я сочла удобным забыть и которые — я очень тебе благодарна — ты мне напомнила, — всё это заставило меня наконец поверить, что такая вещь была возможна, и я должна была признать свою роковую ошибку…»
Следующее письмо Салтыковой, от 14 мая, было наполовину заполнено сообщением о только что полученном известии о внезапной смерти Петра Петровича Пассека, а наполовину — рассказом о знакомстве с бароном Антоном Антоновичем Дельвигом, который с первого же раза произвёл на Софью Михайловну самое чарующее впечатление. Да и она также чуть ли не сразу завоевала сердце благодушного поэта. Новый роман захватил её всю и пошёл таким быстрым темпом, что уже через две недели Дельвиг получил согласие на брак от Софьи Михайловны, к которой писал частые и ласковые письма, сохранившиеся до нас и недавно опубликованные…[344] Уже письмо Салтыковой в Оренбург от 26 мая заключало в себе довольно ясные намёки на сближение с поэтом: «Мы с Дельвигом очень коротко познакомились, он очень часто у нас бывает, вчера был и завтра будет. Папá очарован им» и т. д., в письме же от 4 июня подробно сообщалось о том, как Дельвиг сделал предложение, как оно было принято невестою и её отцом и т. д. Восторженное следующее письмо, от 5 июля, было наполнено рассказом о взаимном счастии, омрачавшемся лишь внезапною переменою к Дельвигу старого ипохондрика М. А. Салтыкова, да… редким воспоминанием о Каховском… «С Дельвигом я забываю все мои горести, мы даже часто смеёмся вместе с ним. Как я люблю его, Саша! Это не та пылкая страсть, какую я чувствовала к Каховскому, что привязывает меня к Дельвигу, — это чистая привязанность, спокойная, восхитительная, — что-то неземное, и любовь моя растёт с каждым днём благодаря добрым качествам и добродетелям, которые я открываю в нём. Если бы ты его знала, мой друг, ты бы очень его полюбила, я уверена; мы много говорим о тебе. Свадьба наша будет, я думаю, в августе, а может быть, и в сентябре, — что более вероятно…»
Роман с Каховским был, таким образом, дочитан, — и книга навсегда поставлена на полку. Герой нового романа — мягкий, застенчивый, весь проникнутый литературными интересами Дельвиг — не пугал Салтыкову «бурнопламенными» признаниями, требованиями увоза из родительского дома, перспективою бегства в далёкие и чужие края и т. д., — и она отдала ему свою руку без страха и с полною уверенностью в том, что она будет счастлива.
А Каховский? Он жил в Петербурге, но, по-видимому, он не делал уже больше попыток к овладению рукою и сердцем С. М. Салтыковой. Он вошёл в тесное общение с членами тайного общества, участвовал в собраниях Рылеева, сам вербовал новых членов и горел жаждою революционной деятельности. Личные дела его, однако, были из рук вон плохи, — о чём можно заключить по единственному сохранившемуся до нас собственноручному письму его (оно теперь в Пушкинском Доме) к Рылееву, — от 6 ноября 1825 г.: «Сделай милость, Кондратий Фёдорович, спаси меня! Я не имею сил более терпеть всех неприятностей, которые ежедневно мне встречаются. Оставя скуку и неудовольствия, я не имею даже чем утолить голод: вот со вторника до сих пор я ничего не ел. Мне мучительно говорить с тобой об этом, и тем более, что с некоторых пор я очень вижу твою сухость; одна только ужасная крайность вынуждает меня. Даю тебе честное слово, что, по приезде моём в Смоленск, употреблю все силы как можно скорее выслать тебе деньги и надеюсь, что, конечно, через три месяца заплачу тебе. Я не имею никаких способов здесь достать, а то ведь не стал бы тебе надоедать собой. Твой Каховский»[345].
Но Каховскому не суждено было уехать в Смоленск: вскоре до Петербурга дошла весть о кончине Александра I, — и события развернулись необыкновенно быстро… Мы не будем здесь распространяться о роли и поведении Каховского на Сенатской площади в роковой для него день 14 декабря и о дальнейшей судьбе его: они хорошо известны. Между тем вот что писала Софья Михайловна, уже баронесса Дельвиг, своей подруге (также к тому времени успевшей выйти замуж за Григория Силыча Карелина) — 22 декабря 1825 г.: «Ты узнаешь от Жемчужникова о всём, что здесь произошло, и каким образом сделалось, что Николай на троне. Скажу тебе лишь то, что этот ужасный день 14 декабря был причиною молчания, которое я хранила на протяжении нескольких почт: все письма теперь распечатываются, а я не могла писать тебе, не высказав тебе своего мнения о том, что произошло; даже и совсем не принимали писем на почте в течение нескольких дней. Среди большого числа молодых людей, замешанных в этом деле, находятся также Рылеев и Бестужев и бедняга Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца; все они, — не исключая и Каховского, который был из числа их сообщников, — находятся в крепости, Кюхельбекер же ещё не разыскан до сих пор; дай Бог, чтобы не открыли, где он, — он должен быть не здесь, так как его старательно ищут в течение всех этих дней».
Вот и всё, что сказала Софья Михайловна по поводу только что пережитых декабрьских волнений; по адресу Вильгельма Кюхельбекера она вымолвила хоть несколько сочувственных слов; Каховский же не вызвал с её стороны ни одного эпитета, никакого проблеска чувства: он был просто назван ею наряду с Рылеевым и Бестужевым, которых она лично, по всей вероятности, даже и не знала… Через пять месяцев она в известном «Донесении Следственной комиссии» прочла те упоминания, которые были посвящены Каховскому, и его деятельности в тайном обществе, а также участию в совещании у Рылеева 12 и 13 декабря и выступлению в самый день восстания. Дерзновенный Каховский представлен был здесь в чрезвычайно кровожадных красках; в одном месте он назван в числе «яростнейших». Верховный уголовный суд так формулировал степень его виновности, отнеся его, вместе с Пестелем, Рылеевым, С. Муравьёвым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, к числу государственных преступников вне разрядов: «Умышлял на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, и, быв предназначен посягнуть на жизнь ныне царствующего государя императора, не отрёкся от сего избрания и даже изъявил на то согласие, хотя уверяет, что впоследствии поколебался[346]; участвовал в распространении бунта привлечением многих членов; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов, и сам нанёс смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру и ранил свитского офицера».
13 июля 1826 г. жизнь Каховского прервалась на виселице…
Смерть этого энтузиаста и четырёх других «злодеев», — как назвал Верховный суд приговорённых к смерти декабристов, — и вообще экзекуция над осуждёнными произвела угнетающее впечатление на С. М. Дельвиг, тем более что она не могла не знать, по городским слухам, что её пламенный поклонник умер поистине мученической смертью: Каховский, как и Бестужев-Рюмин и Муравьёв-Апостол, сорвался с верёвки на виселице и был повешен вторично…[347] Начав своё очередное письмо к подруге 12 июля, она на целых девять дней прервала его, будучи до чрезвычайности взволнована казнью, совершившеюся 13-го числа, и затем писала с нарочитою осторожностью и туманно: «Я начала своё письмо 12-го, а сегодня у нас уже 21-е: это заставит тебя сказать, может быть, что я очень плохо держу данное тебе в прошлом письме обещание писать с каждою почтою… Но если бы ты была на моём месте, — я думаю, ты сделала бы то же самое. Все эти дни, с тех пор, что я написала тебе первые строки моего послания, я и все мы находились в самом жалостном состоянии. Я всё ещё страшно подавлена последствиями событий, о которых вы, конечно, знаете, дорогой друг… Что за грустное время у нас! У меня только дурные для тебя известия, — а потому я решила вовсе не говорить тебе о них. К чему отравлять твоё мирное уединение…»
Имя Каховского Софья Михайловна не назвала; но несомненно, что, главным образом, его насильственная смерть поразила её воображение. Наслаждаясь мирным счастием, она не могла не представлять себе того, что было бы с нею, если бы два года тому назад она вверила свою судьбу тому, кто теперь умер мучительной смертью… И она, конечно, благодарила обстоятельства, помешавшие её союзу с пламенным мечтателем…
IX
В супружестве своём с Дельвигом Софья Михайловна была счастлива; но про бедного Дельвига, к сожалению, нельзя сказать того же. Софья Михайловна была слишком горячею, увлекающеюся натурою, она искала пылких страстей, а умиротворённый, благостный, добродушный, временами даже флегматичный поэт не мог удовлетворить её мятущуюся душу, вечно жаждавшую всё новых впечатлений; к ним применимо выражение Пушкина о коне и трепетной лани, впряжённых в одну телегу… Телега их жизни сперва, казалось, катилась гладко, но уже года через три после свадьбы между супругами не всё было ладно, так как у Софьи Михайловны появились поклонники, смущавшие душу поэта… Но мы знаем мало достоверного о жизни Дельвигов и должны о многом лишь догадываться.
Наиболее ранний отзыв о Софье Михайловне, нам известный, принадлежит племяннику поэта — барону А. И. Дельвигу, который узнал её, будучи двенадцатилетним мальчиком, в 1826 г., через год после её выхода замуж за Дельвига — 30 октября 1825 г. «Софье Михайловне Дельвиг ко времени моего приезда в Петербург[348] только что минуло 20 лет, — пишет он. — Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся. Дельвиги в то время не имели детей и вскоре полюбили меня, как сына. Жена Дельвига, как умная и деятельная женщина, занялась моим воспитанием, насколько это было возможно в короткие часы, которые я проводил у них»[349]. Софья Михайловна была магнитом, привлекавшим в скромную квартирку Дельвига весь цвет тогдашней (1826—1830) литературы: Пушкин (по возвращении из ссылки), его брат Лев, Плетнёв, Гнедич, Одоевский, Боратынский, Веневитинов, Мицкевич, Подолинский, Сомов, Розен, Титов, Илличевский, Деларю, Щастный, В. Лангер, М. Яковлев, М. И. Глинка (в 1829 г. отзывающийся о С. М. Дельвиг как о «милой и весьма любезной женщине») — были постоянными посетителями вечеров у Дельвигов; затем к ним присоединилась воспетая Пушкиным красавица А. П. Керн[350], а за нею (в самом конце 1827 г.) — и её кузен А. Н. Вульф. Этот циник и скептик вскоре увлёкся Софьей Михайловной и увлёк её самоё; правда, угрызения совести мучили и его и её, — потому что оба не могли не отдавать должного удивительным нравственным достоинствам Дельвига. «Я не встречал человека, который так всеми бы был любим и столько бы оную любовь заслуживал, как он. Его приветливое добродушие имеет неизъяснимую прелесть; он так прост и сердечен в своём обращении со всеми, что невозможно его не любить», — записывал Вульф в своём дневнике в октябре 1828 г.[351] Вульфу не хочется, как он цинично выражается, «гулять на счёт барона», — однако он всё же начинает любовную игру с Софьей Михайловной и о начале интимных с нею отношений и о дальнейшем их течении подробно рассказывает в своём позднейшем дневнике (под 2 января 1830 г.), скрывая её, правда, под буквами С. М. Д.; читать его рассказ неприятно, — так он холоден и рассудочно-спокоен, но мы приведём его здесь, как очень характеристичный: «Я познакомился в эти же дни и у них же (то есть у своих кузин А. П. Керн и её сестры Е. П. Полторацкой. — Б. М.) с общею их приятельницею С. М. Д., — молодою, очень миленькою женщиною лет 20. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность, которая меня чрезвычайно польстила, потому что она была первая женщина, исключая двоюродных сестёр, которая кокетничала со мною, и ещё от того, что я так скоро обратил на себя внимание женщины, жившей в свете и всегда окружённой толпою молодёжи столичной. Рассудив, что, по дружбе с А. П. [Керн] и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решился я её предпочесть, тем более что, не начав с нею пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. Я не ошибся в моём расчёте: недоставало только случая (Всемогущего, которому редко добродетель или, лучше сказать, рассудок женщины противустоит), — чтобы увенчать мои желания. Но неожиданно всё расстроилось. Муж её, движимый, кажется, ревностью не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц нашего знакомства увёз мою красавицу…»[352]
Друзья Дельвига, нежно его любившие за его милый характер, ум и поэтический дар, дарили своим постоянным вниманием и его жену, — из них писатели и поэты посвящали ей стихи и прозу. Так, Плетнёв, ещё по случаю замужества своей ученицы, написал ей следующую пьесу[353].
С. М. С—ОЙ (Сонет) Была пора: ты в безмятежной сени Как лилия душистая цвела, И твоего весёлого чела Не омрачал задумчивости гений. Пора надежд и новых наслаждений Невидимо под сень твою пришла И в новый край невольно увлекла Тебя от игр и снов невинной лени. Но ясный взор и голос твой и вид, — Всё первых лет хранит очарованье, Как светлое о прошлом вспоминанье, Когда с душой оно заговорит И в нас опять внезапно пробудит Минувших благ уснувшее желанье.Лицейский товарищ Дельвига и Пушкина — Илличевский посвятил ей послание, напечатанное в альманахе Дельвига «Подснежник» на 1829 г.[354]: «Баронессе С. М. Д. — При поднесении ей духов Ambroise». Оно состояло из игры словами «духи», «духи», «дух» и т. д.:
С амброзией представши к вам, Я б уподобил вас богине; Но похвалы не в моде ныне И стали приторны для дам. Позвольте же, кропя духами, Вам просто пожелать стихами, Чтоб духи добрые, толпой Кружась невидимо над вами, Хранили свято ваш покой; и т. д.Сотрудник Дельвига, Сомов, в альманахе «Царское Село на 1830 г.» напечатал посвящённую ей сказку «О медведе-костоломе и об Иване купецком сыне»[355]. Поэт М. Д. Деларю, в свою очередь, посвятил ей два стихотворения: «Слеза любви» — в «Северных цветах на 1830 г.»[356] и, после смерти Дельвига, послание к ней в «Литературной газете» 1831 г.[357], и стихи к маленькой дочери поэта — «Лизаньке Дельвиг». В первом он говорил об умершем поэте, а во втором предрекал дочери Софьи Михайловны светлую будущность[358].
Горесть С. М. Дельвиг, после неожиданной смерти мужа (14 января 1831 г.), была и сильна, и остра, но непродолжительна[359]: уже менее чем через два месяца лицейский товарищ Дельвига и Пушкина М. Л. Яковлев решился обратиться к ней с письмом, в котором сделал ей предложение выйти за него замуж; Софья Михайловна, правда, была «и огорчена, и оскорблена этим письмом», по словам А. И. Дельвига; но в то же время она кокетничала с неким инженером Резимоном; тогда же на сцену её жизни явился новый претендент на её руку — страстно влюблённый в неё Сергей Абрамович Боратынский, брат известного поэта и друга Дельвига — Е. А. Боратынского; человек богато одарённый и чрезвычайно оригинальный по складу своего ума и характера, с влечением к медицине и вообще к научным занятиям, он познакомился с Дельвигами в Москве в 1829 г., а затем, проживая в Петербурге, постоянно бывал у них в доме[360]. Когда А. А. Дельвиг умер, Боратынский проявил трогательное участие к положению молодой и неопытной в житейских делах вдовы, всячески помогал ей, заботился о ней самой и о её маленькой дочке и т. д. Сперва Софья Михайловна отвергла его предложение, высказанное ей ещё в конце мая, но затем, рассудив спокойно и видя горячую к себе любовь Боратынского, дала ему согласие на брак и в июне месяце уже обвенчалась с ним — без огласки и настолько тайно, что даже такие близкие к ней люди, как отец, брат и племянник (бар. А. И. Дельвиг) или сестра Пушкина — О. С. Павлищева, ничего не знали об этом, хотя последняя нечто и подозревала…[361] Очевидный свидетель всей этой поры жизни Софьи Михайловны — Андрей Иванович Дельвиг — в воспоминаниях своих рассказывает обо всех подробностях сватовства М. Л. Яковлева, а также и о романе с Боратынским, о пребывании их обоих, по выезде из Петербурга, в Москве у М. А. Салтыкова, о поездке Софьи Михайловны к матери покойного Дельвига в Чернский уезд Тульской губернии… От свекрови она должна была внезапно уехать, так как у неё появились первые признаки беременности, а брак свой она скрывала… Однако, уехав, она вскоре написала старой баронессе о своём выходе за Боратынского. «Как объяснить всё это поведение моей умной и доброй воспитательницы? — спрашивает А. И. Дельвиг. — Мне было больно, что все называли её притворщицею; какая же цель была ей притворяться перед нами? Но ещё больнее было мне то, что, зная её вспыльчивость и также пылкий характер её второго мужа, я предвидел для неё грустную жизнь, так как она была избалована необыкновенным добродушием и хладнокровием её первого мужа. Женщина, у неё служившая и оставшаяся в Петербурге, подтвердила моё мнение. Она мне рассказала, что Боратынский был в Петербурге у С. М. Дельвиг в первый раз на другой день моего отъезда из Петербурга, что вскоре, как выражалась эта женщина, у них дошло до ножей, и что С. М. Дельвиг очень сожалела о моём отъезде. Конечно, она сожалела, думая, что мои советы могли быть ей полезны для того, чтобы отделаться от Боратынского, которого стоило видеть один раз, чтобы понять всю пылкость страсти, к какой он может быть способен. Я объяснил себе её поведение… следующим образом. Она думала пожить в имении своей свекрови всё время малолетства своей дочери и тем разрушить связь с Боратынским… Как было принято её замужество в моём семействе, я хорошенько не знаю, потому что был в это время уже вдали от него, в Петербурге, но когда приехал снова в Москву, в мае 1832 г., то заметил в моём семействе нерасположение к С. М. Боратынской и обвинение её в притворстве. Находили её замужество чуть не преступлением… Отец Софьи Михайловны, М. А. Салтыков, был, в особенности в первое время, взбешён её замужеством и даже при посторонних позволял себе говорить, что дочь проституировалась перед простым лекарем. Так было поражено его чувство и отца и аристократа. Впоследствии он поневоле простил её. С. М. Боратынская… была в постоянной переписке со своей свекровью и с сёстрами своего первого мужа. Дочь её от первого брака была горячо любима ею и сделалась любимицею всего семейства Боратынских, и в том числе своего брата и трёх сестёр, детей от второго брака её матери…»[362]
Поселившись в имении Боратынского — Абрамовке, Кирсановского уезда Тамбовской губернии, Софья Михайловна прожила здесь и в селе Маре (Вяжла тож), почти безвыездно, многие и многие годы. Говорили, что жизнь её с мужем не была счастлива, — по крайней мере, О. С. Павлищева передавала об этом своему мужу ещё в 1835 г.[363]; но мы имеем и другое показание — личного свидетеля несколько более поздней поры жизни Боратынских, а именно — их соседа по имению, известного когда-то музыканта и композитора Ю. К. Арнольда: в своих «Воспоминаниях»[364] он оставил довольно живую картину деревенского обихода Софьи Михайловны, тогда уже матери многочисленного семейства, и её мужа — врача, горячо преданного своему медицинскому призванию, и в то же время большого любителя литературы и музыки[365], метко охарактеризованного в одном послании к нему Н. Ф. Павлова[366]. В 1839 г. (к которому относится рассказ Арнольда) все они производили впечатление дружной, сплочённой семьи, «стоявшей на высоте интеллектуальной культуры».
В 1866 г. Софья Михайловна вторично овдовела после тридцатипятилетнего брака, а в 1880 г. потеряла единственного сына (так же, как и отец его, бывшего врачом); наконец, скончалась и она сама: Софья Михайловна умерла в Маре, восьмидесяти двух лет от роду, 4 марта 1888 г., до глубокой старости сохранив, по словам лично знавшего её Я. К. Грота[367], живой ум и горячее сердце.
1918
Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг[368]
Взаимные отношения Пушкина и Дельвига представляют собою редкий и умилительный пример: дружба их была на редкость тесная, основанная на взаимном понимании и уважении; их союз, начавшись с момента вступления в Лицей, был больше чем дружбой — был братством. Внешне — их связь не раз и надолго порывалась, но внутреннее общение их было постоянным и неизменным. С детских лет их роднила и сближала любовь к поэзии и свойственное обоим литературное дарование, которое они рано распознали и оценили друг в друге: Дельвиг, как известно, один из первых полюбил гений Пушкина и ещё в 1815 г. писал ему:
Пушкин! Он и в лесах не укроется: Лира выдаст его громким пением, И от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий.С годами взаимное понимание и любовь росли, крепли и становились всё более сознательными; в разлуке друзья переписывались, — и нам известен ряд их дружески-нежных писем друг к другу; в периоды совместной жизни в Петербурге они видались чуть не ежедневно, — то в обществе «Зелёной лампы», то у общих друзей и знакомых, то в доме родителей Пушкина, у которых, по выходе из Лицея, жил поэт. Они были так нежно преданы один другому, что при встрече целовали друг у друга руку…
Естественно поэтому, что когда Дельвиг задумал жениться, Пушкин, узнав о предстоящей перемене в судьбе друга, принял весть с волнением. «Женится ли Дельвиг? опиши мне всю церемонию. Как он хорош должен быть под венцом! жаль, что я не буду его шафером», — писал он Плетнёву в середине июля 1825 г. из михайловской ссылки, где незадолго до того посетил его Дельвиг[369], — а вскоре писал самому Дельвигу: «Ты, слышал я, женишься в августе, поздравляю, мой милый — будь счастлив, хоть это чертовски мудрено. Цалую руку твоей невесте и заочно люблю её, как дочь Салтыкова и жену Дельвига»[370].
Пушкин не сомневался в выборе своего друга, — невеста была дочерью просвещённого человека — «почётного гуся» и «природного члена» «Арзамаса», Михаила Александровича Салтыкова, — но, мизантропически тогда настроенный, он не верил вообще в человеческое счастье. Однако, когда свадьба друга состоялась, он радостно-шутливо приветствовал своего друга и его молодую жену, из которой просил непременно сделать «арзамаску». Личное знакомство его с нею состоялось, как увидим ниже, лишь в конце мая 1827 г., но нет сомнения в том, что Пушкин ещё заочно полюбил Софью Михайловну Дельвиг, как жену своего друга и брата; о первой встрече с поэтом и о последовавшем затем сближении с ним С. М. Дельвиг довольно много сообщает в письмах своих к одной своей далёкой оренбургской подруге, А. Н. Семёновой, вскоре вышедшей за известного натуралиста и путешественника Г. С. Карелина[371].
Пушкин был для Софьи Михайловны сперва любимейшим поэтом, — она умела ценить его стихотворения, — но потом он сделался дорог ей и как первый, лучший друг её мужа и как постоянный гость, почти как старший член семьи.
Сама Софья Михайловна родилась 20 октября 1805 г. Свою мать, Елизавету Францевну, рожд. Ришар, родом француженку, она потеряла, будучи семилетнею девочкой, и росла сиротою; воспитание и образование своё она закончила в известном в своё время петербургском женском пансионе девицы Елизветы Даниловны Шрётер, на Литейном проспекте. Одним из преподавателей её здесь был Пётр Александрович Плетнёв — небезызвестный писатель, поэт, друг Дельвига и Пушкина, популярный впоследствии профессор Петербургского университета и академик; он с большим расположением и, кажется, не без сердечной нежности относился к своей ученице; она, в свою очередь, питала к нему чувства дружеского уважения, любила его уроки и главным образом ему, по-видимому, была обязана развитием большой любви к словесности вообще и к русской в особенности. Пушкин был для неё кумиром — по крайней мере, судя по её письмам, она знала наизусть всё, что он уже успел написать к 1824 г.; от Плетнёва она узнала и о Дельвиге, позднее и о Боратынском (брате её второго мужа, С. А. Боратынского), и о декабристах Рылееве и Бестужеве, помнила наизусть их произведения, с жадностью узнавала новые… Их имена часто мелькают в письмах её к упомянутой пансионской подруге — Семёновой-Карелиной.
Эти письма представляют богатый и во многом очень свежий материал для характеристики как самой Салтыковой-Дельвиг-Боратынской, так и для биографических портретов её первого мужа — поэта Дельвига, а также Пушкина, Плетнёва, Кюхельбекера и многих других общих их друзей и знакомцев, среди которых она провела несколько лет своей молодости; они рисуют ту обстановку, в которой жили все эти люди сто лет тому назад, на грани двух столь различных между собою царствований — александровского, с его внешним блеском и славою и скрытым разладом и надрывом, и николаевского, начавшегося громом пушечных выстрелов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
Принадлежа по родственным связям и отношениям к среднему слою петербургского высшего общества, Салтыкова, с выходом замуж за Дельвига, попала в среду тогдашней умственной интеллигенции, в небольшой по количеству членов кружок писателей, группировавшихся около симпатичной личности её мужа — поэта и издателя известных альманахов «Северные цветы» и «Подснежник» и «Литературной газеты». Подробности биографии Дельвига — рассказы о его сватовстве и жениховстве, о семейной жизни и поездках, о литературных работах, об отношениях к людям, наконец, его новые письма и данные о его болезни и смерти — представляют несомненную историко-литературную ценность. Не одни пушкинисты с интересом прочтут и то, что сообщается в письмах 1827—1830 гг. о Пушкине: живые, непритязательно-правдивые свидетельства С. М. Дельвиг, горячей поклонницы поэта и жены его ближайшего друга, писаны под свежим впечатлением непосредственных восприятий, и, конечно, найдут своё место в подробной биографии Пушкина; нельзя не пожалеть лишь о том, что этих свидетельств сравнительно немного и что они не так пространны, как нам бы хотелось. Частые упоминания и рассказы о Плетнёве дорисовывают нам и без того уже достаточно отчётливую фигуру этого писателя по призванию и верного друга своих многочисленных друзей.
Сама С. М. Дельвиг рисуется нам особою экспансивною — быть может, наследственно, от матери француженки, получившею некоторую долю этой повышенной страстности натуры; она легко поддаётся довольно часто и резко меняющимся настроениям; она мечтательна и несколько сентиментальна, особенно в более ранние годы, когда невольно обращает на себя внимание её «по-институтски» сентиментальное отношение к подруге-корреспондентке; это отношение иногда срывается у неё, судя по переписке; срывы ведут к перерывам в письменных сношениях, а затем — к бесконечным извинениям в молчании и раскаянию… Из писем видно, что Салтыкова очень рано умственно развилась, что она получила хорошее, типичное для своего времени, преимущественно светское образование, страстно любила литературу, особенно русскую, много читала и по-немецки, и по-французски, наконец, играла на клавесине. Сентиментальностью и книжным влиянием отдаёт и от её романа с Каховским[372]; но при всём том в ней нет ничего искусственного, — она искренна, непосредственна, простодушна и в высшей степени женственна. По окончании частного пансиона, руководимого типичною представительницею профессионально-педагогического ремесла — Е. Д. Шрётер, о которой при всяком удобном случае она вспоминает в письмах не иначе, как с долею шаловливой насмешки, не всегда добродушной, — и до выхода своего замуж Салтыкова живёт в довольно мрачной обстановке, — без матери и без женского влияния, без братьев и сестёр, в обществе одного отца, человека высокообразованного, но с чрезвычайно тяжёлым характером, «ипохондрика», как тогда определяли людей, которые без видимых причин впадали в мрачное настроение духа, угнетающе действовали на окружающих, не умея или не желая сдерживать своих порывов и поддаваясь внешним впечатлениям… При самом вступлении в жизнь она встречается с другим оригиналом — своим дядюшкой П. П. Пассеком[373]; много других оригиналов приходится наблюдать ей и позднее, — всё это отражается в её письмах, в которых мы находим и другие интересные сообщения, — например, рассказ о знаменитом петербургском наводнении 1824 г. и т. п.
До нас дошло мало отзывов о С. М. Салтыковой-Дельвиг-Боратынской. Досаднее всего, что не оставил нам о ней воспоминаний П. А. Плетнёв: он лучше, чем кто-либо другой, мог бы нарисовать портрет своей ученицы и жены своего друга Дельвига, которая и впоследствии изредка поддерживала с ним письменные сношения.
Зато в письмах Софьи Михайловны Плетнёву уделяется постоянное и заметное внимание. В первом же своём письме к Семёновой, писанном 9 мая 1824 г. из смоленской деревни П. П. Пассека, семнадцатилетняя Салтыкова упоминает, в числе самых дорогих ей людей, «Плетиньку» — так называла она с подругами этого своего пансионского любимого преподавателя; скучая о петербургских друзья, она пишет подруге, что с болезненным чувством вспоминает даже о не любимой никем начальнице того пансиона, в котором она с Семёновой училась, — Елизавете Даниловне Шрётер: «…посуди сама о том, какое удовольствие мне быть здесь. Плетинька, Саша (Копьева), ты, — составляете предмет моих дум. Нет, Саша, не выдержу трёх месяцев мучения, — я получу ипохондрию, — это верно!»
«Плетинька» был тогда ещё сравнительно молодым человеком (ему было не более тридцати лет), пользовавшимся большим расположением своих многочисленных учениц по Патриотическому и Екатерининскому институтам и по пансиону; он умел развивать в них любовь к предмету преподавания и, сам поэт и писатель, принадлежавший к небольшому в те времена кружку петербургских литераторов, импонировал им своими связями в их среде, знакомил с новыми явлениями в области словесности, преимущественно — отечественной, сообщал им о своих приятелях и знакомцах-писателях и вообще вводил в круг литературных интересов. Из писем Салтыковой ясно, какая духовная близость существовала между Плетнёвым и его талантливыми ученицами. Он именно познакомил Салтыкову со своим другом Дельвигом, за которого Софья Михайловна и вышла замуж после неудачного романа с декабристом П. Г. Каховским[374]; сам Плетнёв, по-видимому, как мы упомянули, был не совсем равнодушен к своей ученице, — во всяком случае, питал к ней нежные чувства, за которые Софья Михайловна платила наставнику полною откровенностью.
К сожалению, в архиве Плетнёва, находящемся ныне в Пушкинском Доме, сохранилось лишь одно, позднейшее её письмо к нему[375], а в архиве самой Софьи Михайловны, принадлежащем также Пушкинскому Дому, нашлось лишь два, тоже позднейших и довольно чопорных письма Плетнёва[376]; но и без их переписки, по одним письмам Софьи Михайловны к Семёновой-Карелиной, можно с достаточною отчётливостью видеть душевную близость их отношений. Приступая к выдержкам из этих писем[377], начнём с первого из них, — в котором рассказывается о личном знакомстве её с Кюхельбекером, в деревне дяди, 1 августа 1824 г.; знакомство с этим оригиналом доставляет ей большую радость, и она в восторге от своеобразной личности этого друга Пушкина.
Вот как рассказывает она об этом знакомстве в письме от 22 августа из смоленской деревни дяди П. П. Пассека:
«В Крашнево приезжал один молодой человек, которого я была очень рада увидеть, — Кюхельбекер. Уже давно я хотела с ним познакомиться, но не подозревала, что могу встретить его здесь. Г-н Плетнёв очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нём с величайшим интересом. Я нашла, что он нисколько не преувеличивал мне его добрые качества; правда, это горячая голова, каких мало, пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, — но он так умён, так любезен, так образован, что всё в нём кажется хорошим, — даже это самое воображение; признаюсь, — то, что другие хулят, мне чрезвычайно нравится. Он любит всё, что поэтично. Он желал бы, как говорит, всегда жить в Грузии, потому что эта страна поэтическая. Он парит, как выражается Дядюшка (и я сама стала любить таких людей, — я люблю только стихи, проза же кажется мне ещё более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего, и для того, чтобы жить, принуждён он быть редактором плохонького журнала, под названием „Мнемозина“, который даже его друзья не могут не находить смешным, и сочинять посредственные стихи (ты, может быть, помнишь одну вещь, под заглавием „Святополк“, в „Полярной звезде“: она принадлежит его перу). Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо. Он хорошо знает Дельвига, Боратынского и всех этих господ. Я доставлю большое удовольствие Плетнёву, дав ему о нём весточку. К моему великому сожалению, он остался здесь только на один день».
Завязавшийся вскоре роман Салтыковой с Каховским проходил в атмосфере, насыщенной литературой. Молодые люди говорят о литературе. Каховский декламирует множество стихов Пушкина — в том числе и таких, которые ещё не появлялись в печати и которые он слышал от самого поэта, с коим он лично знаком[378]; он цитирует и Дмитриева, и Жуковского, и Руссо, да и весь роман развёртывается как бы по книжному образцу, — действующие лица его, как они представлены в рассказе Софьи Михайловны, имеют вид героев одного из бесчисленных литературных произведений в форме романа: в нём есть и пламенный любовник, смелый и в то же время сентиментальный и сперва кроткий, а потом дерзкий; его возлюбленная, неопытная девушка, находящаяся под строгим наблюдением не понимающих её окружающих — старших родных — тётки, дяди, отца; есть и неизбежная наперсница в лице Е. П. Петровой, будто бы «воспитанницы» дяди, а на самом деле — его «левой» сестры; наконец, самый роман изложен в обычной и распространённой форме писем к подруге…
С возвращением в Петербург, где роман Софьи Михайловны имел довольно необычайное продолжение и окончание, она входит в атмосферу литературных интересов, — в первое время благодаря, главным образом, постоянному общению с Плетнёвым, имя которого не сходит со страниц писем её к далёкой подруге.
«Я передала Ольге и г-ну Плетнёву, — пишет она подруге 13 октября 1824 г. — всё, что ты поручила мне сказать им; последний мил как никогда; каждый раз, что я его вижу, я люблю его всё больше. Он поручает мне благодарить тебя за память и сказать тебе тысячу нежностей. Он принёс мне несколько отрывков из новой поэмы, которою занят в настоящий момент Пушкин[379], и настоятельно просит меня послать их тебе, что я и делаю. Сохрани их, — это драгоценность, так как это — руки самого Пушкина; он прислал эти отрывки Дельвигу, который отдал их Плетнёву, и только мы четверо знаем эти стихи. Плетинька очень просит меня не сообщать этого никому, потому что это уже не будет новостью для Александры Николаевны. Это его собственные слова. Сознаюсь тебе откровенно, что мне очень хотелось снять для тебя копию этих стихов, а автограф Пушкина сохранить у себя, скрыв это от тебя, — чтобы ты на это не зарилась[380], — но Плетинька просил меня не делать этого: •„Я вам достану что-нибудь его руки, любезная Александра Сергеевна[381], а это прошу вас послать Александре Николаевне, — вы её много утешите“.• Очень прошу тебя, милый друг, сказать мне твоё мнение об этих стихах, что касается меня, то я нахожу их очаровательными, в особенности начиная от этого места:
Он пел любовь, любви послушной[382].Весь этот кусок очень красив, не правда ли? Посылаю тебе также новые стихи Жуковского, которые он написал в одном альбоме. Я их получила тоже от Плетнёва. Кстати: дорогой наш Пушкин выслан в деревню к своему отцу за новые шалости; ты знаешь, что он был при Воронцове, — так вот последний дал ему поручение, для исполнения которого он должен был непременно уехать, он же ничего не сделал и написал сатиру на Воронцова. •Каков мальчик?• Я убеждена, что он создаст новые стихотворения в своём уединении, которые будут ещё более остры…
Благодаря г-ну Плетнёву я провожу очень приятные минуты. Наденька Полетика тоже много выигрывает, когда её узнаешь: это превосходная особа, что же касается её мужа, то я уважаю и люблю его от всего сердца: это ангел. Я всегда была хорошего о нём мнения, теперь же нахожу, что я недостаточно его ценила. Он прямо доблестен, я знаю его черты, это молодой человек, на которого можно положиться. Я вижу тоже с удовольствием, что Наденька умеет ценить и уважать его, и они будут счастливы. Они всегда спрашивают, какие от тебя известия, и приветствуют тебя. Вот, дорогой друг, единственные лица, которых я вижу и которых я люблю видеть; что касается прочих, то я очень хорошо обхожусь и без них, не исключая Кутайсовых и Клейнмихелей. Сегодняшний вечер я провела у Саши Геннингс[383]. Она — олицетворённое легкомыслие [frivolité], но при этом очень добрая особа; это, впрочем, не помешало мне очень скучать у неё, так как у неё было много народу и я должна была слушать разговор, который меня вовсе не интересовал. У нас много новых знакомых, — между прочим — девицы Ивелич[384], из коих одна возмущает меня своим вульгарным тоном [ton poissarde]. Норов[385] с некоторого времени также посещает её; что касается его, — я его очень люблю: его общество очень приятно; однако я не могла сегодня насладиться этим обществом, так как он очень поздно пришёл к Саше: мы уже уезжали, когда он входил. Он всё так же добр и мил, но невозможно рассеян. Мне рассказывали, что вчера он вошёл в один дом, ни с кем не поздоровавшись, даже с хозяйкой, и просто-напросто уселся, ничего не говоря; затем вспомнил, как он поступил, и был очень этим смущён; однако ему по доброте сердечной простили его промах, так как всем известна его рассеянность».
Следующее письмо Салтыковой — от 16 ноября — было посвящено описанию страшного наводнения 7 ноября; это описание даёт несколько не лишённых интереса подробностей и ещё раз подтверждает, какими верными красками описал Пушкин страшный день наводнения в «Медном всаднике»; рассказ же о бедном моряке Луковкине, не нашедшем на месте своего дома, который оказался снесённым водою со всем его семейством, напоминает печальную историю Евгения и его возлюбленной Параши с матерью… Вот письмо в той части, которая описывает наводнение:
«Прошло восемь дней с тех пор, как я получила твоё письмо от 18 октября за № 11. Перед тем как отвечать тебе, необходимо сообщить тебе грустную новость, которая в скором времени станет известна и всей России. 7 ноября, в тот самый день, как я получила твоё письмо, в городе и в окрестностях было страшное наводнение. Ещё в течение ночи слышны были пушечные выстрелы, которые извещали население о необходимости принять меры против воды, которую сильный морской ветер заставлял выступать из берегов; но это не было ещё так серьёзно и угрожало только лицам, живущим близ Невы или Фонтанки и в первом этаже. Однако к утру ветер так усилился, что люди не могли больше выходить, боясь потерять шляпы; он ещё усилился к 10 часам, и, наконец, три четверти города было залито водой; люди, ехавшие на дрожках, принуждены были вставать, чтобы не слишком промокнуть. На улицах было видно множество народа, бегущего и кричащего. Сначала это забавляло, но так длилось недолго: с каждой секундой опасность становилась всё сильнее, наконец, в три часа дня появились волны почти на всех улицах; барки очутились на Невском, лавки, магазины были залиты водой; воцарился ужаснейший хаос, мосты были снесены, сломаны; были несчастные, которые тонули, не успевши спастись или не могши это сделать, так как невозможно было войти ни в один дом: вода достигала до 2-го этажа, в особенности у Фонтанки и у Невы. Но самая ужасная картина была на Васильевском острове, в Коломне и в Галерной гавани, где дома были снесены в Кронштадт; говорят, что их осталось очень мало. Даже на Моховой была вода, я её видела собственными глазами; приходилось ездить на лодках. Конные караульные отряды потеряли множество лучших лошадей; ты, может быть, слышала про Королева, богатого купца, имевшего чудную лавку под Английским магазином; он потерял на 100 000 руб. товару, а многие другие так и всё потеряли. Беркховы успели спасти лишь самих себя; в настоящую минуту они находятся у Волковых. Некоторые из наших знакомых потеряли людей, вещи, лошадей, коров, а бедный Норов[386], со своей деревянной ногой, которому было так трудно спастись, потерял более чем на две тысячи рублей; для него это много, так как он имеет всего 4 или 5 тысяч в год. Нужно было видеть город на следующий день: сколько опустошения, сколько несчастных! Насчитывают 14 000 человек погибших и гораздо большее число совершенно разорившихся и не имеющих даже крова. Каменный остров и вообще все острова в жалком положении. Екатерингоф, который стоил столько денег и про который говорили, что он так хорошо устроен, никуда теперь не годится; казна понесла много потерь лошадьми, лесом и т. д. На другой и на третий день видны были барки, оставшиеся на улицах, у Зимнего дворца, на Царицыном лугу и пр. Парапеты испорчены, мосты сломаны, одним словом, Петербург представляет собою грустное зрелище, повсюду видны лишь похороны. Со Смоленского кладбища нанесло множество крестов к Летнему саду — на улицах лежали мёртвые тела на другой день. Государь дал миллион на несчастных, но сказал, что прибавит ещё через некоторое время; и в самом деле, этого не хватит, так как потери ужасные; он много плакал над этим бедствием и хорошо наградил генерала Бенкендорфа, рисковавшего жизнью для спасения 9 несчастных, готовых погибнуть, что ему и удалось; один моряк 16 лет тоже отличился блистательным подвигом, за что получил Владимирский крест. Государь был тронут, увидав его поступок, и не замедлил тут же дать ему крест, который он взял у одного из своих флигель-адъютантов, находившегося тогда около него. Рассказывают много раздирающих сцен; между прочим, про некоего Луковкина, моряка, имевшего дом на Гутуевском острове — совсем близко от залива и, следовательно, на очень опасном месте. Была у него жена и трое детей, за которых он очень беспокоился в этот день, так как был дежурным и не мог вернуться до вечера. Наконец, когда он пришёл домой, то не нашел ни жены, ни детей, ни крова, ни единого следа своего жилища — каково его состояние!
Граф Шереметев дал 50 000 руб. бедным пострадавшим; графиня Орлова 150 000, великая княгиня Мария, которая теперь здесь, — 15 000, но всего этого мало; нужно, чтобы вся Россия оказала помощь несчастным жителям Петербурга. Несомненно, что наводнение хуже всякого пожара; говорят, никогда не было ничего подобного, это будет целая эпоха в нашей истории, это вроде землетрясения, против которого нельзя принять никаких мер. По всей России в этом году бедствия; беспрестанные дожди произвели почти повсеместный голод; в Крыму — саранча причинила ужасное опустошение; в Петербурге свирепствует глазная болезнь, от которой вылечиваются с трудом; глаз понемногу пухнет, а потом вытекает, и тогда слепнут навсегда. В Горном корпусе 140 детей больны этим, и из них 30 уже ослепли; говорят, что болезнь дошла уже и до Морского корпуса. Спектакли закрыты на месяц по приказу Государя, который сказал: „•Теперь не время веселиться•“. Всюду говорят только о наводнении; всё это уже навязло в ушах, так в конце концов надоедает слушать всё одно и то же. Нужна была бы целая тетрадь, чтобы описать тебе всё, что случилось в этот ужасный день. Забыла тебе сказать, что Обольяниновы сильно пострадали, но все спаслись…»
Войдя в обычную житейскую колею, Софья Михайловна снова сообщала подруге о текущих событиях:
«Я видела г. Плетнёва две недели тому назад. Я отправлюсь повидать его в ближайший вторник и передам ему твоё письмо. Он всегда просит меня показывать ему письма, которые ты пишешь мне, и обещает не читать тех мест, которые я не захочу сообщать ему, я не смею уступить его просьбе, не посоветовавшись с тобой, и хотя мне придётся долго ожидать твоего ответа, я предпочитаю это, чем сделать нечто, что, может быть, тебе не понравится; в ожидании я постараюсь увернуться от настояний г. Плетнёва или сделаю вид, что забыла твои письма; я покажу ему некоторые из них; я могу это сделать даже не имея твоего мнения об этом, но он хочет непременно прочесть их все. — Ты говоришь мне о сочинении Штиллинга, которое ты теперь читаешь: я знаю его хорошо понаслышке: Черлицкий[387] очень хвалил мне его и хочет мне его достать. Я сказала эту, что ты читала эту книгу, и он поручил мне передать тебе тысячу приветов и сказать, что он очень доволен тем, что ты занимаешься подобным чтением, и что он просит Бога, чтобы оно произвело на тебя то действие, которое оно должно произвести. Он дал мне одну книгу в том же роде, под заглавием: „Das Ende commt, es commt das Ende“, которая, по его словам, очень хороша. Я только что её начала. Автор этого сочинения думает, что конец света очень близок, и доказывает это довольно наглядным образом, по знамениям, которые Иисус Христос указал нам, как предтечи этой великой катастрофы; некоторые из них уже проявились и, по всем признакам, другие не замедлят осуществиться, и мы, может быть, вскоре увидим пришествие Антихриста…»[388]
«Я читала твоё письмо к г-ну Плетнёву, — читаем в письме от 4 января 1825 г., — не гневайся, — потому, что я уверена, что он мне сообщил бы его… Завтра вторник, однако я его не увижу, так как будет праздник; но я знаю, что он должен быть в Институте[389] в среду, — и туда я и пошлю ему твоё письмо. •К Новому году (1825) вышли „Северные цветы“, изданные Дельвигом; там не очень много хорошего, однако ж довольно, но менее, нежели я ожидала. Также и вздору довольно. Остроумный князь Вяземский иногда врёт, Загорский, Григорьев, Туманский, — всё это дрянь, — ты их знаешь. Отрывки из „Евгения Онегина“, „Мотылёк и цветы“ Жуковского помещены там.• Есть прекрасная проза Плетнёва: •Письмо к Графине С. — (не знаю, кто это)[390] — о Русских поэтах; Дашкова — прекрасный отрывок из его путешествия по Греции.• Между стихами много таких, которые мы уже знаем, например: •„Измена“ Плетнёва; „Улетает, улетает, легкокрылая мечта“; „Разлука“ его же: „Я знал её как первый луч“ и т. д. и ещё его стихи: „Покой души, забавы ожиданья, счастливые привычки юных лет“. Помнишь ли? Кажется это у тебя в альбоме написано. — Пушкина Демон: В те дни когда мне были новы и пр.• Есть также красивые стихи Пушкина, Боратынского, Плетнёва, русские песни Дельвига, одна хорошая вещь Вяземского; Рылеева — нет ничего; милые басни Крылова, а остальное — мелочи. Есть одна Идиллия Дельвига, которая заставила бы меня покраснеть, если бы её мне прочёл какой-нибудь мужчина; к счастью, папа прочёл её один, и теперь я боюсь, чтобы Плетнёв не заговорил со мной о ней: я скажу ему, что я её не читала»[391].
В другом письме мы снова встречаем упоминание о двух лицах, имеющих прямое отношение к Пушкину: об А. О. Геннингс и о графине Е. М. Ивелич.
«Александрина Геннингс, — читаем в письме от 2 ноября 1824 г., — сделалась ещё более легкомысленною, чем была раньше; она ежеминутно делает новые знакомства, которые очень мне не нравятся. Она, между прочим, сошлась с одною графинею Ивелич, которая больше походит на гренадера самого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за голос, что за выражения! К тому же она нюхает табак и курит, когда никого нет; она приносит свою трубку к Александрине и выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова девица? Соломирский, которого ты должна хорошо знать по отзывам Марии (нрзб), тоже часто бывает у Александрины: это один из величайших фатов, каких я только видела; по крайней мере, однако, он с талантами, и прекрасный музыкант. У Саши теперь две близкие подруги, — это: Варенька Клейнмихель и её кузина, девица Титова, с которою она познакомилась два или три месяца тому назад. У неё уже есть кольцо с тремя руками и следующею надписью: „unies pour l’éternité“[392]. Я с трудом удержалась от смеха, когда она мне сказала, что это руки Вареньки, Титовой и её: нет ничего смешнее этих подруг Саши, которых она меняет, как башмаки».
Клейнмихель была кузиною С. М. Салтыковой; что касается упомянутой ею Александрины Геннингс, то она также приходилась Салтыковой кузиною со стороны матери, Елизаветы Францевны: она была дочерью Иосифа Францевича Ришара[393]; она отличалась красотою и большим талантом к пению, о котором вспоминает в записках своих композитор Н. А. Титов[394]: «Редко слыхал я, кто бы так хорошо пел романсы, как г-жа Геннингс, урождённая Ришар… Я познакомился с нею в 20-х гг.; она была очень дружна с двоюродной сестрою моей Варварою Александровною Клейнмихель, урожд. Кокошкиной. В те годы ещё мало пели русские романсы, а потому г-жа Геннингс пела всё романсы французские. Романс „Conçois-tu toutes mes douleurs“ пела она восхитительно…»
В молодых годах А. О. Ришар вышла замуж за некоего Геннингса, но вскоре или овдовела, или развелась с ним и проживала в Петербурге; 3 июня 1826 г. С. М. Дельвиг писала своей подруге, что «Саша Геннингс выходит, наконец, замуж за Пушкина, ромистра гвардейских гусар, и едет в Москву, так как там будет её свадьба». Этот Пушкин был Фёдор Матвеевич Мусин-Пушкин, служивший в лейб-гвардии Гусарском полку с 1817 до 1836 г.; затем он был полковником Одесского уланского полка и вышел в отставку генерал-майором[395]. Геннингс-Мусина-Пушкина была знакома со всей семьёй поэта Пушкина, в которой так и называли её Md. Pouchkine ex-Enix или ex-Enings[396], — особенно близка она была с О. С. Павлищевой, которая часто бывала у неё в свои приезды в Петербург. У А. О. Мусиной-Пушкиной бывал молодой Даргомыжский (1835) и вообще собиралось небольшое, но приятное общество. Вторично овдовев, Мусина-Пушкина, по-видимому, была не в блестящем положении, и когда умерла, над её имением было в 1875 г. учреждено в Москве опекунское управление, вызвавшее кредиторов и должников покойной[397].
Графиня Екатерина Марковна Ивелич была близко знакома с семьёю Пушкиных — родителей поэта, в том числе и с ним самим, — ещё в конце 1810-х гг., когда, по выпуске из Лицея, поэт жил с родителями на Фонтанке, близ Калинкина моста. Рядом с ними проживали в собственном доме Ивеличи[398]. А. М. Каратыгина в записках своих вспоминает, как однажды Пушкин и гр. Е. М. Ивелич говели вместе в церкви Театрального училища на Офицерской, близ Большого театра, как Пушкин бывал у Ивеличей[399]; они, по-видимому, приходились Пушкиным как-то сродни; по крайней мере, в одном письме к брату Льву (1824) поэт писал из Михайловского: «Скажи сестре, что я получил письмо к ней от милой кузины гр. Ивеличевой и распечатал, полагая, что оно столько же ответ мне, как и ей — объявление о потопе, о Колосовой (впоследствии Каратыгиной. — Б. М.), ум, любезность и всё тут. Поцалуй её за меня, т. е. сестру Ольгу — а графине Екатерине дружеское рукопожатие» (XIII, 123).
Графиня Ивелич, — с которою, как видим, Пушкин переписывался, — была тогда тридцатилетняя девушка (она родилась 50 июля 1795 г.); она была очень эксцентрична, как видно из дальнейших писем С. М. Дельвиг; в одном письме к мужу, от 18 января 1835 г., О. С. Павлищева, между прочим, сообщала: «Вчера Аничков обедал у нас со своею приятельницею Екатериною Ивеличь, которая с ним „на ты“, — как тебе это нравится! Из любви к ней он заказал её портрет и портрет её матери, т. е. портреты графинь Ивеличь…»[400] Отец её, граф Марк Константинович, умерший 4 декабря 1825 г., был выходец из Иллирии или Далмации, состоял в русской службе с 1771 г. и дослужился до чина генерал-лейтенанта и звания сенатора; он отличался чудачествами, в молодости был страшно ревнив, любил играть в карты и всем, за весьма немногим исключением, говорил «ты»; женат он был на Надежде Алексеевне, рождённой Турчаниновой, богатой помещице Владимирской губернии, где ей принадлежали исторические сёла Нижний и Верхний Ландехи — некогда вотчина кн. Д. М. Пожарского.
О графине Е. М. Ивелич находим отзывы в воспоминаниях H. С. Маевского, который рисует эту оригинальную особу как большую остроумицу. «Некрасивая лицом, она отличалась замечательным остроумием; её прозвища и эпиграммы действовали, как ядовитые стрелы. До конца жизни осталась она в девицах и не любила, когда её подруги выходили замуж»[401].
Она умерла в Петербурге 7 мая 1838 г. Естественно, что Пушкин, который и сам был остёр на слово и любил оригинальных людей, дружил с графиней Ивелич и находил интерес в её обществе и в переписке с нею.
В одном из дальнейших своих писем к подруге (от 16 ноября) С. М. Салтыкова цитирует стихотворение Пушкина «К Морфею»: «Всё спит в доме, — я тоже сейчас брошусь в свою постель, говоря, повторяя за Пушкиным:
Морфей, до утра дай отраду Моей мучительной любви; Приди, задуй мою лампаду, Мои мечты благослови. Сокрой от памяти унылой Разлуки страшной приговор и проч. и проч.»А в другом письме, в припадке меланхолического настроения, Софья Михайловна приводит цитату из пушкинского «Кавказского пленника», применяя её к себе:
Не много радостных мне дней Судьба на долю ниспослала; Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель на век погибла радость?[402]В следующих письмах много говорится о Плетнёве и его отношении к ученицам — Салтыковой и Семёновой.
«Вот ещё одно большое послание г. Плетнёва, которое я тебе посылаю, дорогой друг. Он говорит тебе, что я на тебя жалуюсь. Ах! если бы он мог читать в моём сердце, если бы он знал то, что мне известно, он, конечно, не считал бы меня способной на эту несправедливость. Да, несомненно, я ему жаловалась, но не на то, что ты мне нечасто пишешь, ты знаешь мой образ мыслей по этому поводу, и надеюсь, что ты не предполагаешь во мне такую низость чувств, чтобы верить, что я сержусь на тебя за это; да, я бранила тебя за то, что ты слишком поторопилась обвинить меня в забывчивости, и мне почти невозможно было изменить мнение г. Плетнёва на этот предмет: он очень взял твою сторону; это меня укололо, и одну минуту я почувствовала гнев против тебя (до того его у меня не было, — я была только огорчена); тем не менее после довольно живого спора мы примирились и более друзья, чем когда-либо…»
«Ты напрасно огорчилась первым письмом Плетнёва; однако я надеюсь, что то, которое ты теперь прочтёшь, заставит тебя забыть твои мелочные опасения: разуверься, — он всё тот же, он так тебя любит; он найдёт очаровательным всё, что ты ему скажешь, даже если это будут глупости (чего, я уверена, никогда не может случиться). Мы смеялись вместе с ним по поводу того, что ты говоришь о языке киргизов; правда, весьма удивительно встретить язык, в котором нет слов для выражения любви и дружбы; но твоё замечание: •„Это мне показалось очень неловко“• восхитило г. Плетнёва. •Он говорит, что это очень на тебя похоже и что, кроме тебя, никому в голову не может прийти такая мысль.• Он говорит, что у него нет ничего, скрытого от меня, — потому-то-де он и не хочет ни за что запечатывать письма, которые он посылает через меня, и не может понять, почему ты запечатываешь твои письма. Не думай, что это я упрекаю тебя за это, — последнее было бы довольно глупо с твоей стороны.
•„Она наблюдает, — говорит Пётр Александрович, — какой-то этикет и думает, верно, что учтивее запечатывать письма. Скажите ей, что мы с вами об этом долго рассуждали и решили, что вместо этого конверта она бы могла написать две страницы лишних“.• Так как я сегодня в ударе говорить о нём пространно, надо, чтобы я сказала тебе ещё нечто, тебя касающееся. Мы беседовали о Синицыне, который о всех тех, которые покидают Пансион, говорит: „Христос с ними!“ Он спрашивает, говорил ли он то же и о тебе, и узнав, что, напротив, он очень сожалел о тебе, он сказал мне:
•„Не понимаю, что это за девица, в ней что-то особенное, даже Синицын об ней жалеет. Она, как Орфей, одушевляет самые камни“.• Не премину сказать ему, по твоему желанию, что ты больна, но надеюсь, что ты не замедлишь ему ответить»[403].
«Надо, чтобы ты всегда выдумала какую-нибудь шалость, моя дорогая, маленькая Саша. Сначала я не поняла, что должно было значить письмо, которое ты мне послала, чтобы показать его г. Плетнёву, и я сочла, что ты с ума сошла, когда читала в нём точно то же, что содержалось в другом письме в отношении книг, которые тебе прислал г. Плетнёв, т. е. что ты нечто изменила в последнем, чтобы оно могло быть показано: но так как сперва я не поняла твоего намерения, это заставило меня много смеяться. •Ах ты, плутовка!• Я не премину доставить твоё послание г. Плетнёву; благодарю тебя за то, что ты, писавши его, избавила меня от смущающих благодарственных фраз, которые я должна была бы непременно ему говорить, так как ты ему ничего не пишешь по этому поводу. Кстати, я совершенно сконфужена тем, что он говорит тебе обо мне в своём письме: я не заслуживаю вовсе его похвал; он говорит, что я „идеал дружбы“, так как я к тебе привязана! Как будто не естественно тебя любить! И потом он очень добр, ставя мне в заслугу то, что я приезжаю повидать его: ты, как и я, знаешь, жертва ли это с моей стороны, и возможно ли не ездить повидать такого человека, как г. Плетнёв, когда к тому же это можно делать, не вредя никому. Он уже давно говорил мне, что послал тебе книги, но я не писала тебе об этом, думая, что он сам тебе писал. Он сделал тебе подарок очаровательным образом, и то, что он написал тебе на книге, лучше и лестнее всех фраз в мире. <…> Г. Черлицкий в восторге от того, что относится до него в твоём письме; он очень тебя благодарит и радуется счастливой перемене, происшедшей в тебе. Я также очень этим довольна и хотела бы походить на тебя. Теперь я читаю „La Philosophie Divine“, соч. Фенелона, и это чтение производит на меня довольно сильное впечатление. Я молю Бога, чтобы он облегчил бы для меня способы самоисправления. <…> Что касается трёх партий, которые тебе представлялись, то ты, конечно, хорошо сделала, что не приняла их; но если четвёртая, — этот молодой Карелин, которого ты расхваливаешь, не ограничивается лишь любезностями, как ты говоришь, и если ты замечаешь, что он серьёзно стремится получить твою руку, — почему ты будешь отказываться от мужа, который может совсем подходить тебе, судя по тому, что ты мне о нём говоришь. Ты тверда в своих убеждениях, скажешь ты мне опять, но я думаю, что это не причина, чтобы тебе не выходить замуж, ибо я полагаю, что ты не давала обета быть девушкой всю свою жизнь и что твоя маменька не была бы сердита видеть тебя устроенной. Ты говоришь, что время твоих шалостей прошло: да, но нигде не сказано, чтобы ты никогда никого не любила. Любить неистово, с поклонением, забывая все приличия по отношению к предмету твоей страсти, — конечно, безумство, и так именно ты когда-то любила, но истинная приверженность, основанная на уважении и рассудке, любовь чистая, спокойная, не такое, я думаю, чувство, от которого краснеют, и я не вижу, почему бы ты о нём могла жалеть…»[404]
О новом интересном знакомстве сообщает Софья Михайловна подруге в письме от 4 января 1825 г. — об офицере-музыканте бароне Ралле: это был известный впоследствии капельмейстер петербургских театров барон Фёдор Александрович Ралль, знакомец и отчасти сотрудник М. И. Глинки. «Несколько дней тому назад известный Ралль, молодой человек 22 лет, товарищ по службе моего брата, провёл у нас вечер, — пишет Салтыкова. — Он большой музыкант и божественно сочиняет музыку; он дал мне толстенную пачку своих танцев, вариаций, фантазий и т. д. Они очаровательны! Мы попросили его играть на фортепиано, и так как он очень любезен, он только и делал, что весь вечер играл. Потом он начал просить меня дать ему что-нибудь послушать; я не хотела садиться за фортепиано, после него, но он настаивал, говоря мне тысячу комплиментов по поводу моего таланта, о котором он, по его словам, наслышан; эти похвалы скорее обескуражили меня, чем ободрили… К тому же я видела его в первый раз, и его большие чёрные усы меня пугали, хотя и придавали ему красоты; однако, после многих церемоний, я должна была уступить его настояниям и в особенности строгому взгляду моего отца (который тоже прибавлял мне робости). Едва я положила на клавиши пальцы, как они стали холодны как лёд и начали дрожать — до такой степени, что я не могла взять ни одной верной ноты; но я боялась остановиться, так как папа делал мне страшные глаза. Дрожа как лист, я сыграла полстраницы, хотела продолжать, но не была в состоянии, •слёзы в три ручья…• Я желала бы быть на сто шагов под землёю в эту минуту. Я не была ещё тогда знакома с Раллем, не знала, что он снисходителен, добр как нельзя больше, и смертельно боялась, чтобы он не стал насмехаться над моей робостью или застенчивостью. Я делала усилия удержать мои глупые слёзы, которые текли всё время. Тогда папá велел мне перестать, и после нескольких минут молчания Ралль догадался уйти. Уж тут-то мне досталось… Позавчера я была умнее, играла с Раллем в четыре руки. Правда, что я видела его уже четвёртый раз и что мы играли танцы его сочинения, — но и это что-нибудь значит для меня».
В следующем письме она снова рассказывает о своём новом знакомце:
«Ралль, который, как ты знаешь, великий музыкант, приезжает довольно часто к нам, и мы вместе музицируем, он принёс мне несколько пьес своего сочинения, которые мы играем в четыре руки. Он играет также и на кларнете и предлагает привезти ко мне ноты с аккомпанементом на этом инструменте, чтобы сыграть их вместе. Мне это очень нравится, я приобретаю вкус к музыке и часто слушаю хорошую игру: Черлицкого — всякий раз, что он приходит, — и барона Ралля, который играет с совершенством, а сочиняет ещё лучше»[405].
Возвращаясь к Плетнёву, Салтыкова пишет:
«Я не говорю тебе больше ничего о том, что Плетнёв ещё пишет тебе обо мне в своём письме; я начинаю думать, что он считает своим долгом постоянно расхваливать меня потому, что его письма проходят через мои руки; однако это вежливость, от которой я его освобождаю от всего моего сердца, так как она только смущает меня, и я не знаю, как на него смотреть, когда я приезжаю повидаться с ним по прочтении его письма; для такой дикарки, как я, эти похвалы очень тягостны»[406].
Тогда же рассказывает она и о новой встрече с графиней Ивелич, довольно ярко обрисовывая её и отношение её к Пушкину:
«Я в восторге от того, что ты читаешь „Историю России“ Карамзина, потому что и я её теперь читаю. Какая симпатия? Это напоминает мне наши симпатии симпатий. Ты их помнишь? Кстати: я вчера провела очень приятный вечер: я говорила с одною очень умною особою о русской литературе и главным образом — о поэзии Пушкина. Эта особа очень связана с его сестрой и хорошо её лично знает; она обещала дать мне целую кучу стихов моего несравненного Пушкина, которые ещё не напечатаны. Она, как и я, восторженно любит этого очаровательного поэта, и любит не только его стихи, но и его личность, и горячо вступается за него, когда слышит, что про него дурно говорят. Она назвала мне всех, в которых он был влюблён, а он начал влюбляться с 11-летнего возраста. В настоящее время, если я не ошибаюсь, он занят некоей кн. Голицыной, о которой он пишет много стихов[407]. У кого провела я этот вечер? Поверишь ли — у м-м Геннингс. С кем беседовала я? Снова поверишь ли ты? — с м-ль Ивелич, описание которой, довольно невыгодное для неё, я дала уже тебе в одном из моих писем. — Правда, я не ошиблась в отношении её тона, который не очень-то мил; но я никак не предполагала, что у неё столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у неё, из-за её манер, вид мужчины. Она сама пишет русские стихи, и вовсе не плохие. Она очень приглашала меня прийти к ней, чтобы познакомиться с Ольгой Пушкиной, очаровательной особой, как говорят. Она уверяла меня, что Александр — вовсе не такой плохой человек, как о нём говорят, что этой репутации он не заслуживает, что он — очень добрый мальчик и т. д.[408] В конце концов она развеселила мою душу, я очень хотела бы, чтобы она оказалась беспристрастной и чтобы всё, что она мне сообщала, была правда. В разгаре нашего разговора мы вдруг увидели, что приехало семейство Пещуровых, состоящее из самого господина Пещурова, маленького горбатого человека, педанта, подчёркивающего, что он говорит только по-французски[409]; его супруги, крупной, чопорной женщины, и их двух дочерей, из которых старшей — 7, а другой — 6 лет. Это вполне провинциальная семья, не имеющая себе подобной; он и она, сказав несколько слов, не нашли ничего лучше, как выказать познания своих маленьких педанток, которые прямо невыносимы; их воспитывают точь-в-точь так, как m-me Жанлис хочет, чтобы воспитывали детей: вот плоды её смешного сочинения „Adèle et Théodore“ и всех тех, что она накропала на тему о воспитании. Сперва эти две малютки разодрали нам уши фальшивою игрою в 4 руки в течение доброго получаса; затем, о, верх смеха, они принялись говорить стихи, затем сцену из комедии, из которой никто не мог понять ни слова, потому что обе девочки говорят в нос, после чего отец велел старшей сказать одну сцену из „Тартюфа“ Мольера (очень это подходит для ребёнка!). Мать попросила потом папашу спросить у них что-нибудь из географии, — и они рассказали нам, как попугаи, все губернии России, что на всех нагнало скуку. Но это ещё не всё: окончив экзамен, этим маленьким противным созданиям велели сесть с прочим обществом и вмешиваться в разговор; тогда наше терпение совсем лопнуло… Представь себе, что они пустились рассуждать обо всём, как можно было бы позволить рассуждать взрослым, — это ещё могло бы быть смешно для молодёжи [?]; они вставляли латинские слова в свои прекрасные речи, и наконец, когда их познания были высказаны, это очаровательное семейство распрощалось с обществом, сказав, что они должны отправиться ещё в другое место, — очевидно, чтобы показать познания своих дочерей, которых они повсюду таскают с собою, как странствующих актёров. Мы очень хохотали с m-ль Ивелич и всеми над этими смешными личностями.
Ты, без сомнения, будешь удивлена узнать, что я была на маскараде во вторник gras; но это случилось совсем против моего желания: Клейнмихели пригласили меня приехать в их ложу, и папа посоветовал мне поехать, уверив, что это доставит мне удовольствие, так как я не имею понятия об этом маскараде. Однако я не получила там никакого удовольствия. В конце концов я повидала человека, которого я уже давно хотела видеть: это г. Поморский: он очарователен, так же как и его маленький Пётр. Он исполнял трагедию „Женевьева Брабантская“, которую играли в последний раз. Говорят, что Семёнова была в ней превосходна, но стихи её не слишком хороши; это я знаю от Плетнёва и от некоторых других лиц.
Чтобы рассеять себя, я перечитываю теперь то, что читала уже сто раз, — „Собрание образцовых сочинений“. Сегодня утром я открыла наугад один том с прозой, и вот что я прочла (нет ничего более соответствующего тому, что теперь происходит во мне): •„Отчего сердце моё страдает иногда без всякой известной мне причины? Отчего свет помрачается в глазах моих, тогда как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие меланхолические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хладеет? Неужели сия тоска есть предчувствие отдалённых бедствий? Неужели она есть нечто иное, как задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем?“ — И я теперь чувствую то же, что чувствовал Карамзин: у нас время очень хорошо, весна приближается, часто появляется солнце, — но меня теперь и солнце не радует•»[410].
Узнав затем, что брак А. Н. Семёновой с Григорием Силовичем Карелиным решён, Салтыкова поздравляла подругу и писала ей:
«•Я говорила тебе, что солнце меня не радует, это правда, но письмо твоё от 9 февраля так меня обрадовало, что я вскочила со стула, со всей своей слабостью, чуть не пролила чернильницу и начала прыгать от радости. Друг мой! Ты счастлива! Бог услышал мои молитвы!• Я очень хотела видеть тебя вышедшею замуж за г. Карелина, который чрезвычайно мне нравится, — и вот мои желания исполнились… Как только я смогу выходить, я полечу в пансион, чтобы разделить радость с г. Плетнёвым. Будь уверена в моей скромности, желания твои будут исполнены, никто другой об этом не узнает; я скажу о том г. Плетнёву со всею возможною осторожностью, ничьё нескромное ухо не сможет уловить ни одной буквы из того, что я буду ему говорить, и рекомендую ему самому хранить тайну, которую он, конечно, будет строго оберегать до тех пор, доколе ты пожелаешь»[411].
Когда затем вышла в свет первая глава «Евгения Онегина», Салтыкова не замедлила выслать её подруге и писала ей в том же письме:
«Ты должна была получить „Евгения Онегина“. Не правда ли, что это — очаровательно! Может ли Пушкин сделать что-нибудь, что не было бы таким? Заметь особенно, как он отзывается о женских ножках; кажется, что он безумно влюблён.
Граф Хвостов успел уже написать стихи на наводнение; мне их обещали, но я ещё их не имею, и мне цитировали два наиболее замечательных стиха; вот они:
Разрушились небес и бурных вод оплоты, И плавают вверх дном и судны, и елботы![412]Как ты их находишь?»
В следующем письме Салтыкова пишет по поводу брака Семёновой с Карелиным:
«Вчера я видела г. Плетнёва в первый раз после моей болезни; он поручил мне пожелать тебе всякого счастья, какого ты заслуживаешь; он очень доволен. Я дала ему прочесть твоё письмо, но он желал знать больше подробностей о г. Карелине: статский ли он, или военный, почему он в Оренбурге, есть ли у него надежда уехать оттуда? Я тоже хотела бы это знать, но ничего такого не приходило мне раньше в голову, я думала только о вашем счастье и не задала тебе ни одного вопроса. Что теперь смущает нас — г. Плетнёва и меня, — это что мы, может быть, не увидим тебя, не сможем наслаждаться вполне твоим счастьем, не имея возможности быть свидетелями его, потому что Гриша, впав в немилость у графа Аракчеева, не получит, вероятно, позволения приехать сюда, если же это не так, поспеши мне сказать о том, потому что этот вопрос меня мучит. Я показала твой портрет г. Плетнёву, он находит его похожим, я сказала ему, что для того, чтобы он был совсем похож, необходимо было бы прибавить букли спереди. •„Неужели она в буклях? Не хочу!“• При этом он сделал капризную мину, самую смешную, так что я не могла удержаться от смеха. Ты его узнаёшь, не правда ли? Я ещё сказала ему, что если ты не приедешь сюда, то надобно было бы, чтобы он повидал тебя с буклями, а он мне ответил: •„Ежели она сюда приедет с буклями, я уеду в Оренбург“•. Он был очаровательно весел и дал мне возможность провести два восхитительных часа. Он мне часто говорил: „Что-то наш г. Карелин теперь делает?“ Но у него есть одна излишняя деликатность, которую я не могла выбить ему из головы, — он просит тебя сжечь все его письма и больше не думает тебе писать, так как, говорит он, могут и самую невинную вещь в свете повернуть в дурную сторону; однако я думаю, что добьюсь того, что заставлю его написать, — особенно когда он получит от тебя письмо, — я уверена, что он на него ответит»[413].
Держа подругу в курсе петербургских литературных новостей, Софья Михайловна сообщает ей (в том же письме) о только что появившейся поэме слепца-поэта — И. И. Козлова:
«Г. Плетнёв прочёл нам поэму Козлова „Чернец“, отрывок из которой находится в „Северных цветах“. Она теперь вышла в свет целиком, и я уверена, что она у тебя будет; держу пари, что она тебе понравится; это восхитительно; есть места, которые я не могла слушать без слёз на глазах. Поэма „Войнаровский“ также напечатана, но ещё не продаётся; я её не читала.
Моя ипохондрия очень уменьшилась, — пишет она далее, — но желание покинуть Петербург и свет, с тем чтобы провести всю свою жизнь в деревне, не покидает меня. В следующем году, я думаю, мы уедем, не знаю ещё куда: папá мне это обещает. Дай бог, чтобы он сдержал слово! Я не могу быть здесь, я не создана для света, я — совершенная мебель, бесполезная в обществе; моя дикость увеличивается день ото дня, я больше не умею сказать слова, все мои ответы так глупы, что моё собственное самолюбие от них страдает страшнейшим образом. Г. Плетнёв должен считать меня глупою, как осёл, потому что я дичусь даже с ним… Мужчины так злы, что внушают мне непобедимый страх, от которого я не могу себя защитить даже по отношению к добрым. Не знаю, откуда мне приходят эти мысли, но я всегда думаю, что светская злость доходит до того, что истолковывает в неблагоприятную сторону или выворачивает в смешную всякое слово, которое она слышит».
«Ты не можешь себе представить, как я страдаю! И это мой отец, который причиняет мне столько огорчений (совершенно помимо желания). Вот уже 8 дней, что он в состоянии, внушающем мне тревогу: никогда ещё у него не было такого жестокого припадка ипохондрии, как теперь. Он не спит, ничего не ест, говорит только о смерти, а иногда в течение целого дня не говорит ровно ничего, несмотря на всё, что я делаю для того, чтобы его развлечь хоть немного от его мрачных мыслей; иногда он очень ласкает меня, но говорит всё время только о смерти. Он видимо изменился, стал бледен и худ, глаза у него блуждающие; быть может, это мне только кажется, но его взгляд, особенно сегодня, меня очень беспокоит; я с великим трудом удерживаюсь от слёз, — вот уже два часа, — глядя на его ласки, которые он мне давал; он никогда не давал их с такою щедростью; он совсем стал другой, каким никогда не был, я не узнаю его, я никогда не видала его в таком состоянии. Милый друг, я часто думаю о Батюшкове, я боюсь признаться самой себе в том, чего я боюсь для моего отца; но мысль об этом не покидает меня. Другая, ещё более ужасная мысль часто терзает меня, — это если я потеряю моего отца. Ах, это тем более ужасно, что он стал мне дорог, как никогда. Чего бы не дала я, чтобы хоть немного облегчить его. Если бы мне представлялась теперь партия, — я думаю, я не приняла бы её, как бы хороша она ни была: я не могла бы покинуть отца».
«Надо рассказать тебе об одном происшествии, случившемся восемь дней тому назад, которое служит предметом всех разговоров в Петербурге: дело идёт о Фёдоре Батурине, муже Кати Дороховой (ты его видела, я думаю); однажды утром он отправился в казармы, чтобы сделать смотр солдатам, которых нужно было вести на ученье; вдруг приходят ему сказать, что один унтер-офицер, Соловьёв, переведённый в полк, как пьяница и негодяй, не хочет идти на смотр; это — неповиновение, наказываемое очень строго начальством, но так как ты знаешь, что Батурин был скорее слишком мягок, чем слишком строг, — он приказывает позвать этого солдата и спрашивает его, не пьян ли он. Тот уверяет, что нет, между тем как сам шатается. Батурин приказывает только посадить его под арест; солдат подбегает к своей кровати, чтобы взять, как он говорит, свой платок; вместо того он берёт из-под подушки большой нож и всаживает его Батурину в брюхо, и, не довольствуясь одним ударом, даёт ему три и — перерезал ему кишки. Несчастного раненого несут в лазарет и сообщают обо всём императору, который присылает Виллье, чтобы лечить его. Виллье объявляет, что рана смертельна и что Батурин не сможет прожить далее 10 часов вечера. Последний не упал духом, он попросил к себе священника и выказал много душевной силы и христианского чувства; попросил свидания с женой и ребёнком, но побоялись, чтобы это не принесло вреда Кате и её ребёнку, которого она кормит; ей поэтому сказали, что муж получил апоплексический удар, но она об этом узнала, когда мужа не было на свете. Её состояние ужасно, можешь себе представить. Лиза, которая очень привязана к своей сестре, также очень трогает своим состоянием. Саша Геннингс присутствовала при их горести, — она говорит, что это заставляет подыматься волосы на голове.
Другое убийство произведено в Москве. Игроки собрались в одном доме; четверо из них: Шатилов, Алябьев, Раич и Времев затеяли ссору, Времев получил пощёчину от Алябьева, желая отомстить, он схватил его за шиворот; вдруг Шатилов и Раич берут сторону Алябьева и бросаются все трое на Времева, валят его и покрывают ударами, нанося их бутылками, стульями и всем, что попалось под руку, и кончают тем, что убивают этого несчастного человека. Они спешат похоронить его, но убийство обнаруживают, и теперь они все трое здесь, содержатся в крепости; думаю, что уже начался суд над ними[414]. Вероятно, их лишат чинов и дворянства и сошлют в Сибирь, а солдата, убившего Батурина, расстреляют. Письмо моё наполнено страшными вещами: что делать, теперь ничего не слышно, кроме подобных историй.
Каково Государю услышать две таких истории вдруг! — Я послала г. Плетнёву в Институт твоё письмо, так как я его увижу только после Пасхи»[415].
«Не знаю почему, но я не люблю праздников Пасхи: дело в том, что они нагоняют на меня невыразимую тоску, — особенно в этом году я начала их более грустно, чем когда-либо. •Ужасно грустно! Может быть оттого, что, как говорит барон Дельвиг,
Скучно девушке весною жить одной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подгорюнясь ли, присядешь у окна, — Под окошком всё так весело глядит И мне душу то веселие томит.•Может быть также, что это последствие слишком большой весёлости, в которой я находилась вчера у заутрени».
«Через восемь дней я рассчитываю повидать г. Плетнёва», — пишет она далее, — я из этого делаю себе праздник. Кстати: «Полярная звезда» вышла в свет; в ней очень немного хороших вещей, много скверной прозы Бестужева, которую, по-моему, невозможно читать. Этот человек нестерпим со своей аффектацией и своими претензиями на ум. Правда, что он не без него, но он плохо его употребляет в дело, желая заставить его слишком блестеть. Он вполне оправдывает этот стих, ставший уже пословицей: L’ésprit qu’on veut avoir, gâte celui qu’on a[416].
И потом он ввязывается судить о слоге всех решительно, между тем как его собственный — ужасающ. Он упрекает за галлицизмы, между тем как обороты всех его фраз — чисто французские. Нельзя писать хуже его: он так умничает, что у него ум за разум заходит. Впрочем, я уверена, что у тебя будет эта «Полярная звезда» и ты сама сможешь судить, справедливо ли моё мнение[417]. Во Франции тоже каждый год появляются альманахи; мой кузен Ломоносов, недавно приехавший из Парижа, привёз мне один, за этот год: он просто жалкий, — наши во сто раз лучше составлены. Эти «Annales Romantiques» (таково название этого альманаха) — не что иное, как куча величайших глупостей и самых плохих стихов, какие только когда-нибудь были на свете. Только одна-единственная пьеса показалась мне довольно хорошей, я её переписала и посылаю тебе[418]; в отделе прозы я ничего не нашла хорошего, тем не менее я переписала для тебя один отрывок о любви; потому что ты — влюблена, ты, конечно, найдёшь, что всё это верно[419].
«Пётр Иванович Полетика, которого я видела вчера, поручил мне напомнить его твоей памяти[420]; мы долго говорили о тебе с ним, он задал мне тысячу вопросов о тебе и говорил, что очень интересуется всем, что тебя касается. Не подумай, что я ему сказала, что ты выходишь замуж, — я никому ни слова не говорю об этом и тщательно буду хранить тайну до тех пор, пока ты не позволишь сказать о ней. Пётр Иванович сделан сенатором»[421].
«Дела Саши [Копьевой] совсем не подвигаются, тем не менее есть много лиц, которые интересуются ею. Якимовский прилагает наиболее усердия, но он теперь в Царском Селе и может приезжать сюда только изредка на короткое время. Она познакомилась с Рылеевым (поэтом), который тоже взялся ей помогать; у него теперь её бумаги; не знаю, что из этого выйдет, но что хорошо, это то, что Рылеев предлагает ей одолжить ей денег, так как они совершенно необходимы для того, чтобы продвинуть дело. Я провела день в пансионе с Аннет Елагиной, которая выходит замуж за некоего Орлова, секретаря Нарышкина»[422].
«Ты спрашиваешь у меня стихов Хвостова, — пишет далее Салтыкова, — но я не могу прислать их тебе, потому что Норов, обещавший мне их, до сих пор мне не даёт их. В первый же раз, как я увижу его, я ему напишу об этом крупными буквами на большом куске бумаги и надеюсь, что тогда он, несмотря на свою рассеянность, не забудет своего обещания…»
В одном из ближайших писем она снова пишет по этому поводу:
«Вчера я видела Норова, и моею первою заботою было побранить его за стихи Хвостова; он уверял меня, что он их разорвал по рассеянности, но в то же время обещал мне их принести; в ожидании он сказал мне на память несколько стихов из этой пьесы, но я могла удержать в памяти только один — о Екатерингофе, который также очень был повреждён наводнением. Вот он:
Екатеринин уж водой покрылся ГофОн знает огромное количество басен Хвостова, — одна красивее другой; есть одна, начинающаяся так:
Жил-был елбот, Который перевозил народ От Пантелеймона к Михайловскому замку.Или другая:
Жила-была корова, Как бык здорова.Или третья:
Однажды — Шёл дождь дважды»[423].«Г. Плетнёв показал мне столько дружбы, что я не знаю, как доказать ему мою признательность; ты знаешь, что у него в руках был твой портрет, так вот он держал его в течение более двух недель, и когда я его у него опять спросила, он вернул мне его с копией, которую он заказал для меня. Это внимание меня восхитило, — не правда ли, он очарователен. •Я с ним очень подружилась и даже рассказала ему все свои происшествия,• он всё знает, очень хорошо понимает меня. Он ведёт себя со мною как истинный друг и даёт мне самые лучшие советы; мы очень серьёзно говорим о наших делах. Чем более я узнаю этого человека, тем более я ценю его; у него столько ума и благоразумия, что нечего бояться вполне положиться на него: он даёт удивительные советы. <…> На этих днях я прочла „Alexis et Alis“ Монкрифа („Алина и Альсим“); я думаю, что ты не знаешь этого на французском языке; я нашла, что это очаровательно, исполнено наивности, которая восхищает; но перевод, как мне кажется, не уступает в этом оригиналу, — о чём ты можешь судить сама, так как я рассчитываю переслать тебе это к будущей почте, а может быть, и к этой, если у меня будет время»[424].
В это время Салтыкова уже окончательно изжила свой роман с Каховским и у неё начинался новый — с поэтом Дельвигом, которого она знала уже давно со слов Плетнёва, весьма, по-видимому, желавшего женить своего друга на Софье Михайловне. 21 апреля 1825 г. последняя писала:
«Я провела вчера день очень приятно в одном доме, который я с недавнего времени начала посещать, — это дом Рахмановых, молодожёнов. Он сам — гусарский офицер, женившийся на дев. Лопухиной[425], очень красивой особе; они живут у Кутайсовых; я думаю, что я тебе о них говорила. Они не бывают в большом свете, у них без стеснений, что меня очень устраивает. Что ещё доставляет мне удовольствие, — это то, что барон Дельвиг — двоюродный брат г-на Рахманова и посещает их; однако в настоящую минуту его здесь нет: он поехал провести несколько времени у Пушкина. Я очень хотела бы познакомиться с ним, потому что он поэт, потому что связан с моим дорогим Пушкиным, с которым вместе он был воспитан, и потому что он — друг г-на Плетнёва: вот три основания, которые ты найдёшь, без сомнения, важными, так как тебе известен мой образ мыслей на этот счёт. Г. Плетнёв также очень хочет, чтобы я познакомилась с Дельвигом, и я надеюсь, что это желание вскоре исполнится, так как его ожидают сюда на этих днях».
И действительно, знакомство молодых людей вскоре состоялось.
«Может быть, я напишу тебе из Царского Села, — пишет Софья Михайловна 14 мая 1825 г., — я туда отправляюсь послезавтра, чтобы провести несколько дней у г-жи Рахмановой. Кстати, я познакомилась с Дельвигом у неё; он привёз от Пушкина продолжение „Евгения Онегина“ и читал нам его; это очаровательно; там есть детали ещё более верные и более комические, чем в первой части; каждый стих достоин того, чтобы быть удержанным в памяти, это поистине восхитительно. Онегин поселился в деревне своего дяди, которого он похоронил и которого он является наследником; описание его деревенских соседей — верх естественности и в высшей степени комично [drôle]. Невозможно иметь больше ума, чем у Пушкина, — я с ума схожу от этого. Дельвиг — очаровательный молодой человек, очень скромный, но не отличающийся красотою мальчик; что мне нравится, — это то, что он носит очки, — это и тебе должно также нравиться[426]. Так как он часто ездит в Царское Село, м-м Рахманова поручает ему свои письма ко мне, а я передаю ему мои ответы, которые он относит в точности. Таким образом он был у нас уже три раза и познакомился с моим отцом, который им очарован. Представь себе, что Плетнёв рассказывает ему решительно всё, так что Дельвиг вполне знаком с нами — с тобою и со мною. Он спросил меня, получаю ли я известия от моей подруги, которая прозывается Зарема, затем сказал мне, что я каждый вторник езжу в пансион, — одним словом, он всё знает, благодаря г. Плетнёву, несмотря на это, я продолжаю откровенничать с последним: он слишком благороден, чтобы разгласить хотя бы даже своему другу чужие секреты, особенно когда его просят хранить молчание. Спор, который у меня был по поводу него [Плетнёва] и который сделал то, что он больше не называет меня иначе, как своим ангелом, произошёл у Рахмановых с неким Никольским, вздумавшим критиковать его письмо о русских поэтах: я ему сказала нечто вроде того, что он — скотина, — так я была раздосадована его глупыми суждениями, но я тогда ещё не видала Дельвига, он ещё даже не приехал [от Пушкина], — не знаю, как Плетнёв узнал об этом».
Новый роман С. М. Салтыковой развивался очень быстро, и уже через две недели она писала подруге своей в далёкий Оренбург[427]:
«•Друг мой Саша. Давно я к тебе не писала, я думаю, что ты на меня очень сердита, — ради Бога помиримся, прости меня, ангел мой, и не приписывай молчания моего к холодности: я люблю тебя по-прежнему и желаю видеть более, нежели когда-либо. Саша! Саша! Как ты мне нужна! Я целую неделю провела в Царском Селе у Рахмановых, очень-очень приятно; третьего дня возвратилась в город и нашла письмо твоё от 5 мая. Я сбиралась писать тебе из Царского, но не удалось, потому что не могла быть одна ни минуты, притом же мы гуляли с утра до вечера, — мне всё хотели вдруг показать и не давали мне ни отдыху, ни сроку…• Я очень думала о тебе в Царском, — ты бы там блаженствовала; дом Рахмановых удалён от модных кварталов, там не много прохожих, — совершенно как в деревне; под их окнами три каскада, которые я слушаю по целым вечерам с наслаждением, при свете луны; не могу сказать тебе, что я испытывала, — ты должна это понять. Мы ходили гулять в 10 и 11 ч. вечера в парк, который не очень далеко от их дома; там мы садились на скамейку и слушали соловья; с нами был один поэт — это барон Дельвиг, который также провёл восемь дней у Рахмановых; он сопровождал нас во всех наших прогулках и всегда давал мне руку. Мы вместе восхищались природою, он говорил мне стихи. Даже его проза — поэзия, всё, что он говорит, — поэтично, — он поэт в душе. Я познакомилась в Царском с г-ном и г-жею Воейковыми (Светлана). Сам он — не поэт, хотя он и „делает“ стихи; это дурной человек [vilain homme], который делает свою жену очень несчастной, — она же очаровательная особа и очень интересная сама по себе, независимо от того интереса, который Жуковский внушил к ней во всех. Я видела у неё экземпляр „Чернеца“ Козлова, на котором он написал: •„Милой моей, по сердцу родной Светлане“•. Ты знаешь, что он слепец, — поэтому он это написал совсем криво. •Мы с Дельвигом очень коротко познакомились, он очень часто у нас бывает: вчера был и завтра будет.• Папа очарован им, — и есть от чего: это чудный человек, солидный, добрый; что касается его ума и познаний, — я не говорю уж о них, ты не должна в них сомневаться; его характер — такой же, как у Плетнёва: у него та же весёлость, те же очаровательные шутки. Пётр Александрович очень завидует чему-то, — ты отлично знаешь, чему, — Рахмановы также только и делают, что говорят мне об этом; но я питаю только дружбу к нему [Дельвигу], и думаю, что скоро буду связана с ним так же, как с г. Плетнёвым. Уверяют, что у него ко мне больше, чем дружба, но я этого не думаю. Мы часто говорим о тебе, он пламенно хочет познакомиться с тобою, просит меня постоянно не звать тебя Зарема, а хочет, чтобы ты была „Дева гор“; „это, — говорит он, — характер, гораздо более достойный вашей подруги, чем характер Заремы“. Он дал мне прочесть новые стихотворения Пушкина: „Подражания Корану“; это божественно, восхитительно; в скором времени это будет напечатано. Вот ещё другие стихи того же автора; они напечатаны, и может быть, ты их знаешь, но на всякий случай посылаю их тебе: они очаровательны:
К *** Мой друг, забыты мной следы минувших лет И младости моей мятежное теченье…»[428]Четвёртого июня Софья Михайловна спешила сообщить подруге важную новость:
«Я уверена, дорогой и добрый друг, что ты менее всего ожидаешь той новости, которую я тебе сообщу: я выхожу замуж — и притом за барона Дельвига. Как ты это находишь? Это устроилось довольно быстро; я ожидала этого, когда писала тебе моё последнее письмо, но сказала тебе об этом лишь наполовину, чтобы доставить тебе сюрприз; к тому же я не была уверена в согласии моего отца. Несколько дней тому назад, у Рахмановых (которые нарочно приехали в город), Антоша [Antoine] сделал мне признание, на другой день (31 мая) его кузен Рахманов приехал, чтобы поговорить с папá, который, ни минуты не колеблясь, дал своё согласие, потому что, как он мне потом признался, он уже давно догадывался о намерениях Дельвига и всё время наводил о нём справки везде, где могли их ему дать. Убедившись, что репутация его превосходна и вполне соответствовала тому выгодному впечатлению, какое он сам составил о нём, он не воспротивился моему счастию. 1 июня моя судьба была совершенно решена, Антоша пришёл к нам, и мой отец нас благословил. Ты не можешь представить себе моего счастия, Саша! Как я его люблю! И кто только может не любить его! Это — ангел! В течение трёх дней он у нас с утра до вечера, в моей комнате, с глазу на глаз. Нет, мой друг, — ты одна можешь понять меня, мне нет надобности давать тебе отчёт в том, что я переживаю, — ты сама должна это знать, так как ты сама это перечувствовала и чувствуешь, да к тому же этого невозможно описать. До сих пор я не могу поверить тому, что со мной произошло, мне это кажется сном, я ещё вся взволнована; ты извинишь меня, что я не пространно пишу тебе сегодня: уверяю тебя, что я не в состоянии сделать это, и к тому же мой друг совсем не даёт мне для того времени. Теперь он вышел от меня по делам и через полчаса вернётся, — и я пользуюсь этим, чтобы сообщить тебе о моём счастии. Я нахожусь на третьем небе, дорогой друг, я не знаю, как благодарить бога, я не заслуживаю того, что он для меня делает. Я полюбила Антошу со второго раза, что я его увидала, но не сказала себе этого, так как не знала его ещё, т. е. я не смела признаться в этом самой себе. Он же говорит, что полюбил меня ещё раньше, чем узнал меня: г. Плетнёв и Рахмановы прожужжали ему уши мною. •Нас помолвили в понедельник, — и так я на другой же день могла видеть Петра Александровича; он уж всё знал; надобно было видеть его радость: он всегда желал, чтоб я вышла за Дельвига.• Мы говорили о нём в течение всего класса, не называя, однако, его, так как папа не хочет так скоро об этом объявлять; тем не менее вчера все наши знакомые уже знали об этом, так как в Петербурге ничего нельзя скрыть: это как будто в маленьком городке; поэтому папа уже не старается отрицать это и говорит решительно всем. М-м Шрётер плакала от радости (как она говорит), узнав эту новость: как она меня любит! Слёзы ей ничего не стоят… Я получила твоё письмо от 13 мая позавчера, мой бедный друг. Ты тогда была очень грустна по случаю отъезда Григория; я понимаю твою горесть: если бы я должна была разлучиться с Антошей, не знаю, что сталось бы со мною. Это для твоего и своего блага он делает это путешествие, — постарайся думать о том почаще и не забывай, что по его возвращении вы соединитесь, чтобы никогда больше не разлучаться…»
Начавшийся так радостно и протекавший вначале безоблачно роман одно время омрачился: отец Салтыковой, страдавший «ипохондрией», вдруг было воспротивился браку дочери, поверив каким-то сплетням о Дельвиге[429].
«Прошу тебя продолжать держать в секрете то, что я сообщу тебе о положении наших дел, — пишет она 5 июля. — У меня большое огорчение, мой друг, — и это огорчение происходит от моего отца; но я не виню его, потому что он ипохондрик, больной; у него чёрные мысли, которые его мучат, он от этого страдает и потому достоин сожаления; тем не менее я также очень страдала: ты знаешь, что он ни мало не противился моему браку, — наоборот, казалось, что он очень ему рад, и первый сказал мне всё хорошее, что только возможно, о моём Антоше. Прекрасно; но это продолжалось недолго: одно чудовище злобы, или, скорее, одна подлая сплетница, которую я ненавижу, потому что она того недостойна, но которую я не могу себе запретить презирать, т. е. м-м Бер [Baer] воспользовалась состоянием слабости, в котором был мой отец, чтобы заставить его поверить всевозможным гадостям насчёт Антоши, и мой отец, зная её проекты, состоящие в том, чтобы женить на мне своего сына, и много раз говорив мне о нём с презрением, проявил непоследовательность и придал веру сказкам, которые она выдумала, очевидно, из интриги и чтобы достигнуть своих целей, тем более что все говорят хорошо об Антоше, исключая её! Я не буду рассказывать тебе о всех ужасах, о которых она говорила про него, — это было бы очень длинно, но факт в том, что с того времени мой отец надулся на него и решительно не желает его видеть, позволяет ему приходить ко мне с условием, чтобы он не показывался ему. Я не говорю Антоше всего этого в подробности, но он знает, что папá не любит часто его видеть, и приписывает это отчасти капризам его болезни, что и я делаю, чтобы утешить себя; но как только я одна с моим отцом, он начинает говорить мне дурное об Антоше, — до того, что я начинаю плакать горючими слезами и просить его скорее отказать ему, чем беспрестанно повторять мне, что я выхожу замуж против его желания. Он отвечает мне на это, что он не хочет ему отказывать, потому что он знает, что он честный и добрый человек, который сделает меня счастливою, и что он не верит ничему из того, что ему говорят на его счёт, но что он не может любить его, потому что он ему не симпатизирует; наконец, добавляет он: что тебе до того, что он мне не нравится, — лишь бы он тебе нравился; это тебе придётся проводить свою жизнь с ним; что касается меня, то я не люблю его общества, и постараюсь видеть его как можно реже; ты должна была заметить, что я его избегаю теперь, и когда вы поженитесь, я предполагаю уехать отсюда или, если останусь, я не часто буду приезжать к вам; ты можешь приезжать ко мне время от времени с твоим мужем, но чаще — одна. •Каково мне это всё слышать, Саша! Не правда ли, что отец мой сделался очень странен? Характер его совершенно переменился;• он только и делает, что сам себе противоречит, как ты видишь, и я не знаю, что делать, чтобы угодить ему; я положила молчать, когда он начинает говорить со мною подобным образом. Это его болезнь причина его капризов, а отчасти — м-м Бер, хотя он и уверяет меня, что ей не верит. Говорить ли тебе это, Саша? Мой отец до того переменился, что именно он был причиною моего долгого молчания по отношению тебя. Его крестьяне не были исправны в этом году, а он так слаб, у него такие чёрные мысли, что по малейшему поводу он испускает громкие крики и из мухи делает слона; он вообразил, что мы в нищете и что мы все умрём на соломе; при этом он делает мне упрёки за то, что я хотела писать к тебе; он возомнил, что я больше не в состоянии этого делать столь часто, как некогда, и что я должна буду лишить себя этого удовольствия, потому что выйду замуж за человека, который не богат. Как ты это находишь? Антоша, которому я решила всё рассказывать, так как не хочу иметь ничего скрытого от этого несравненного человека, — скорее ангела, которого я люблю больше жизни, — Антоша с этой минуты обязуется доставлять к тебе мои письма так, чтобы отец мой ничего о них не знал, и я буду писать тебе столько, сколько захочу; я не боюсь, что этим я злоупотреблю добротою Антоши; я смотрю на него, что он — другая я сама; к тому же он любит тебя сверх всякого выражения. Я не передаю тебе ничего от него, так как он рассчитывает сам написать к тебе, если ты ему позволишь… Несколько дней, слава Богу, моему отцу гораздо лучше, он даже не говорит со мною больше обо всём этом и иногда видается с Антошей, но некогда более четверти часа; Антоша больше не приходит проводить целые дни у нас, то есть редко, но по большей части он приходит в 4 часа после обеда и остаётся до 9 часов вечера. С ним забываю я все мои горести, мы даже часто очень смеёмся вместе с ним. Как я люблю его, Саша! Это не та пылкая страсть, которую я питала к Каховскому, привязывает меня к Дельвигу, но это чистая привязанность, спокойная, восхитительная, •что-то неземное•, и любовь моя увеличивается с каждым днём, благодаря добрым качествам, добродетелям, которые я открываю в нём; если бы знала его, мой друг, ты бы его очень полюбила, я в том уверена. Мы много говорим о тебе. Свадьба наша будет, я думаю, в августе месяце, а может быть, в сентябре, что более вероятно. А когда будет твоя? Приехал ли Григорий?.. •Боратынский здесь, Антон Антонович с ним очень дружен и привёз его к нам;• это очаровательный молодой человек, мы очень скоро познакомились, он был три раза у нас, и можно было бы сказать, что я его знаю уже годы. Он и •Жуковский будут шаферами у моего Антоши.• Знаешь ли ты, Саша, что Антоша меня целует; должна тебе в этом признаться; я долго сопротивлялась, но наконец должна была уступить его настояниям. Он поцеловал меня в губы почти силком в первый раз; теперь я сама это делаю с наслаждением. И какое счастие говорить на „ты“; мы иначе и не говорим…»
Через две недели (20 июля) Салтыкова пишет:
«Мы читали твоё письмо вместе с Антошей, он также очень чувствительно тронут привязанностью, которую ты ко мне проявляешь, и участием, которое ты принимаешь в моём счастии, дорогой друг. Ты довольна партией, которую я делаю? Твоё одобрение для меня очень ценно, и если бы ты знала Антошу столько же, сколько я его знаю, ты бы поняла, как я довольна своим выбором. Я вполне убеждена в том, что буду счастлива: можно ли не быть такою с этим человеком, или, скорее, ангелом? Нравственные качества, убеждения, благородство его характера — верные для меня гарантии счастия, которое я ожидаю от союза, который я собираюсь заключить. Не говорю об его уме, об его приятных приёмах в обществе: ты имеешь о них представление, потому что Плетнёв тебе говорил о нём. Он особенно очарователен в совсем интимном обществе, так как он застенчив и по большей части молчит, когда много народу, но в кругу людей, которые его не стесняют, — он бывает очень приятен своею весёлостию; я также люблю слушать его, когда он говорит о литературе; он иногда делает это, когда мы с ним вдвоём (а мы всегда одни), — и я всегда бываю очарована его вкусом, правильностию его суждений и его энтузиазмом ко всему тому, что поистине прекрасно. Надо было видеть его радость, когда он читал часть твоего письма, в которой ты говоришь о нём и о дружеском чувстве, которое он всегда внушал тебе: он выхватил у меня из рук твоё письмо и перечёл его несколько раз. Он непременно хочет писать тебе, если ты ему это позволишь.
Я очень довольна, что Григорий приехал и что он благоразумен. Да сделает Господь тебя такою счастливой, как ты того заслуживаешь, дорогой друг; ты много страдала в жизни и можешь надеяться на счастливую судьбу. Ты не говоришь мне, когда будет твоя свадьба? Моя назначена на начало сентября. Ты права, дорогой друг, когда мы выйдем замуж и когда сделаемся серьёзными женщинами, как ты говоришь, — наша переписка не будет больше прерываться и мы снова будем добрыми друзьями… Ты спрашиваешь у меня мой портрет, — он у тебя будет, добрый и нежный друг… прошу тебя подождать до моей свадьбы, — и тогда, наверно, у тебя будет мой портрет и даже наши портреты…»
Сближение между женихом и невестой, таким образом, продолжалось. В том же письме, из которого мы сделали выписку, находим указание на то, что Дельвиг дал своей невесте, такой горячей поклоннице Пушкина, на прочтение письма поэта к себе. К величайшему сожалению, Софья Михайловна не сумела сохранить эту драгоценную переписку своего мужа, — до нас дошла лишь ничтожная часть писем Пушкина, которых должно было быть очень много.
«Я очень забавляюсь, — пишет Софья Михайловна, — всю эту неделю чтением писем Пушкина к Антоше, у которого постоянная с ним переписка[430]; я хотела бы дать тебе прочитать эти письма, которые сверкают умом. Пушкин очарователен во всех видах, — в прозе так же, как и в стихах. Его брат, который здесь[431], говорят, тоже очень умён; я надеюсь часто его видеть, когда выйду замуж; общество, которое я буду посещать, будет состоять из писателей; это восхищает меня: это именно тот круг, который я всегда желала иметь у себя, — и вот моё желание исполнилось. Что хорошо, это то, что у нас будут бывать только люди интимные, никого из великосветских, — друзья и добрые знакомые».
«Дела наши идут всё так же, — пишет она через полторы недели, — мой отец продолжает не видать Антошу, которого я люблю день ото дня всё более и которого женою я жду не дождусь сделаться. Мне остаётся ждать и волноваться ещё 6 недель; меня утешает то, что всё это будет вознаграждено и будет иметь следствием целую жизнь счастия и наслаждений»[432].
«Ах, я забыла полакомить тебя новыми стихами Пушкина, — пишет она далее, — вот они (это с турецкого):
Не стану я жалеть о розах, Увядших с лёгкою весной: Мне мил и виноград на лозах, В кистях созревший под горой, Краса моей долины злачной, Отрада осени златой, Продолговатый и прозрачный, Как персты девы молодой».«Антоша с таким же нетерпением, как и я, ожидает получить известий о тебе и часто говорит мне: •Что наша Саша не пишет к нам?• (Это он тебя так называет, когда мы вдвоём, но у него нет недостатка в почтении к твоему титулу дамы), и каждый день, при входе ко мне, первою его заботою — спросить, не получила ли я письма из Оренбурга. Что за превосходный мальчик этот Антоша! Когда я подумаю о том, что стану его женою только через четыре недели, я становлюсь мрачной и мечтательной; мне кажется, что это слишком ещё долго, что много перемен может произойти до того времени и что у меня слишком мало терпения, чтобы ждать так долго. Я объявила всем о твоём замужестве, — все им довольны. Александрина Геннингс тебя поздравляет и обнимает, Аннет Клейнмихель — также… Я ещё не была во вторник в пансионе после окончания ваканций, но знаю, что г. Плетнёв уже был там и что он чудесно разыграл удивление и неожиданность, когда м-м Шрётер пришла и сказала ему о твоём замужестве: он высказал крайнюю радость по случаю этого события и, видя её противную мину, прибавил ещё, что он в восторге, что твой муж — офицер, потому что, сказал он, статские не стоят военных (всё это было сказано для того, чтобы рассердить её, ибо ты знаешь её образ мыслей на этот счёт); она сказала ему (очевидно, чтобы его смутить), что его друг Дельвиг — статский. „Да, — ответил он ей, — к несчастию, он статский, и я сам также; но тем не менее я так думаю; я принуждён сознаться, что мы ничто перед военными“. Она ничего не ответила и вышла с необыкновенным выражением лица; как только она повернула спину, весь класс покатился со смеху. Г-н Плетнёв сейчас же рассказал об этом Антоше, поручив ему пересказать мне это»[433].
«У нас, так же как и у тебя, будет небольшой круг друзей и интимных знакомых; но что нас очень огорчает, это то, что мы обязаны остаться в этом отвратительном Петербурге. Правда, что немного времени после брака мы будем в отсутствии, но это будет лишь на два или на три месяца: мы поедем в Витебск, повидать родителей моего Антоши; я рассчитываю провести восхитительные минуты посреди его семейства, которое, говорят, очень дружно, хотя и очень многочисленно. Я отсюда уже вижу те ласки, которые оно мне расточит. Друг мой, у меня будет мать, — я вновь обрету это счастие, которого я лишена с самого детства… Антоша в восторге от того, что ты мне поручаешь обнять его; он пишет к тебе с этою почтою, и я жду, что он принесёт ко мне своё письмо, чтобы прочесть его, так как бог знает что способен он наговорить тебе, а это заставило бы меня ревновать. Пётр Александрович тебе кланяется; он часто проезжает мимо меня и останавливается, чтобы поговорить с нами. •Напиши ему, — он с нетерпением ожидает письма от• Madame Karelin»[434].
В следующем письме своём, от 2 сентября, писанном «с оказией», Салтыкова рекомендует своей подруге лицейского товарища Дельвига и Пушкина В. Д. Вольховского, ехавшего в Оренбург по служебному поручению.
«Начинаю сегодня письмо моё рекомендацией одного молодого человека, которого я сама знаю только по отзывам других (понаслышке), — это некто г-н Вольховский, которого Антоша очень любит и с которым он воспитывался в Лицее; он говорит о нём бесконечно хорошо: этот молодой человек очень образован и полон достоинств. Я узнала только вчера, что он едет в Оренбург (•т. е. он едет в Хиву и проедет через Оренбург•), и — за несколько лишь часов до его отъезда. Я очень досадую на это, так как я попросила бы его взять письмо к тебе; но ты видишь, что у меня не было на это времени, и я надеюсь, что ты извинишь меня. Он знает твоего мужа (наконец я узнала, что его зовут Григорий Силич; я не могла добиться узнать это от тебя, хотя много спрашивала тебя об этом: ты так рассеяна, что никогда не отвечаешь на все мои вопросы, хотя правда, что я иногда угнетаю тебя ими). Вольховский высказал много хорошего о твоём муже Антоше, что доставило мне бесконечное удовольствие, как всякий раз, что слышу похвалы тебе; между прочим, он говорит, что Григорий великолепно владеет даром слова, •„что он говорит обворожительно, что он очень образованный человек и либерал“•. Если я должна верить Антоше, я не должна была бы говорить тебе о Вольховском, как о знакомстве, которое тебе предстоит сделать, потому что он уверяет, что знакомство это уже будет сделано, когда письмо моё придёт к тебе: он уверяет, что он будет в Оренбурге через 18 дней, — но я не верю ему. Прошу тебя, дорогой друг, смотреть на этого молодого человека, как на брата Антоши, так как он смотрит, как на братьев, на всех своих сотоварищей по Лицею, в особенности на хороших, как Пушкин, Горчаков, Вольховский и пр. Итак, надеюсь, что ты сделаешь ему хороший приём из дружбы к нам… Он, по поручению Антоши, передаст тебе наши приветствия; он обещал ему написать из Оренбурга и сообщить известия о тебе. Не знаю, почему ты медлишь дать их мне сама… Я привыкла получать от тебя письмо через каждые 15 дней; обыкновенно его приносят в субботу, — и в последнюю субботу мы с Антошей ожидали его целый день, но не были удовлетворены. Это нас очень огорчило. •Почтальоны, как нарочно, целый день ездили мимо нас, и ни один не заехал к нам. Наконец Антоша надулся и ушёл от меня в страшной хандре. Пётр Александрович тебе кланяется; он говорит, что будет писать к тебе, когда я выйду замуж, а мою свадьбу, не знаю для чего, откладывают до октября; однако же это вздор: мы с Антошей и слышать не хотим об этом, сбираемся буянить и надеемся поставить на своём•».
«Мой отец продолжает капризничать до крайней степени; я не понимаю этого человека и, при всём уважении, которое дочь должна питать к отцу, я не могу не заметить, что я никогда не видала [человека] более тяжёлого для совместной жизни, чем он, и что у него самый несчастнейший характер. Он до того своенравен, что, я думаю, способен расстроить мой брак, протянув дело о нём более трёх месяцев. Однако никакая власть в мире не добьётся этого — это невозможно сделать, независимо от любви и неизменной привязанности, которые связывают нас, имея в виду вольности [?], которые мы позволили себе, и почву, на которой находимся с Антошей. Боже мой, я думаю, что никогда не увижу конца всего этого! К довершению мучений, нас ещё угнетают со всех сторон советами; один говорит, что мы должны жить так, другой — что этак, — одним словом, каждый советует на свой образец, так что голова у нас кружится, слушая со всех сторон глупости, которые нам преподают лица, вмешивающиеся в чужие дела. Амалья Ивановна одобряет квартиру, которую Антоша нашёл, — Пётр Иванович[435] не одобряет её, потому что она не нравится моему капризному отцу, а ему она не нравится потому, что стоит 1500 руб.: он утверждает, что мы умрём с голоду, — между тем как мы имеем 10 000 р. в год. Между тем уж осень, все приезжают с дач и ещё труднее найти квартиру; это приводит меня в ярость, — я бы удовольствовалась какой-нибудь дырой, как и Антоша, — но мы не одни, надо подумать и о прислуге, куда её поместить, если мы не возьмём квартиры в 1500 р.».
Наконец помещение было найдено, — и в письме от 26 октября Софья Михайловна писала подруге: «Как только я выйду замуж, папá будет искать для себя другую квартиру, и письма не дойдут до меня, — а потому пиши: •Её Высокобл. М. Г. Баронессе Соф. Мих. Дельвиг — в Большой Миллионной, в доме Г-жи Эбелинг.• У нас очаровательная квартира, не большая, но удобная, весёлая и красиво омеблированная. Я не дождусь, когда буду в ней с моим Антошей, моим ангелом-хранителем. 30-го числа этого месяца, в 2 часа пополудни, я стану его женой, т. е. через четыре дня, наверняка, — лишь бы какое-нибудь великое несчастие не поставило этому препятствия, — от чего сохрани нас Боже… Что беспокоит меня, — это то, что папа болен уже несколько дней: у него боли в нервах и спазмы. Он всё очень несправедлив к нам, но сам он заслуживает жалости из-за своего столь несчастного характера. Дай ему Бог жизни, здоровья, счастия…»
Свадьба Дельвига и Софьи Михайловны состоялась 30 октября 1825 г. Плетнёв приветствовал свою ученицу и невесту друга сонетом, напечатанным в «Северных цветах» Дельвига на 1826 г.; здесь он писал:
Была пора: ты в безмятежной сени Как лилия душистая цвела, И твоего весёлого чела Не омрачал задумчивости гений. Пора надежд и новых наслаждений Невидимо под сень твою пришла И в новый край невольно увлекла Тебя от игр и снов невинной лени. Но ясный взор и голос твой и вид, — Всё первых лет хранит очарованье, Как светлое о прошлом вспоминанье, Когда с душой оно заговорит — И в нас опять внезапно пробудит Минувших благ уснувшее желанье.Вскоре после свадьбы С. М. Дельвиг писала подруге в восторженном письме (6 ноября 1825 г.):
«Наконец вот я — счастливейшая из женщин, дорогой мой друг. Пишу тебе уже не из моей темницы на Литейной, а из кабинета моего дорогого Антоши. Я принадлежу ему с 30 октября. Наша свадьба совершилась, как я тебе уже говорила, без торжества, утром. Мы сделали много визитов, что меня вконец утомило, но, благодарение Богу, они все окончены, теперь их принимаю ежеминутно, и это также довольно скучно. Мне нечего говорить тебе, что я счастлива, да к тому же я не сумела бы выразить тебе то, что я чувствую. Ты должна меня прекрасно понимать, дорогой друг, и даже лучше меня самой, потому что я не могу хорошенько разобраться в том, что во мне происходит. Почему ты не с нами, мой единственный друг! Тебя не хватает для моего счастия, которое тогда было бы полным. Тебя всегда будет недоставать мне, дорогой друг, я люблю тебя ещё больше с того времени, как я стала счастлива. Мой муж целует тебя с позволения твоего мужа, к которому я даю тебе такое же поручение. Я спешу написать тебе несколько слов, чтобы не откладывать этого удовольствия до следующей почты; но уже очень поздно, и письмо моё сейчас отправят на почту; ты не будешь на меня сердиться за то, что я не пишу тебе много. Вчера Антоша получил письмо от Вольховского, которое доставило нам чрезвычайное удовольствие. Он говорит о вас и даёт интересную картину вашего домашнего счастия. Дай Бог, чтобы ты никогда не переставала быть счастливой. Очень благодари твоего мужа от меня: он сделал счастие моей Александрины, — лучшей из подруг. На этих днях мы предполагаем пригласить художника, чтобы исполнить обещание, которое я тебе дала. Прощай, дорогой ангел, будь благополучна, скажи тысячу нежностей от нас твоему превосходному мужу и всегда люби твою преданнейшую и искреннюю подругу Софью Дельвиг».
«Мой единственный друг, моя дорогая добрая Саша! — пишет она через неделю[436]. — Я имела счастие получить от тебя известие у себя. Ты не можешь представить себе, что я чувствую: невозможно быть более счастливой. Ты права, мой друг, — только покончив визиты и всю эту свадебную суету, вполне наслаждаешься; ничто не может сравниться со счастием жить с тем, кого любишь больше всего на свете. Я люблю теперь Антошу совсем иначе, чем любила его, будучи невестой: это небесная любовь, божественная, это восхитительное чувство, которое я не могу определить, но которое ты должна хорошо понимать, находясь в таком же положении. Друг мой, какое это вознаграждение со стороны неба — добрый муж! заслужила ли я эту милость? Мне нечего более желать, — кроме свидетеля моего счастия… Мой муж обнимает вас обоих, он предполагает сделать приписку в следующем моём письме: сейчас это невозможно, потому что мы оба спешим; ему тоже надо написать множество писем, а почта отходит сегодня. Мы немного в твоём роде: мы по большей части забываем о времени отхода почты…»
«Я приобрела множество новых знакомств, — пишет она далее, — из коих лишь некоторые мне приятны, — это близкие знакомые моего мужа, как Козловы, Гнедич, Пушкин (Лёвушка, как его называют — это брат Александра), г-жа Воейкова, которую я уже немного знала, Лобановы (переводчик „Ифигении“ и „Федры“)[437], всё это славные люди, без малейших претензий. Слепой, интересный автор „Чернеца“, чрезвычайно понравился, он тронул меня своим сердечным приёмом, он, поискав меня ощупью, схватил меня в свои объятия, расцеловал мне руки, говоря при этом самые трогательные вещи. Гнедич — человек с большим умом, Пушкин — мальчик 21 года, который так и кипит; он иногда заставляет нас много смеяться, — мы видим его почти каждый день. Один из наиболее приятных вечеров, которые я провела, был вечер у нас на прошлой неделе: у нас целый вечер были г. Плетнёв, Пушкин и Туманский. Это был очень приятный маленький ужин. Мы много говорили о тебе с Петром Александровичем, живо сожалея, что ты не присутствовала на этом нашем собрании, которое давно уже было предметом наших самых приятных мечтаний. На этих днях мы обедали у г. Плетнёва. Его жена — очень добрая особа, немножко прозаическая правда, но без претензий и церемоний…»
«Мой брат покинул нас дня три или четыре тому назад, так и не получив возможности повидаться с моим отцом[438]. Он очень меня огорчает, этот бедный Мишель: это поистине превосходный мальчик, полный чувства чести. Молодые люди страшно любят друг друга; письма Луизы очень нежны; она написала ему три письма в течение восьми дней его пребывания здесь. Мы проводили Мишеля до Стрельны, где и пообедали. Это маленькое путешествие стоило мне немного дорого. Был собачий холод в этот день, я схватила насморк, кашель и головную боль, которая продолжается у меня до сих пор, не покидая меня ни днём ни ночью, и заставляет меня очень страдать. Кроме того, я натворила много глупостей в Стрельне. Александрина Геннингс была в нашей компании, мы много пили шампанского за здоровье Мишели, его Луизы и его путешествия; я на свою долю выпила больше 4 бокалов. Как ты это находишь? Под конец я пила уже насильно, чтобы выкинуть штуку, так как они смеялись, и это меня подзадоривало, а брат мой только приговаривал: •„Ну, Софья Михайловна, за моё здоровье, пить так пить, гулять так гулять, дурачиться так дурачиться“•. Возвращаясь в Петербург, я почувствовала себя очень скверно в карете, меня стошнило (с твоего позволения) в шляпу Антоши, а по возвращении домой у меня болели нервы»[439].
Вскоре в Петербурге на Сенатской площади прогремели пушки: произошло восстание 14 декабря. Софья Михайловна узнала, что в нём участвовал её поклонник П. Г. Каховский. Двадцать второго декабря она писала подруге:
«Саша, Саша, я с ума сойду, моё сердце слишком переполнено, я не знаю, что со мной будет, это несчастие слишком тяжкое, не знаешь, куда броситься. С другой стороны, я очень поглощена Антошей, который скоро заставит меня потерять голову от любви. Очень ошибаются те, кто говорит, что любовь бывает только перед браком: неправда — это вовсе не чувство дружбы, которое я питаю к Антоше. Ах, мой друг, я горю, я люблю так, как никогда не думала, что можно любить, я люблю больше, чем любила до брака, я обожаю. Не знаю, что со мною происходит… Я сама себя иногда не понимаю. Уж не перед смертью ли это? Саша, не смейся надо мной».
«Я не могу писать тебе о том, о чём хотела бы поделиться с тобою: об этом надо говорить. У меня есть луч надежды увидеть тебя теперь, когда Аракчеев более не царствует. Ты узнаешь от Жемчужникова всё, что произошло здесь и как случилось, что Николай на троне. Всё, что я скажу тебе, это то, что сей ужасный день 14 декабря был причиною молчания, хранимого мною в течение многих почт, ибо все письма теперь распечатываются, а я не могла писать тебе, не сказав тебе мнения о том, что произошло; несколько дней даже вовсе не принимали писем на почту. В числе многих молодых людей, замешанных в это дело, находятся также Рылеев и Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца, и все, не исключая Каховского, который принадлежал к их числу, находятся в крепости. Кюхельбекер ещё не разыскан до сих пор. Дай Бог, чтобы не открыли, где он; должно быть, он не здесь, так как его тщательно ищут. Я трепещу, что его схватят. Мы были в большой тревоге в продолжение всех этих дней. Я рассчитываю написать тебе по почте через несколько дней, дорогой друг; я скажу тебе тогда всё, что захочу сказать тебе и что может быть сказано по почте; теперь же я как в припадке лихорадки и не в состоянии писать даже к тому, кого люблю больше всего на свете…»
«Не пугайся этой мрачной бумаге, — начинает Софья Михайловна своё новогоднее письмо к подруге от 7 января 1826 г., написанное на листе с чёрною каймою, — это траур по императору Александру, — все теперь пишут на такой бумаге», и затем, после поздравлений, продолжает: «Ты должна была получить моё сумасшедшее письмо с Жемчужниковым. Мы много говорили о вас в тот день, что он обедал у нас. Это очень приятный молодой человек, кажется, он очень любит вас. Он расскажет тебе то, что мы поручили ему сказать вам. Умоляю тебя зрело подумать об этом с Григорием, и если этот проект покажется тебе подходящим, постарайся его выполнить. В настоящее время это вещь довольно лёгкая, или, по крайней мере, гораздо более лёгкая, чем во времена императора Александра. Я почти уверена, что Николай позволит вам вернуться сюда. Какое это счастье было бы для меня».
«Жемчужников много занимается немецкой литературой и любит её больше, чем всякую другую; он сам больше немец, чем русский. Я спросила его, говорит ли он иногда по-немецки с тобою, а он ответил, что он даже и не подозревал, что ты знаешь этот язык. С такою скромностью, сударыня, вы забудете его, и это будет очень обидно. Я просила Жемчужникова говорить с тобою по-немецки, я сказала ему, что ты его очень хорошо знала и что я буду очень огорчена, если ты его забудешь. Между нами сказать, я очень похожа на чёрта, проповедующего нравственность, ибо я отличаюсь редкою леностью к музыке; я далека от того, чтобы иметь большой к ней талант; он мог бы сделаться таким, если бы я его развивала, а это как раз то, на что я не могу решиться. Каждый день я принимаю это решение, но прихожу в отчаяние при мысли о том, что уже потеряла большую часть своих сил; между тем чем больше откладываешь, тем больше потеряешь привычки играть; поэтому завтрашнего дня я сажусь за рояль и на этот раз сдержу своё слово, так как моя лень причиняет огорчение Антоше, а это, как ты хорошо знаешь, очень хороший повод, чтобы победить её».
О своём времяпрепровождении Софья Михайловна пишет далее:
«Я только и делаю, что читаю Вальтера Скотта, помогаю мужу в его занятиях по „Северным цветам“, то есть переписываю стихи и прозу, которую ему доставляют, держу с ним корректуру и проч.; а чтобы отдохнуть, — сажусь к нему на колени, мы целуемся, сколько влезет [tant et plus], я — на третьем небе и благодарю Бога за моё счастие сто раз в день. Вечером у нас всегда кто-нибудь: завсегдатаи — Лев Пушкин, князь Эристов — молодой человек второго выпуска из Лицея, очень забавный[440], добрый Пётр Александрович и Рахманов, наш кузен, который через два дня едет в Москву, — вот лица, которые приходят к нам чаще других. Гнедич — очень приятный человек, но он бывает несколько реже. Мы часто ходим к Петру Александровичу проводить вечера. Я никогда не бываю так счастлива, как у него. Его жена[441] немножко проза и даже немножко — дурная проза; но он показывает много уважения к ней, и все делают то же, чтобы не огорчить его. Это редкий муж, он несчастлив, нет сомнения, будучи помещён в круг людей, который ему нимало не подходит, при его воспитании, уме, знаниях, любви к поэзии, ко всему, что поистине прекрасно. Его жена не понимает его, она очень добра, но ничего, кроме кухни, не умеет делать и по-своему понимает то, что делает и говорит её муж, а это делает её ревнивою; впрочем, она добрая особа, простая, верная своим обязанностям. Её родственники (а их у неё огромное количество) почти в том же роде, как родные Александрины Копьевой, только лучше воспитанные, ты можешь по ним получить представление о плетнёвских. Я видела их почти всех у него в день именин г-жи Плетнёвой. Пётр Александрович редко видит их у себя, но часто посещает их и питает к ним всевозможное почтение. Со всем тем он всегда весел, всегда доволен (по наружности), делает всё возможное, чтобы скрыть недостатки и странности своей жизни, — одним словом, чем больше я узнаю этого человека, тем более я его уважаю. Не осуди меня, дорогой друг, за то, что я не посылаю тебе „Северные цветы“, они запаздывают выходом в свет из-за одной статьи Дашкова, которая заставляет себя ждать по причине лености автора. На этих днях они будут готовы, и ты их скоро будешь иметь. В них будет много хороших вещей».
Начало 1826 г. ознаменовалось выходом в свет, при непосредственном участии Плетнёва, первого собрания стихотворений Пушкина. Софья Михайловна поспешила выслать книгу своей подруге и писала ей по этому поводу[442].
«Ты должна была получить Стихотворения Пушкина: в них много пьес, которые ты знаешь, но есть также и новые для тебя. Подумай обо мне, читая их, как я думаю о тебе, когда перечитываю то, что мне особенно нравится. Я мысленно делю свои наслаждения с тобою и вижу отсюда удовольствие, с которым ты будешь читать эти прелестные вещи. Никто более тебя не в состоянии их чувствовать. •Заметь „Сожжённое письмо“ и „Ночь“; одно смотри в Элегиях, а другое в Подражаниях древним. Это прелесть необыкновенная. Ещё из мелких его стихотворений восемь стихов, кажется, прекрасные: Я верю, я любим, для сердца нужно верить•. Что за чувство, что за стихи! •Ничего нет принуждённого: всё прекрасно — послания его, элегии, Подражание Алкорану — прелесть. Сколько восхитительных минут доставляет мне этот очарователь-Пушкин!• Скажи мне своё мнение о вещах, которые тебе больше понравятся. У Льва Пушкина изумительная память, он знает массу стихов на память и почти все стихотворения своего брата; он может прочесть поэтому „Цыганы“, с одного конца до другого. Это тоже одно из лучших его произведений; очень досадно, что он ещё не думает его печатать. Мой муж в настоящий момент совсем не занимается поэзией, т. е. мы много занимаемся вместе чтением, но он не написал ни одного стиха в продолжение двух месяцев; это потому, что он был занят „Северными цветами“, которые скоро появятся, и потом одним делом, которое ему поручили в его Канцелярии; он только и делал, что писал. Теперь надеюсь, что он возвратится к своим premières amours[443], т. е. к своей Музе; я хотела бы, чтобы она приходила навещать его почаще (ревность в сторону). Кстати, не могу помешать себе ещё поговорить с тобою о Пушкине. Не пропусти пьесу, озаглавленную „Муза“, начинающуюся так:
В младенчестве моём она меня любила…Как ты её находишь?»
«Ты меня спрашиваешь, как отец относится к нам; ты будешь, без сомнения, удивлена узнать, что он берёт квартиру довольно близко от нас, что он приезжает повидать нас довольно часто, что обедает с нами, и когда мы пишем ему, чтобы узнать, как его здоровье, он отвечает нам „мои дорогие друзья“; он оказывает нам внимание, присылает нам время от времени разные вещи для хозяйства или маленькие подарки моему мужу, как, например, портфель (чтобы класть бумаги, разумеется) и т. д. Он очень хорош с Антошей и начинает даже размягчаться с Мишелем, мы даже слышали от него, что он более не будет противиться его женитьбе… Я покидаю тебя, чтобы написать ещё множество писем, — между прочим, к старшей сестре моего мужа, молодой особе 17 лет, которая только что вышла замуж; надо её поздравить, равно как папá и мамá, которых я очень нежно люблю; они пишут мне письма, полные доброты и нежности, которых я не заслужила и которые я не могу достаточно оценить. Прощай, дорогой друг, я очень побраню г. Плетнёва от твоего имени, как и от своего: я увижу его завтра — потому что это суббота»[444].
«Прости меня, дорогой друг, за то, что я так долго тебе не писала: мой муж очень обеспокоил меня, сыграв со мною плохую шутку: он заболел, простудившись, и это могло бы иметь печальные последствия, если бы мы вовремя не позвали нашего врача[445]. Тем не менее у него была лихорадка, продолжавшаяся более 8 дней; теперь ему хорошо, но ему ещё велено не выходить из комнаты, так как на улице всё время холодно. Доктор признался нам, что он очень боялся, чтобы у Антоши не сделалось воспаление; это признание показывает, что больше нечего бояться, и всецело меня успокаивает… Твой муж написал моему мужу письмо, которое доставило ему большое удовольствие. Этот добрый Григорий любит нас так же, как и мы его. Антоша будет писать ему на этой почте и даст ему ответ относительно места, которое он хочет иметь здесь. Ответ неудовлетворителен, несмотря на всё наше доброе желание и наши старания; но я ни в чём не отчаиваюсь и с удовольствием думаю, как мы будем когда-нибудь вместе и что день этот не так далёк»[446].
Узнав, что книга стихотворений Пушкина не дошла до Карелиной, Софья Михайловна писала ей 22 февраля:
«Ты меня страшно огорчила, сообщив мне, что Стихотворения Пушкина до тебя не дошли. Уверяю тебя, что я ничего тут не понимаю. Мы поручили книгопродавцу Слёнину их тебе послать; он это и сделал, как говорит; но если он солгал, мой муж ему скажет, и во всяком случае у тебя будет твой экземпляр Пушкина через некоторое время, — ты можешь на него рассчитывать. Представь себе, что „Северные цветы“ ещё не вышли, — что довольно неприятно для меня, — это, как кажется, я тебе говорила, по вине Дашкова, который довольно ленив; но теперь это уже не продлится дольше нескольких дней: он окончил свою статью»[447].
Наконец Карелина получила затерявшуюся было книгу, написала о своём впечатлении и получила такой ответ:
«Очень благодарю тебя, добрый друг, за то, что ты думаешь обо мне, читая Пушкина, и что ты переносишься, как и я, в прошлые времена. У нас часто одни и те же мысли. По крайней мере это утешительно. Я в восторге, что ты наконец получила Пушкина, а то я не знала, чему приписать это запоздание… Не знаю хорошо, какой ответ дать тебе о произведениях Пушкина, которые не находятся в его собрании. Это был каприз с его стороны, и я не умею тебе сказать, подарит ли он нам когда-нибудь произведения, которые он у нас отнял. Он не счёл их достойными того, чтобы быть напечатанными. Ты должна помнить прелестную маленькую вещь — „К Морфею“: она также не была допущена в Сборник, и Бог знает почему заслужила эту немилость, так как она вовсе не менее достойна Пушкина, чем столько других её подруг, которым он даровал свою милость. Что тебе, конечно, будет приятно, — это что он хочет напечатать „Цыган“ и — вскоре. Он также только что закончил свою историческую трагедию о Борисе Годунове; это, как говорят, очень красиво. Мой муж читал часть её в прошлом году, во время своего пребывания у него. Это такая трагедия, какие ты любишь, — т. е. вроде Шекспира и Шиллера — в ней нет ничего французского»[448].
В письме Софьи Михайловны от 8 марта 1826 г. находим следующую приписку Дельвига к мужу А. Н. Карелиной — Г. С. Карелину:
«Любезнейший друг Григорий Силич, очень благодарю за добрую весть об Вольховском. Он вам дорог, как друг, а мне, лицейскому его товарищу, как родной брат и друг. Когда-то увижу опять его и когда в первый раз обниму вас? Я бы сначала согласился на меньшее: мне бы хотелось не через три недели, а хоть через неделю получать от вас ответы. В теперешнем же положении письма наши похожи на монологи. С нетерпением ждём от вас докторского описания болезни милой Александры Николаевны. За две тысячи вёрст большой друг кажется в две тысячи раз больнее. Мы все здоровы, надеемся летом ещё быть здоровее. Это одно время в Петербурге, в которое чувствуешь, что живёшь, а не изнемогаешь в тяжёлом сне. Прощайте, поцелуйте ручки у вашего ангела. Любите
Дельвига».
Он прислал несколько слов к Карелиным и в письме жены от 14 апреля того же года:
«Поздравляю вас, милые друзья наши, с новой гостьей мира и с праздником Пасхи. Молю Планеты, под влиянием которых родилась ваша Софья[449], об её счастии. Зная вас, знаю, каково будет её сердце. Простите. Любите
Дельвига».
«Прошу нижайше прощения у моей очаровательной маленькой крестницы в моей неисправности, — писала Софья Михайловна 3 мая, имея в виду маленькую Софью Карелину, родившуюся незадолго, — до сих пор мне не было возможности поквитаться с нею; я не могу дать никакого подобного поручения моему мужу: •Он прямой мущина и ничего не понимает, а я не выхожу из дому уже четыре недели.• <…> Наш бедный Плетнёв очень страдает, — писала она дальше, — он очень худ и бледен, как говорят; целую вечность я его не видала. Ему советуют ехать на какие-нибудь воды, и я думаю, что он это исполнит. Жуковский тает на глазах, он также скоро едет на воды в Эмс или в Карлсбад. Карамзин не чувствует себя лучше, чем он. Он вскоре нас покинет также, чтобы ехать в чужие края. Гнедич не выходит из комнаты уже с давнего времени. Это горе. •Естли умрут, Гнедич не докончив Иллиады, а Карамзин — своей Истории, беда будет. Я познакомилась с Пушкиными, они недавно приехали из Москвы. Прекрасное семейство.• Какая достойная женщина эта госпожа Пушкина, и Ольга, её дочь, превосходная личность, которая любит своего брата Александра со страстностью [avec passion]. Я их часто вижу, они без чванства [sans cérémonies]. Никто меня так мало не стесняет, как они. Как я ни дика, я познакомилась с ними очень быстро. Вальховский часто приходит повидаться с нами. Мы не теряем никогда случая поговорить с ним о вас. Какой славный молодой человек и как он выигрывает, когда его узнаешь. Когда он был в Лицее, товарищи называли его •„Добродетель“•, и я нахожу, что он очень заслуживает это имя. Чем больше его узнаешь, тем больше любишь. У него есть значительные достоинства, которые всех заставляют его ценить».
На другой день Софья Михайловна сообщала подруге ряд других новостей:
«Яковлев, один из лицейских товарищей Антоши, женится и всеми силами хочет, чтобы его жена стала моим другом; его невеста — некая Маргарита Васильевна Куломзина, которую я не знаю ни по Еве, ни по Адаму. Ольга Пушкина, которую я тебе расхваливала во вчерашнем письме, поистине превосходная девушка, которая мне очень нравится и с которой я очень хотела бы общаться, но у неё, несмотря на её ум, — мания всегда искать себе друзей, которых она меняет почти так же, как рубашки. Её мать хочет, чтобы мы тесно сошлись, но не думает о том, что для того, чтобы стать друзьями, нужны годы знакомства, и что не довольно сказать: будем друзьями, чтобы стать ими. Я читала одно письмо, которое Ольга получила от одной из своих интимных подруг из Москвы. При самых христианских чувствах и лучшем желании не оскорбить подругу этой доброй Ольги, не могу помешать себе думать, что это трогательное послание переписано из одного из этих скверных романов, самые патетические места которых всегда заставляют меня смеяться до слёз. Боратынский пишет нам, что он женится; его невеста — барышня 23 лет, дурная собою и сентиментальная, но в общем очень добрая особа, до безумия влюблённая в Евгения, которому нет ничего легче, как вскружить голову, что друзья девицы Энгельгардт и не преминули сделать, чтобы ускорить этот брак. Я знаю эту молодую особу; мы видались в Казани, а потом один раз здесь. Она пишет Ольге, с которою она также связана, что она хочет возобновить знакомство со мною и что она надеется, что мы будем очень любить друг друга, так как наши мужья нам дадут в том пример. Вот ещё одна интимная подруга, которая свалится на меня как бомба после своего замужества»[450].
Лето 1826 г. Дельвиги проводили в Петербурге, ведя скромный образ жизни, посещаемые многочисленными друзьями, интересами которых живёт Софья Михайловна всё это время. Приводим несколько выдержек из писем её за эти месяцы.
«Я была прервана моей кузиной Геннингс, которая приехала обедать ко мне. После обеда ко мне приехало множество народу, — одни скучнее других, светские дамы, развязные, стеснительные. Ах, что за мученье! Что за модные разговоры, что за принципы, что за чувствования! Так я провела целый день, — я, совершенно отвыкшая от света в продолжение моей болезни! (Ты знаешь, что я не выхожу уже давно.) Наконец Пушкины пришли, они лучше других, хотя Ольга и делала кое-что, что раздражало князя Вяземского. Последний, например, человек, с которым я очень довольна, что познакомилась. Он вчера пришёл в первый раз к нам, и его присутствие меня немного оживило. Он очень тесно связан с твоим зятем[451], который также должен был прийти, зная, что князь будет у нас; но он нас надул, что ещё много прибавило к моему дурному настроению. Вяземский лучше своих стихов; он немного диковат, но это не мешает ему иметь много ума».
«Ты, без сомнения, с удовольствием узнаешь, что добрый Пётр Александрович чувствует себя гораздо лучше, говорят, что он был на шаг от чахотки, но, слава Богу, он спасён. Я надеюсь, что зимою, т. е. по его возвращении из деревни, наши субботы возобновятся, — и это составляет мою отраду. Кстати, недели две тому назад мой муж встретил на улице Делина [Délin], — они знали друг друга уже давно, но Делин не видал Антошу женатого, — он сказал ему, что тоже хорошо меня знает и что просит позволения прийти повидать нас. Антоша просил его сдержать своё слово, и тот его сдержал несколько дней спустя, но пришёл в тот самый момент, как я была особенно больна…»
Описывая далее свою болезнь (захворала от ботвиньи со льдом), она пишет: «Мой муж бодрствовал около меня, не смыкая глаз, как и я; это ангел, которого я не знаю как обожаю; я никогда не забуду его забот, его беспокойства, всех доказательств его любви…»
«Не стоит благодарить меня, мой друг, за книги: я в восторге, что они доставляют тебе удовольствие. Дельвиг, говорят, очень польщён похвалою, которую ты сделала его Песням, и находит, что ты жестоко ошибаешься, думая, что он придаёт мало значения твоему мнению: напротив, он даёт ему большую цену. Кстати, скажи мне откровенно, как ты находишь пьесы, под которыми стоит только буква Д. Мой муж стыдится в них признаться и не пожелал поставить под ними своё имя. Это неплохо, но дело в том, что я не знаю его мнения об этих пьесах и хотела бы знать твоё мнение…»
«Я получила на этих днях письмо от моего брата, в котором он сообщает, что он женился. Итак, вот мы все устроились. Свадьба Боратынского также уже состоялась»[452].
Через две недели (в письме от 12 июля 1826 г.) она подтверждает последнее известие:
«Боратынский женился, жена его написала мне милое письмо, на которое я несколько затрудняюсь отвечать, так как её муж — близкий друг моего мужа, и так как я люблю его от всего моего сердца, она тоже не может быть для меня безразлична, но я вовсе не умею говорить фразы, а в таких случаях их немного приходится сочинять».
Последние строки писаны накануне казни декабристов, которая не могла не произвести на Софью Михайловну потрясающего впечатления: ведь на виселице погиб Каховский — человек, которого она любила и с судьбою которого готова была, так опрометчиво, соединить свою судьбу. Но жизнь брала своё, вскоре вошла в обычную колею. Уже в письме от 31 июля она спокойно сообщает очередные новости.
«Ярцев очень странный человек, — пишет она о знакомом, возвратившемся из Оренбурга, — он не мог удовлетворить ни одного моего вопроса. „Мне было некогда“ — вот его вечный ответ. Зато мы много говорим о тебе с Вальховским. Вот единственный в своём роде человек. Я не могу достаточно им нахвалиться, и люблю его, как брата».
«Я теперь чувствую себя очень хорошо, но мне ещё не позволяют выезжать в карете; я прогуливаюсь по воде и пешком. Прогулки наши всегда бывают по ночам: днём невозможно ходить. Петербург невероятно скучен. Мы намереваемся его покинуть. Антоша делает к тому шаги, но я ещё не знаю, будут ли они иметь какой-нибудь успех; у нас до сих пор лишь желание исполнения наших проектов, но мы не смеем надеяться, из боязни увидеть наши надежды тщетными».
«О нашем добром Плетнёве я могу дать тебе известия верные и свежие, так как я его видела вчера. Он чувствует себя в тысячу раз лучше и только слаб. Его радость вновь повидать тебя очень велика, — ты не должна в этом сомневаться. У него очень хорошее помещение в деревне; я сделала несколько вёрст пешком, чтобы повидать его, остальную же половину дороги сделала по воде: невозможно в лодке доехать до самого места, и это было настоящее паломничество для меня, я очень устала, что и естественно после того, что я высидела так долго. Но я зато провела восхитительный день. Послезавтра мы предполагаем снова совершить такое же путешествие»[453].
«•Мне очень грустно, всего написать нельзя, только ради Бога не думай, что я несчастлива:• я не знаю, можно ли быть более счастливой в браке, чем я. Мой Антоша — Ангел, который никогда не даёт мне ни малейшего повода к жалобе; но существует так много других горестей в жизни, досад, огорчений, — однако лучше не будем об этом теперь говорить; •ты знаешь, что я превеликая дура и что у меня пребеспокойный характер. Я думала, что ты будешь бранить меня, когда приедешь сюда.• Твой Григорий очарователен со своею ревностию; я знаю, что он жестоко ошибается, но прекрасно понимаю, что он должен чувствовать, слыша разговоры о твоих былых увлечениях или глупостях: это очень неприятное чувство. •Это надобно спросить у меня.• Я бываю в отчаянии, когда Антоша говорит мне о некоторой Софье Дмитриевне[454], которая уже давно умерла и которую он перестал любить задолго до её смерти, когда он не имел обо мне никакого представления»[455].
«Все эти дни мы были заняты поисками квартиры, так как срок нашей только что окончился; наконец, мы нашли её, — вот адрес: на Владимирской, в доме купца Кувшинникова. Спешу сказать тебе несколько слов, так как мы в хлопотах переезда»[456]. Далее Софья Михайловна сообщала подруге радостную весть об освобождении Пушкина, который, как известно, был вызван в Москву, где произошла церемония коронации Николая I, и куда Дельвиг направил своё восторженное письмо с поздравлением друга и с припискою, что его «жена кланяется ему очень»[457].
«•Скажу тебе, друг мой, новость, которая верно порадует тебя. Пушкину позволили выехать из деревни и жить в столице. Как мы обрадовались! Вот что нам пишет один наш знакомый, который видел его в Москве: „П. приехал сюда 9 сентября, был представлен Государю, говорил с ним более часу и осыпан милостивым вниманием“[458].• Какое счастие! После 6 лет изгнания! Он приедет, по всей вероятности, сюда»[459].
Но Пушкин приехал ещё не так скоро, хотя имя его время от времени мелькает в письмах Софьи Михайловны, как увидим ниже. Первого октября сам Дельвиг, в письме жены к А. Н. Карелиной, приписывал её мужу следующие милые строки:
«Верно, я что-нибудь соврал без намерения, любезнейший друг Григорий Силич. Ничего другого не могу вспомнить, что бы похоже было на упрёки в письме моём[460]. И за что? Кроме дружбы, драгоценной для меня, я не ждал ничего от вас. Приезжайте поскорее к нам, вы, узнав меня, не будете подозревать во мне и способности оскорблять друзей. Приезжайте поскорее, это одно успокоит нас. Мы не перестаём говорить о вас, молим у Бога свидания с вами и совершенного исцеления милой Александры Николаевны. Поцелуйте у неё ручку, а у Сониньки пока губки.
Весь ваш Дельвиг»[461].
В письме Софьи Михайловны от 25 октября имена Дельвига и Пушкина встречаются рядом. Письмо сообщает любопытную подробность о демократических настроениях Пушкина, пытавшегося внести простоту в форму письменных сношений, отбросив ненужную чопорность между близкими людьми:
«Ты будешь, может быть, удивлена адресом моего письма: я подражаю в таком способе писать Александру Пушкину, который всегда пишет моему мужу: „Барону Ант. Ант. Дельвигу“: он не ставит ни чина, ни „Милостив. Госуд.“. Он начинает писать так ко многим лицам, и есть некоторые, которые ему подражают. Я нахожу, что это очень хорошо: на что нужна эта немецкая вежливость, которая ничего не доказывает, и есть только детская церемония».
«Соломирский, который доставил письмо от тебя, ещё не являлся у нас, но переслал нам его. Так как он поэт и так как он прибыл из Оренбурга, то я могу сказать тебе что-нибудь о нём. Я его однажды видела, давно уже, у моей кузины ех-Геннингс, — должно быть, это тот самый, он — брат брата Бахтуриных и нисколько на него не похож: у того — отвратительный тон, а этот — молодой человек очень „comme il faut“. Я надеюсь, что он сделает нам удовольствие и приедет повидаться с нами; я постараюсь принять его как можно лучше»[462]. Этот В. Д. Соломирский был давний знакомец Пушкина[463], о котором в том же письме читаем:
«Кстати, мы ожидаем сюда Александра Пушкина, в конце этого месяца или в начале декабря. Вторая песнь „Евгения Онегина“ скоро появится, и я не премину послать тебе её, так же как и „Цыган“, когда они будут напечатаны; что не будет так скоро, я полагаю».
Но и на этот раз Пушкин обманул ожидания Дельвигов: из Москвы он проехал прямо в Михайловское, откуда вернулся в Москву, опять не заезжая в Петербург; в Белокаменную его влекла любовь к С. Ф. Пушкиной, к которой он неудачно и посватался.
Продолжаем выписки из писем С. М. Дельвиг о её друзьях и знакомых.
«Екатерина Маркович вышла замуж третьего дня. Я была посмотреть свадьбу в церкви… её муж уже с седыми волосами, вдовец и отец 6 детей, из которых мальчик 13 лет… Не знаю, что заставило её выйти за этого г-на Курочкина. Ольга Пушкина, которая ходила со мною посмотреть на свадьбу, находит, что он злой деспот и капризный; надо сказать тебе, что она бредит сочинением Лафатера о физиономиях, — она много его изучала, — и что её страсть — распознавать характер всех по чертам лица. Она восхитительна и постоянно заставляет меня смеяться. Первые слова, которые она сказала, увидев Курочкина, были: „Боже мой, как этот человек зол по Лафатеру“»[464].
«Что касается „Онегина“, то мне стыдно, что ты его прочла ранее, чем я тебе его прислала; прости мне это опоздание, моя добрая Саша, и прими его по крайней мере теперь; он приходит немного поздно, но что меня утешает, это то, что тебе его одолжили для чтения и что всегда хорошо, чтобы у тебя был свой экземпляр. Постараюсь в другой раз не запоздать с присылкою тебе новостей, которые будут появляться»[465].
При чтении одного письма А. Н. Семёновой С. М. Дельвиг «не могла удержаться от смеха, вместе с Антошей, при описании мадемуазель Аннушки, которая так сильно похожа на Дуню Пушкина. Воображаю, какие физиономии сделали бы мы — ты и я, — если бы увидали её вместе. Пушкин как будто бы её знал, — нельзя было нарисовать её так верно. Кстати, у нас сегодня был некий г. Великопольский, брат г-жи Нератовой, о которой ты мне говорила в одном из твоих писем. Я знала его ещё в Казани; он только что приехал сюда из своего полка, который стоит не знаю где. Разговаривая с ним, я узнала, что г. Нератова — его сестра, чего я не знала, так как я помню только одну его сестру в Казани. Он сказал мне, что поедет в Оренбург в феврале месяце, и просил меня снабдить его письмом к тебе, что я не премину сделать, если ты им интересуешься»[466].
«Мой муж был болен в продолжение 15 дней и болен ещё теперь немножко, так что праздники для меня начались нехорошо, но новый год начнётся, я надеюсь, хорошо, потому что Антоше позволили завтра выйти. Его болезнь была не опасна, но он очень страдал и не спал ночи. <…>
У меня достаточно знакомых, общество многих из них очень приятно; но насколько лучше я чувствую себя наедине с Антошей или за письмом к тебе… Я приобрела несколько новых знакомых, единственно из-за музыки: ты знаешь, что я люблю её до обожания, и так как эти лица — музыканты, они играют у меня раз в неделю очаровательные дуэты, трио и т. д. Отец мой пишет мне по этому поводу: „К счастью, ты женщина, не способная к страстным увлечениям, — иначе тебя не хватило бы для всех твоих знакомых“. Он совершенно прав. У меня резкое отвращение к таким внезапным дружбам или к таким страстным привязанностям на один день. Я ответила ему, что ему нечего за меня бояться, что у меня только одна-единственная подруга, в которой я так же уверена, как в себе самой»[467].
«Антоша был опасно болен: у него было воспаление в боку и лихорадка, продолжавшаяся так долго, что я начинала бояться, чтобы это не была перемежающаяся лихорадка, но, благодаря Бога, он с нею разделался, однако он страдает очень сильным кашлем, который доставляет ему боль в груди и не даёт ему спать, вместе с тем он не ест ни крошки хлеба уже 5—6 дней. Ты хорошо поймёшь, что всё это дает мне много беспокойства и горя»[468].
«После моих последних строк моему мужу было очень плохо, я была в ужасе за него, но теперь он чувствует себя бесконечно лучше, даже почти хорошо, чрез 5 или 7 дней доктор Аренд позволит ему выйти; это очень хороший врач, и сделал ему много, много добра…»[469]
«Я была прервана, — продолжает она в тот же день, — нашим дорогим Львом Пушкиным, который пришёл попрощаться с нами: он поступил в один драгунский полк и отправляется к нему в Грузию, чтобы сражаться с персианами; он сделал глупость, поступив унтер-офицером после того, что имеет уже небольшой чин; как огорчены его бедные родители, и мы оплакиваем его как умершего. Я уверена, что он будет убит, это доброе дитя. Я плакала, как несчастная, прощаясь с ним. Я люблю его, как брата; сверх того я была тронута его преданностию нам. Он тоже много плакал, а ты знаешь, что значат слёзы мужчины, особенно такого, как он, который никогда не пролил и слезинки. Он приходил к нам все эти дни, мы больше его не увидим, это предчувствие, я слишком плачу о нём, и все тоже. Я люблю всё это семейство, как близких родных».
«Дорогой друг! Г. Великопольский берётся передать тебе это письмо, — пишет она 19 февраля. — Он брат г-жи Нератовой, я говорила тебе о нём в одном из моих писем; тем не менее я тебе его вновь рекомендую, — это очаровательный человек, который, конечно, тебе очень понравится. Его зовут Иван Ермолаевич. Мне нет необходимости просить тебя принять его хорошо, так как ты не можешь не быть любезной. Он как раз сегодня утром едет в Казань, и я спешу сказать тебе несколько слов, — он сейчас пришлёт взять у меня письмо. Он ещё не знает наверное, поедет ли он в Оренбург, но в случае, если он туда не поедет, я просила его доставить это письмо по почте из Казани. Моему мужу гораздо лучше, но у меня новое горе — жена моего брата опасно больна нервною лихорадкою, а между тем беременна на 5 месяце. Бедный Мишель в очень жалком положении. Мой отец в настоящую минуту при нём и ухаживает за его женою вместе с ним».
«Папа приехал вчера и остановился у нас на некоторое время. Он оставил невестку в значительно лучшем состоянии, но говорит, что ещё беспокоится за неё. Он нежно её любит и очень хвалит её ум, твёрдый и мягкий характер и рассудительность, которая, по его словам, выше её возраста — ей 19 лет…»[470]
«В письме, которое я написала тебе с Великопольским, я тебе его расхваливаю, — но это из предосторожности; признаюсь тебе, что он иногда бывает скучноват; но может быть, он не поедет в Оренбург, — он говорит, что не уверен в том, что не будет задержан в Казани, — и в этом случае ему, может быть, захочется прочесть моё письмо»[471].
Посылая подруге новый томик «Северных цветов» от имени мужа[472], Софья Михайловна пишет: «Я не могу спросить у Соломирского, получил ли он письмо твоего мужа, по той очень простой причине, что он в Москве, но я думаю, что он скоро возвратится и тогда поручение твоё будет исполнено»[473].
«Что касается нас, — пишет она подруге через неделю, — мы чувствуем себя так и сяк, в особенности я часто бываю нездорова, так как климат Петербурга для меня вовсе не подходит, что не перестают мне повторять. В конце мая пароход отвезёт нас в Ревель, а возвратившись оттуда осенью, мой муж сделает всё возможное, чтобы достать себе место где-нибудь в другом месте, а не здесь. Я бы очень хотела покинуть нашу скучную столицу: уже давно я об этом мечтаю, и надеюсь, что в один прекрасный день эта мечта осуществится. Если бы я могла быть поближе к тебе, мой друг. Это удвоило бы удовольствие, которое я испытала бы, покидая Петербург»[474].
«Что ты читаешь? Вскоре у тебя будет кое-что новое и красивое — „Цыганы“ Пушкина: я вышлю их тебе, как только они появятся, — они в печати. Что касается меня, то я дала себе труд прочесть все сочинения Ж. Ж. Руссо „от доски до доски“, — это 34 тома. Я уже предпринимала это однажды и начала с „Новой Элоизы“, но бросила её вскоре же, оттолкнутая несколькими местами, которые мне не понравились. Теперь я расхрабрилась и хочу последовать совету папá, который уверяет меня, что я так пристращусь к Руссо, что, раз прочитав его, захочу потом перечитывать его много раз. Он прочёл мне многое из „Элоизы“, в ней есть превосходные места; что касается слога, то он везде совершенен; со всем тем, у меня никогда не было смелости прочесть её сразу. Попробую. Там много хороших вещей о воспитании, — согласна ли ты с этим?»[475]
«Я пошлю тебе мой портрет из Ревеля, а на следующей почте пошлю „Цыган“, что гораздо интереснее; они отпечатаны. Здесь ожидают Пушкина, но я боюсь, что он приедет, когда мы уедем, — и это очень возможно. <…>
…Ты спрашиваешь меня, что сталось с Сашей Геннингс? Я думала, что сообщала тебе, что она снова вышла замуж — за Пушкина, гусарского ротмистра; она обыкновенно в Царском Селе, с полком своего мужа. Она кажется очень счастливой. Я провела в Царском три дня и вчера приехала; я столько там ходила, что ещё сегодня падаю от усталости. Что за восхитительное место это Царское! Всё так чисто! Какой красивый сад, какой парк, какая ферма! Для меня же эти места особенно интересны: именно в Царском Антоша сказал мне о своей любви; там же он воспитывался»[476].
Наконец, Софья Михайловна получила возможность лично познакомиться с Пушкиным, который, в конце концов, приехал в Петербург и поспешил обнять своего друга — Дельвига.
«Мы накануне нашего отъезда, дорогой друг, и все эти дни я была занята приготовлениями к нашему путешествию и к путешествию моего отца, который уезжает несколькими днями ранее нас[477]; вот почему я немного запоздала сообщением тебе нашего адреса в Ревеле, который я узнала лишь недавно. Вот он: в Ревеле, в Екатеринтале, в доме Витта. Я с нетерпением жду отъезда, этот проклятый Петербург нагоняет на меня страшную тоску. Говорят, что в Ревеле гораздо больше свободы: можно никого не видеть, если хочешь, — и это очень меня устроит, я не буду делать ни одного нового знакомства, хотя там будет очень много народу: Ревель вошёл в моду, — туда едут со всех концов; но я буду видеть только Пушкиных, с которыми мне не нужно нисколько стесняться: они очень славные люди. Ты видишь, что я по-прежнему дикарка, как некогда была; я знаю, что это очень нехорошо, но также знаю, что я никогда не исправлюсь от этого недостатка. Кстати о Пушкиных: я познакомилась с Александром, — он приехал вчера и мы провели с ним день у его родителей. Сегодня вечером мы ожидаем его к себе, — он будет читать свою трагедию „Борис Годунов“. Я в восторге, что его увидела наконец. Я поговорю о нём с тобою более подробно, когда узнаю, что тебе получше, до настоящего времени я ничего ещё не могу сказать тебе. Что он умён, — это мы знаем уже издавна, но я не знаю, любезен ли он в обществе, — вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал; •только читал прелестный отрывок из 5-ой главы „Онегина“.• Что касается „Цыган“, — то не моя вина, что я тебе их ещё не посылаю на этой почте: у меня был один-единственный экземпляр, который я предназначала тебе, но Пётр Иванович Полетика просил меня уступить его ему, говоря, что я могу достать себе другой вместо него, так как он вынужден на другой день уехать, что он и сделал, — а у петербургских книгопродавцев нет их больше ни одного экземпляра (они были отпечатаны в Москве), но теперь, когда сам автор здесь, мне уже нетрудно будет получить их. Надобно было видеть радость матери Пушкина: она плакала как ребёнок и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе, — я думала, что их объятиям не будет конца…»[478] Двадцать девятого мая она делала приписку: «Вот я провела с Пушкиным вечер, о чём я тебе говорила раньше. Он мне очень понравился, •очень мил, мы с ним уже довольно коротко познакомились. Антон об этом очень старался,• так как он любит Александра, как брата. Что мне очень нравится, — это то, что он чрезвычайно похож по своим манерам, по своим приёмам, тону на брата своего Льва, которого я люблю от всего моего сердца: это был такой добрый ребёнок — этот Лёвушка, как мы называем его с мужем».
Вскоре Дельвиг с женою поехали на морские купанья в Ревель, куда отправлялось и семейство Пушкиных, т. е. родители и сестра поэта. Ревель был тогда модным летним курортом петербуржцев и даже москвичей. Приведём несколько выдержек из письма С. М. Дельвиг, рисующих тогдашний ревельский быт и жизнь её с мужем.
«Дорогой и добрый друг, вот мы в очаровательной местности — В Катеринтале, — совсем близ предместий Ревеля. Мы выехали из Петербурга 2-го этого месяца, в 9 часов утра; была великолепная погода, пароход шёл очень быстро, нам говорили, что он обыкновенно приходит в Ревель в 24 часа, — и всё возвещало нам, что мы пробудем в море не больше этого срока, как вдруг к вечеру погода стала меняться, пошёл дождь и поднялся небольшой ветер, но так как он был не очень велик, то у нас из всех 40 человек только одна особа начала страдать немного от морской болезни. К ночи ветер стал сильный, все стали жаловаться, и я была в числе тех, кто страдал наибольше. Качка становилась всё больше с минуты на минуту, волны были страшнейшие, они переходили через палубу, мы все почти умирали — мужчины и женщины. Те, у кого бывали дурноты только на суше, не могут составить никакого представления об этой ужасной болезни, которую называют „морскою“. Я и многие другие дамы спрятались в каюты, но вскоре раскаялись в этом: нас там качало ещё больше, — у меня были спазмы ещё сильнее. На борту парохода был один доктор, — к счастию для нас: он сопровождал графиню Остерман, с которою я была знакома, и она присылала его поминутно ко мне; но для того, чтобы принять лекарство, которое он мне предлагал, мне нужно было привставать, — и как только я это делала, меня рвало (прости мне эти подробности, немного грязные). Наконец к утру мы почувствовали себя значительно лучше, погода стала более ясная, и мы все выползли на палубу; там я легла и свободно вздыхала после стольких страданий; но каково было моё отчаяние, когда капитан сказал мне, что мы будем в пути ещё сутки, потому что ветер был настолько неблагоприятен, что мы сделали в течение ночи лишь 4 версты, тогда как накануне мы делали по 12 вёрст в час; и хотя мы снова начали делать по стольку, мы потеряли слишком много времени, чтобы быть в состоянии скоро его наверстать. Тем не менее день был прелестный, и мы забыли ночные страдания; ночь мы провели на палубе в совершенном здоровье всех пассажиров. Я дивилась восходу солнца: на море это нечто очень красивое, я никогда не забуду того, что я испытала при этом зрелище, и не в состоянии дать тебе о нём представления… Местность, в которой мы живём, очень красива, наша квартира — маленькая игрушка, мы в двух шагах от сада и от замка „Катеринталь“, которые доставляют много наслаждения. Там есть столетние башни, замечательно красивые; великолепные виды. Я каждый день хожу гулять, — есть место, которое я очень люблю, — это один маяк, на большой, конечно, возвышенности, я хожу туда с Антошей, и мы не перестаём изумляться прекрасному виду, который оттуда открывается: оттуда видно море и весь Ревель у ног. В замке показывают несколько кирпичей, которые не оштукатурены, потому что были положены самим Петром Великим. Не могу ещё ничего сказать тебе о городе, потому что была там лишь один раз, к тому же вечером и в карете, — я ездила смотреть спектакль, который мне довольно понравился: давали одну трагедию Раупаха; первая роль исполнена была м-м Бирх, очень хорошею актрисою; она превосходит столь хвалёную Федерсен, которая была у нас в Петербурге. Пьеса сама по себе не очень замечательна, театр маленький, но красивый, жалко, что он плохо освещается. Завтра я пойду осматривать всё, что есть любопытного в городе, и расскажу тебе об этом, если не очень наскучиваю тебе своими длинными рассказами. Говорят, и я этому верю, что там много интересных вещей можно видеть: это ведь такой древний город. Что мне здесь нравится, это то, что можно совсем не стесняться, если хочешь. Можно гулять совсем одной, и вовсе не наряжась. Я наслаждаюсь здесь жизнью; чувствую себя чудесно, ем за четверых, много хожу и сплю как дура. Мой муж ведёт себя таким же образом…»[479]
Три недели спустя, после курса лечения, она писала Карелиной:
«Я чувствую себя хорошо, беру ежедневно тёплые ванны, но пять или шесть дней уже лишена удовольствия делать прогулки и удивляться восхитительным здешним видам: погода отвратительная, то и дело идёт дождь и такой сильный холодный ветер, что он ломает деревья, и купальни, построенные на море, унесло, так что я не так скоро ещё буду купаться в море. У нас холодно так, как зимой; я не покидаю в течение целого дня мою накидку…. Я была уже много раз в городе с тех пор как тебе не писала, и я ещё не всё видела; что поразило меня, так это ревельские дороги и улицы, такие узкие, что две кареты не смогли бы на них встретиться без того, чтобы не раздавить друг друга; дома очень высокие и весьма древней архитектуры; смотря на них, я думала о рыцарях, которые в них когда-то жили, и переносилась в эти счастливые времена. В общем, всё напоминает их здесь; на каждом шагу встречаешь очень интересные древности. Церкви особенно замечательны; в них видишь могилы рыцарей и их жён и их вооружения, свешивающиеся сверху, равно как их фамильное оружие. На некоторых из этих могил можно видеть фигуры рыцарей, сделанные во весь рост из камня. Это очень интересно. Мы посетили, между прочим, церковь св. Николая, построенную в 1317 году. Там мы видели тело одного герцога де Круа, выставленное уже 150 лет взорам всех, — за долги он не был погребён. Представь себе, что оно совсем не испортилось, но окаменело. Я его трогала, я снимала его большой парик, и мне показывали его собственные волосы. Он совсем не противен. Это человек лет пятидесяти, который должен был быть красив, — это видно, — и очень изящен до сих пор, он покрыт кружевами, и его чёрный бархатный плащ великолепно сохранился, равно как и его белые шёлковые чулки и белые перчатки, хотя и разорванные, что происходит от того, что постоянно приходят его смотреть и снимают перчатки, чтобы рассмотреть его руки: они у него очень красивые и •длинные аристократические ногти. Думал ли этот бедный старик, что 150 лет после его смерти все будут его тормошить, снимать парик его и колотить в голову.• Я также это сделала: его голова крепка, как камень[480]. Я много раз ходила гулять по бульварам, которые окружают город: это восхитительная прогулка, — Ревель виден со всех сторон, со своими старыми стенами; это очаровательный вид; город представляется особенно хорошо с одной стороны: видны развалины древнего мужского монастыря; это восхитительно. Бог знает куда это меня занесло… Театр здесь вовсе не плох, исключая опер: я видела „Танкреда“[481] и чуть не умерла со смеху; но что удивительно, это то, что несколько дней спустя давали „Фрей Шюц“ и он шёл чудесно; говорят, что его играли столько раз, что в конце концов он стал идти хорошо. Эта опера — Вебера, — что за музыка! Ты знаешь, что она делала фурор в Германии, и в Петербурге её давали точно так же, я думаю, миллион раз. Я его видела там, но слышать эту прекрасную музыку один раз недостаточно, я решила послушать её ещё раз здесь, и, к моему великому удивлению и восторгу, нашла, что это было лучше исполнено, чем в Петербурге. Я, может быть, наскучиваю тебе моими подробными описаниями, но извини меня, — это моя слабость: я не бываю спокойна, если не даю тебе отчёта во всём, что вижу… Близ нашего дома есть салон, в котором абонируются на лето, туда можно приходить ежедневно, играть в карты, обедать, музицировать или делать что кому нравится. Всё это очень хорошо; два раза в неделю там собираются для танцев, и это было бы также очень приятно, если бы Ревель не был в такой моде и если бы здесь не было так много великосветских петербургских дам. Ты назовёшь меня дикаркой; но выслушай меня сначала и согласись, что я права. Эти дамы не могут привыкнуть к простоте и к свободе, которые необходимо должны царствовать на водах между больными. Надо же, чтобы они вводили стеснение и роскошь! Правда, им не очень-то подражают и совсем не наряжаются, идя в Салон, например, Пушкины, и я, и многие другие, но что невозможно никак изменить, это что собираются поздно, в 9 часов. Это больные-то и в Ревеле! Тогда как в предшествующие годы приходили, говорят, в 7 часов. Вчера, например, мы вернулись в 2 часа по полночи, потому что котильон тянулся целую вечность. Хорошо леченье! И это ещё не было бы чем-то неподходящим, правда, если бы эти балы были достаточно занимательны. Есть над чем посмеяться: у нас есть неоценённые танцоры, — я не могу тебе их описать, — их нужно видеть и держаться за бока…»[482]
Получив затем письмо от подруги, Софья Михайловна писала ей:
«Я в восторге от того, что „Цыганы“ тебе нравятся, ты должна в настоящее время иметь собственный свой экземпляр, если особа, которой я поручила отослать его тебе, была исправна. Пушкин только что прислал моему мужу отрывок из 4-й песни „Онегина“ для „Северных цветов“ ближайшего года, но я хочу, чтобы ты прочла его раньше всех. Скажи мне, как ты его находишь? Не правда ли, что это очаровательно? И не узнаешь ли ты в нём то, что мы столько раз видали и над чем вместе смеялись?..»
«Наши балы продолжаются по два раза в неделю и начинают забавлять меня. 9 июля мы, то есть все русские, находящиеся здесь, дали прекрасный бал, каждый внёс на него деньги — граф Кочубей в особенности, и князья Репнины дали много. Зала была освещена и украшена цветами очаровательным образом, ужин был восхитительный и очаровательный фейерверк; было много народу и самое избранное общество. Я танцевала как сумасшедшая до 4-х часов утра и очень веселилась. Вот как я веду себя, как я ни дика»[483].
Ещё месяц спустя она пишет:
«Я теперь совершенно поправилась, освободилась от всех лекарств, которыми меня пичкали так долго. Я подумываю об отъезде, который я хотела бы от всей души назначить хоть на завтра, несмотря на всё удовольствие, которое доставило мне пребывание в Ревеле. Все уезжают, мы день ото дня делаемся более одинокими… Мы уезжаем положительно 23 числа этого месяца… Наконец мой портрет готов, так же как и моего мужа, я вышлю тебе их оба из Петербурга. Мне сделали лицо немного широкое, так же как и нос; ты знаешь, что он у меня немножко широковат; поэтому, если его уширить хоть совсем чуть-чуть, хоть на волосок, он становится уже бесформенным… Портрет моего мужа поразительно похож»[484].
Вернувшись в Петербург, С. М. Дельвиг не скоро собралась написать Карелиной: с Дельвигом произошло несчастие и приковало его к постели, сделав из жены сиделку, обязанную ухаживать за больным.
«Мой муж напугал меня так, что я едва теперь пришла в себя: он упал с дрожек и вывихнул себе руку; теперь ему гораздо лучше, но она ещё на перевязи, и говорят, что он сможет пользоваться ею не раньше, как через несколько недель; два раза ему пускали кровь, потому что ему грозило воспаление. Как только он будет в состоянии выходить, он займётся твоею грамматикою Греча, а портреты пошлёт на днях по тяжёлой почте. К довершению несчастия надобно было, чтобы это была правая рука; мне придётся быть, как и сейчас, его секретарём, я перевязываю ему руку, мою его и проч.»[485].
Друзья Дельвига навещали его во время болезни, — навещал его и Пушкин, что видно из современной записи И. А. Второва, родом оренбуржца, приехавшего в Петербург в конце сентября 1827 г. На запрос А. Н. Карелиной, познакомилась ли Софья Михайловна со Второвым, она писала 8 декабря 1827 г.:
«Г-н Второв был у нас только два раза, потому что он был очень болен. Мой муж ходил к нему повидать его. Кажется, что он человек весьма почтенный. Я много его расспрашивала о тебе».
В дневнике своём Второв тоже отметил, что Дельвиг не раз навещал его и что давней мечте его познакомиться лично с Пушкиным суждено было осуществиться именно в доме Дельвига. С Пушкиным хотел познакомить общий их знакомый А. Н. Остафьев, но почему-то это знакомство через Остафьева не состоялось. «Познакомился наш герой, — пишет биограф Второва, М. Ф. де-Пуле, — с великим поэтом чрез барона Дельвига, у которого встретил его 26 ноября 1827 г. Вот что записано у Второва по поводу этого первого свидания: „Я пошёл во 2-м часу к барону Дельвигу. У него застал Ф. В. Булгарина и Александра Сергеевича Пушкина. В беседе с ним я просидел до 3 часов. Последнего я желал давно видеть — и увидел маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика, — совершенно пиитические; мне не понравилось только, что он считает „дрянью“ Гнедичеву идиллию Рыбаки“. Дальнейшего сближения не было, но они встретились, хотя и не в Петербурге. Мать поэта, Надежду Осиповну, и одну из сестёр [?] его Иван Алексеевич прежде видел у Дельвига»[486].
«Большое спасибо за знакомство с Жемчужниковым и тысяча извинений за то, что я так долго оставляла тебя в неизвестности о себе, — писала С. М. Дельвиг из Харькова 9 февраля 1828 г. — Занятая приготовлениями к довольно продолжительному путешествию [в Харьков], я была тем более им поглощена, что готовилась к тому, чтобы покинуть Петербург, не более, чем к тому, чтобы видеть приход конца мира. Это устроилось неожиданно[487], вследствие чего я не знала, с чего начать, будучи вынуждена спешить с устройством множества дел, которые должны были быть закончены мной самою, — запаковывать вещи, искать жильцов для нашей квартиры, которую мы оставили за собою до нашего возвращения, — потому что я не думаю, чтобы мы остались в Харькове более 3 или 4 месяцев. Это по одному казённому делу, что мой муж сюда послан — •сделать какое-то следствие•. Мы были в пути 15 дней, считая 5 дней, проведённых в Москве у моих отца и брата, где я познакомилась с моей невесткой и моим племянником, 9-месячным, очень хорошеньким и толстеньким мальчиком. Я здесь со вчерашнего дня, т. е. с 8 февраля. У нас была ужаснейшая дорога и морозы в 25 градусов, и я ещё совершенно усталая и пишу тебе для того, чтобы отдохнуть, потому что почта отсюда уходит только раз в неделю, и я должна ждать ещё три дня, чтобы отослать письмо. •Всё ещё у нас в беспорядке. Мы остановились в трактире, покуда не отвели нам казённой квартиры. Города я ещё совсем не знаю. Я здесь как в лесу, знакомых нет ни души, а заводить новое знакомство ещё неприятнее; меня утешает по крайней мере мысль, что я встречу весну в прекрасном климате — в тени украинских черешен, как говорит Пушкин[488]. Посылаю тебе „Северные цветы“ с портретом Пушкина и тысячу нежностей вам обоим, милым и добрым друзьям нашим, от нас обоих, истинно любящих вас…
Вот тебе наш милый добрый Пушкин, полюби его!• Рекомендую тебе его. Его портрет поразительно похож, — как будто ты видишь его самого. •Как бы ты его полюбила, Саша, ежели бы видела его как я, всякий день.• Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь. Как находишь ты „Нулина“? Надеюсь, что ты не ложностыдлива [prude], как многие мои знакомые, которые не решаются сказать, что они его читали. Мысли в прозе — Пушкина, и пьеса под заглавием „Череп“, под которой он не пожелал поставить своё имя, — также его. Это послание, которое он написал к моему мужу, при посылке ему черепа одного из его предков, которых у него множество в Риге; вся эта история — правдоподобна»[489].
«Бог знает когда я покину Харьков, — пишет затем она (1 марта). — Дело, по которому мой муж был послан сюда, запутано, и никто не может сказать мне, когда приблизительно можно надеяться на его окончание. Мой Антоша очень занят, и это ещё прибавляет мне тоски, так как я вынуждена быть одна большую часть времени, — что, однако, всё-таки лучше, чем быть окружённой новыми физиономиями, которые, как бы любезны они ни были, не могут иметь ничего общего со мною ни по интересам, ни по знакомствам, ни по связям. Я привезла с собою книг, как ты можешь догадаться, так как иначе я с ума бы сошла со скуки; у меня есть фортепьяно и кое-какие ноты. Самые приятные для меня минуты — когда я читаю; у меня все сочинения Шекспира. Что за наслаждение, дорогой друг! Я хотела бы от всего сердца, чтобы ты их прочла. <…>
Я надеюсь вскоре доставить тебе наслаждение присылкою 4-й и 5-й песен „Онегина“, которые только что появились; если мне приходится отложить эту посылку, то это всё по вине наших корреспондентов, а в особенности Пушкина, который прекрасно мог бы немножко поторопиться доставить нам книгу. Он читал мне эти две песни, так же, как и следующие, до того, что они были напечатаны. Если он не сделал неудачных перемен после того, то я могу сказать, что это, конечно, самые прелестные, — по крайней мере они мне нравятся больше, чем предыдущие; но 6, 7 и 8-я, по моему мнению, ещё лучше. Может быть, мне придётся ещё долго ждать возможности полакомить тебя этими двумя песнями, которые только что вышли, — поэтому, в ожидании сего, я тебе перепишу маленький отрывок 4-й песни, который я знаю наизусть и который, конечно, доставит тебе удовольствие. Вот он:
Конечно, вы не раз видали Уездной барышни альбом; Что все подружки исписали С конца, с начала и кругом. Туда, назло правописанью, Стихи без меры, по преданью В знак дружбы верной внесены, Уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь: Qu’écrirez-vous sur ces tablettes — И подпись: Toute à vous Annette; A на последнем прочитаешь: Кто любит более тебя, — Пусть пишет далее меня. Там непременно вы найдёте Два сердца, факел и цветки И клятву верно уж прочтёте В любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский Тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, Признаться, рад писать и я, Уверен будучи душою, Что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор И что потом с улыбкой злою Не станут важно разбирать, Остро иль нет я мог соврать. Но вы, разрозненные томы Из библиотеки чертей, Великолепные альбомы, Мученье модных рифмачей. Вы, украшенные проворно Толстова кистью животворной Иль Боратынского пером, — Пускай сожжёт вас Божий гром. Когда блистательная дама Мне свой in-quarto подаёт, — И дрожь, и злость меня берёт И шевелится эпиграмма Во глубине моей души, — А мадригалы им пиши![490]У меня остаётся места лишь, чтобы сказать тебе „прости“! Оставляю тебя, поэтому, мысленно обнимая вас обоих; муж мой говорит вам тысячу нежностей. Софи».
Отчаянно скучая в чужом ей Харькове, Софья Михайловна утешала себя: «…Будем надеяться: надежда даёт нам силы переносить многое; например, я не знаю, что сделалось бы со мною, если бы мне не давали надежды, что я покину Харьков в конце апреля. Какое удовольствие это для меня будет, — тем более что, проезжая через Тульскую губернию, мы отправимся на свидание с родными моего дорогого Антоши, которые там живут в их имении, и останемся там в течение месяца, быть может. Я не дождусь минуты, когда окажусь среди этого семейства. Мой муж, лучший из мужей, поручает мне сказать вам обоим всё, что я только могу представить себе самого приятного и самого нежного. Представьте это сами себе, и наверно вы не перейдёте границ истины. Что за Ангел этот человек! С каждым днём я его люблю и ценю всё больше и больше… Мне очень грустно: Батинька мой едет в гости за 30 вёрст и не воротится прежде ночи. Это первый раз, что я расстаюсь с ним на целый день за 2 1/2 года»[491].
«Когда ты получишь это письмо, — пишет она 14 апреля, — мы, вероятно, будем подготовляться к отъезду; это только предположение, так как я хорошенько не знаю, может ли следствие окончиться к концу апреля, как меня обнадёжили; но во всяком случае адресуй свои письма Тульской губернии в Чернь, т. е. к моему свёкру и свекрови, которых мы поедем повидать, проезжая через Тульскую губернию… •Барон мой целует твои руки и мужу твоему кланяется, а я обнимаю вас обоих крепко и нежно, сколько люблю. Извини меня, Саша, что я до сих пор не посылаю тебе 4-й и 5-й главы „Онегина“, — злодей Пушкин совсем забыл нас и против своего обыкновения не спешит прислать нам оные•».
«Несмотря на хорошее общество в Харькове и любезность всех дам, о которых я говорила, я не дождусь, когда их покину, потому что я устала от сплетен, которые постоянно слышу. Они всегда бывают в небольших городах (ты о последних сама нечто знаешь), но я бьюсь об заклад, что нигде не занимаются ими так, как здесь. У харьковцев совершенно особенная склонность к вмешательству в дела, которые их не касаются, и к тому, чтобы делаться цензорами поведения лиц, которые должны бы были быть совершенно для них безразличны. Что за бесконечные дрязги! Даже я, находясь здесь лишь на мгновение, также не могла избежать их! Это меня нисколько не огорчает, так как я не очень-то забочусь о мнении, которое могут иметь обо мне лица, мною не уважаемые (чтобы не сказать больше), но это наскучивает мне до чрезвычайности… •Дядя Тотон[492]намеревается сам приписать к моему письму несколько слов, только не ручаюсь, что успеет[493]: он занят. Мы ездили на четыре дня за 70 вёрст отсюда в одну деревню, где ему надобно было быть по делам службы; вчера вечером только приехали. Почта завтра отходит, а ему много писем отправлять… Скажи мне, понравились ли тебе „Северные цветы“ и что более всего понравилось? Мы написали в Петербург о доставлении тебе „Онегина“, и я надеюсь, что ты получишь его в непродолжительном времени•»[494].
«Я была больна и лежала в постели, и теперь едва встала. Ты помнишь, что мы с мужем сделали небольшую поездку, — так это она принесла мне вред, так как мы совершили это маленькое путешествие по ужаснейшей погоде и оба простудились; мой муж также был болен, а я едва не получила горячку; я счастливо избегла её благодаря заботам одного очень хорошего врача, которого нам здесь рекомендовали… Я вовсе не создана для харьковского образа жизни в течение трёх месяцев, что я прожила здесь и которые показались мне безмерно длинными. Мне хочется быть подальше от всяких сплетен, которые я слышу каждый день; к тому же я не могу дождаться, когда буду в кругу семьи моего мужа. Только о двух здешних особах буду я сожалеть искренно — это о мадам Щербининой, которая поистине очаровательна и которую невозможно не любить, и другая — таких же качеств… Многие мои петербургские знакомые советовали мне не следовать за мужем в Харьков, говоря, что отсутствие его продолжится только три месяца и что я могу избавить себя от поездки за ним на столь короткое время. Три месяца кажутся мне теперь годом, даже когда я нахожусь вместе с мужем, — что же было бы, если бы я осталась без него!..»
«Ты ошибаешься, думая, что мне захочется побить тебя за твоё суждение о Пушкине: я вовсе не так пристрастна, как ты воображаешь, а если бы так было, то это значило бы, что я нетерпима! Я согласна, что в последних песнях „Онегина“ есть слабые места, но в них и столько красот, которые их окупают. Одно, чего я не понимаю, это то, что ты не заметила Сна Татьяны. Разве ты не находишь, что он изумителен? По-моему, это совершенство. О чём хочешь ты сказать, говоря, что там есть слова, поставленные только для рифмы, что недостойно Пушкина. Я боюсь, что ты имеешь в виду это место:
Читатель ждёт уж рифмы: розы, и т. д.потому что я нахожу это очаровательным. •Я сама заметила много пустословия и никогда не заступаюсь за Пушкина, когда не надобно за него заступаться; только эту его слабость нахожу прелестной.• Я всё читаю Шекспира и всё больше и больше ему изумляюсь»[495].
«Ты не можешь себе представить, мой ангел, до чего мне наскучило моё здешнее пребывание и сплетни, которые я осуждена слушать, — пишет Софья Михайловна 19 мая. — •Знаешь ли что? И меня хотели запутать в какую-то глупую историю, хотя я никого не трогаю и ни про кого не говорю ничего.• Это заставило меня провести несколько неприятных минут, потому что я ненавижу сплетни и всегда старалась вести себя так, чтобы не давать к ним повода. •Вот что меня здесь развлекает и утешает. Погода уже несколько дней прелестная; мы с Батинькой ездим по вечерам за город гулять, любуемся прекрасными местами и слушаем соловьёв, которых здесь ужасное множество. Ты не можешь себе представить, какое это для меня наслаждение: я готова целую ночь их слушать!.. Получила ли ты наконец „Онегина“? Ежели нет, то я не знаю, что подумать о наших Петербургских комиссионерах. Мой муж, пользуясь отсутствием твоего, поручил мне наговорить тебе побольше нежностей•».
«Я писала тебе 10 дней тому назад, извещая, что я покидаю Харьков, — читаем в следующем письме, — и действительно, наше путешествие было уже, к моему великому удовольствию, назначено на следующий день, когда эти господа (в том числе и мой муж) получили бумагу из Петербурга, в которой им предписывалось остаться здесь ещё по новому делу, которое им поручалось: опять какое-то следствие. Суди о моём отчаянии: я уже распрощалась со всеми и совсем приготовилась к отъезду. Я разорвала моё письмо к тебе, так как оно уже не годилось… К счастию, дело это не может протянуться, как говорят, более двух недель или даже меньше; вот уже десять дней прошло с получения фатального известия, — и так я надеюсь, что смогу тронуться отсюда через 4 или 5 дней; они почти закончили дело, муж мой работает со всем усердием и как только может, другие действуют так же, ибо и они так же досадуют на то, что должны продлить своё пребывание здесь после того, что приготовились к отъезду. Я очень огорчена, что обманула ожидания моих свёкра и свекрови, которые с нетерпением ожидают свидания с нами. К тому же для нас важно не слишком запоздать приездом в Петербург, где у нас есть денежные и другие довольно срочные дела… Посылаю тебе, мой ангел, эпиграмму моего мужа на харьковские сплетни; он просит тебя сказать о ней твоё мнение. Надо тебе сказать, чтобы ты её лучше поняла, что Харьков и Лопань — суть имена двух рек, самых грязных и самых вонючих, какие только есть на свете. Что касается прекрасного здешнего климата, о котором я слышала столько хвастовства, — то я не могу ничего другого сказать о нём, как: •красны бубны за горами•. По крайней мере, он не пожелал дать нам удивляться себе; может быть, что это такой год выдался. Что бы там ни было, я покидаю Харьков с удовольствием, и считала бы себя самою несчастною женщиной на свете, если бы была осуждена провести здесь свою жизнь. •То ли дело в Оренбурге! Сейчас полетела бы туда!•»[496]
Из приписки от 10 июня видно, что Дельвиги должны были выехать 12 июня. Наконец они покинули Харьков и направились в Чернский уезд, в деревню родителей Дельвига. Приводим письмо Софьи Михайловны (от 1 июля) с рассказом об этой поездке.
«Я надеялась быть здесь (т. е. в деревне моего свёкра) гораздо раньше, чем это случилось, мой ангел; случилось, что различные обстоятельства помешали тому, чтобы эта надежда осуществилась. Итак, я нахожусь здесь, у моих родных, лишь с 20 июня, т. е. в течение 10 дней; а так как мы находимся в 20 верстах от почтовой конторы и наши сношения с городом не часты, — я надеюсь, что ты не посердишься на меня за то, что я только сегодня отвечаю на два твои любезных письма, из которых одно (от 16 мая) ожидало меня здесь… Надо тебе сказать (ибо я уверена, что ты узнаешь это с удовольствием), что всё семейство моего мужа приняло меня великолепно. В моей свекрови нашла я особу доброты, мягкости и любезности поистине редких. Мой свёкор также человек превосходный; оба выказывают мне чувства привязанности самой трогательной, — рано как и пять моих золовок, из которых две замужние и имеют прекрасных мужей, тётушки, дядя и т. д. У меня есть ещё два маленьких шурина, из коих старшему 9 лет. Представь себе, дорогой друг, что нас садится за стол каждый день 18 человек (замужние сёстры тоже приехали сюда, чтобы повидать нас), — и всё это близкие родные, — ни одного кузена или кузины. Что удивительно и очень не часто встречается, — это то, что это большое семейство так тесно связано, что ты не можешь себе представить: можно сказать, что это один человек. Наше счастие отравляется болезнию моего свёкра и горестию, которую она причиняет моей свекрови, слишком чувствительной и слишком быстро впадающей в тревогу, — это вполне естественно, так как она любит моего свёкра до обожания и как будто в первый год женитьбы, хотя она замужем уже 30 лет. У него желчная лихорадка уже 6 недель, т. е. лихорадка-то прошла, но большая слабость, которая всегда следует за столь продолжительной болезнью, показывает, что его состояние внушает больше опасений, чем уверяет доктор и чем есть в действительности. Я наслаждаюсь деревенскими удовольствиями столько, сколько могу: много гуляю, обошла лес и рощи, окружающие дом… Мы предполагаем остаться здесь до 10 июля, — поэтому не пиши мне больше сюда после получения этого письма, т. е. начинай адресовать твои письма в Петербург, но я должна предупредить тебя, что наш дом продан, и вот наш новый адрес: •На Владимирской, в доме жены купца Алферовского.• Мы остановимся, может быть, на две недели в Москве… Я в восторге, что твои волнения о муже успокоены его возвращением и что его путешествие доставило ему столько новых радостей, столько насекомых и мелких зверьков, которые составляют моё несчастие: я боюсь всего этого, как и ты, и если бы я была женою естествоиспытателя, столь ревностного, как твой Гриша, который бы требовал, чтобы я разделяла его восторги и чтобы я трогала все эти ужасы, — я думаю, что у нас не было бы согласия в семейной жизни, потому что я в этом случае не отважилась бы исполнить его желания. Мой муж целует тебе ручки; не знаю, будет ли он сегодня писать твоему Грише: у него толстая пачка писем, на которые ему нужно отвечать, а это плохо устраивается с его леностью…»
Пребывание у свёкра неожиданно омрачилось: старик Дельвиг умер 8 июля, — о чём поэт извещал Пушкина коротенькою запискою, кончавшеюся словами: «Жена моя целует тебя в гениальный лоб» (XIV, 22).
Вот что писала Софья Михайловна подруге своей 16 июля:
«Я предпочитала бы, мой дорогой друг, не иметь никакого извинения в своём молчании, чем иметь такое грустное, такое ужасное извинение, какое у меня есть для тебя: мы имели несчастие потерять моего свёкра, и я едва в состоянии оправиться от чувства болезненного страха, который произвело на меня и на всю нашу семью это ужасное событие. Сегодня исполнилось 8 дней, что он скончался! Отчаянное состояние моей свекрови было бы трудно описать тебе, равно как и состояние моих золовок, весьма привязанных к своим родителям самою нежною и самою трогательною любовию. Я имела случай видеть сыновнюю любовь моего Антоши. Моё сердце разрывалось при виде горести, которую он не мог не обнаружить при этом, несмотря на все старания быть твёрдым, с тем, чтобы поддержать добрую матушку, этого ангела терпения, мягкости и всех добродетелей, из которых состоит добрая христианка. Её спокойствие, достоинство, которое она умела сохранить в несчастии, делают её ещё более трогательной и достойной большего уважения! Не могу выразить тебе, какая скорбь царит в нашем доме. Что касается меня, то и мне невозможно не сожалеть об этой утрате так же, как сожалеет всё наше семейство, в особенности когда я подумаю о привязанности, о совершенно особенной нежности, которую показывал ко мне мой бедный свёкор! Он говорил, что он умирает довольный, так как он повидал меня и убедился в том, что я могу составить счастие Антоши. Он благословил всех нас и поцеловал за три дня до смерти, меня же призывал беспрестанно и расточал мне знаки своей доброты. В последний день, когда он был уже очень слаб, чтобы говорить, он улыбался при виде, что я подхожу к его постели, и протягивал мне руку! Мой Антоша давал мне много поводов за него беспокоиться. Представь себе, что на целые четверть часа он лишился употребления языка, и так как его сложение таково, что я имела полное основание бояться апоплексического удара, я не замедлила послать за врачами, которые и предписали пустить ему кровь. Это его спасло; по счастию, он мог потом плакать, и плакал много, особенно при погребении[497]. Я не знаю, сколько именно времени мы останемся ещё здесь; но что верно, это то, что мы не выедем ранее августа месяца…»
И действительно, следующее письмо, от 14 августа, писано было ещё из чернской деревни Дельвига. Как занят он был делами семьи и сколько забот свалилось на него, видно из двух дошедших до нас писем его от 13 июля; в первом, к Н. А. Полевому, он просил об одолжении ему тысячи рублей[498], а во втором, к В. Д. Корнильеву, просил последнего похлопотать перед Полевым об этой тысяче рублей. Приводим письмо это, ещё не изданное и сохранившееся в Пушкинском Доме.
Тульской губернии город Чернь
1828 года 13-го июля
Почтеннейший и любезнейший Василий Дмитриевич. Давно уже думали мы вас увидеть, но Царская служба меня удерживала. Наконец нещастие заставляет меня ещё несколько промедлить. Я лишился отца, и отца редкого, которого никогда не перестану оплакивать. Зная, что кроме Баратынского и вас никто более не примет во мне участия в столице вашей, я решился поверить вашей душе и моё горе и мою нужду. Сделайте милость похлопочите обо мне у Полевого. Не может ли он мне дать на один только месяц, т. е. до моего приезда в Москву, 1000 рублей, без коих я должен буду остаться в деревне, как рак на мели. Если же он совершенно откажется, то не найдёте ли вы другого средства помочь вашему Дельвигу. Жена моя приказала мне кланяться вам обоим от неё, я целую ручки у вашей милой Надежды Осиповны. Голова моя расстроена и ваше письмо двенадцатое из числа приготовленных мною для почты. Адрес ко мне назначен сверх письма. Будьте же здоровы, счастливы, не теряйте милого и любите старых друзей ваших, в коих надеется быть и
ваш Дельвиг[499].В упомянутом письме Софьи Михайловны от 14 августа 1828 г. мы читаем следующее:
«…Мой муж весьма дружески приветствует вас обоих; он до чрезвычайности занят делами матушки, которые не дают ему ни досуга, ни настроения, чтобы писать письма; поэтому он уже довольно давно не делает этого. Мой покойный свёкор оставил матушке долги, а состояние и дела до крайности расстроены; и Матушка, которая ничего в этом не понимает, вдруг очутилась окружённою затруднениями забот совсем для неё нового рода; денег нет совсем, а постоянно подходят сроки, в которые нужно платить и которые не терпят отлагательства; вдобавок к казённым долгам, мой муж сделал 500 вёрст, чтобы найти деньги; он их, наконец, нашёл с большим трудом и меньше, чем было нужно; но по крайней мере можно удовлетворить наиболее срочных кредиторов. Моя бедная матушка очень убита, не говоря уже о том, как заставляет её страдать её потеря; это горе её положительно грызёт. И что за беспорядок в доме! Вся прислуга пользуется состоянием, в котором находится матушка, распускается и предаётся всем тем бесчинствам, которые сдерживались в них строгостью моего свёкра; он был любим, потому что был добр, но он был справедлив и его боялись. Мой муж должен был оставить мягкость своего характера и пригрозить всей этой сволочи: иначе довели бы до крайности терпение бедной матушки, и без того совершенно измученной тяжестью своих горестей… Я почти уверена, что в начале сентября я буду уже у своего очага в Петербурге…»
Вернувшись в Петербург 7 октября 1828 г.[500], С. М. Дельвиг очень не скоро собралась написать подруге. Наконец 10 января 1829 г. она писала, сообщая Карелиной о новой своей дружеской связи — с Анной Петровной Керн, — некогда воспетой Пушкиным. Знакомство с этою дамою, не отличавшеюся большою строгостью нравов[501], оказало на Софью Михайловну большое влияние и, по-видимому, содействовало тому, что в семью Дельвига внесён был элемент бесшабашного флирта, не всегда невинного[502]. Впоследствии Керн написала свои воспоминания о Дельвиге, в которых с восторгом отзывается о нём: «Дельвиг, могу утвердительно сказать, был всегда умён! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приветливее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьёзную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нём истинный великолепный юмор. Гостеприимный, великодушный, изысканный, он жил счастливее всех его окружающих… Название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей» и т. д.[503] Тем не менее она не только не способствовала ограждению этого «лучшего из мужей» от семейных огорчений, но ввела в его дом своего кузена Вульфа, донжуанские наклонности которого были ей хорошо известны и который не замедлил начать ухаживать за Софьей Михайловной[504]. Вот что последняя писала в упомянутом письме от 10 января 1829 г.:
«…Муж мой целует твои ручки и посылает „Северные цветы“ и новую повесть Баратынского… Что тебе сказать о моём житье-бытье? Плетнёва вижу не очень часто; он занят уроками великих княжен, у которых обязан быть почти всякий день. Якимовских вижу иногда; у них сын 11 месяцев, Николай, очень похож на Ф. Ф. — Саша весела и счастлива, дела их идут хорошо. Я выезжаю мало, но приглашаю иногда к себе, — всё почти литераторов или музыкантов; ежели тебя это интересует, я когда-нибудь расскажу тебе, кого именно, чтобы ты знала, что я делаю, с кем бываю и т. д. Из дам вижу более всех Анну Петровну Керн; муж её генерал-майор, комендант в Смоленске; она несчастлива, он дурной человек, и они вместе не живут около трёх лет. •Это добрая, милая и любезная женщина 28 лет; она живёт в том же самом доме, что и мы, — почему мы видимся всякий день; она подружилась с нами и принимает живое участие во всём, что нас касается, — а следовательно, и в моих друзьях, т. е. в частности в тебе, особенно после того, что я дала ей некоторые твои письма; она в восторге от тебя и любит тебя, хотя с тобою и не знакома. В настоящую минуту я пишу в её комнате, и она просит меня сказать тебе тысячу любезностей,• а именно, что она тебя нежно целует; я хочу, и она тоже хочет, чтобы вы познакомились •(заочно посредством меня); полюби её,• и тогда я в моих письмах поговорю подробно о ней и её положении, если ты мне это позволишь. Скажи ей также что-нибудь ласковое в ответ на то, что она поручает мне сказать тебе, а я ей это покажу…
Приписка. Аннет Керн недовольна тем, что я сказала тебе от её имени, она утверждает, что я недостаточно хорошо объяснила тебе то, что она чувствует к тебе: она хочет чего-нибудь ещё более нежного. •Она говорит, что она никого ещё не любила заочно так, как тебя. Видишь ли, как она с тобой заочно кокетничает…•»
В следующих письмах снова встречаем имя Керн и даже её приписку.
«Я пошлю тебе иголки, которые ты просишь, завтра или послезавтра с „Северными цветами“, которые мой муж для тебя приготовил… Я была больна весь этот месяц, как и предыдущий, а в общем, я в продолжение всей зимы чувствовала себя нехорошо, особенно же в последнее время: я страдала спазмами в груди, головными болями и сердцебиениями почти до обморока; этот последний недуг особенно невыносим; поэтому я решила следовать предписаниям моего врача, который назначил мне пустить кровь; это меня очень облегчило; тем не мене я ещё должна жаловаться на своё здоровье. Мне советуют путешествовать, часто переменять место, я же не люблю такую жизнь; но чего не сделаешь для здоровья! Летом, я думаю, мы поедем на некоторое время в Москву; отец мой будет там и назначил нам там свидание. Мой муж равным образом не чувствует себя хорошо; он поручает мне сказать тебе тысячу вещей и целует тебе ручки… Аннет Керн наказала мне поговорить с тобою о ней, познакомить тебя с нею и на этот раз сказать тебе ещё больше нежностей от её имени, чем я сказала в предыдущем моём письме. Мы часто говорим о тебе, — я рассказываю ей о наших былых шалостях, о нашей взаимной дружбе, она очень всем этим интересуется и любит тебя по моим рассказам»[505].
«•…Ты, я думаю, получила „Северные цветы“ и иголки, — пишет она через неделю. — Через несколько времени я пришлю тебе ещё кой-чего почитать; жаль мне тебя, мой ангел, — библию читать хорошо и похвально, но беспрестанно и ничего более не читать — не слишком весело.• По поводу Библии: я получила на этих днях длинное послание на немецком языке, которое меня изумило и доставило удовольствие в то же самое время: оно было от Черлицкого, который вдруг оказался в Москве (я ничего не знала о его отъезде): он поехал туда в то время, как я была в Харькове. •Пишет, что он принял Греческое исповедание, называет меня самыми святыми именами: meine werthgeschâtzte Freundinn im Herm[506] и проч., и говорит, что не может забыть наших разговоров… Ты спрашиваешь об Саше Якимовской[507], — мы её довольно редко видим, потому что она живёт от нас ужасно далеко; однако ж я могу сказать тебе, что сыпь её почти в прежнем положении, а сын её чист; она иногда бывает чиста, а иногда вся покрывается сыпью, как прежде. Сбирается лечиться у одного медика, который делает чудеса, т. е. вылечивает очень скоро от самой жестокой золотухи (естественными средствами, однако же). У Анны Петровны [Керн] дочка с помощью его совсем выздоровела, а была тоже вся покрыта золотухой. Эту дочку зовут Ольгой, ей 2 года с половиной.• (Ты спрашивала у меня подробностей об Аннет, — вот они). Вот уже три года, как она оставила своего мужа; он — отвратительный человек, от коего она много выстрадала; он теперь комендант в Смоленске; несколько дней тому назад прошёл слух, что он умер, к сожалению, ложный. Аннет замужем 12 лет, из которых с мужем провела лишь 4 года; •она два раза сходилась, но теперь, кажется, уж навсегда рассталась.• Она рождённая Полторацкая; её отец и мать живут в Малороссии, где у них имение, а она живёт здесь из-за своей старшей дочери, девочки 11 лет, которая в монастыре. Она должна была поместить её туда, чтобы спасти её от плохих забот её отца, который взял бы её к себе при их разъезде. •Ты знаешь, что это так водится.• Это очаровательная женщина, повторяю это ещё раз. То, что ты написала мне на её счёт, доставило ей невыразимое удовольствие, и она пожелала непременно поблагодарить тебя за это сама. Посылаю тебе при сём строки, ей к тебе обращённые. •Что тебе сказать о Плетнёве? Он совсем испортился: считается визитами, т. е. его дура жена, и он туда же дурачится… Муж целует твои ручки; он всё болен, бедный, лихорадкой, — всю зиму хворает: то рюматизмом, то тем, то другим…•»
Приписка А. П. Керн. «Не удивляйтесь, Милостивая Государыня, интересу, который вы сумели мне внушить и который я беру смелость Вам выразить лично, несмотря ни на что. Я имела случай прочитать некоторые из ваших писем, — я попросила Соню их мне показать, насколько это было возможно, — и поговорить со мною о Вас поподробнее. Поэтому я Вас знаю так же хорошо, как хотела бы, чтобы Вы меня знали. Этого достаточно, чтобы Вы знали, что я питаю к Вам самую нежную дружбу. Не откажите мне в Вашей дружбе. А. Керн»[508].
В следующем письме находим рассказ о болезни Дельвига и его тестя, старика М. А. Салтыкова.
«…Моё здоровье улучшается заметно, здоровье моего мужа также доставляет мне гораздо меньше беспокойств: с возвращением весны к нему начинают возвращаться силы — и время уже, так как он оправдывал пословицу: „болезнь входит пудами, а выходит…“ и т. д. Его внешность никогда не заставила бы меня бояться, что он человек слабого здоровья; но он доказал мне, что это вовсе не то, что доказывает его сильное сложение: в течение всей этой зимы он страдал, как женщина, полным расстройством нервов, и я, никогда не будучи сильной в этом отношении, не могу теперь больше жаловаться на себя… Что касается моего отца, к несчастию, я получаю от него письма одно тревожнее другого; лишь сегодняшнее меня немного успокоило; 3 или 4 месяца он болен; по всему видно, что на него снова нашла его ипохондрия, но в более сильной степени; он жалуется также на перемену в нервной системе и говорит, что у него длительная лихорадка; здешние врачи, которым я показывала его письма, говорят, что это всё пустяки, но тем не менее он слаб, не спит, страдает, — а это очень огорчает меня. Он находится у моей тётушки Пассек, откуда он не может выбраться по причине своей большой слабости, вызванной бессонницей, лишениями в пище… В мае месяце он думает ехать в Москву, чтобы хорошенько полечиться, и мы поедем туда, чтобы повидать его в начале или в течение июня месяца»[509].
«…Я уже говорила тебе, — сообщает она 23 мая, — что мой отец болен; он чувствует, что видимо слабеет, и хотел бы иметь нас около себя в Москве, куда он должен приехать в этом месяце, чтобы там устроиться, потому что он назначен там сенатором… Я надеюсь, что его здоровье восстановится, так как ему уже гораздо лучше; но это не мешает мне предпринимать шаги для исполнения его желания, ибо в его возрасте он не может часто делать путешествия, чтобы видаться с нами; к тому же он совершенно одинок в Москве. Мой муж хлопочет перейти туда на службу, и возможно, что к концу лета или осенью мы отправимся на наше новое местожительство. В настоящее время мы переселились в деревню — на Петербургской стороне совсем против Крестовского: это очень приятное место и подходящее для того, чтобы сделать лечение моего мужа более действительным, так как воздух там более свежий и более чистый, чем в городе, и там больше возможностей приятно гулять, — а это необходимо для моего мужа, который принимает травяной отвар и должен при этом много ходить. Я надеюсь, что здесь он окончательно поправится. Между тем не бойся за свои письма: ты знаешь, что Аннет Керн живёт в том же доме, который мы занимали в городе: она получает все наши письма и пересылает их нам; да и дворник тоже получил приказание по этому предмету, так как возможно, что Аннет приедет жить к нам, нуждаясь в более свежем воздухе для своей маленькой. Во всяком случае, пиши мне по адресу: В книжный магазин Ивана Васильевича Слёнина, у Казанского моста, в доме Енгельгардта; он всегда будет пересылать нам наши письма, в каком бы место мы ни находились. Как только я приеду в Москву, я сообщу тебе свой адрес… Мой муж передаёт тебе тысячу нежностей и поручает сказать тебе, что он сделает необходимые справки по делу, о котором ты ему говоришь, и даст тебе ответ, как только будет иметь его для тебя…»
Однако переезд Дельвигов в Москву не состоялся.
«…Не знаю, писала ли я тебе, что я на даче, — читаем в письме от 18 июня, — и что Анна Петровна также переехала ко мне на лето. Мне здесь очень хорошо… Я живу близко Нарышкиной дачи, а ты знаешь, что Аннет Елагина[510] вышла за Орлова, секретаря Нарышкина; поэтому она живёт в этой деревне, в очень милом отдельном помещении, т. е. во флигеле. Её муж не красив, но любезен, предупредителен и не лишён ума, хотя (что бывает довольно редко) в то же время очень добродушен. У них дочка полутора лет, по имени Аннет… Скажи, ради Бога, прислала ли я тебе Бал, повесть в стихах Баратынского? Не могу вспомнить, а хотелось бы знать для очищения совести…»
Осень застала Дельвигов ещё на даче, откуда они не скоро перебрались в город.
«…Мы ещё в деревне, и возможно, что мы отсюда поедем в Москву, так как, не имея квартиры в городе, её нужно искать и подвергнуться всем неприятностям переселения, быть может на короткое время, ибо дела, удерживающие моего мужа здесь и делающие время нашего отъезда столь неверным, тоже могут кончиться с минуты на минуту; однако, если мы не уедем в середине сентября, надобно будет выезжать отсюда, так как у нас будет очень холодно. Всё это не должно тебя смущать: пиши мне всегда на адрес Слёнина, — впредь до нового распоряжения. Если мы поедем в Москву, то это лишь для того, чтобы провести там некоторое время с отцом моим (не более 3 месяцев, после чего мы возвратимся сюда)… •Не сердись, душенька, за мою неисправность на счёт книг; всё пришлю тебе; теперь у нас нет ни одного экземпляра Стихотворений моего мужа, т. е. в доме нет, и он не замедлит достать и отправить к тебе•»[511].
Узнав о появлении cholera morbus в Оренбурге и о какой-то болезни А. Н. Карелиной и её детей, С. М. Дельвиг писала: «Ты будешь жить, ты будешь здорова, — или Провидения не существует. Твои дети также будут сохранены. Говорят, что эта болезнь не трогает детей и беременных женщин. Что касается припадков Сониньки, то я скажу тебе, мой ангел, что у моего мужа, как говорят, были точно такие же вплоть до 11-летнего возраста, все думали, что это падучая болезнь, — у него были все симптомы её, а потом оказалось, что это были глисты… Сообщила ли я тебе мой новый адрес? •На Владимирской в доме Тычинкина…•»[512]
В это время Дельвиги собирались ехать в Москву, — и больной В. Л. Пушкин (поэт) писал своему брату Сергею Львовичу 3 декабря, что М. А. Салтыков ожидает с любовью и нетерпением дочь и зятя[513]. Но поездка замедлилась: Дельвиг нелегко подымался с места.
«…На днях получила я твоё письмо от 10 декабря, радость моя Саша! — пишет Софья Михайловна 30 декабря. — Оно так исколото, что сначала очень меня испугало. Но слава Богу, ты меня успокоила и утешила меня известием, что cholera вас оставила… Говорила ли я тебе о нашем проекте съездить в Москву на некоторое время? Если нет, то нужно, чтобы я сказала тебе, так как отъезд наш уже очень близок: он назначен на 2 или 3 января, т. е., наверно, через три дня… Мы едем налегке и очень ненадолго: через четыре недели мы вернёмся (считая путешествие и пребывание в Москве). Единственная наша цель — повидать папá, который устроился на житьё в Москве, по той причине, что он сделан там сенатором; служба и частные дела моего мужа не позволяют нам отсутствовать дольше. Сборы наши невелики, и я до сегодня не знала, когда именно мы едем, оттого и я тебя не уведомила об этом. Из Москвы непременно буду писать к тебе. У меня в течение 4 месяцев был очень сильный кашель, что заставило нас откладывать наше путешествие; иначе мы провели бы праздники и начали год вместе с моим отцом: это было его и наше желание. Теперь время сказать тебе одну вещь, которая тебя, конечно, порадует, ибо она очень радует меня. Угадываешь ли ты её? Меня очень смущало, что я до сих пор не сообщала тебе о чём-то, что доставляет мне удовольствие, что составляет моё счастие; но я не осмеливалась говорить, так как не была уверена в этом; этого так долго мы желали, что я уже потеряла всякую надежду видеть моё желание исполнившимся, и я не решалась поверить исполнению его. Но теперь я не могу сомневаться в этом и могу, наконец, сказать тебе о том. Да, мой друг, я буду матерью. Невозможно дать тебе представление о чувствах, наполняющих моё сердце, но я уверена, что ты разделишь мою удовлетворённость, ты, которая всегда так хорошо меня понимала и интерес которой ко мне никогда не изменялся. Мой муж не из числа тех, которые не чувствуют от этого удовольствия. Он очень доволен! Отец мой тоже!..»
Следующее письмо датировано уже Москвою, куда Дельвиг поехал для свидания с тестем, уполномочив Пушкина заведовать редакциею только что основанной «Литературной газеты». Приводим это письмо в той части, которая представляет общий интерес:
Москва, 13 января <1830 г.>
Исполняю обещание, данное тебе, мой ангел, — написать тебе из Москвы, хотя всё моё время поглощается пустяками, которые заставляют кружиться мою голову и не позволяют мне заниматься тем, что меня больше всего интересовало бы. Тем не менее я могу сказать тебе несколько слов и чувствую к тому потребность. •Хочется хоть немного отвести душу. С тех пор как мы здесь, я веду такую глупую прозаическую жизнь, что ни на что не похоже. Мы отправились из Петербурга 3-го янв., а приехали сюда 5-го, потому что ночевали каждую ночь. Со всем тем я очень утомилась. Отец очень нам обрадовался; мы у него остановились. На другой день, несмотря на то, что я ещё не успела отдохнуть, надобно уж было принимать и делать визиты, — видеть людей, с которыми вовсе не хотелось бы знаться, знакомиться, слушать и самой делать глупые уверения. Ох, как это всё мне надоело!• Да здравствует Петербург! Там можно вести такой образ жизни, какой хочешь! Здесь — как в провинции! Родные сыплются на вас дождём, душат вас в своих объятиях, новые знакомства неизбежны даже тогда, когда приезжаешь сюда на две недели, как мы. Но спрошу тебя, каково удовольствие приехать сюда на две недели, чтобы повидать своего отца, и почти не видеть его, будучи обязанной проводить время на улицах с утра до вечера. Даже мой отец не противится этому, — наоборот, так как он обосновался здесь, то он завязал отношения, знакомства, нашёл родственников, — все сердились бы на него, если бы он не повёз меня им на показ. Завтра или послезавтра мы рассчитываем сделать небольшое путешествие в Тульскую губернию, чтобы повидать в деревне мою свекровь; это так близко, что путешествие и пребывание там продлится всего лишь 6 дней. •Я немного отдохну там, — потом приедем сюда дней на 6, а к первым числам февраля будем в Петербурге. Муж спешит туда: он кроме «Северных цветов» начал с 1-го января издавать «Литературную газету», которая выходит каждые пять дней; без себя он препоручил хлопоты А. Пушкину, но всё-таки лучше скорее самому ехать смотреть за своим делом. Ты непременно будешь получать эту газету. Извини меня, родная, что я пишу такое глупое, неинтересное письмо. Мочи нет, как я одурела от этой сумасшедшей жизни. Прости, мой ангел…•
По возвращении в Петербург Софья Михайловна писала:
«•Наконец я опять в Петербурге, милый мой друг Саша. В Москве меня задержали гораздо долее, нежели надлежало бы.• Я совершила путешествие с большою медленностью, так как я легко устаю и чувствую себя более тяжёлою, чем многие мои знакомые женщины, которых я видела в моём положении. Но вот я отдохнула совсем и довольно здорова… Я не показала моему мужу твоего предыдущего письма, так как ты этого не хотела (без того это не пришло бы мне самой в голову, — ты права была, думая так). Но как плохо ты знаешь его, если полагаешь, что то, что ты сказала, могло поссорить его с тобой! Ставлю себя на твоё место, и он сделал бы то же самое; я понимаю (и он понял бы), что ты могла быть нетерпелива оттого, что я тебе не говорила в подробностях о том деле; да и чего не скажешь в минуту досады? Я ещё нахожу, что досада, в которой ты находилась, внушила тебе слова очень умеренные. Надеюсь, что минуту спустя у тебя уже не было в мыслях сдержать глупые обещания никогда ничего не просить у моего мужа, — •„хоть бы дело шло не только о твоём счастии, но и о жизни твоей“•. Подобных вещей не говорят своим друзьям иначе, как в минуту вспыльчивости. Я не сомневаюсь, что ты сама находишь теперь эту фразу смешной. •Подробности в деле Ахматовых состоят всё в том, что они просили моего мужа им помочь, что он со своей стороны сделал всё, что мог, но имел несчастие стараться безуспешно, по глупости и недоброхотству Министра Просвещения (известного с этой стороны человека). Наконец Ахматовы обратились с просьбою к Лонгинову, который и доставил им награду от Государя. Сделай милость, не сердись на меня… Надеюсь, что ты нашла разницу между „Литературною Газетою“ и другими журналами. У нас — критика, а не брань, и критика хорошего тона, не правда ли? Пушкин доставляет много своих статей. Разбор Истории Полевого и многие другие критические статьи принадлежат ему. Не правда ли, — хороша его проза? Асамблея — отрывок из его же романа, только не говори об этом никому[514]. Я теперь не много читаю: трудно глазам и голове, потому что кровь поминутно бросается к голову.• Я занимаюсь хижинкою маленького или маленькой Дельвиг, и ты не поверишь, как это меня забавляет и занимает. Я вижу мало людей, но те, кого я вижу, очень мне приятны. Сомов и Пушкин — наши завсегдатаи, — они приходят ежедневно, так как это — главнейшие сотрудники моего мужа…»
Между подругами, очевидно, пробежала кошка, — и Софья Михайловна замолчала на целых восемь месяцев; она не уведомила Карелину даже о том, что у неё 7 мая 1830 г. родилась дочка Елизавета[515].
Извиняясь и оправдываясь на целых двух страницах в своём молчании, С. М. Дельвиг писала подруге 6 ноября 1830 г.: «Поговорю с тобой о моей Лизе, которую ты, без сомнения, полюбишь, как я люблю твоих детей. Она очень мила, а в моих глазах — восхитительна. Завтра ей исполнится 6 месяцев, но у неё нет ещё ни одного зуба. Я продолжаю кормить её и чувствую себя от этого хорошо, она, как кажется, тоже, так как до сих пор она была вполне здорова. Мне кажется, что в настоящее время она похожа на моего мужа, портрет которого (сказать в скобках), у тебя находящийся, очень не совершенен… Я более месяца нахожусь в смертельном страхе о моём отце, который заключён в стенах Москвы, без возможности выехать оттуда по причине карантинов, которые содержатся вокруг города с тех пор, как эта проклятая холера свирепствует в нём. Ты знаешь по газетам, конечно, в какой степени она там царствует. К счастию, мой отец сообщает о себе через день и принимает все предосторожности, какие только можно предпринять, а их столько предписали и столько напечатали по этому вопросу! Тем не менее я не могу не быть в живейшем беспокойстве. Я нахожусь поистине в жалком состоянии. Что касается нас, то кажется, что мы в безопасности. Петербург окружён тройною цепию, правительство приняло самые разумные меры для того, чтобы гарантировать нас от эпидемии; предосторожности доведены даже до крайности. •Мы все куримся, бережёмся как нельзя больше.• Ты получишь это письмо проколотым, я думаю, — это потому, что оно должно пройти через Москву, и это не должно тебя удивлять… Когда я буду более спокойна, я напишу тебе более подробное письмо о моём житье-бытье и о Лизе. Я также примусь читать „Эмиля“, чтобы попытаться извлечь оттуда то, что сочту могущим быть приспособленным к её воспитанию… Лиза доставляет мне минуты и дни истинного наслаждения, так же, как и своему отцу, который — нежнейший отец, какого я когда-либо видела, — как и лучший из мужей… Получаешь ли ты исправно „Литературную газету“?..»
В письме от 6 ноября она сообщала некоторые подробности о новорождённой, об отце и муже, а затем писала 18 ноября:
«…Лиза, слава Богу, не причиняла ещё нам огорчений, но я чувствую, что нужно будет пройти через много испытаний, — нужно к ним приготовиться и постараться покориться им. До сих пор она здорова. Третьего дня она доставила мне величайшее удовольствие, которое ты, конечно, поймёшь: у неё вышел первый зуб, — и почти без всякой боли… Ей седьмой месяц, — говорят, что это довольно рано для прорезывания зубов и что это показывает, что дитя развивается быстро. Как бы то ни было, лишь бы дело шло благополучно, — это всё, чего я желаю… Я всё время в беспокойстве за папá. У него припадки ипохондрии, его письма слишком отзываются ею, чтобы не расстраивать меня. Суди, что я должна испытывать, читая их, — посылаю тебе одно из них, чтобы дать тебе понятие о той сердечной грусти, которую я испытываю по нескольку раз в неделю, потому что все письма писаны в том же тоне. Что касается моего брата, то он в безопасности до сих пор: в Польше, в имении своей жены; он отец трёх сыновей… Муж мой целует твои ручки и ножки. Он премилое, преблагородное существо. Люби его… Г-н Плетнёв говорит тебе тысячу вещей и питает к тебе тот же интерес. Он очень нежный отец. Очень жалко, что его жена — существо более чем прозаическое, которое не умеет понять и оценить эту прекрасную душу».
Письмо М. А. Салтыкова, приложенное к письму С. М. Дельвиг, написано по-французски; даём здесь полный перевод его, чтобы познакомить со стилем писем старого арзамасца и с его настроением:
8 ноября <1830 г.>
Дорогая Соня! Очень тебе благодарен за то, что даёшь мне частые вести о себе. Я только что получил твоё письмо от 31 октября. Уже несколько дней, как бюллетени (холерные. — Б. М.) менее пугают нас, но слухи продолжают нас волновать, — невозможно заткнуть себе уши. Я оставался дома в продолжение некоторого времени, чтобы ничего не знать, — но мои люди приходили говорить мне обо всём, что они слышали. В течение двух суток я чувствовал колотьё внизу левого уха и жестокое биение артерий. Я пользовался тогда одеколоном. Я с благодарностию получил бы одеколон, который ты намереваешься прислать мне, если позволена будет пересылка пакетов, — так как здесь нет хорошего. Я грустно провожу день моих именин. Вчера был я у Догановских[516], к которым я езжу только для того, чтобы составить партию хозяйке; между тем невозможно избежать и не слышать рассказов о том, что делается; утверждают, что эпидемия уменьшается, но что она перерождается в тиф, и что теперь преобладает госпитальная лихорадка. Спроси твоего врача, что такое тиф, — это хуже холеры, это нечто ужасное. Одна княгиня Щербатова и младшая из трёх её дочерей были в опасности и на этих днях. Не знаю, лучше ли им; может быть, их больше не существует. Морозы начались, но ещё нет настоящей зимы. Я буду более спокоен, когда ты сообщишь мне, что на Неве идёт лёд и что ваши каналы покрываются льдом. Я ничего не пишу Левашовым; если бы они были здесь, я часто их видал бы; писать же мне невозможно: я должен отвечать на множество служебных писем. Сонцов[517] умоляет меня давать ему известия о себе два раза в неделю; он в Зарайске, в 150 верстах отсюда. Я пишу моей belle-soeur, Мише[518], в деревню, г-же Шереметевой[519], — я провожу полдня с пером в руке. Когда я еду в Сенат, я читаю накануне кучу бумаг. Ты можешь судить по этому, есть ли у меня время заниматься своим делом, — поэтому я принял решение сносить все беспорядки в доме. Всё идёт вверх дном, — если бы я заболел, то я мог бы ожидать помощи только от Провидения. Вот моё положение. Жизнь не должна представлять ничего хорошего для старика, который живёт в уединении и который, в случае опасности, не может надеяться ни на какую помощь. Если бы я был свободен, я жил бы при тебе и ты закрыла бы мне глаза. Несчастие преследует меня. Я могу надеяться на возмездие только в будущей жизни. Восемь последних лет моя жизнь соткана из горестей и скорбей, в которые вплетены несколько шелковых нитей. Я прошёл сквозь жестокие испытания; то, что я выстрадал, неизвестно даже моим друзьям, и чудо, что я смог пережить бедствия, которые на меня свалилась. Воспоминание о них возвращается, иллюзии рассеялись, я отказываюсь от всех мечтаний сего света, я буду заниматься только своим последним часом. Сожги все мои письма: уверяют, что болезнь впитывается во все предметы, — возможно, что бумага сделается проводником её. Окуривание ничего не стоит. Уезды, которые оцеплены и не имеют никакого сообщения с заражёнными городами, — не затронуты. Санитарные постановления, если они хорошо соблюдаются, спасут вас. Вот уже два месяца, что эпидемия в Москве. Число больных третьего дня было 1096, сегодня — 935; если это уменьшение продолжится, можно полагать, что эпидемия исчезнет к половине декабря, — но она может породить другие болезни. Следовало бы иметь в три раза больше больниц, чтобы больные не были так скучены, как они скучены теперь. О, мой дорогой друг! Как ужасно наше положение! Как тревожно! Что за век! Неужели мы больше виновны, чем наши предки? Надо так думать. Я не пишу вовсе к твоему мужу, чтобы избавить его от ответа мне. У тебя больше досуга, чем у него, — и я не освобождаю тебя от этой обязанности. Продолжай, как начала. Передай мой привет Левашовым и Вишневским. Я не буду менять квартиру, как бы плохо в ней ни было, только бы в ней не случилось со мной несчастия. Мои люди здоровы, и я ещё на ногах. Желудок мой то хорош, то плох; я питаюсь только габерсупом и одной котлеткой. Сплю очень худо. Ум мой отягчён мрачными мыслями. Наслажусь ли я ещё одним проблеском счастия или спокойствия? Я не могу себя в этом уверить. О, как печален конец течения моей жизни! Я слишком много пожил. Прости эти излияния, — я думал, что мне будет легче. Небо похитило у меня всех моих друзей, — у меня только и есть, что ты. Прощай, дорогая Соня! Моё благословение не может принести тебе пользы, — я слишком несчастлив. О, если бы ты могла не познать тех испытаний, через которые я прошёл! Обнимаю твоё дитя и твоего мужа. Я чувствую себя крайне утомлённым; иду отдохнуть и постараюсь если не заснуть, то, по крайней мере, подремать. Я писал Мише 4 или 5 раз с тех пор как вернулся. Он выражает мне дружеские чувства. Поблагодари его.
«…Что сказать тебе о себе? — писала Софья Михайловна 4 декабря 1830 г. — Я продолжаю исполнять, как умею, сладкие обязанности кормилицы; существуют, к несчастию, женщины, которые говорят, что обязанности эти тягостны. Я их жалею: они лишены наслаждения, которое немного больше стоит, чем их светские удовольствия, ради которых они жертвуют этим долгом. Моя маленькая Лиза становится очень миленькой, она прекрасно знает нас — отца и меня, — она очень живая, любит, когда её подбрасывают; мой муж делает это лучше, чем я, потому что он сильнее меня, а она немножко тяжела; поэтому она вся приходит в оживление от удовольствия, видя, как он подходит к ней. Эта малютка доставляет мне минуты несказанного наслаждения. О! мой друг! Почему ты не здесь? Ты разделяла бы всё моё счастие во всех этих подробностях, — оно не может быть описано со всеми оттенками: их нужно чувствовать вместе, и ещё нужно иметь такое существо, как ты, для того, чтобы их понимать. Отчего ты также не около меня для того, чтобы наложить бальзам на все раны, которые меня раздирают? Ибо — скажу ли тебе? — несмотря на всё это счастие, этот мир уходит, несмотря на сокровище, которым я владею в лице моего мужа, — на эту невыразимую сладость материнской любви, — у меня есть горести, и горести жгучие, о которых я не могу тебе сказать. Ты была бы единственным существом в свете, которое бы могло выслушать меня и меня понять. Если мы когда-нибудь свидимся, всё будет выяснено, я не могу ничего доверить бумаге. Я получила свежие новости от моего отца: он более спокоен, и газеты подтверждают всё, что он говорит мне об эпидемии в Москве. Я читаю все санитарные бюллетени, печатаемые ежедневно: последние дают мне право надеяться, что вскоре не будет вовсе никакой опасности и что мы сможем вздохнуть свободно…»
В письме от 11 декабря находим характерные отголоски размышлений Софьи Михайловны по поводу предстоящих ей забот о воспитании дочери:
«…Скажи мне, что ты думаешь о методе Руссо? С этого момента я читаю „Эмиля“; в нём есть пункты, которым я очень хотела бы следовать, — другие, — которые мне кажутся немножко софизмами, увлекающими своим красноречием, иные, — которые были бы превосходны, если бы обстоятельства, век, в который мы живём, и тысячи других соображений не делали их неприменимыми. Он предвидел, сколько трудностей представляет исполнение его предначертаний, но мне кажется, что их ещё гораздо больше, чем он предвидел. Что наиболее трудно, — это приспособление всего того, чем хотят воспользоваться, к характеру ребёнка; всё это следует хорошенько изучить, — и всё-таки можно сильно ошибиться. Часто ошибка является источником многих несчастий в подобном случае. Я не смотрю на „Адель и Теодор“ мадам Жанлис как на книгу, из которой нельзя извлечь ничего полезного касательно воспитания. Это химерические планы, которые могут быть осуществлены лишь людьми с несметным состоянием, — не говоря уже о том, что они ошибочны сами по себе, во многих отношениях, — это роман, который можно читать с удовольствием в первый молодости, вот и всё. Когда бываешь призван к делу столь важному, столь трудному, как воспитание, и когда хочешь прочесть сочинения, которые были написаны по этому вопросу, — то не знаешь, с каким достаточным вниманием отнестись к нему, насколько нужно взвесить какой-нибудь план прежде, чем начать применять его, и сколько внимания требует подобное чтение. Особенно следует быть осторожным с писателями, обладающими красноречием: они наиболее опасны, — они убеждают вас и увлекают красивыми результатами, которые они ставят перед вашими глазами, между тем как очень может статься, что эти результаты лишь призрачны и что их приметы произведут эффект, совсем отличный от того, который они предполагают. Очень трудно отличить фикцию от действительности…»
Отвечая подруге, она пишет:
«…Знаешь ли, что, не будучи знакома с г-жей Окуневой, я бешусь, что не могу помочь тебе бесить её. Я имею представление об этом существе. Провинция изобилует подобными женщинами; и действительно, приходится хохотать над их болтовнёй. Нет ничего смешнее, как они из себя выходят по поводу дел, которые их вовсе не касаются. Я уверена, что эта святоша сама весьма сомнительного поведения. Скажи, — нет ли у неё, или не было ли у неё мужа, раненного в ногу или без ноги? Мой муж говорит, что он знал некую Окуневу с раненым мужем. Он говорит, что если это не та, о которой он думает, то надобно предположить, что все дамы Окуневы таковы, как ты описываешь твою, потому что она совершенно походит на этот портрет. Расскажи мне, прошу тебя, все новые сплетни, которые будут передаваться у вас. Это меня очень забавляет. Все говорят о графе Сухтелене[520] так же хорошо, как и ты; я знаю его только в лицо: я давно встретила его однажды, — тогда он показался мне чрезвычайно приятной наружности. Его дочь должна походить на него, если она красива, потому что её мать вовсе не такова. Помнишь ли, ты её видала у моей кузины Геннингс (теперь Пушкиной). Мне кажется, она тебе не понравилась тогда. Мне кажется, что ты уже знаешь, что графиня Ольга сделана фрейлиной?.. Я веду жизнь очень уединённую, не выхожу или почти не выхожу. Лиза занимает меня весь день. У неё уже два зуба и, я полагаю, третий уже идёт, так как у неё маленький жар. Эта маленькая девица доставляет мне наслаждение, я люблю её с каждым днём всё больше и сама этому удивляюсь, так как думаю, что невозможно с каждым днём всё сильнее привязываться к ней, как происходит со мной. Мой муж — очень нежный отец; до сих пор я думала, что ребёнок такого возраста не может интересовать мужчину или, по крайней мере, интересовать до такой степени, — почти как жену или мать, но он очаровательным образом доказывает мне противное, и ты понимаешь, как я этим довольна…»[521]
«…Моё маленькое семейство здравствует, — писала Софья Михайловна в поздравительном письме от 4 января 1831 г., высказывая добрые пожелания своей подруге, — Лиза занимает меня день ото дня всё больше. Благодаря Бога, её нельзя назвать маленьким чудом, — она ребёнок как ребёнок; но она — моё дитя, вот почему она лучше, чем все другие. Я благодарю небо за то, что люблю её не за что-либо иное. Я не люблю необыкновенных детей, таких, которых матери показывают, как существа со сверхъестественным умом; это — ослепление; или, если это справедливо, такие дети не живут, что может быть объяснено физически, очень естественным образом. Альманах моего мужа[522] появился; но в настоящее время нам невозможно выслать его тебе, потому что не принимают посылок на почту, т. е. когда они должны проходить через местности, где царит холера; можно посылать лишь письма, так как их можно прокалывать…»
Письмо Софьи Михайловны было такое мирное, такое счастливое, — она писала, что её маленькое семейство здравствует, — а между тем великое горе стояло у неё уже за спиною, смерть подстерегала самого Дельвига. Смерть его (14 января) была совершенно неожиданна. Правда, ей предшествовал ряд жестоких неприятностей, — но они были свойства морального, касались «Литературной газеты», за помещение в которой небольшого стихотворения Казимира Делавиня Дельвиг получил от Бенкендорфа грубейший выговор, — и ничто, казалось, не предвещало его тяжкой, смертельной болезни… Однако смерть пришла и в несколько дней унесла в могилу одного из благороднейших людей эпохи, талантливого поэта и честнейшего писателя. Софья Михайловна с трудом перенесла сразивший её неожиданный удар, — горе её было сильно и чрезвычайно остро, — для её экспансивной, живой натуры потеря мужа была как гром среди безоблачного неба. Она не сразу собралась написать своей подруге, и та узнала о смерти Дельвига из той же получавшейся ею «Литературной газеты», в которой был напечатан тепло написанный Плетнёвым некролог его друга-поэта, а также стихотворения его памяти В. Туманского, Гнедича и Деларю[523]. Только 3 февраля она села за письмо к А. Н. Карелиной и писала ей следующее:
«•Милая моя Саша! Я не имела духу писать к тебе до сих пор. Не вини меня, что узнала о моём несчастии прежде. Я и теперь для того только пишу, чтобы тебя успокоить. Я здорова и даже Лизу кормлю. Не знаю, как я переношу эту ужасную скорбь. Ты верно из газет всё узнала? Боже мой! Давно ли я писала к тебе о нём, давно ли рассказывала тебе о семейственном нашем счастии! Теперь всё кончилось и — навек! Стараюсь не роптать, но как это трудно! Для Лизы надобно жить. Оставить её без матери было бы жестоко. Она похожа на него очень. Как он любил её, — и она никогда не будет знать его!• Я плачу мало и редко. Я страдаю с каждым днём больше. Начиная с 14 января до сегодня моя горесть всё растёт. Я хотела бы, чтобы момент, в который я узнала о моём несчастии, теперь вернулся: он кажется мне сладостным по сравнению с теми, которые я провожу с той поры. Я тогда ещё не понимала хорошенько то, что произошло со мной; я была как бы в наслаждении горячки. Но затем моё горе стало более глубоким и делается с каждым днём всё глубже. Это рана, которая никогда не закроется. Потерять такого друга, как он, в таком возрасте! После того, что я испытала такое глубокое счастие в продолжение 5 лет, — только 5 лет! Можно ли когда-нибудь забыть его! Он был человек необыкновенный и муж необыкновенный. Милая! Да сохранит тебя небо от такого ужасного несчастия! Конечно, я не была достойна такого человека, однако было слишком жестоко отнять его у меня. И он, — как он был создан для того, чтобы быть счастливым, как его чистая душа была готова принимать все приятные впечатления жизни! Как понимал он всё прекрасное! Наше дитя было для него источником наслаждений, которые лишь немногие мужчины умеют ценить так, как он, — и он был вырван из этих наслаждений в 32 года. Мой друг, прости мне беспорядочность моего письма, — я не могу ни писать, ни говорить. Я чувствую себя слишком хорошо, и эти физические силы приходят ко мне, я думаю, за счёт моральных, но они мне необходимы для Лизы; это моё единственное сокровище; мне нужно жить для неё, сохранить ей по крайней мере её мать. У меня даже нет права желать смерти. Если он меня видит, если он меня слышит, он упрекнёт меня за то, что я слаба и покидаю его дорогую Лизу. Но если бы я, отняв её от груди, могла, по крайней мере, не прибегая к этому снова, заболеть и притом с сильными страданиями! Физические боли отвлекают от страданий моральных. •Это бы меня развлекло, я бы забылась хоть на короткое время.• Скоро Лизе исполнится девять месяцев, мне советуют отнять её, так как я слаба: мне придётся лишиться и этого отвлечения! Дорогой друг! Я получила от тебя много писем за это время, но не могу отвечать на них, извини меня! Прощай, пиши мне, не утешай меня, — утешений для меня не существует, — плачь со мною!
3 февраля 1831. Твой друг С. Дельвиг
•Не беспокойся обо мне, — я только слаба, а не больна•»[524].
Письмо от 26 февраля содержало в себе горячие выражения благодарности далёкой подруге за участие её в перенесённом горе. «Если не существует никаких утешений для такого несчастного существа, как я, мой добрый ангел, — читаем в этом письме, — то, по крайней мере, существует некоторое облегчение для моей страдающей души, — в виде такой подруги, как ты, — которое может помочь мне переносить жизнь, — и в виде сочувствия, подобного тому, какое ты выказываешь ко мне и которое одно только может смягчить положение, в какое судьба меня бросила. Твоё письмо вновь раскрыло все мои раны, но и облегчило меня, заставив меня пролить поток слёз. До сих пор я плакала очень мало и с физическою болью, которую трудно описать. О, моя любимая! Ты одна можешь понять… Я ещё держусь, Лиза здорова, но каково моё существование! После 5 лет несказанного счастия быть поверженной в бездну зол! Потерять существо, видеть которое один раз было достаточно для того, чтобы обожать его. О, ты его не знала! Ты ещё не знала, какой это был человек! •И в отношении ко мне что он был? Боже мой! Как я ещё живу, как я не сошла с ума! Милая моя Саша! Ты меня утешаешь надеждою, что мы увидимся. Но когда? ежели бы возможно было мне приехать к тебе и жить с тобой всегда, то я бы ни минуты не медлила, полетела к тебе, моему единственному другу. Ты хочешь приехать: можешь ли ты это сделать? Что это будет стоить? Состояние твоё невелико, — я знаю. Ради Бога, не делай таких пожертвований! Ты не вправе их делать, — у тебя дети. Но если бы в Москве могли вы поселиться, найти какое-нибудь место для Григория Силыча, — вот это бы хорошо было. Я буду жить в Москве, друг мой. Там мой отец служит (сенатором): он зовёт меня, говорит, что он один и стар, и слаб, и что некому ему закрыть глаза. Надобно ехать. Поеду в мае, а лето проведу в Тульской губернии, в деревне у свекрови, которую люблю теперь ещё больше. Она ангел, а не женщина, и притом же она мать моего друга незабвенного, и какая мать! И какого сына лишилась!• Он был поддержкою семейства, — они все потеряли. Матушка нуждается в утешении, ей нужно повидать меня, видеть маленькую Лизу. Я хотела бы разделиться между нею и тобою, но необходимо нужно, чтобы я подчинилась требованию необходимости, — нужно, чтобы я ехала в Москву, где я буду окружена безразличными существами. Мои дела… вот каковы они. Во время болезни покойного (думаю, что именно в это время) у меня украли ломбардные билеты на 55 тысяч рублей, и у меня остаётся 44 тысячи капиталу (было 99 000); со смертию моего мужа все другие доходы прекратились. •Оставалось его сочинений, „Северных цветов“, „Литературной газеты“ и пр. несколько экземпляров, которые, когда разойдутся, то окупят только самих себя,• потому что он был должен за бумагу, в типографию и т. д.; всё это, если б он был жив, не могло бы быть рассматриваемо как долги, так как редакция всё продолжалась бы и приносила бы что-нибудь, — но теперь?! Я произвела все возможные розыски этих билетов, — всё было тщетно: я не знаю их нумеров, а потому невозможно сделать публикацию о них. Всё это, однако, не должно произвести на тебя большего впечатления, чем на меня. Все эти заботы рассеиваются перед действительным несчастием, которое меня угнетает. Прощай, мой ангел, мой единственный друг! Я буду ещё много писать тебе, — •не могу вдруг, голова ещё не свежа;• всё в беспорядке у меня в голове. Да сохранит тебя небо. Твоя Соня».
«Саша Якимовская, которая должна родить в мае месяце, несмотря на своё положение, провела у меня 15 дней, спала на полу, вставала ночью, чтобы ходить за мной; каждый день ходила повидать своих детей и сейчас возвращалась ко мне. Её муж также проявил ко мне истинное внимание, помогал мне заниматься делами и т. д. Надо же к моему несчастию, чтобы эти люди не остались здесь: •вчера уехали в Олонецкую губернию навсегда: Фёдор Фёдорович там нашёл себе службу. Плетнёв целует твои ручки.• Этот человек настоящий ангел. Небо ещё не лишило меня его: оно ещё жалеет несчастных. •У меня была старая няня, которую ты, верно, помнишь: она за мной ходила, а за Лизой — с таким усердием, что нельзя было лучше молодой женщине ходить, и всё умела, — такая опытная! Она умерла, — в 9-й день после него! Теперь у меня Ненила, но более я сама нянчусь•».
Отвечая подруге 6 апреля на приглашение приехать в Оренбург, Софья Михайловна благодарила её за это приглашение, но говорила, что не надеется получить согласие отца на это путешествие. «Ты знаешь его характер, трудный в общежитии, неуступчивый. Конечно, не следовало бы в настоящее время насиловать мою волю, но посуди, было ли бы благоразумно с моей стороны становиться в дурные отношения с отцом, в особенности когда я должна буду жить с ним. Не будь этого, я не знаю, как сносила бы я все горести, которые меня ожидают к умножению моих несчастий. Я безропотно покоряюсь, своей дочери я обязана тою священною сокровищницею, которую оставил мне мой обожаемый друг, и всё перенесу ради неё. Но, Саша, как мне будет трудно с отцом! Сознаюсь тебе, что я предвижу минуты, когда я должна буду собирать всю свою храбрость! Письма, которые он мне пишет, не возвещают ничего хорошего. По поводу пропажи моих денег он говорит мне загадочные вещи, которые я боюсь разгадывать. Он не хочет мне ясно сказать, какого рода его подозрения, но мне кажется, что они обидны для памяти того совершенного существа, которое я оплакиваю со всеми благомыслящими людьми. Он говорит мне, что упрекает себя,— не за то ли, что вверил меня Дельвигу, на коего он смотрит как на человека, который не сумел сохранить моё состояние или промотал его. Он не даёт объяснений и просит меня не касаться этого предмета до нашего свидания. Я написала ему, что если он имеет сообщить мне неприятные вещи, то я прошу его, напротив, сообщить мне их письменно, чтобы не смущать и не отравлять свидания, на которое мне хочется смотреть как на утешение в моём несчастии. Но вместе с тем это начало доказывает мне, что я должна ждать весьма тяжёлых разговоров, которые растравят мои раны, уже и без того столь глубокие, столь болезненные. Я поеду, чтобы провести лето, к моей свекрови, — он не мог, соблюдая приличие, этому воспротивиться! Я бы хотела не покидать эту нежную мать, которую люблю всею душою. Среди этого превосходного семейства я буду черпать утешения! Мы будем вместе оплакивать человека, которого мы одинаково любим и которого так же ценим! В следующем месяце я поеду в Москву и оттуда, через несколько недель, к матушке; поэтому ты мне не пиши по этому адресу; одно письмо ты ещё можешь рискнуть послать в Петербург, но вот по какому адресу: •Его Высокобл. Оресту Михайловичу Сомову, у Круглого Рынка, в доме Сенатора Маврина, а вас прошу отдать и проч.• Если бы случилось, что твоё письмо не застанет меня больше, он перешлёт мне его в Москву, — потом же, когда ты будешь адресоваться в Москву, прошу тебя писать прямо на моё имя, прибавляя только: •в квартире Его Пр. Мих. Алекс. Салтыкова,• после следующего адреса: •На Маросейке, в доме Бубуки.• Не забудь этого, мой ангел… Как только я увижу Плетнёва, я передам ему всё, что ты поручаешь мне сказать ему. Я думаю, что если ты ему напишешь, он немедленно ответит тебе и заведёт переписку. Он любит тебя так же, как в былое время. Он сказал мне, что твоего мужа произвели в чин „за отличие“ и перевели в Коллегию иностранных дел; это доставило мне большое удовольствие… Ты спрашиваешь у меня про мою Лизу: она здорова, слава Богу, и я ещё кормлю её, но думаю отнимать её к 7 мая, годовщине её рождения; это будет незадолго до моего отъезда; у неё три зуба, она говорит папа, мама (папа — чаще) и узнаёт его портрет. Она очень на него похожа!.. Посланы ли тебе „Северные цветы“ 1831 года? Кажется, нет, — я их пришлю тебе…»
Через две недели Софья Михайловна писала:
«…Можешь себе легко представить, как начала я настоящие праздники, что испытываю я, будучи совершенно одинока посреди всего этого счастливого люда, который веселится. Мне кажется, что праздники в жизни сделаны для того, чтобы сделать для несчастных тягость их бедствий ещё более тягостною. •В будущем месяце я отправлюсь в Москву… Я бы давно поехала, но дороги ещё очень дурны, притом же надобно здесь кончить дела.• У меня есть долги, которые надобно уплатить, и совсем нет денег… •У моей Лизы 4 зуба; 7-го мая ей будет год, но она всё не стоит ещё на ножках, говорит папа, мама и баба и почти всё понимает.• Мой отец написал мне ещё письмо после того, о котором я тебе говорила, и опять в том же загадочном тоне. Я ожидаю очень тяжёлого для себя свидания. Один Бог может дать мне силу и терпение. Надо, чтобы я заслужила столько бедствий, так как я не сомневаюсь в божеской справедливости. Может быть, страдая здесь, моя душа очистится и станет достойной пойти и соединиться с прекрасною душою того, кого я никогда не перестану оплакивать…»[525]
После этого письма Софья Михайловна замолчала почти на четыре месяца, в течение которых в судьбе её произошла новая, резкая и неожиданная перемена; о ней она, однако, умолчала, и Карелина узнала об этой перемене лишь в конце октября.
«•Пишу к тебе, наконец, из Москвы, милый, бесценный друг мой, — читаем в письме от 11 августа 1831 г. — Сегодня неделя, что я приехала сюда. Холодное, сухое свидание с отцом меня очень огорчило, хотя я и не могла ожидать другого — после писем, которые он писал мне в Петербург о потере моего капитала,• который, как он подозревает (я тебе писала об этом), растратил и мой муж и я, и т. д., и т. д.; к тому же моё долгое пребывание в Петербурге очень ему не нравилось, так как он полагал, несмотря на всё то, что я делала для того, чтобы вывести его из этого заблуждения, что мне доставляло удовольствие оттягивать наше свидание. Дело же в том, что я едва имела на что жить в Петербурге, что я торопилась покинуть последний, чтобы успокоить отца и чтобы иметь затем возможность провести некоторое время в деревне моей свекрови, уже давно нетерпеливо ожидавшей возможности обнять меня и маленькую Лизу, которую она ещё не видела и которая стала ей вдвойне дорога после того, что её отец отнят от нас; следовательно, ты видишь, что, вовсе не желая длить моё пребывание в Петербурге из-за какой-нибудь сердечной радости, я, напротив того, имела тысячу причин желать скорейшего отъезда и что если я его откладывала, то это было против моей воли. И вот почему: мой покойный муж взял на своё попечение двух своих братьев, заботы о воспитании коих моя свекровь совершенно не могла взять на себя после смерти моего свёкра; они были в одном петербургском пансионе; эти дети, став совершенно сиротами после потери брата, не имели и не имеют никого на свете, кроме меня. Могла ли я бросить их? Можно ли делать подобный вопрос! Когда я потеряла половину моего состояния и не могла больше платить за них в пансион, — я взяла их оттуда и предприняла шаги для помещения их в одно из казённых заведений, — что, впрочем, предполагал сделать и покойный. Ты знаешь, сколько трудов это стоит. Институт путей сообщения показался мне лучшим местом, чтобы поместить их; к тому же у герцога Виртембергского, от которого это зависит, — добрая дочь-благотворительница; мне посоветовали обратиться к ней по этому делу, — я написала к ней, описала моё положение и положение моих сирот, она была им тронута и обещала позаботиться о них. Она заставила меня быть у неё много раз и постоянно делала мне обещания, — конечно, по доброте сердца, чтобы не обидеть меня прямым отказом. Между тем три месяца протекли в надеждах, и я всё считала себя накануне отъезда и так писала моему отцу, — а он терял терпение. В конце концов я умоляла принцессу Виртембергскую сказать мне определённо, что решил её отец: мне ответили, что дети ещё слишком малы (им 12 и 13 лет, а принимают только 15-летних) и что к тому же есть уже 150 кандидатов, между тем как всегда принимают сразу только 30 воспитанников. Так как я потеряла уже много времени, я наскоро уложила свои вещи и уехала, взяв моих детей с собою, в намерении отвезти их к их матери, где они и будут ожидать более счастливых времён, а я постараюсь поместить их в Москве. И вот я с ними у моего отца[526]. Мне трудно было привезти их к нему; он должен быть сердит на них за то, что они меня задержали; к тому же есть что-то, что меня терзает во всём этом, — ты должна понимать, что это: есть такие оттенки деликатности, которые невозможно выразить, они должны быть сами собою поняты. Ты меня понимаешь? Но всё это лишь временно: через 5 или 6 дней папа должен уехать, он отправляется на месяц к моей тётушке Пассек, а я поеду в это время к моей матушке и отвезу к ней детей… Проси небо, чтобы оно сохранило мою Лизу, моё единственное утешение, портрет её несравненного отца, единственное сокровище, которым я владею и которым я могла бы дорожить, так как я имею его от него!.. Папа видел здесь твоего мужа и очарован им, как человеком бесконечно умным. Надеюсь, что в настоящую минуту он с тобою. Напиши мне, мой ангел, один раз, по адресу моей свекрови: •Тульской губернии в г. Чернь•, хотя может быть, что я не так скоро возвращусь в Москву…»
Девятого сентября Софья Михайловна писала подруге, что она находится в деревне у свекрови уже более двух недель, и просила писать ей следующее письмо уже в Москву, куда она собиралась выехать после 17 сентября, дня своих именин и именин свекрови, которую звали Любовь Матвеевна; она сообщала, что бабушка и тётки не наглядятся на маленькую Лизу и окружают её заботами; что её самое всё это прекрасное семейство «носит на руках». Письмо Софьи Михайловны заключало, по-видимому, искренние излияния в любви к далёкой подруге; в нём не было ни слова, ни намёка на важную перемену, которая произошла в судьбе вдовы Дельвига: об этой перемене она откровенно и подробно рассказала лишь в письме от 22 октября, написанном и посланном не из Москвы, а из Кирсановского уезда Тамбовской губернии и подписанном не S. Delvig, как письмо от 9 сентября, a S. Baratinsky. Вот что писала Софья Михайловна об этой неожиданной перемене:
«Мой дорогой друг! Последнее письмо, которое я тебе написала, было отправлено от моей свекрови из Тульской губернии, — ты не будешь знать, откуда я пишу тебе настоящее письмо, прежде чем ты не прочтёшь его. Пора раскрыть тебе тайну, о которой я говорила тебе несколько загадочно в моём письме из Москвы, — пора тебе узнать, какие перемены произошли в судьбе твоей бедной подруги. Надобно тебе об этом сказать без фраз: я вышла замуж за Баратынского, младшего брата поэта, ближайшего друга моего покойного мужа. Я нахожусь в Тамбовской губернии, в 90 верстах от этого города, в одном из имений г-жи Баратынской, моей новой свекрови, и здесь отныне будет место моего пребывания; сюда прошу я адресовать и твои письма: •Тамбовской губ. в г. Кирсанов•. Теперь выслушай меня до конца, пощади меня во имя всего, что тебе дорого! Не прибавляй к моим страданиям ещё страданий от потери твоего уважения и твоей любви. Я более чем когда-либо нуждаюсь в нежности и снисходительности друга, такого как ты, я нуждаюсь в утешении: не лишай же его меня! Сначала ты меня осудишь в легкомыслии, без сомнения, — быть может, даже в двоедушии, потому что смерть моего мужа поразила меня такою горькой и глубокой скорбью! О, мой друг! Она была истинна, она ещё не прошла и ничего не потеряла в напряжённости, она сделалась даже ещё более ужасной, так как теперь она скрыта. Нет, никогда не забуду я этого человека, поистине совершенного, столь достойного общих сожалений, а в особенности — моих, потому что я ему обязана пятью годами счастия более чем земного, счастия, которое больше не вернётся для меня, которое он унёс с собою в могилу. И в то же время я вновь вышла замуж через 6 месяцев после его смерти. Этим я подвергла себя общей хуле, быть может, я потеряла уважение многих честных людей, которые обладают полным моим уважением… Вот загадка! Ты должна иметь её объяснение.
Человек этот любил меня в продолжение 6 лет; это, говорит он, делало несчастие его жизни, потому что он любил и уважал моего мужа превыше всякого выражения, и я этому верю от всего сердца, так как он всегда это показывал и потому что вообще надо было быть подлецом, чтобы не проявлять хотя бы уважения, если не приверженности к Дельвигу, как бы мало его ни знать. Мой муж также любил его от всего сердца, смерть его, по-видимому, очень его огорчила, судя по его письмам, которые он писал ко мне из своей Тамбовской деревни, в которой я нахожусь в настоящее время. Между тем в один прекрасный день он появляется передо мною в Петербурге, говорит, что не может долее сносить неизвестность, которая его убивает, и просит у меня моей руки. Это было в конце мая. Ты можешь судить, дорогой друг, до какой степени это привело меня в негодование [scandalisait], но ты не в состоянии представить огорчение, которое заставило меня испытать эта поспешность; я напомнила ему о дружбе к нему Дельвига, сказала ему, что помимо принятого мною решения не выходить больше замуж я не хотела бы, чтобы смерть такого существа, каким был тот, кого я потеряла, могла сделаться причиною удовольствия для человека, который был им любим и память которого должна была бы им почитаться. Он клялся мне, что искренно оплакивал его, что всегда будет его оплакивать со мною, но что без меня существование станет для него тягостно и что он решил от него избавиться в случае моего отказа. Это не обыкновенный молодой человек; я прекрасно видела, что нужно было употребить все средства, чтобы заставить его прислушаться к рассудку, потому что его решения всегда непоколебимы и в характере у него столько же горячности, сколько твёрдости, что представляется довольно редким соединением. Я пробовала было доказать ему, что я не могу сделать его счастливым, что он ошибается, надеясь на это, что я не могу больше любить так, как любит он, что моё сердце разбито и что отныне единственно моя дочь и воспоминание о её отце могут занимать меня. Я говорю правду, мой друг. Смерть Дельвига совершенно меня переменила. У меня нет другой мысли, как о нём, ничто в мире не может меня интересовать, кроме Лизы, и я хотела бы всю себя безраздельно посвятить ей и семье моего мужа. На это он возразил, что он тоже решил не жить, как только для меня и для моей дочери, что изучение её жизни составит его счастие, что я не буду иметь возможности, потеряв моё состояние, быть существенно полезной моей несчастной свекрови; что, выйдя за него замуж, я буду иметь к тому более способов, — что и меня, и мою дочь будут обожать в доме его матери и что я всегда буду иметь свободу всецело посвятить себя моему дитяти. Его отчаяние, малая надежда, которую я предвидела, на изменение его страшного решения, испытываемое мною отвращение к совместной жизни с моим отцом, наконец, одна минута слабости, — всё это решило мою судьбу, и я не могла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием. Он боялся, чтобы я не ускользнула от него, он хотел с этим покончить, чтобы быть более спокойным. Наконец, перед моим отъездом из Петербурга мы обвенчались тайно, так как я должна была ещё совершить поездку к моей свекрови. У меня не хватило смелости сказать что-либо в Москве моему отцу; время, проведённое мною у моей чудесной свекрови, было для меня временем испытаний и страданий, — ты можешь хорошо судить об этом. У меня не было больше смелости вернуться к моему отцу, который ждал меня к началу октября; к тому же я не решилась видеть такое множество людей, которые любили моего мужа, — это причиняло мне боль, и, сверх всего, я заметила, что я беременна, и Сергей уже написал своему семейству, которое торопило нас приехать сюда. Итак, я, попрощавшись с матушкой и сёстрами (раздирающее прощание!), присоединилась к моему мужу в Туле и он привёз меня сюда, откуда я написала моему отцу и моей свекрови. Я не получила ещё ответов от них, — ты можешь судить о беспокойстве, с которым я их ожидаю. Моя матушка так добра, так снисходительна, так достойна всяческой моей преданности и всякого моего уважения! Что, если я потеряю её уважение! Эта мысль раздирает мне душу! Здесь приняли меня с распростёртыми объятиями, — равно как и мою маленькую Лизу, которую окружают заботами и вниманием, самыми трогательными. Мать Сергея, его две сестры и тётка (сестра его матери) — вот лица, составляющие наше общество; они меня любят, — это видно, они мне это свидетельствуют тысячью вниманий, — тем не менее я страдаю смертельно, мой друг! Я умерла для всех, так как все, конечно, меня презирают. Я оплакиваю втайне моего мужа, я не решаюсь оплакивать его перед теми, кто окружает меня: несмотря на их деликатность, я чувствую, что это причинило бы им боль. Я не в состоянии буду любить этого так, как любила того. Никогда! Я его ценю, я его уважаю, я привяжусь к нему даже больше, я это чувствую, но ты понимаешь, страдаю ли я, ты это, конечно, понимаешь! И семейство: оно доброе, очень доброе, но оно не такое, как то! Когда я буду поспокойнее, я опишу тебе подробнее тех, кто меня окружает; пока же следует, чтобы ты знала, что мой муж — молодой человек моих лет, добрый, чувствительный, немного подозрительный и ревнивый, но деликатный. С детства он выказывал склонность к медицине, — это его призвание, он ей предался и изучил её глубоко; в прошлом году он выдержал в Москве экзамен на врача, а теперь готовится к тому, чтобы в будущем году держать экзамен на доктора, после чего, если он не решит служить, он вернётся на житьё в деревню, в которой мы находимся и в которой у него есть часть в 300 душ, как и у его трёх братьев. У него здесь достаточная практика, больные по соседству обращаются к нему; он также и акушер; но так как он врач по призванию, он не берёт ничего за это, — что и правильно. Моя Лиза здорова, но ещё не ходит, хотя ей 17 месяцев; у неё 8 зубов, она говорит много слов своего сочинения. Обнимаю твоих деток и тебя от всей души. Пиши мне поскорее, во имя всего, что тебе дорого. Успокой меня насчёт твоего здоровья и твоей ко мне дружбы. О, как я в ней нуждаюсь! Я думаю, что у моего отца имеются твои письма, которые он не замедлит прислать ко мне; надеюсь на это, ведь я так давно ничего о тебе не знаю. Это прибавляет ещё к моим горестям, которые и без того достаточно жгучи. Прощай, мой единственный друг. Да сохранит тебя небо. Люби меня и скажи, что ты меня любишь. Всегда твоя сердцем С. Баратынская».
Однако ответа на это письмо своё Софья Михайловна не получила или получила такой ответ, после которого ей уже трудно было писать.
Переписка между подругами резко и сразу оборвалась — на целых полтора года. Лишь в марте 1833 г. сношения между ними возобновились: в это время Г. С. Карелин, проездом в Петербург через Кирсанов (Тамбовской губернии), завернул в деревню к Софье Михайловне и на словах передал ей поклон и привет от своей жены и уверил её в дружеском расположении последней. Это известие чрезвычайно обрадовало Софью Михайловну, которая, в письме от 16 марта, выражала восторг по поводу возобновления дружеских сношений после того, что она думала, «что всё было кончено между ними». Однако порванная однажды переписка не налаживалась, по крайней мере до нас дошло лишь ещё пять писем Софьи Михайловны к Александре Николаевне за 1833 год, четыре письма за 1834-й, два письма — за 1835-й, ни одного — за 1836-й и лишь одно-единственное за 1837-й… Познакомимся с ними в их хронологической последовательности.
У Боратынской было в 1833 г. уже двое детей от второго мужа; они да маленькая Лиза Дельвиг брали у неё всё время, — на переписку не оставалось досуга; письма, по-прежнему временами восторженные, становились короче и, наконец, совсем прекратились.
Поделившись с подругою сведениями о Лизе, которая очень походила на своего отца внешностью, С. М. Боратынская сообщала о своих брате и отце. «Миша всё живёт в Виленской губернии, — писала она весною 1833 г., — со своею женою и четырьмя сыновьями; он хочет вступить в гражданскую службу, и мой отец подыскивает ему место. Последний, т. е. отец, в Москве, сенатором; он хорошо относится ко мне теперь, — говорю теперь, так как я не уверена, что его ипохондирческое настроение приведёт ему в голову каких-нибудь неблагосклонных ко мне мыслей, что время от времени случается, хоть быстро и проходит. Он приезжал сюда повидаться со мною прошлым летом, ибо имение его находится всего в 150 верстах от нашего. Он был в высшей степени любезен со всеми нами, — ты ведь знаешь, умеет ли он быть любезным, когда захочет того». В одном письме она касалась своего мужа; говоря, что у неё много разных огорчений, она писала:
«Не относи этого на счёт моего мужа: это молодой человек редкого благородства души, — можно сказать без преувеличения, — и хотя у нас бывают с ним ссоры, — они бывают лишь из-за любви и из-за ревности (он до крайности ревнив)[527]; я вовсе не счастлива в его семействе; я вынуждена жить в нём, в ожидании того, когда наши средства позволят нам выстроить отдельный дом (мы решили прожить несколько лет в деревне)… В течение трёх лет, что я поселилась здесь, я никуда не выезжала; я веду очень уединённую жизнь, будучи или беременною, или кормя детей, — что освобождает меня от визитов; мы тоже мало кого принимаем у себя: соседей у нас хоть и много, но лишь немногие ездят к нам, так как моя свекровь почти всегда находится в состоянии глубокой ипохондрии и не любит видеть у себя гостей. Два или три семейства, приезжающих собственно к нам, т. е. к Сергею и ко мне, доставляют нам иногда приятные дни; это люди довольно приличные, и мы не очень стесняемся принимать их, так как моя свекровь с недавнего времени перестала появляться в гостиной, даже тогда, когда мы находимся в своей семье; она не бывает даже за обедом[528]. Эти наши знакомые — семейство Устиновых, муж и жена, прекрасные люди, хотя и ограниченные; Кривцов и его жена, — он человек весьма умный, светский и вполне замечательный; она — особа 36—38 лет, прекрасно знающая свет, в котором она постоянно жила, добрая, хотя несколько странная по некоторым аффектированным манерам, сохранённым ею с молодых лет, которые ей можно простить, так как она была очень красива (я, помню, видела её в Петербурге) и сохраняет ещё остатки красоты, почему и происходит, что она не может отделаться от некоторых мелких приёмов, хорошо идущих к молодой и красивой женщине и даже грациозных, хотя и не совсем естественных[529]. Наконец, Чичерин и его жена, молодая чета, весьма счастливая. Чичерин — человек превосходного воспитания и отличного ума; он очень близок с моим мужем[530]. У всех этих трёх супругов есть дети, — почему мы всегда можем найти взаимоотношения между собою, как матери семейств. Есть ещё и другие лица, о которых я не говорю, так как они не составляют, как эти, нашего обыкновенного общества. Но то, что способствует украшению нашего уединения, это присутствие моего шурина Евгения (поэта), который этим летом приехал, чтобы поселиться здесь со своими женою и детьми. Он счастливее нас, так как построил себе отдельный дом, сбоку от большого дома. Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа! Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств! У него много сходства в нравственном отношении с моим покойным мужем. Ты знаешь, что они были связаны с ним, как братья. Мы часто говорим о нём, — это так сладко для меня. Его жена — особа, достойная его, они очень счастливы. Итак, чтобы дать тебе представление об этом семействе, скажу тебе, что эти столь благородные существа в нём не любимы… Им завидуют за их достоинства, за их превосходство. Как настоящие гарпии, они хотели бы пустить яду даже в их домашнее счастие. И только мой муж, у которого благородная душа, способен ценить достоинства Евгения, восторгаться им и понимать его. Поэтому они очень тесно связаны, и это наполняет моё сердце радостью… Моя Лиза — премилое маленькое создание, живое, доброе; я думаю, что её характер — из тех, на которые можно смотреть, как на лучшие, лишь бы их хорошо направлять и не позволить им стать буйным. Что касается её лица, то я уже говорила тебе, что это — портрет отца, но она будет красивее; она начинает говорить по-французски… Я читаю всё, что появляется нового, — то нам достают книги, то мы их себе выписываем. Знаешь ли ты Бальзака и нравится ли он тебе? Вышивание по канве было моею страстью в прошлом году, как оно твоя страсть теперь. Надо признаться, что это — работа, которая может приятно развлекать. Я теперь не вышиваю с утра до вечера, но у меня всегда есть начатая работа, и я тружусь за ней от времени до времени. Благодарю тебя за интерес, который ты проявляешь к семейству Дельвигов. Моя свекровь постоянно мне пишет и, кажется, любит меня, как и прежде; я же смотрю на неё как на свою собственную мать, и, конечно, на мать, к которой я питаю искреннейшую и величайшую приверженность…»[531]
«Я и мои трое детей чувствуют себя хорошо, — пишет она через полгода, — но мне грустно по случаю отъезда моего шурина Евгения и его семейства: они уехали надолго в Москву, оставив у нас большую пустоту. Настя (моя невестка), может быть, возымеет надобность сообщить мне о вещах, которые она не хотела бы высказывать открыто, из боязни, чтобы их не узнал кто-либо из здешних членов нашего семейства. Для большей безопасности я обещала ей поэтому (зная твою дружбу), что она может иногда адресовать свои письма к тебе, причём я уверена, что ты не откажешься взять на себя труд переслать их ко мне в твоих пакетах, — никому и в голову не придёт, что в конверте, носящем на себе почерк неизвестного лица, находится ещё Настино письмо, посланное таким длинным путём…»[532]
Восемнадцатого июля Софья Михайловна уже благодарила подругу за пересылку к ней письма Настасьи Львовны Боратынской; осторожность её в чужой семье доходила до того, что она «сжигала каждое письмо, едва прочитав его». «Я свято сохраняю эту принятую на себя обязанность по отношению ко всем, кто переписывается со мною под этим условием». Из письма от 16 января 1835 г. узнаем, что у А. Н. Карелиной родилась в конце 1834 г. дочь Елизавета, а у С. М. Боратынской, 22 декабря, — дочь Софья, которую, по слабости здоровья, она не решилась кормить сама и взяла кормилицу. «Я боялась сухотки, тем более что маменька моя этой болезнию скончалась», — объясняла она[533].
На большом и очень дружеском письме Софьи Михайловны от 20 января 1837 г. переписка подруг прекратилась уже навсегда, — ни одного за более позднее время в архиве Боратынских не сохранилось. В этом есть что-то провиденциальное: пока письмо Софьи Михайловны шло в Оренбург, пресеклись дни жизни Пушкина, — того человека, пламенными поклонницами которого с юных дней были обе подруги. С этого момента они как будто потеряли остаток молодого энтузиазма, который так свойствен был им обеим…
Мы мало знаем о дальнейшей жизни Боратынской и Карелиной. О том, как прожила свою дальнейшую жизнь Софья Михайловна, мы уже однажды рассказывали[534] и здесь повторяться не будем. Скажем лишь, что общим своим обликом она, по-видимому, подходила под тот тип женщин, который так нравился Пушкину и другим мужчинам той эпохи. Она отнюдь не была «причудницей большого света», которых так рано оставил и Онегин, находя современный ему высший тон «довольно скучным». Вспомним, как описывал Пушкин этих «причудниц»:
Хоть может быть иная дама Толкует Сея и Бентама; Но вообще их разговор — Несносный, хоть невинный вздор. К тому ж оне так непорочны, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мущин, Что вид их уж рождает сплин[535].С. М. Дельвиг-Боратынская была женщиной противоположных качеств ума и души, — вот чем она нравилась и Пушкину, и Дельвигу, и Боратынскому, и Вульфу, и многим другим её поклонникам…
Что касается А. Н. Карелиной, то судьба дала ей в удел, по-видимому, столь же долгие годы, как и её подруге: родившись в 1808 г. в день Благовещения, она была жива ещё в 1885 г.[536], вдовела она с 1872 г. и проживала в своём имении — сельце Трубицыне, Московского уезда, в 38 верстах от Москвы по Ярославскому тракту, близ станции Пушкино, вместе с незамужнею дочерью своею Софьею Григорьевною — крестницею С. М. Дельвиг; С. Г. Карелина была жива ещё в 1913 г., жила в том же Трубицыне, имея уже восемьдесят семь лет от роду; сестра её, Елизавета Григорьевна (1834—1902), была замужем за известным ботаником и общественным деятелем профессором Андреем Николаевичем Бекетовым; дочь последних — Александра Андреевна — была матерью поэта Александра Блока.
10 X 1925
И. Е. Великопольский (1797—1868)[537]
Настоящий историко-биографический очерк, посвящённый рассказу о жизни, трудах и злоключениях одного из малоизвестных писателей наших, был начат мною по указанию Л. Н. Майкова, который советовал мне заняться собиранием и разработкой сведений о лицах, имевших то или иное отношение к Пушкину. Одобрительно отнесшись к составленному мною, по его же указанию, биографическому очерку Я. Н. Толстого[538], Леонид Николаевич вверил моим попечениям другого знакомца Пушкина — Ивана Ермолаевича Великопольского, которому наш гениальный поэт в 1826 г. написал послание. Об этом писателе в нашей литературе не оказалось никаких сведений, если не считать одного небольшого некролога, написанного, по всей вероятности, его приятелем В. Р. Зотовым и помещённого в «Иллюстрированной газете» 1868 г.[539], двух известий о смерти в газетах[540] да составленных по ним кратких заметок в «Словаре» Г. Н. Геннади и в «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгерова. Но счастливый случай дал мне возможность познакомиться с дочерью Ивана Ермолаевича — Надеждою Ивановной Чаплиной, которая с редкою любезностью прислала ко мне из с. Чукавина, Старицкого уезда Тверской губернии, все сохранившиеся бумаги своего отца[541], а также сообщила мне свои о нём воспоминания, которыми я и буду пользоваться как материалом.
Считаю своим приятным долгом выразить при этом случае глубокоуважаемой Надежде Ивановне мою искреннюю благодарность за её просвещённое содействие.
Иван Ермолаевич Великопольский был потомком старинного и богатого дворянского рода, ещё с начала XVI столетия поселившегося в нынешней Псковской губернии и верстанного за разные службы поместьями в Луках Великих[542]. Одному из членов этого рода — Николаю Великопольскому — были пожалованы в теперешнем Великолукском уезде, по реке Кунии, обширные имения, часть которых и в настоящее время состоит во владении одного из его потомков — Н. И. Великопольского[543].
Отец нашего писателя — Ермолай Иванович, последние годы своей жизни проживавший в Казани, с 1760 г. находился в военной службе и в 1774 г. в чине артиллерии капитана служил в Канцелярии конфискации в Москве, затем был членом в 1-м Департаменте Вотчинной коллегии, но вскоре снова надел военный мундир, был в Ширванском пехотном полку полковником (1789 г.), командовал некоторое время Пермским полком (1793 г.) и, наконец, дослужившись до чина генерал-майора (28 июля 1796 г.), вскоре вышел в отставку[544].
Ещё в молодых годах овдовев после кратковременного и бесплодного брака с Устиньей Никитичной Радиловой (умерла 3 июля 1779 г.[545]), Ермолай Иванович женился вторично, на богатой казанской помещице княжне Надежде Сергеевне Волховской[546], от которой имел, кроме сына Ивана, ещё четырёх дочерей[547]. О нём нам известно только то, что он «был стародавним приятелем М. Я. Мудрова и принадлежал к одной с ним масонской ложе»[548].
Иван Ермолаевич родился в Казани 27 декабря 1797 г. в доме кн. Волховских на Проломной улице[549]. Детство его прошло в кругу богатой помещичьей семьи, жившей на широкую ногу. Так, у Ермолая Ивановича, получившего за женою большие поместья и жившего то в Казани, то в 30 верстах от неё — в селе Черемышеве, дважды в неделю были приёмные дни с пышными обедами, за которыми одних слуг было до тридцати человек. Несомненно поэтому, что наш писатель ещё с раннего возраста приобрёл те широкие замашки, которые он проявлял, когда у него бывала к тому возможность и отказаться от которых его принудила только сила стеснённых обстоятельств.
Ивану Ермолаевичу едва исполнилось семь лет, как он лишился отца; а мать его, овдовев, вскоре (в 1805 или 1806 г.) вышла замуж вторично — за казанского же помещика надворного советника Алексея Федоровича Моисеева[550], от брака с которым имела ещё троих детей[551]. По-видимому, вся семья жила дружно и весело, вполне обеспеченная теми 2000 душ крестьян, которые принадлежали ей в Казанской, Тверской и Псковской губерниях и которыми руководила сама Надежда Сергевна, женщина умная и чрезвычайно энергичная. В конце января 1812 г. она подала в Казанский университет прошение о принятии сына её Ивана «в число студентов для слушания профессорских и адъюнкторских лекций на своекоштное дворянское содержание»[552]. При прошении была приложена записка с перечнем предметов, которые проходил Великопольский в доме родителей. Из записки этой явствует, что он, на первом месте, изучал «французский и немецкий языки по правилам», затем — «всеобщую историю, географию и статистику, арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию, начало физики, грамматику и правила слога российского языка».
С таким-то запасом сведений и знаний наш писатель предстал 6 февраля 1812 г. перед профессором Иваном Томасом и адъюнктами Петром Кондыревым и Григорием Никольским, которые произвели ему экзамен и на другой же день подали в совет университета следующее представление: «По препоручению Совета испытывали мы просящегося в студенты Университета Ивана Великопольского в предметах, нужных для слушания академических преподаваний и нашли его весьма хорошо успевшим и достойным быть помещённым в число студентов младшего отделения». Перечислив затем подробно все предметы, по которым произведено было испытание, экзаменаторы пришли к вполне благоприятному выводу о результатах домашнего образования, полученного богатым баричем.
В университете Великопольский пробыл всего неполных три года. Пройдя в это время «положенный студентскому учению курс», он в октябре 1814 г. подал в правление университета прошение об увольнении его для поступления на службу. Из отзывов профессоров И. Ф. Яковкина, Йог. Бартельса, К. Ф. Ренца, бар. Е. В. Врангеля, В. М. Перевощикова, П. С. Кондырева, Г. Н. Городчанинова, И. Г. Томаса, И. М. Симонова, А. С. Лубкина, К. Ф. Фукса, А. В. Кайсарова, H. М. Алехина и С. С. Петровского видно, что Великопольский с отменными успехами прослушал курсы: истории, географии, статистики, алгебры, тригонометрии, дифференциального исчисления, аналитики, геометрии, российского и уголовного права, истории прав российских, прав естественного и римского, политической экономии, российской словесности, психологии, логики, естественной истории, опытной физики, практической геометрии и даже оснований военной и гражданской архитектуры.
19 октября 1814 г. Иван Ермолаевич получил аттестат, простился с университетом и отправился искать счастья в Петербург, где уже 2 мая 1815 г. поступил на службу — подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк. С молодым барином был отправлен из Казани старый его дядька Николай Малышев, который с этого времени уже не расставался с ним, разделяя его горе и радость, будучи ему и другом, и слугою, и советником.
Со времени переселения в Петербург Великопольский начинает предаваться литературным занятиям и входит мало-помалу в петербургские литературные кружки.
Страсть к писательству появилась у Великопольского очень рано; так, из собственноручных его пометок видно, что уже в 1810 г. он писал стихи; первым его произведением была песня «К голубку» — весьма слабое подражание Дмитриеву[553]. В 1811 г., то есть четырнадцати лет от роду, как значится в рукописи, им переведена была в прозе, с французского языка, «драма в одном действии» — «Филемон и Бавкида»[554]. Этими двумя произведениями открывается длинный, можно сказать, бесконечный ряд опытов Великопольского «во всех родах»: среди его стихотворений мы находим элегии, послания, эпиграммы, мадригалы, триолеты, bouts-rimés, песни в русском духе, басни, эпитафии, надписи и т. д., до шарад и загадок в стихах включительно.
Все свои досуги (а их, конечно, было немало у гвардейского офицера) Великопольский посвящал литературным занятиям, и видно по его тетрадям, что занятия эти с годами становятся для него более и более дорогими. Он с редким усердием работает над своими стихотворениями (среди которых есть немало удачных), часто перечитывает их, и на многих пиесах молодых лет, написанных красивым и мелким как бисер почерком, видны поправки, сделанные уже старческой рукой, а это свидетельствует нам об одном из отличительных свойств Ивана Ермолаевича — изумительной энергии, подвижности и вечной юности духа.
Дальше мы ближе познакомим читателя с музой Великопольского, сделав несколько выписок из дошедших до нас его многочисленных рукописей, а пока остановимся на жизни нашего писателя в Петербурге до 1820 г.
Приехав в столицу, молодой подпрапорщик повёл весёлую жизнь светского богатого гвардейца. Мать высылала ему по 1500 рублей в год, что по тем временам являлось суммою весьма приличною; он не отказывал себе в развлечениях, завязывал знакомства в высшем свете, чему, между прочим, способствовало прекрасное знание им французского языка, остроумие и живой и весёлый характер. Поселился он со своим однополчанином — Николаем Николаевичем Анненковым[555], так же как и он сам не чуждым занятий словесностью[556], и мало-помалу познакомился со многими представителями тогдашней литературы, через которых вошёл и в литературные общества. Так, в первой половине 1819 г. он был избран[557], по представлении басни «Розы и рожа»[558] в действительные члены Общества любителей словесности, наук и художеств. Иван Ермолаевич, как видно из протоколов, усердно посещал эти заседания, представляя на суд сочленов свои стихотворения и прозаические опыты. В первый же год своего членства он был на шести собраниях и представил «Отрывок из комедии „Стихокрапов“»[559], читанный 19 сентября; стихотворение «Сила воображения»[560]; далее — «Счастливая минута» (читаны 25 сентября), «Решительная минута (после небольшого проигрыша)»[561], «В альбом А. Ф. Ш.» (акростих)[562], «Ода к безбожнику во время сильной грозы»[563] и «Внезапная перемена»[564]. В 1820 г. на торжественном собрании общества 15 июля один из членов его — В. М. Княжевич — прочёл стихотворение Ивана Ермолаевича «Срубленная роща (подражание Мильвуа)»[565], а сам автор в одном из заседаний представил написанную им в прозе «Мадагаскарскую повесть» — «Король Заунно», которую он напечатал в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» за 1820 г. (ч. XI, № 8, с. 178—189), а затем, в 1823 г., переложив в стихи, две последние песни её поместил в «Благонамеренном» (1824, ч, XXVI, № 11).
Следующие годы, как мы увидим ниже, Великопольский проводил уже не в Петербурге, но, несмотря на это, он продолжал присылать в Общество плоды своей музы[566], которая навещала его очень часто.
Почти одновременно со вступлением в общество Измайлова, Иван Ермолаевич был также принят в члены-сотрудники Вольного общества любителей российской словесности (23 августа 1818 г.)[567]; но здесь его участие выразилось лишь в том, что он напечатал в органе общества — «Соревнователь просвещения и благотворения» повесть «Король Заунно» да маленькую, в четыре строки, эпиграмму:
Клитандр! Я слышал, ты намерен Писать комедию на смех твоим врагам: Смеяться станут, — будь уверен, Да не заплачь ты сам![568]Чтобы покончить с обзором литературной деятельности Великопольского за этот период времени, следует только сказать, что произведения его печатались, главным образом, в том же «Благонамеренном», который, как известно, с охотой помещал на своих страницах стихотворения начинающих авторов, а особенно тех, которые состояли членами общества, во главе коего стоял издатель этого журнала Измайлов[569]. Кроме того, в «Сыне отечества» 1820 г. (ч. 61, № 19, с. 316—320) было напечатано «Письмо» Великопольского к издателю, заключающее в себе описание торжественных проводов, устроенных 22-го апреля 1820 г. офицерами лейб-гвардии Семёновского полка своему полковому командиру генерал-адъютанту Я. А. Потёмкину, пользовавшемуся особенною любовью своих подчинённых и сослуживцев, по случаю ухода его из полка; здесь же приведены были и стихи, сочинённые на этот случай одним из офицеров полка и петые во время прощального обеда, а также «Песня», сочинённая товарищем Великопольского — H. Н. Анненковым для солдатского хора. Сам Иван Ермолаевич также написал по этому случаю элегию «Воины, разлучившиеся с вождём», которая была напечатана в «Благонамеренном» (1820, ч. X, № 8, с. 189—191).
1820 г. имел особенное значение в жизни Великопольского и навсегда остался для него памятным: в этом году блестящий гвардеец попал в глухую провинцию и, вследствие несчастного проигрыша, сильно расстроил своё состояние.
Отправившись в трёхмесячный отпуск в конце 1819 г.[570], он в Москве пустился в крупную игру и, сделав большой долг своему счастливому партнёру[571], явился к матери в Казань. Надежда Сергеевна Моисеева с большою строгостью отнеслась к этому известию, привезённому сыном, и наотрез отказалась уплатить его долг; а Иван Ермолаевич, приехав в Петербург и пытаясь отыграться, проигрывал всё больше и больше.
К этому несчастью вскоре присоединилось и другое: в октябре 1820 г. весь Семёновский полк, как известно, взбунтовался против своего жестокого командира полковника Шварца, отличавшегося бесчеловечным обхождением с солдатами. И хотя Иван Ермолаевич (как сообщает Н. И. Чаплина) был в это время в отпуску, однако и он разделил участь остальных своих товарищей, которые, при раскассировке Семёновского полка, были разосланы, без права отставок и отпусков, по разным армейским полкам, квартировавшим по провинциальным городкам и местечкам: высочайшим приказом от 2 ноября 1820 г. он был переведён в Пехотный фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского (Псковский) полк, однако, с повышением в чин штабс-капитана, он уже 12 января 1821 г., вероятно ещё не явившись к месту нового своего служения, перевёлся в Староингерманландский пехотный полк, стоявший во Пскове и его окрестностях. По счастью, здесь он встретился со своим сослуживцем по Семёновскому полку и приятелем Иваном Андреевичем Михайловым[572], с которым с этого времени и делил все свои невзгоды.
Вспоминая десять лет спустя об этой грустной эпохе своей жизни, вот что, между прочим, писал в откровенную минуту Иван Ермолаевич к своей старой знакомой — Анне Михайловне Еремеевой[573], которая в это время играла роль его свахи: «Жизнь моя представляет много колебаний; но каков бы ни был пловец, он должен, наконец, бросить якорь, или он — сумасшедший! Кто не безумствовал, но кто же и не переставал безумствовать? Впрочем, в моей жизни нет чёрного пятна, нет поступков безнравственности, а были только порывы необдуманной молодости: таков был московский мой проигрыш в 1820 году, который всё отравил! Несчастный переворот с Семёновским полком лишил меня возможности заниматься имением в течение целых семи лет! Вот что сделал мой долг. Вы знаете, что я никогда не был игроком, но был заведён людьми чёрными; мне было двадцать лет — вот моё оправдание».
Итак, Иван Ермолаевич попал в глухую провинцию. Полк его был в постоянном движении: он стоял то во Пскове, то в Великих Луках, то по разным деревням губернии, как то можно видеть из пометок под стихотворениями нашего автора, для которого литературные занятия теперь являлись чуть ли не единственным якорем спасения среди окружавшей его серой кочевой жизни армейского офицера; недавний долг также, вероятно, напоминал о себе… Прибавим к этому, что «полковое начальство его не жаловало»[574], да и новые товарищи также относились не совсем дружелюбно к бывшему гвардейцу, который сразу и по чину, и по должности (он был ротным командиром) стал выше многих старых полковых служак.
Нам ничего не известно о знакомствах, приобретённых Иваном Ермолаевичем в новом месте своего пребывания, которое к тому же, как мы сказали, часто менялось. По словам Н. И. Чаплиной, во Пскове отцу её, вместе с товарищем его И. А. Михайловым, «единственной отрадой служило семейство Бибиковых»[575]: там было три дочери, взрослые девицы; «и отец мой, и Михайлов были в этом доме завсегдатаями» и ухаживали за барышнями; следы дружеских отношений Ивана Ермолаевича к Настасье и Софье Михайловнам Бибиковым сохранились в тетрадях его стихотворений. Читатель найдёт их ниже.
Литературная деятельность Ивана Ермолаевича, как мы уже сказали, шла не только не ослабевая, но, под влиянием вышеуказанных причин, развивалась всё более и более и в качественном, и в количественном отношении: по его словам (в послании к А. П. Великопольской, 1826 г.) он
…часто весь службы Досуг посвящал Богиням Парнасса…Он не переставал посылать плоды своей музы в редакцию «Благонамеренного», на страницах коего они и появлялись в 1821—1825 гг.[576], по прекращении же его в 1826 г. стихотворения Великопольского помещались в альманахах «Северные цветы» на 1826 и 1827 гг.[577] и в «Календаре Муз» на 1827 г.[578]
Я позволю себе привести, как образчик, несколько большею частью неизданных произведений музы нашего писателя, из которых выяснится как настроение Ивана Ермолаевича во время жизни в провинции, так равно получится возможность каждому судить о качествах его стихотворений. Вот некоторые из них[579].
I КУРНАЯ ИЗБА (во время зимней военной стоянки) Один, в уме с тяжёлой думой, В душе с обманутой мечтой, Во мраке темноты угрюмой Избы холодной и курной, Без наслаждений, без надежды К премене будущего дня, — Сижу, задумчиво склоня К земле поникнувшие вежды. Ничто не борется с тоской, Ничто душе не улыбнётся, Лишь птица, снег браздя крылом, Порою вскрикнет под окном; Лишь искра светлая сорвётся Со дров, трещащих над огнём, И в дымном облаке провьётся Под закоптелым потолком. Не скрипнет дверь, впуская друга; Не улыбнётся мне подруга, Сквозь мрак подкравшися тайком… Отрада сердцу изменила, Как будто смерть своим жезлом В могилу всё преобразила… Сижу с стеснённою душой И, молча, вслушиваюсь в бой Часов, лежащих предо мной, И на глазах моих блистает Невольно ряд тяжёлых слёз… Какую мысль в уме рождает Цепь эта звуков, сих колёс Однообразное движенье? Напрасно слух спешит им в след Нет настоящего мгновенья: Едва ударит, — и уж нет, И новый звук, и снова стихнет, И вслед другой уже идёт. И жизнь не так же ли? Вдруг вспыхнет И чрез мгновение замрёт! К чему ж безумное стремленье За всей толпой мирских сует? Всегда благое Провиденье Нас к благу создало на свет И цель одна в нём — наслажденье! Мы умираем каждый час, Минута каждая для нас Есть к гробу тихое сближенье… Чего же медлить? Час пробьёт, — Никто былого не вернёт! Спешите ж склонностей любимых Желаньям чистым угодить И дни младые угостить Как уж гостей невозвратимых! Но я?.. Злой рок уже сгубил Мою развенчанную младость И жизни ветреную радость Слезой тяжёлой заточил! В печали сердца, без привета, Младые дни рассорены! Ещё не зрев моей весны, Уж я стою в средине лета! Не дремлет время, миг летит, За часом час во след спешит И год за годом так промчится. — Былое в память возвратится, Но наслажденье не придёт! С летами тихо отпадёт За листом лист от жизни цвета, — И я угасну без рассвета! 1 марта 1824 г. Дер. Сидорово, близ Пскова [580] II ПОСЛАНИЕ ВОЛЬТЕРА К БЕРНАРДУ В честь Музам и Эроту Вольтеру велено Бернарда известить, Что, юным грациям в угоду, Науку милую любить Искусство нравиться ждёт ужинать в субботу. Псков, 25 марта 1824 г. III В АЛЬБОМ НАСТ. МИХ. БИБИКОВОЙ Я не пророк, не чародей: Волхвов не ведая ученья, Я не могу судьбы людей Читать в безмолвии путей Светил полунощных теченья. Но я Вас знаю — я поэт: Чего же больше? Вдохновенный, Моей души пролью я свет Во мрак судьбины отдаленной. Завеса тайны, прочь с очей! Но что я вижу? Средь лучей, Цветами радуги блестящих, Средь юных гениев, парящих В кипящих светом облаках, Я слышу жалобы, вздыханья, Я вижу тёмные страданья, С слезой тяжёлой на очах, И мрачной скорби покрывало На их накинуто главы. Кто ж всех несчастий сих начало? Хотите ль знать? — То сами Вы. Вы ужаснулись? Но судите, От Вас сокрыть могу ли зло? Пред Вами зеркало: взгляните, — И то же скажет Вам стекло. С такою милой красотою, С такой прелестною душою Нельзя не быть виною бед: Так боги мир установили, Так тернием они покрыли Веселия земного след. Но успокойтесь! Без сомненья Не вечно будет время слез: К Вам гений спустится с небес, — И улыбнётся утешенье, И счастье в радостных лучах Опять появится в очах, Освобождённое от плена. Кто ж вестник счастия сего? Вглядитесь пристально в него, — И Вы узнаете Гимена. Псков, 6 апреля 1824 г.Другой сестре, Софье Михайловне Бибиковой, Иван Ермолаевич написал 8 апреля 1824 г., во Пскове, следующее не лишённое остроумия четверостишие:
IV В АЛЬБОМ Пусть скептики добра, в бреду своём речистом, Любовь к изящному софизмом назовут И мрак души своей на свет природы льют: Я знаю Софию — и буду век софистом! V ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К ИВ. ИВ. ПУЩИНУ Давно неверная забыла Гвардейца милого любовь! волнуясь новой страстью, кровь Мечты дней прежних изменила… Средь молчаливых спальни стен, Рукой супруга торопливой, Уже совлек с неё Гимен Покров невинности стыдливой. Она краснеет и молчит, Но бледность роз и томны очи, — Всё тихо взору говорит О наслажденье тайном ночи. . . . . . . . . . . . . . . Но ты ль, в столице красоты, Припомнишь прежние забавы? Оставя поле суеты, Трудясь для блага и для славы, Быть может с важностью судьи, Наперсник, жрец и друг Фемиды[581], Давно ты вымолвил «прости» Любимцу резвому Киприды? Или, отбросивши усы, Но так же пламенный душою, Ведёшь волшебные часы, Но уж с волшебницей другою, И в нежной радости сердец Вам настоящее лишь мило, — А я твержу тут, как глупец, О том, что год назад уж было! Динабург, 28 июля 1824 г. VI РОМАНС Певец любви! Крепясь от слёз, Ты ль молишь дружбы состраданья! Кто мрак и скорбь к тебе занёс, Кто сердца обманул желанья? Давно ль ещё в кругу друзей Ты беззаботную пел радость? Кто потушил огонь очей И жизни пламенную младость? Несчастный друг! В борьбе души Я тайне внял сердечной боли; Ты пел любовь, не знав любви, В свободе чувств искал неволи. Поклонник муз и красоты, Беспечно радости ты верил, Но опыт снял покров мечты И сердце в счастье разуверил. Узнав любовь, познал ты в ней Один обман очарований, Ничтожность клятв и ложь очей И яд пленительных лобзаний. И дружбою ль минувших дней Ты возвратишь часы крылаты? Увы, певец! Сердца друзей Не заменят любви утраты! 16 сентября 1824 года, дорогою из Динабурга в Великие Луки VII К ДРУЗЬЯМ [582] Мои друзья! Я вам наскучил Моим нахмуренным челом! Всегда в вражде с моим умом, Невольно вас я всех измучил Меня измучившей тоской. Как пешки, слабые собой, В боренье шахматном забыты Небрежной игрока рукой Стоят без пользы и защиты, — Так я забыт моей судьбой, Ваш собеседник неучтивый, Сижу угрюмый, молчаливый, Между друзьями, как один. Напрасно, слабый властелин Души в болезни прихотливой, Я понуждаю ум ленивой К игре затейливых бесед: Как своенравный домосед, В страданье сердца неуместном Он заключён в пределе тесном Моей склоненной головы. Мне так же все любезны вы, Но ваши шум и разговоры Моей души не веселят: С печалью думы, как дозоры, Повсюду мысль мою следят И отравляют жизнь младую. Но я ль один, друзья, тоскую? Постигнул равный жребий нас: Всегда внимательный, — и вас, Товарищей изгнанья милых, Не часто ль вижу я унылых? И вы, друзья мои, порой С враждебной ссоритесь судьбой! Не укротим душевный ропот, Не заглушим сердечный стон: Как утром ясным листьев шёпот В вас и в веселье слышен он. Но, больше разуму послушны, Вы больше можете, чем я, К беде казаться равнодушны. О, не чуждайтесь же меня! Младенец в скорби малодушный, — Терпенья нити не нашёл В Дедале тёмном я страданья, Но тем не больше ль приобрёл Я прав на дружества вниманье? * * * Не все мы в горе станем жить, Промчится время, может быть, Туманны тучи разойдутся, В душах угаснувших проснутся Опять бывалые мечты; В шумящем вихре наслаждений, — Как сердцу страшные черты Сна беспокойного видений, — Для нас прошедшее мелькнёт; Тогда и друг ваш отдохнёт, Тогда, весельем вдохновенный, В беседе муз уединенной И он о счастье запоёт! 12 октября 1824 г. Деревня Подберезье под Псковом VIII КНЯЗЮ ФЁД. ИВ. ЦИЦИАНОВУ [583] (Подписано под стихами, им начатыми в честь Элизы) Ага! и князь с обновой! И в княжескую кровь Элизы взор суровой Вдохнул изменницу-любовь, И очарованная сила Очей пленительных и слов И князя нашего вместила В число вздыхателей-певцов! Так при стихий волненье бурном Восставший света великан, На своде вспыхнувши лазурном, С земли лучом своим пурпурным Сгоняет ссевшийся туман. 12 января 1825 г. Псков IX МУЗЫ [584] Соскучив шумом суеты, В мои часы уединенья Зову обман я вдохновенья И заблуждение мечты. Не знаю, любят ли Камены Цевницу тихую мою, Но я — их искренно люблю И часто, думой увлеченный, Миролюбивый домосед, Мой призывая добрый Гений На пир отрадных песнопений, Живую радость их бесед Я чту всех выше наслаждений! И как могу их не любить? То было время — я не верил Их божеству, и, может быть, Никто б души не разуверил И не возжёг бы в ней огня. Но, ах, забыть могу ли я Те годы, тяжкие гоненьем? Оне, единые оне Тогда, с их тайным утешеньем, Сходили добрые ко мне; Толпою лёгкою летали, Меня манили и пленяли И по мелькающим цветам И мысль, и сердце увлекали К недоступимым небесам! Тогда каратель Прометея И неподвижный, и живой, С крылом опущенным, с главой Полуподъятою, не смея Нарушить Тартара покой, При звуках сладостных Орфея, При взоре их, свирепый вран Моих не рвал живучих ран. С тех самых пор, благоговея, Усердным стал я их жрецом. — Так на святой помост чертога, Увидев чудо, в прах лицом Язычник пал пред олтарем Им вдруг уведанного Бога! 18 февраля 1826 г. Псков X К ГРУСТИ (ИЛИ «МОЙ ДЕМОН») (Подражание «Демону» Пушкина) [585] Зачем ты, грусть, в меня впилась И, с непонятною мне целью, Вкруг сердца, жадного к веселью, Змеей грызущей обвилась? В какой ты алчущей утробе Свой яд мучительный впила? Какая Фурия, во злобе, Тебя с главы своей сняла И в мир закинула несчастный Из недр пылающих огня? Кто указал тебе меня? Преодолеть тебя не властный, Вотще отрады я ищу! Я впечатлителен и молод, — Но в сердце бьёт твой тяжкий молот — И я тоскую и грущу! Твоя рука отяготела Над грудью пламенной моей… И всё ты, злобная, одела Завесой мрачною твоей! Рига, 23 мая 1826 г. XI Булгарин в зависти пустой И по внушению клевретов, Хотев соделаться грозой И прозаистов, и поэтов, На поле критики вступил, — Но стал меж критиков уродом; Увидел то, — и с новым годом Свою методу изменил: Сначала северный зоил, Без жара к Фебову потомству, Он по рассчёту всех бранил, — Теперь всех хвалит по знакомству. И что ж? Прекрасно рассчитал, Впотьмах набрёл на путь успеха: Его нам брань была для смеха, Но Бог избави от похвал! XII БАРОНУ АНТ. АНТ. ДЕЛЬВИГУ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТ НЕГО «СЕВЕРНЫХ ЦВЕТОВ» С НАДПИСЬЮ «МИЛОМУ ПОЭТУ» Поэт-ленивец и делец! О мне ты вспомнил, наконец, В моём изгнании печальном: Я получил твои «Цветы» И на листочке их начальном Прочёл руки твоей черты. Ты дал названье мне поэта, Но дружбе верить ли твоей? Увы! Поэт в устах друзей — Ещё поэт ли я — для света? Отец безмёдныя «Пчелы»[586] Мне своего не дал привета В страницах длинной похвалы. Бог с ним, с судом его ничтожным! Сначала, северный зоил, Кривым путём идя к потомству, Он по расчёту всех бранил, Теперь — всех хвалит по знакомству! Его суда я не боюсь: Ещё не вышел я на сцену; Пора придёт, — я появлюсь, Одеждой праздничной одену Мою ревнивую Камену — Тогда ни Сомов[587], ни Фаддей О мне в умах уставят мненье, Но я подслушаю сужденье Таких, как ты, мой друг, людей: От них я жду себе награды, Я их в судьи мои беру, Восторжествую, иль с досады Стихи и прозу издеру! Псков , 26 апреля 1826 г.Кроме стихотворений, Великопольский в 1824 г. написал две комедии в стихах: в одном действии под названием «Хват невпопад, или Недочёсанная невеста» и в двух действиях — «Влюблённый», которые, как видно из помет на имеющихся у нас рукописях секретаря Цензурного комитета Министерства внутренних дел В. И. Соца, 18 декабря 1826 г. были дозволены к представлению на театре; но, насколько нам известно, играны они не были. В 1825 г. Иван Ермолаевич написал ещё «Нимфодору, простонародную русскую повесть в стихах», напечатанную в книге «Раскрытый портфель» (с. 67—117), и др.
Мы привели выше стихотворение Великопольского «К грусти» — весьма слабое подражание «Демону» Пушкина. В это время авторы обеих пьес были уже знакомы друг с другом[588]. Пушкин попал в Псковскую губернию в сентябре 1824 г., когда и Великопольский был уже в изгнании, и поэтому вероятнее всего предположить, что знакомство их состоялось именно в Пскове, как думает и дочь Ивана Ермолаевича — Н. И. Чаплина[589]. Вполне вероятно, что Великопольский бывал и в Михайловском; у него самого было родовое имение в Великолуцком уезде — с. Опимахово, находящееся от Михайловского на расстоянии около 150 вёрст[590] и посещавшееся им во время службы в Пскове. Как бы то ни было, вот что писал Пушкин нашему поэту уже 10 марта 1826 г.[591], из с. Михайловского:
Милостивый Государь Иван Ермолаевич!
Сердечно благодарю Вас за письмо, приятный знак Вашего ко мне благорасположения. Стихотворения Слепушкина получил и перечитываю все с большим и большим удивлением. Ваша прекрасная мысль об улучшении состояния поэта-крестьянина, надеюсь, не пропадёт. Не знаю, соберусь ли я снова к Вам во Псков; Вы не совершенно отнимаете у меня надежду Вас увидеть в моей глуши; благодарим покамест и за то.
Кланяюсь князю Цицианову; жалею, что не отнял у него своего портрета. Что нового в Ваших краях?
Остаюсь с искренним уважением Вашим покорнейшим слугою
Александр Пушкин.Письмо это, как видит читатель, написано было после посещения Пушкиным Пскова, где он виделся с Великопольским. Последний уже в ранней молодости, наученный горьким опытом (разумеем его московский проигрыш), был большим врагом карточной игры, которая неоднократно являлась темою его сатирических стихотворений. Вот как, например, изображал он «Богиню игры» в своём стихотворении «Живописцу», написанном ещё в 1823 г. в Казани:
Стан женщины, но смутный взор И вид уродливый и злобный, Мегеры образу подобный, Являет страсти в ней позор. Змея по груди изогбенна, Скрижаль закона преломленна И книг полураздранных пук, В знак ею попранных наук, У ног лежат, как сор ненужный. Из карт корона над главой, Но, в знак невинности наружной, Всё платье блещет белизной. Одной рукою скиптр железный Она подъемлет с торжеством, — В другой, с наружностью любезной, С венчанным розами челом, Видна смеющаяся маска; Невинности притворной краска Играет в лилиях ланит; Богиня, будто бы случайно, Вперёд подав её, манит К себе взор каждого, но тайно Кинжал в руке её блестит С концом, чернеющим от яда…Однако наш сатирик часто и сам забывал нарисованную им страшную картину и, усердно принося жертвы страшной богине, часто испытывал на себе удары её кинжала… Несчастливо для него было посещение Пскова и в этот раз: не удержавшись от соблазна, он сел играть в штос с Пушкиным и… проиграл ему 500 рублей. Уплатить эти деньги он сразу затруднился, а Пушкин, сам проигравшийся и всегда нуждавшийся в деньгах, настаивал на уплате долга и потребовал у Великопольского свой выигрыш следующими стихами, написанными 3 июня 1826 г. из с. Преображенского:
С тобой мне вновь считаться довелось, Певец любви то резвой, то унылой! Играешь ты на лире очень мило, Играешь ты довольно плохо в штосс: 500 рублей, проигранных тобою, Наличные свидетели тому. Судьба моя сходна с твоей судьбою; Сейчас, мой друг, узнаешь, почему:Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые вы мне должны, возвратить не мне, но Гавриилу Петровичу Назимову[592], чем очень обяжете преданного Вам душевно
Александра Пушкина.Великопольский получил это письмо (должно быть, переданное самим Назимовым) в Юрбурге, куда он был командирован для производства следствия по контрабанде, и немедленно же написал не лишённое для нас интереса «Послание к А. С. Пушкину», помеченное в рукописи[593] 12 июня 1826 г.
В умах людей, как прежде, царствуй, Храни священный огнь души, Как можно менее мытарствуй, Как можно более пиши, А за посланье — благодарствуй! Не прав ли я, приятель мой, Не говорил ли я заране: Несдобровать тебе с игрой, И есть дыра в твоём кармане! Поэт! Ты честь родной стране, Но, — смелый всадник на Пегасе, — Ты так же пылок на сукне, Как ты заносчив на Парнасе! Конечно (к слову то нейдёт), С тобою там никто не равен: Ты там могуч, велик и славен, Перед тобою всё падёт, Тебя приветствует и нежит, — Но, друг, в игре не тот расчёт: Иной пяти не перечтёт, А вмиг писателя подрежет…[594] В стихах ты — только что не свят, Но счастье — лживая монета, И когти длинные поэта[595] От бед игры не защитят! Надменно плавая по небу, Во многом ты подобен Фебу, Но я боюсь, чтоб и во всём Ты не пошёл его путём: Нет у тебя ни в чём завета, И берегись, чтоб и тебе, Подобно горестной судьбе Вождя блистательного света (Слова не сбудутся, авось!), Подчас сойти бы не пришлось К стадам блуждающим Адмета!После этого эпизода поэты наши больше не видались: ибо Пушкин, как известно, был вызван в Москву с фельдъегерем и покинул Михайловское 4 сентября, а Великопольский тогда был ещё в командировке в Юрбурге. Судьба столкнула их ещё раз через два года, когда в положении обоих произошла резкая перемена.
Во время своей командировки в Юрбург по делу о контрабанде Великопольский 18 июня 1826 г. произведён был в майоры с переводом снова в Псковский пехотный полк, в котором он числился некоторое время по исключении из Семёновского полка.
Здорово, братцы, дайте руки! Насилу вырваться успел Из лап жидовской этой скуки И контрабандных этих дел! Насилу выбился с майоры! —писал он по получении известия о своём производстве.
Однако после этого Иван Ермолаевич служил уже недолго: не будучи никогда фронтовиком, он уже давно задумал выйти в отставку, о которой приходилось всё больше и больше подумывать ещё и потому, что денежные дела его приходили всё в больший упадок. Мать его, заведовавшая всеми имениями, уже умерла, а отчим был стар и давно звал пасынка приехать и заняться имущественными делами; долги давали себя знать, и поэт наш дошёл уже до того, что должен был продать своё имение в Великолуцком уезде — с. Опимахово; не имея денег, он долг свой Пушкину вынужден был уплатить «родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопедии…».[596] В ноябре 1826 г. Иван Ермолаевич взял четырёхмесячный отпуск и отправился, как значится в формулярном его списке, «в С.-Петербургскую, Тверскую, Новгородскую и Казанскую губернии». Приехав в Петербург, он, должно быть, здесь уже окончательно решил выйти в отставку, чтобы заняться устройством своих денежных дел, тем более что, по смерти матери, он был выделен и ему приходилось самому взяться за хозяйство; он получил в удел имения: в Тверской губернии, Старицкого уезда — село Чукавино и Зубцовского уезда — с. Денежное и Прасолово и в Новгородской — с. Можжерово, всего — 1200 душ. Февраля 11-го 1827 г. Великопольский получил просимую отставку, побывал в Казани у сестёр, с которыми всегда был в наилучших отношениях, а затем поселился в своём живописном, лежащем на берегу Волги, Чукавине, которое с этих пор становится его излюбленным местопребыванием.
Итак, наш писатель сделался помещиком, выбрав в помощники себе того же дядьку, «неразлучного с ним Николая Малышева». Иван Ермолаевич с жаром принялся за хозяйство и заботы о благоустройстве своих крестьян. «Отец мой, — вспоминает Н. И. Чаплина, — всех своих крепостных обучал грамоте и учил ремеслам и раньше женитьбы своей, и после. Он устроил школу для ребят и больницу для крестьян; для этого он перестроил Чоглоковские[597] кирпичные кормовые сараи в новые помещения; устроил кирпичный завод. Крестьянами занялся усердно, строго наблюдал за их хозяйством. Одну деревню — Ладениково — барщиной, то есть на свой счёт и в своё рабочее время, перестроил: камнем из Чукавинских каменоломен выложил им под дома высокие фундаменты и поставил на них светлые избы в три окна на улицу и с большими пролётами между домов… Так, будучи в деревне, отец мой занимался своим хозяйством, проводя часть ночей за своими любимыми занятиями — литературными; полевое же, доходное оставлял на распоряжение управляющего, которому доверял беспредельно, но который, проведя всю жизнь по городам с своим барином, плохо справлялся с непривычным для него делом».
Великопольский недолго, однако, высидел в деревне: он всё чаще и чаще стал уезжать в Москву, «сделался театралом, писал драмы, намеревался ставить их на сцену и, наконец, начал большую часть времени проводить в Москве»[598]. Он вошёл в литературные кружки, познакомился со многими писателями, стараясь поближе сойтись с ними и вступить в ряды записных литераторов. В 1828 г. он впервые появляется перед публикой с отдельным изданием и с полною своею подписью[599]: в феврале выходит в свет его пьеса «К Эрасту (Сатира на игроков)»[600], прекрасно напечатанная, украшенная картинкою и виньетками известного гравёра А. А. Флорова по рисункам Гампельна[601]. Красивая внешность издания обратила на себя общее внимание любителей словесности в Москве и Петербурге, но не удовлетворила критиков своим содержанием. «Северная пчела» ограничилась лишь следующим кратким замечанием[602]: «Автор сатиры имел цель самую благонамеренную: представить всю гнусность картёжного ремесла, всю пагубу молодых людей, предающихся страсти к картам. Успеет ли он устранить первых, остановить последних? Не думаем! Недаром сказал И. А. Крылов, описывая вора Ваську, который „слушает, да ест“:
А я бы повару иному Велел на стенке зарубить, Чтоб там речей не тратить по-пустому, Где можно власть употребить.»Мнения других критиков разделились: так, «Московский телеграф»[603] сочувственно отнёсся к «Сатире» и к её содержанию, говоря, что благая цель автора «может извинить в глазах наших все поэтические недостатки» её, тогда как «Московский вестник»[604], ограничившись сперва лишь двумя насмешливыми словами, в № 4 поместил большую рецензию некоего А. Т., на которую Великопольский ответил длинным письмом, помещённым в «Атенее»[605], в коем также появилась коротенькая рецензия: здесь критик благодарил автора только за то, что он «напоминает о дидактической поэзии, с некоторого времени забытой на нашем Парнассе»[606].
«Сатира на игроков» имеет, несомненно, автобиографическое значение. Н. И. Чаплина в своих воспоминаниях пишет даже, что Иван Ермолаевич написал её на самого себя, именно после своего проигрыша Пушкину; как бы то ни было, очевидно, что к этому времени Великопольский решил освободиться от своей слабости и, сам побывав в положении, близком к тому, в которое попал его Арист, проигравший в карты в одну ночь всё состояние, погубивший свою честь, счастье и лишившийся рассудка, — захотел перед всем светом излить свои чувства. Это благородное стремление его вызвало, однако, злую выходку со стороны Пушкина, осмеявшего в остроумном своём «Послании к В., сочинителю „Сатиры на игроков“», напечатанном в № 30 «Северной пчелы» от 10 марта, бесхарактерность Ивана Ермолаевича, которую он, должно быть, неоднократно наблюдал у своего приятеля в Пскове за карточным столом, среди весёлой компании товарищей. Вот что писал Пушкин:
Так элегическую лиру Ты променял, наш моралист, На благочинную сатиру? Хвалю поэта, — дельно миру! Ему полезен розги свист. — Мне жалок очень твой Арисг: С каким усердьем он молился И как несчастливо играл! Вот молодёжь: погорячился, Продулся весь и так пропал! Дамон твой человек ужасный. Забудь его опасный дом, Где, впрочем, сознаюся в том, Мой друг, ты вёл себя прекрасно: Ты никому там не мешал, Ариста нежно утешал, Давал полезные советы И ни рубля не проиграл. Люблю: вот каковы поэты! А то, уча безумный свет, Порой грешит и проповедник. Послушай, Персиев наследник, Рассказ мой: Некто мой сосед, В томленьях благородной жажды Хлебнув Кастальских вод бокал, На игроков, как ты, однажды Сатиру злую написал И другу с жаром прочитал. Ему в ответ его приятель Взял карты, молча стасовал, Дал снять, и нравственный писатель Всю ночь, увы! понтировал. Тебе знаком ли сей проказник? Но встреча с ним была б мне праздник: Я с ним готов всю ночь не спать И до полдневного сиянья Читать моральныя посланья И проигрыш его писать. (III, 91—92)Выходка Пушкина (не подписавшегося под стихами)[607] была слишком резка и, не будучи вызвана ничем со стороны добродушного Ивана Ермолаевича, должна была сильно его обидеть: буква В*, как бы долженствовавшая скромно закрыть лицо, к которому поэт обращался, ничего не скрывала, так как только что перед тем в той же «Северной пчеле», лишь за четыре номера, была помещена заметка о сатире Великопольского и, следовательно, имя его было ещё на памяти у читателей газеты; а такие сарказмы, как наименование автора «Персиевым наследником» или «хлебнувшим Кастальских вод бокал», были поистине злы. Великопольский узнал «ex ungue leonem»[608] и немедленно же отправил к Булгарину, для напечатания в его газете, «Ответ знакомому сочинителю послания ко мне, помещённого в № 30 „Северной Пчелы“»[609]:
Узнал я тотчас по замашке Тебя, насмешливый поэт! Твой стих весенней легче пташки Порхает и чарует свет. Я рад, что гений удосужил Тебя со мной на пару слов; Ты очень мило обнаружил Беседы дружеских часов. С твоим проказником соседним Знаком с давнишней я поры: Обязан другу он последним Уроком ветреной игры! Он очень помнит, как, сменяя Былые рублики в кисе, Глава «Онегина» вторая Съезжала скромно на тузе… Блуждая в молодости шибкой, Он спотыкался о порог; Но где последняя ошибка — Там первый мудрости урок.Булгарин, однако, не решился напечатать этих стихов в своей «Пчеле», да и Пушкин не согласился на это, усмотрев почему-то в стихах Великопольского бóльшую личность, чем в своих стихах к нему. «Любезный Иван Ермолаевич, — писал к нему Пушкин 29—30 апреля, — Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне, в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не мог согласиться:
Глава Онегина вторая Съезжала скромно на тузе,и Ваше примечание[610] — конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна Вашего пера[611]. Прочие очень милы. Мне кажется, что Вы немножко мною недовольны. Правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким Ваше последнее стихотворение. Неужели Вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в 8-ю гл<аву> Онегина? NB. Я не проигрывал 2-й главы, а её экземплярами заплатил свой долг, так точно, как Вы заплатили мне свой родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопедии. Что если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял Вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи. Простите. Весь Ваш А. П.»[612]
Получив это письмо через Е. А. Боратынского (Пушкину не был известен его адрес), Иван Ермолаевич пришёл в совершенно справедливое негодование и 7 апреля послал Булгарину письмо следующего содержания:
«Милостивый государь, Фаддей Венедиктович! Третьего дня получил я письмо от Ал. С. Пушкина. Он уведомляет, ссылаясь на Вас, что без его согласия цензура не пропускает, как личность, моих к нему стансов; а что он согласиться не может.
Это меня очень удивило. Разве его ко мне послание не личность? В чём оного цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков — сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами?
Я слишком уверен в благородстве Пушкина, чтобы предполагать такой донос на дружбу истинным его намерением; но дело не в намерении, а в самом деле, и стихи, вышедшие из-под типографского станка, берут направление сами, независимо от автора. Почему же цензура полагает себя в праве пропускать личности на меня, не сказав мне ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия? Кто позволит одному посмеяться над другим, тот не обязан ли, ежели он беспристрастен, не отнимать, по крайней мере, у другого способов отыграться? И даже противный поступок, будучи притеснением для одного, не может ли почесться неуважением к другому? Простите, ежели я, может быть, неуместно так распространился: я хотел оправдать себя в вашем мнении и доказать односторонность действий цензуры, при котором литературный бой никогда не может быть равен.
Но Пушкин, называя, своё послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он даже даёт мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он имеет ко мне довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни, дорожу его дружбою и, прилагаемым при сём к нему письмом (которое по незнанию адреса имею честь Вас просить доставить), отдаю на его полную волю, при некотором условии, печатать мои стансы или не печатать, предоставляя себе в последнем случае отыграться в другом месте, другим образом.
Я счёл неизлишним Вас об этом уведомить, полагая, что Вам самим неприятна такая односторонность цензуры».
Этот эпизод ещё более испортил отношения между Пушкиным и Великопольским, и, как мы слышали, Иван Ермолаевич впоследствии не любил вспоминать о своём счастливом сопернике[613].
После неудачного дебюта с сатирой «К Эрасту» Иван Ермолаевич, по-видимому, не решался некоторое время выступать в печати и как бы охладел к литературным занятиям; быть может, его отвлекали и заботы о расстроенном хозяйстве. Только через два года появилась его маленькая пьеса — «Сюрприз, опера-интермедия-водевиль в стихах» (М., 1830; 32°)[614] — с музыкой О. О. Геништы, напечатанная Великопольским по поводу постановки её на сцену (она была играна на московском театре); это слабое юношеское произведение Ивана Ермолаевича (оно написано было ещё в 1818 г.) почти не встретило в печати никакого отголоска, если не считать насмешливого отзыва, появившегося в «Московском телеграфе»[615]; здесь автор заметки говорил, между прочим: «Советуем всякому, кто хочет себе доставить истинное наслаждение, прочитать Предисловие к „Сюрпризу“: в нём господствует такая прелестная naïveté, что мы не знаем ничего подобного в сём роде». И действительно, вот что, например, писал Великопольский по поводу странного названия своей пьесы «оперой-интермедией-водевилем»: «…смешение рода оперного с водевильным образует род смешанный: опера-водевиль. В моей пьесе второе явление есть водевильное; слова пения в оном имеют целью одно придание большей игривости и разнообразия разговору. По сему, по всей строгости, оная должна также быть причислена к упомянутому разряду. Но сие впадение в род водевильный, в моей пьесе, может быть принято как некоторое только отступление от господствующего духа, в целом чисто оперного, чем она отличается от всех других опер-водевиль, имеющих, при некоторых оперных нумерах, господствующий дух водевильный, что было заставило меня сначала дать своей пьесе название оперы… Размыслив потом, я нашёл, что… умозрительная словесность обязана отличить, в распределении драматических произведений, роды опер: чистой и смешанной; и потому оставил при моей пьесе название оперы-водевиль; но думаю, что, руководствуясь тою же в распределениях точностью, должно положить различие и между двумя вышепоказанными разрядами сего последнего, смешанного рода, образуемыми господствующим духом пьес: оперным или водевильным. Предлагаю, — заключает Великопольский, — для первого прежнее название оперы-водевиль, а для второго — Опероводевиль… Всякое слово кажется странным, покуда не укоренится в употреблении… Слово интермедия, поставленное в заглавии, обозначает пьесу маленькую, предназначенную для помещения в спектакле между двумя представлениями, как междудействие». Все эти рассуждения (а их десять страничек) невольно напоминают пословицу «за мухой гоняться с обухом», и поэтому становится понятен насмешливый отзыв «Московского телеграфа».
Однако уже в следующем году Иван Ермолаевич выступил с новым своим произведением. Теперь это была уже «повесть в стихах» — «Московские минеральные воды»[616], изданная под псевдонимом Ивелева. Маленькая брошюрка эта, в пятьдесят четыре странички in 16° (из коих пятнадцать заняты письмом к «будущей невесте» автора), представляет из себя 1-ю главу[617] повести — «Консилиум», в которой описывается молодой богатый человек — барон Белен, от скуки воображающий себя больным и созывающий докторов для консилиума о его болезни. Всё это изложено весьма живо, читается легко и подчас вызывает улыбку. И размер стихов, и способ изложения, и отступления, и деление на строфы, наконец, и самый тип Белена дают возможность предположить, что пьеса написана была Великопольским в подражание «Евгению Онегину». Вот, например, строфа
XII «А где же больной?» — Сейчас он будет! Немножко доктор помолчал И головою покачал: «Пожалуй, он и позабудет; Он всё ведь тот же, как бывал: Иль весь в прожектах, иль голубит, С утра забравшись в кабинет, „На прыщик Делии“ сонет». Меж тем приказано уж Трошке За ним отправиться верхом. Но вот он, вот он! Едут дрожки, На них, с накинутым плащом И в пёстрой шляпе из соломы, Сидит… но только не больной, А очень милый, молодой, Во все приятно вхожий домы, Заезжий доктор к нам чужой.Или строфа
XX …Барон любезный Был новый Стерн, коль Стерны есть. Он был рождён корзины плесть Для дев Аркадии прелестной, Жить в век златой, и Бог уж весть, Как он попал в наш век железный, Где вся работа — есть и пить. Он одного хотел: любить И с мыслью, полною мечтою, С душой, исполненной огня, Скучал он сердца пустотою, Худел приметно день от дня. Задумчивый в весёлом круге, Молчать на балы он езжал, Чего-то в тайне там искал: Искал цветов на русском луге И весь луг русской браковал. XXXI С утра отправленную в ссылку В подвал запасливый, на лёд, Слуга навстречу им несёт Вина мятежного бутылку; Снимает палец, пробка бьет; Упав на длинную подстилку, Дала скачок, и на себе Вертит, катяся, V. С. Р. Бокал шумит, вино играет И бьёт и в голову, и в нос; Хозяйка милая чихает, И доктор тронулся до слёз. Осушено. Уж быстро к дому Колёса шумные бегут. Враги, раскланявшись, идут, Приветно вымолвив больному: «Wo gutes Ende, alles gut!»Затем в литературной деятельности Великопольского наступает перерыв до 1837 г.[618]. Вызван он был женитьбой нашего писателя, а затем — устройством его имущественных дел.
В Москве проживал почтенный, пользовавшийся широкой, вполне заслуженной известностью доктор, профессор и бывший ректор Московского университета — Матвей Яковлевич Мудров с женою своей Софьей Харитоновной, рождённой Чеботаревой[619], и единственною дочерью — Софьей Матвеевной[620]. Иван Ермолаевич был издавна знаком с семейством Мудровых; ещё отец его, как уже было сказано выше, был в дружеских связях с Матвеем Яковлевичем и в молодости принадлежал к одной с ним масонской ложе. По выходе в отставку Иван Ермолаевич часто ездил в Москву и посещал семью почтенного доктора. Вскоре между ним и Софьей Матвеевной завязались дружеские отношения, затем перешедшие в любовь, и, в конце концов, Иван Ермолаевич в 1831 г. решился просить руки Софьи Матвеевны. За неё сватался в то же время доктор Д. К. Тарасов, впоследствии директор Медицинского департамента, но решительного ответа ни тот ни другой получить не могли. Между тем М. Я. Мудров, командированный в разные города России для принятия мер в борьбе со свирепствовавшею тогда холерой, 8 июля скончался в Петербурге, но перед смертью передал жене своё непременное желание, чтобы Софья Матвеевна вышла именно за Великопольского. Иван Ермолаевич в это время должен был уехать в Петербург, передав дело о своём сватовстве старой своей приятельнице Анне Михайловне Еремеевой, рождённой Прокопович-Антонской, у которой иногда живал в Москве, в её доме на Большой Якиманке, у Калужских ворот[621]. Та энергично принялась за дело, и результат был благоприятный. Получив от Анны Михайловны извещение о согласии Софьи Матвеевны и её матери, Иван Ермолаевич писал 26 сентября 1831 г. своей свахе:
«Любезнейшая Анна Михайловна! Бог да вознаградит Вас за сделанное мне благодеяние. Сию минуту получил Ваше письмо от 19-го. Руки мои дрожали; я помолился Богу. Наконец, он выслушал меня: моё счастие началось; мне позволено произнести вслух те обеты, исполнение которых так слилось с моим существованием! Её благополучие во всяком случае было бы для меня драгоценно: теперь — это сделалось целью моей собственной жизни; теперь Бог возлагает это на меня, как священную обязанность. Одно право себе сказать это есть уже такое чувство, какого я до сей поры ещё не испытывал. Бог да вознаградит Вас! Всегда видев истинное участие, которое Вы принимаете и во мне, и в ней, я знаю, что и Вам ничем другим я не могу заплатить за Вашу дружбу и посредничество, как умением ценить моё благополучие и осчастливлением той, которой судьба теперь будет мне вверена. Клянусь Вам, что все минуты моей жизни будут посвящены на то, чтобы соделаться её достойным. Эта клятва верна, потому что она прямо от сердца» и т. д.
28 сентября он снова пишет своей доброй свахе: «Я уж не прежний Иван Ермолаевич, я уж не безумствую: я весел! Волнения продолжаются, но уж это — совсем не та тревога, это уж только чувство, которое тем и хорошо, что в поминутной вспышке, в непрестанной жизни. Ежели безумствую, то это уж только от нетерпения быть в Москве. С тех пор, как я высвободил душу откровенным покаянием, высказал всё, что тревожило меня в моих обстоятельствах, с тех пор, как получил от Вас волшебную записку, — я уж рыцарь без страха и упрёка, смотрю прямо на солнце, прямо на людей. Говорят, что любовь непременно ревнива; нет! Я испытываю, что когда она дружна с истинным уважением, то это неправда. Вчера мне сказал Андрей Харитонович[622], что в Москву поехал к ней другой искатель, какой-то <Тарасов>[623] генерал, человек не старый (как мне бы, впрочем, того хотелось), — а я спокоен; не потому, что слово дано (тут дело не в слове, а в сердце), но потому, что… одним словом я спокоен, я уверен. Не правда ли, что это счастливое чувство? Я даже хотел бы, чтобы он был молод, хорош, умён, любезен; чтобы имел все, все достоинства. Хотел бы потому, что в жизни нужны испытания, что мне тогда было бы так приятно, ведя её под венец, сказать: „Позвольте, г. Тарасов!“ Впрочем, он жених странный: он никогда её не видал, а она — его. Лучше бы уж ему её и не видать… Вашу записку, — пишет он далее, — подали мне третьего дня, только что я успел проснуться. Я сорвал печать с конверта Дмитрия Михайловича[624], и остановился, не смея ни распечатать Вашего письма, ни читать того, что он ко мне пишет. Из этого света счастия едва один луч светился моей надежде. Я помолился Богу и Казанской. Письмо Дмитрия Михайловича, поздравляющего меня с чем-то, ободрило меня: я распечатал Ваше; вижу — записка Софьи Харитоновны, но в которой она просто только пишет к Вам, что приедет Вас навестить. В первое мгновение мне показалось, что это рука Софьи Матвеевны (Вы знаете, что мне знаком её почерк); я искал моего имени, но когда рассмотрел и прочитал, то не знал, что заключить, хотя поздравление Дмитрия Михайловича и предуведомило уже меня о развязке. Разумеется, что всё это недоумение продолжалось одну минуту. Я прочитал Ваши строки, заплакал и поблагодарил Бога. Первою моею мыслью было поспешить в церковь, второю — написать к Вам, излить мои чувства, поблагодарить Вас, мою благодетельницу. Только что принялся за письмо, явился Юдин[625] и начал торопить ехать по обещанию в Кронштадт… На обратном пути… нас застигнул такой туман, что мы, не доезжая вёрст семь до Петербурга, должны были бросить якорь и ночевать. Каково положение? С нами ехал сенатор кн. Любомирский, Кронштадтский архитектор и ещё человека два людей хороших. Мы составили вист, но после четырёх робберов все сенаторы и не сенаторы начали призывать Морфея: кто на лавке, кто на полу, кто на стуле. Мне, Юдину, архитектору и ещё одному иностранцу, которого мы пригласили с собой для потехи, спать не хотелось. На пароходе есть ресторация; мы пошли туда ужинать; между всхрапывающими пассажирами я раскупорил моим товарищам две бутылки шампанского. Добрый Юдин, никогда не пьющий, выпил за моё счастье два стакана; архитектор и иностранец — также. Я пил от души, но вливал в стакан половину воды, потому что мне вино вредно и потому что не хотел быть пьяным, и следовательно я был трезвым наблюдателем действий искромётного напитка. Так как шампанскому предшествовали несколько рюмок мадеры, то весёлые гости, поблагодарив, как сидели, так и заснули. Кругом сон, один я бодрствую и мечтаю. Вот Юдин начал грезить, вздыхать, ударил по столу кулаком и побледнел. Так как он очень полнокровен, то я, испугавшись последствий вина, стал его будить. Полуопомнившись, он опять начал вздыхать, но уж это не во сне, а обо сне. Вообразите, ему виделось, что он в раю. Это бы ничего, но что и в раю-то он сидит на пароходе и видит нас. Мысль, что и на том свете все те же люди и предметы, его так разнежила, что он опять захотел в рай и, положив мою голову к себе на грудь, стал засыпать. Я высвободил голову, прилёг на лавку и был в моём раю: я её видел; она мне мелькнула, и я проснулся, потому что в эту минуту кто-то сонный свалился с лавки. Пожелав ему с досады синее пятно, я хотел опять заснуть, но уж не мог; а ежели и забывался, то уж не видел моего рая…»
Из писем этих можно видеть, как должен был стремиться Иван Ермолаевич к своей невесте; но дела его задерживали. Первого октября («Ах, батюшки, уж октябрь!» — приписывает он под датой) он пишет А. М. Еремеевой, что он простудился, слёг в постель. «Мысль, что ежели я не совсем лишусь блага земного, — продолжает он, — то может быть слабость — всегдашнее последствие этой болезни (горячки) — задержит меня месяца три, так меня тревожила, что я чувствовал, что жар от того усиливался». «Вчера я провёл вечер у Людмилы Сергеевны[626], — продолжает он, — там была Марья Борисовна[627] с дочерью и маленьким сыном; Дмитрий Михайлович[628] также был дома. Мы провели время весело. Да! Несмотря на то, что я встревоживаюсь, что дело тянется, что я не в Москве, а я гораздо веселее прежнего. А ежели бы я знал, что она немного грустит, — мне было бы ещё веселее. Скажете ли вы это ей? Ежели бы на эту мою строку упала её слёзка, как бы мне это было весело! Есть же ведь такие слёзы, от которых весело! А когда мне будет позволено отереть их платочком, мне кажется, что я тогда сам заплачу, особливо, когда увижу, что это ей весело!»
«Вчерашний вечер, — пишет он от 5 октября, — я провёл у Людмилы Сергеевны, по приглашению Дмитрия Михайловича послушать её игру на арфе. Мы провели время очень приятно; тем более я тому был рад, что весь день мне было грустно… От того ли нашла на меня тоска, что меня здесь тянут день за день, от того ли, что между нами нет ещё ничего положительного, или от того, что я никогда ещё с такою заботливостью не думал о поправлении моих дел, но мне что-то было очень тяжело… Людмила Сергеевна хорошая музыкантша; я не ожидал такой прекрасной игры. Два её брата также прекрасно играют: один на скрипке[629], другой — на фортепиано[630]. Я с большим удовольствием слушал их трио из „Севильского Цырульника“[631]. Музыка — моя страсть!»
Наконец Иван Ермолаевич 17 октября выехал из Петербурга, по дороге в Москву заехал к себе в Чукавино, а уже оттуда явился в Белокаменную и, при посредстве той же А. М. Еремеевой, получил возможность представиться своей невесте и её матери. «Наконец, почтенная Софья Харитоновна, — писала Анна Михайловна 30 октября, — будущее дитя Ваше явилось в Москву, и я буду ожидать приказания Вашего подвести его под Ваше благословение… Иван Ермолаевич рвётся к Вам и потому его именем прошу Вас назначить не позже завтрашнего дня, но для меня собственно желала бы, чтобы это было не утром, а после обеда, потому что утром будет доктор у папиньки[632] и мне непременно надобно быть у него; сегодня же у меня гости, да и Вам нет времени прежде помолиться, как Вы того хотели».
Наконец все формальности, требовавшиеся этикетом того времени, были закончены, Иван Ермолаевич и Софья Матвеевна были объявлены женихом и невестою, а 13 ноября того же 1831 г. состоялась и их свадьба. Девятнадцатого декабря Иван Ермолаевич отправился в Казань, чтобы познакомить молодую жену со своей многочисленной роднёй. Молодые провели там не более месяца: они торопились вернуться к Софье Харитоновне, на Пресненские Пруды, так как она очень скучала в непривычном одиночестве, особенно без своей шестнадцатилетней Сонюшки. Она писала молодым в Казань ежедневно, начиная со следующего за отъездом дня, сообщала им все московские новости, передавала поклоны знакомых и аккуратно в каждом письме свидетельствовала почтение «милостивому государю Алексею Фёдоровичу (отчиму Ивана Ермолаевича. — Б. М.) и всем любезнейшим сестрицам и братцу (Ивана Ермолаевича), тётушке и всем родным». Мы позволим себе сделать из писем этих несколько небезынтересных выписок. «Не забудьте навестить Василья Андреевича Загорского[633] и побывать у преосвященного Филарета», — наставительно пишет она 23 декабря 1831 г. Далее, жалуясь на пустоту в доме после отъезда молодых, она говорит: «Получив список медицинских книг, я сокращаю часы скуки трудами. Вчера и сегодня вписывала цены медицинских увражей[634], которые могу приискать в каталогах Готье. Но так как весьма многих увражей, которые мы имеем, в них не означено, то я и хочу промыслить каталоги других книгопродавцев, чтобы все означить; труд не малый, особенно по недостатку источников и помощников, ибо самый верный помощник мой — Пётр Ларионович[635] убит горестью: бедная Варинька день ото дня слабеет, и не думаю, чтобы додышала до Вашего возвращения». «Я получила от брата[636] письмо, — сообщает она 30 декабря, — в котором он уведомляет меня, что добрый и почтенный друг наш Иван Фёдорович Журавлев[637] сделан тайным советником и сенатором». В письме от 5 января 1832 г. она спрашивает: «Были ли вы, милые мои дети, у преосвященного Филарета, приняли ль его благословение?.. Вчера я нечаянно была обрадована посещением доброй и милой Надежды Тимофеевны Карташевской[638], которая, оставя мужа и детей в Витебске (ты знаешь, Соничка, что Григорий Иванович — попечитель Белорусского Университета), едет за 1800 вёрст в Оренбург навестить больную, слепую мать свою: пример детской любви! Она, остановясь в Москве на несколько часов, не хотела ехать, не видав меня, и была у меня вместе с Сергеем Тимофеевичем. Благодарю Бога за добрых друзей!» «Были ли вы у почтенной игуменьи? Покойный друг мой[639] был ею очень обласкан. Я бы желала также, чтобы Вы навестили старичка Василья Андреевича Загорского, давнишнего знакомого Матвея Яковлевича».
В письме от 27 января 1832 г. Софья Харитоновна пишет: «Поблагодарите за меня почтеннейшего братца Вашего Михайла Николаевича[640] за то полезное удовольствие, которое он доставил тебе, Соничка моя, показав тебе все достопамятности Казанского Университета. Были ли у игуменьи? Образ, которым папенька благословил тебя, Соня, приехавши из Казани, получил он от неё в благословение. Как мне завидно, что я с Вами вместе не слушаю лекций почтенного профессора физики[641] Казанского Университета. Но было время, когда и я слушала лекции славного профессора физики Страхова[642]. Это было во время ректорства покойного моего родителя[643]. Тогда несколько курсов дано было публичных, и многие дамы-охотницы прилежно их посещали. Из прилежных, не прогуливавших ни одной лекции, теперь в Москве только две: графиня Броглио[644] и Анисья Фёдоровна Вельяминова-Зернова[645]. Вскоре по перемене ректора и лекции публичные кончились; а жаль, что кончились: они были очень занимательны».
Прогостив в Казани, молодые вернулись в Москву и поселились в доме Мудровых на Пресненских Прудах; Иван Ермолаевич, впрочем, часто уезжал по делам своего имения. Вот отрывок из письма его[646] из Чукавина от 3 марта 1832 г. к жене и тёще: «Написав к Вам с дороги[647], я хотел отправить письмо с извощиком, который нанялся было везти в Москву попавшегося нам навстречу князя Николая Ивановича Хованского. Торг извощика не состоялся, и потому я послал моего Николая к самому князю просить о доставлении письма. Он был так добр, что взялся и обещался доставить в понедельник, чем свет; следовательно, Вы уже его получили, а ежели нет, то — князь Хованский живёт на Никольской, в доме графа Орлова. — В Денежное[648] я приехал часу в первом ночи. Едва проснулся, — жидки уже меня дожидались; они давали 70 руб. асс. за дерево и хотели непременно купить 200 сосен; я просил 150 и продавал не более 10; между тем получил от них записку, какой меры им сосны надобны, а это для меня было главное. Они очень около меня ухаживали: им хотелось купить хотя сосен двадцать. Так как я, боясь связываться с жидами, не хотел с ними решительно покончить, а между тем желал и сберечь их на всякий случай, то я поторопился скорее из Денежного выехать, тем более, что это приближало и время моего возвращения. Получив в тот же день пригласительную записку от Новосильцова, я поехал к нему ночевать. Там нашёл его родственников: Горчакова с женою[649] и Юрьеву[650]; последняя (рождённая Лихачева) — очень милая женщина и родная племянница Гавриле Ивановичу Осокину. И Горчаковы, и она на днях от Новосильцова отправляются и, быть может, проездом через Москву, будут у Вас; впрочем, я не думаю, чтобы они успели заехать, потому что им по зимнему пути надобно поспеть: одним в Казань, а другой — в Рязань. От Новосильцева… я заехал по дороге к Шелеховым[651] обедать… Так как у них семи-, пяти- и четырёхпольное хозяйство, то, хотя они уже и не берут учеников, но я на нынешний год упросил их взять одного моего и отдаю к ним самого выборного. Может быть, на будущий год и я заведу четырёхпольное в Чукавине… Отобедав у Шелехова, я приехал на ночь в Чукавино; на другой же день приехал ко мне архитектор. Я решился весною отштукатурить, но на всякий случай велю очистить несколько комнат в большом доме, чтобы в них жить, ежели там будет сыро».
Так, в переездах с семьёй из Москвы в Чукавино и обратно, потекла мирная жизнь Ивана Ермолаевича. Осень и зиму 1832 г. молодые с С. X. Мудровой провели в деревне, где 13 сентября у них родилась дочь — Надежда Ивановна, которой автор этой статьи обязан сообщением многих драгоценных материалов. Зиму Великопольские обыкновенно проживали в Москве, в своём пресненском доме, ведя довольно открытый образ жизни, к которому Иван Ермолаевич всегда был предрасположен, проводя вечера в Английском клубе или принимая гостей у себя и посещая своих знакомых. Так, он часто бывал у Аксаковых, у которых в 1835 г. присутствовал при первом чтении «Ревизора»[652]*, к автору которого относился с каким-то обожанием. По свидетельству И. И. Панаева, Сергей Тимофеевич любил по вечерам играть в карты, и «между прочими партнёрами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов»[653]. Заимствуем из тех же воспоминаний Панаева любопытное описание вечера, данного Иваном Ермолаевичем в 1839 г.: «Великопольский имел тогда собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю, а может быть — без всякого случая, бал и пригласил к себе всех старых и новых знакомых и, в том числе, меня и Белинского… Часу в девятом я отправился на бал… вместе с К. С. Аксаковым и Белинским… Дом его был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всём разгаре. Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфекты и фрукты. Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминована и импровизировалось народное гулянье. Около подъезда дома, на дворе, толпы гудели; многие господа, незнакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо с стоявшими тут и отдал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфектами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина. Всё это было чрезвычайно оригинально.
„Вот какие праздники дают у нас в Москве! — воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне, — где вы увидите что-нибудь подобное?.. Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? (и Аксаков при этом размахнул рукою). Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?“»[654].
И действительно, натура у Ивана Ермолаевича была очень широкая: когда у него бывали деньги, он не любил считать их и сыпал ими направо и налево; а первые годы после своей женитьбы он часто получал значительные суммы с имений и с капитала, полученного им в приданое[655], особенно от продажи мачтового леса из своего Денежного; он много тратил на различные литературные затеи, на театр, которого стал ревностным посетителем; много денег уходило у него и на устройство праздников, подобных описанному Панаевым. По доброте своего сердца, Великопольский не упускал случаев помочь нуждающимся, а оказать поддержку литератору, к кругу которых он с гордостью причислял и себя и среди которых постоянно вращался, было для него прямым удовольствием. Так, например, сохранилось известие о том, с каким жаром отнёсся Иван Ермолаевич к распространившимся по Москве в конце 1838 г. слухам о том, что находившийся за границей Гоголь посажен за долги в тюрьму. «Иван Ермолаевич Великопольский, — писал С. Т. Аксаков Погодину, — сказал мне, что видел у Вас[656] Кони, который подтвердил неприятное известие о Гоголе, и предложил мне составить для него подписку. Великопольский даёт тысячу рублей. Мысль святая! Ведь это позор всем нам, если Гоголя засадят в тюрьму!»[657] Подписка состоялась, и известно, как кстати пришла к Гоголю помощь его московских приятелей и почитателей…
В следующем, 1839 г., Иван Ермолаевич своё пребывание в Москве отметил поддержкой, оказанной им, также весьма вовремя, Белинскому, бывшему тогда в большой нужде; вот что писал наш знаменитый критик И. И. Панаеву 19 августа 1839 г., в минуту тяжёлой нужды и во время болезни, когда ему не на что было купить даже лекарств: «Я было и нос повесил, но вдруг является И. Е. Великопольский, осведомляется о здоровье и просит меня быть с ним без церемоний и сказать, нужны ли мне деньги. Я попросил 50 рублей, но он заставил меня взять 100. Вот так благодетельный помещик! На другой день, перед самым отъездом своим в деревню, опять навестил меня»[658]. По словам Панаева, Великопольский, познакомившийся с Белинским через Аксаковых и знавший стеснённое положение, в котором тот часто находился, «нередко помогал ему»[659], чем, быть может, объясняется тот факт, что Белинский, не имев возможности с похвалой отзываться о произведениях добряка Великопольского и не желая огорчать его дурными рецензиями, старался обходить молчанием творения своего великодушного покровителя.
Иван Ермолаевич и после женитьбы не оставлял своих излюбленных литературных занятий, постоянно создавая новые темы для драматических и иных произведений, занимаясь для того чтением, историческими и другими изысканиями. По нескольким сохранившимся черновым тетрадям нам известно, что в 1820—1840 гг. им были написаны пьесы: «Мнемозина, большая пастушеская лирическая фантазия в 2-х действиях в стихах, с хорами, превращениями, балетом и великолепным зрелищем», «Сирота» (сцены), «Вдова», драма в 5 действиях, «Пьеретта и Душета, или Полицейское следствие» (сцены), «Чудо Перуна» (1828—1829), лирическое представление в 2-х частях, из коих первая, под заглавием «Заряна», напечатана была в изданном Великопольским в 1859 г. «Раскрытом портфеле» (с. 121—151), и трилогия «Часы с флейтой», первая часть которой была напечатана позже в том же сборнике произведений Великопольского. Наконец, он перевёл в стихах всю Вольтерову «Заиру», рукопись которой свидетельствует об изумительном усердии Ивана Ермолаевича и его настойчивости. Кроме того, из имеющихся у нас двух томов «Пёстрого альбома» — записной книжки, в которую Иван Ермолаевич заносил всякие заметки, выписки, замечания, наблюдения и т. п., мы видим, что им задуманы были и собирались материалы для трагедии «Сумбека», для исторических драм «Крещение Владимира», «Михаил Ярославич Тверской» и «Иван Сусанин», для драм «Торжество мнения» и «Воскресное дитя» (впоследствии была окончена), для комедий «Добросовестный», «Скупой» и т. д., и т. д. С этой целью он записывал случайно слышанные им летние выражения, народные песни, пословицы, остроумные замечания; выписывал из книг, газет и журналов интересующие его сведения по самым разнородным наукам, отмечая против каждой выписки, к какой комедии, трагедии, повести и т. п. её следует отнести. Весь этот обильно собранный материал Великопольский старательно, часто насильственно, вставлял в свои драматические произведения, отчего они теряли цельность и представляли из себя лишь ряд отрывочных наблюдений, набросков, часто не связанных между собою. Такими именно качествами отличалась и изданная Великопольским в Москве, в феврале 1837 г., трагедия в четырёх действиях «Владимир Влонской», над которой он трудился очень долго, начав её ещё «в холостом быту»[660]; примечания к предисловию и к пьесе поражают количеством ссылок автора, для подтверждения своих мнений, на многочисленных писателей по самым разнообразным специальностям[661] и на произведения Гюго, Байрона, Руссо, баронессы Сталь, баронессы Криденер, виконта d’Arlaincourt и др., на сочинения Козлова, Грибоедова, на журнальные статьи и т. д. В предисловии он написал целое исследование в защиту мелодрамы… Пьеса эта, отвергнутая Петербургской театральной дирекцией, при первом же появлении своём на свет навлекла на автора насмешки со всех сторон. Белинский, прочитав её, в письме к А. А. Краевскому от 4 февраля 1837 г. предлагал прислать разбор «Владимира», говоря, что «трагедия издана очень красиво, с большими затеями, а написана ещё с большею бездарностию»[662]. В «Библиотеке для чтения» и в «Сыне отечества» появились предупредительные извещения о выходе трагедии. «В Москве явилась вещь неслыханная, — писал в „Библиотеке для чтения“[663] Сенковский, — несравненно любопытнее Галлеевой кометы, — трагедия с двумя хвостами. Никогда ещё род человеческий не видывал такого дивного феномена! Это необычайное явление называется „Владимир Влонской“, трагедия Ивельева, — и только. Из объявления, приложенного к „трагедии Ивельева“, видно, что она продаётся пачками по двенадцати экземпляров, и между прочим продаётся у Ротгана, который, не дождавшись „трагедии Ивельева“, умер в начале прошлого года». Вслед за тем в «Литературной летописи» той же «Библиотеки для чтения»[664] помещена была следующая заметка о «Владимире Влонском»: «Два месяца любовались мы на эту трагедию. Сама по себе она, если хотите, штука не важная, что-то вроде драмы: вся завязка в том, что муж ревнует жену ко всякому мужчине, — дело очень позволительное. Он ревнует её особенно к молодому гусару, — это ещё позволительнее. А развязка, — развязка в том, что муж подозревает жену, будто она уехала из Московского Благородного Собрания с вышереченным гусаром. Это уже непозволительно. — Куда? зачем? — Крик, шум, чуть не драка. Однако мужа разуверяют наконец, и он, от досады ли, что был прав, или от радости, что оказался неправым, бежит в свой кабинет, схватывает пистолеты, — вы думаете, чтоб стреляться? нет! — и застреливается сам. — „Увы, что зрю?“, вскрикивает жена и умирает со страху от такой глупости мужа.
Вечный покой всем трём, мужу, жене и „трагедии Ивельева“. Но трагедия тут дело самое последнее, а главное то, что автор не шутя грозится сделать этою трагедией драматическую реформу, которой следствия могут быть хуже следствий реформы Английского парламента. Для этой цели —
1. Трагедия написана четырёхстопным хореем, без рифм, каким Радищев написал „Бову Королевича“, а Сумароков и Херасков писали анакреонтические оды.
2. Пока автор писал „Владимира Влонского, трагедию Ивельева“, успели явиться в свет „Горе от ума“, „Ревизор“ и „Урок матушкам“[665]. Открылось давно известное дело — столкновение гениев. Автор принуждён был после этого, в огромном предисловии, клясться, что он и не думал заимствовать у Грибоедова, Гоголя и „Урока матушкам“, хотя в его трагедии найдётся похожее на то, на другое и на третье. „Мог ли я заимствовать из „Ревизора“, говорит автор, когда моя трагедия отценсурована 17-го февраля, а „Ревизор“ ценсурован 17-го марта прошлого 1836 года!“ Это правда; да дело не в том, а в реформе, и потому —
3. Показавши пример нового стихосложения для сцены, автор изобрёл нечто ещё важнейшее — новый способ ставить драму на сцене по нотам[666]. Что это такое? вот что: вся сцена театральная делится на графы, действующие лица изображаются нотами, и все их разговоры, переходы, выходы, входы, маханья руками подводятся под музыкальные звуки. Остаётся только изобресть огромные клавиши, машину, которая из оркестра шевелила бы актёров по нотам, и всякая сцена будет после того разыгрываться стройно, как концерт.
Мы не мистифируем. Прочтите сами предисловие и послесловие к „Владимиру Влонскому, трагедии Ивельева“. Автор приложил даже две длинные таблицы нот сценических, которые образуют два хвоста у sternum трагедии, и совсем не думает шутить. Но это ли одно он предлагает! Как до сих пор актёры у нас закопались и закопали своих товарищей на сцене? Это срам! Просто, покажут вид, будто ткнут кинжалом, и тот, кого ткнут, падает и умирает. Но как можно умереть без крови! Это вовсе не естественно. Автор требует, чтобы кровь текла непременно у того, кого убивают или кто убивается. Как это сделать, не объяснено, но можно вообразить, что это было бы прекрасно.
Не должно думать, чтобы автор только требовал „реформы“ сценической и сам не подавал к ней примера. Он добивается верного подражания природе, без чего нет искусства. В третьем действии, например, выходят на сцену пятьдесят человек, и все они, вдруг и порознь, рассуждают, пляшут, играют в карты, ссорятся, смеются и в одно время говорят по-русски, по-французски и по-немецки, потому что театр изображает в это время Благородное Собрание. В числе действующих лиц является „карикатурная мужская маска“, которая „отличается женоподобием, полна, бела и румяна; на голове у неё колпак, а в руке хлопушка для мух“. Особенным механизмом, мухи летают по сцене, чтобы маска могла их бить[667]. Тут же выходит „Неприличная маска“, которая должна быть „в кофте и шароварах, с птицеобразным лицом“. Но она мало действует. Она только подбегает к одной из дам, кричит: „Кукекекя!“ Дама пугается, кричит: „Ах, ах!“ Другие кричат: „Э! э!“ Маска между тем „бегает по сцене и дурачится“. Тут одно из действующих лиц „подзывает полицейского офицера, приказывает её вывести, что тот и выполняет“. Все, как в природе!»
Отзыв критика «Сына отечества» — В. В. В. (Вл. Мих. Строева[668]) был не менее жесток. Мы позволим себе, не излагая содержания трагедии Ивана Ермолаевича, ограничиться приведением этого отзыва, так как он даст достаточное представление о пьесе и её странностях, а также покажет нам отношение к Великопольскому тогдашней критики. Предупредив читателей о выходе «Владимира Влонского»[669] и советуя им купить трагедию «и прочесть для смеха, если у них достанет терпения на этот подвиг», так как «автор вводит разные театральные преобразования, над которыми можно прохохотать несколько часов сряду», В. М. Строев писал[670]: «Труд г-на Ивельева обращает на себя особенное внимание по своей странности, по претензиям на учёность, на знание химии и сердца человеческого, физики и сцены, механики и кулис, — всего, что под небом и над землёю.
В длинном предисловии, занимающем 35 страниц, почтенный автор старается доказать, что его трагедия хороша, очень хороша, чрезвычайно хороша, удивительно хороша, несравненно хороша, так хороша, что мочи нет её слушать или читать! Автор признаётся и чувствует, что её не станут играть на сцене, однако же это благородное убеждение не мешает ему длинно-предлинно толковать о постановке „Владимира Влонского“ на сцену. В этих толках г-н Ивельев негодует на теперешнюю систему театральных перемен и предлагает свою новую методу, которая очень хороша, удивительно хороша, несравненно хороша… в книге!
Потом почтенный автор разрешает другой вопрос: нет ли музыки в самой тишине? и находит, что есть, как есть цвет в чёрном цвете, отсутствии всех цветов. Далее автор разрешает ещё вопрос: не слышим ли мы того, что видим? и думает, что слышим. Глухие, juges compétents в этом деле, уверяют, что они всё видят и ничего не слышат, а слепые говорят, что они всё слышат и ничего не видят. Это немного несогласно с теориею г-на Ивельева; но что за дело до опыта? На основании этой новодоказанной истины автор думает, что в его трагедию нужно ввести изобразительную музыку, то есть такую, которую мы будем разом и слышать, и видеть, так что даже глухие могут присутствовать с успехом при разыгрывании этой новой музыки, изобретённой г-м Ивельевым. Нет сомнения, что из всех современных изобретений это — самое полезное, самое удивительное, самое непостижимое и самое неудобоисполнимое!
Но поверим на слово и пойдём далее по следам предисловия. Мы идём как бы на удачу, без руководства логики, по порядку, избранному самим автором. Доказав и открыв видимую музыку, г-н Ивельев начинает оправдываться в нечаянных встречах с известными авторами. У г-на Ивельева есть граф Чутьлипкин, удивительно похожий на князя Тугоуховского в комедии Грибоедова. Автор не шутя уверяет, что он не занял этого лица у Грибоедова, а так… нечаянно встретился с ним.
Потом есть ещё слуга Василий, похожий на Осипа (в „Ревизоре“ Гоголя), как две капли воды. Г-н Ивельев предупреждает, что и этого лица он не занимал у Гоголя, а так… нечаянно встретился с ним[671].
Есть ещё некоторые тирады, очень похожие на тирады в „Уроке матушкам“, но и это, по уверению почтенного автора, тоже случилось так… нечаянно!..
Перед драмою напечатан список действующих лиц с означением их лет, примет и свойств. Список этот занимает девять страниц!!! Приметы означены очень подробно[672]; про девицу Любиньку Брылову сказано, что она должна иметь золотушные знаки на щеке…
Два раза прочли мы трагедию и затрудняемся рассказать её содержание. Автор говорит, что он положил в основу своей трагедии нравственную мысль: в семейственном счастии любовь супружеская неразлучна с уважением. Если б мы этого давно не знали, то верно бы не узнали из „Владимира Влонского“. Мы подумали бы, что автор хочет доказать нам, что в семейственном счастье нет ни любви, ни уважения, — и вот почему: Владимир Влонской любит и уважает жену свою, миленькую Оленьку, и оба они очень несчастливы. Стало быть, наоборот: если б Владимир не любил и не уважал Оленьки, то он был бы счастлив! Это вывод самый простой и верный!
Отчего же автор так горько ошибся и доказал противное тому, что он хотел или думал доказать? Оттого, что его происшествие дурно изобретено и характеры ложны. Если муж любит жену, то он её не подозревает; он может её ревновать, беречь, но не может оскорбить гнусным подозрением…[673]
В конце книги приложены две литографированные таблицы. Первая представляет сцену Александринского театра, разделённую на квадратики, а вторая изображает, как актёры должны ходить по нотам. Польза этих таблиц будет оценена только дальнейшим потомством…»
И. Е. Великопольский обладал изумительною энергиею, настойчивостью и твёрдостью в убеждениях. Так и теперь: отзывы, нами приведённые и им подобные, сильно огорчив его, не ослабили в нём желания писать и появляться перед читающей публикой. Будучи убеждён в достоинстве своих произведений, он находил поддержку и одобрение и со стороны некоторых друзей, а также своей жены — Софьи Матвеевны[674]. Проживая в Петербурге в 1840 г., он затеял издание альманаха «Метеор», для которого, как видно из его «Пёстрого альбома», предназначал «две или три повести», два драматических произведения: «Любовь и честь» (свою трагедию) и «Олега»[675], одну поэму или повесть в стихах, а также рассчитывал достать отрывок «Мёртвых душ», о чём и писал Погодину, прося его посредничества между ним и Гоголем[676]. Однако предприятие Великопольского осталось лишь в области одних предположений, так как решение этого вопроса в 1841 г. совпало с делом о запрещении и уничтожении его новой трагедии «Янетерской» и Иван Ермолаевич получил категорический отказ из Ценсурного комитета. Зато в этом 1841 г. Иван Ермолаевич сразу выступил в свет с двумя пьесами: драмой «Любовь и честь» и трагедией «Янетерской»[677]; последняя, из побуждений, которые мы изложим ниже, была немедленно же изъята из продажи и уничтожена, не попав, таким образом, на суд критики, а первая — «Любовь и честь» — вызвала многочисленные о себе отзывы, но… опять не совсем благоприятные для нашего автора. Так, П. А. Плетнёв писал Я. К. Гроту 14 февраля 1841 г., что пьесы «Янетерской» и «Любовь и честь» так смешны и небывалы, что он, «вырывая на удачу сцены», чуть не уморил со смеху своего знакомого[678]. Мнения критики о втором произведении были почти единогласны: за пьесой «Любовь и честь» признавались несомненные достоинства, но отмечалось то же отсутствие связи между отдельными сценами и общим ходом действия, вызванное всегдашним желанием автора наполнить свои произведения возможно большим числом наблюдений и картинок, списанных с натуры. Вот что писал, например, Белинский в «Отечественных записках»[679]:
«Г. Ивельев (имя, не безызвестное в русской литературе) дарит русскую публику новою драмою, и притом хорошею драмою, в такое время, когда кроме глупых и плоских водевилей в драматической литературе нашей ничего не является. „Любовь и честь“ написана прозою. Это — сбор отдельных сцен, местами очень живых и занимательных, но которые не находятся во внутренней связи между собою и не образуют собою целого. Герой драмы постоянно болен и уныл от мысли о девушке, которую он когда-то, ещё будучи мальчиком, соблазнил. Потом тут часто является девушка Майева. Отец отдаёт её за дурака Телепаева — разумеется против воли. Вот рядят её к венцу, — а тут совершилось странное событие, довольно обстоятельно изложенное автором в прописи. Пересказываем словами автора: „Зеркало начало покрываться мраком. Майева вся устремилась в него, не слыша и не видя, что около неё происходит. Графиня, надев серьгу, берётся за другую. Вдруг представляется в зеркале изба. Умирающий Брецкий, в сюртуке, без эполет, сидит на постели, постланной на лавке. Он простирает к ней руки, что-то хочет сказать и испускает дух. Она вскрикивает, встаёт и упадает без чувств на зеркало. Всё исчезло. Девушки её поддерживают“.
Признаемся, мы в этом очень мало поняли; но даровитый автор как будто предвидел это и особенным примечанием в конце книги поспешил очень удовлетворительно разрешить наше недоумение. Выписываем его объяснение слово в слово:
„Некоторым из тех, кому я читал мою драму и судом которых я не могу не дорожить, показалось с первого взгляда окончание неестественным и приведённым будто бы только для эффекта. Из опасения, чтоб и мои читатели не разделили этого мнения, я прошу их вникнуть в то, что хотя Майева и Брецкой ни разу не встречаются в драме, но страстно друг друга любят и находятся в непрестанном душевном магнетическом друг к другу влечении. В торжественные же минуты смерти одного и насильственной свадьбы другой, когда из всей земной жизни осталась для них только память взаимной любви, нравственные их силы должны были возвыситься до величайшего напряжения, а взаимное соотношение могло развиться до проявления. — Сколько ходит между нами рассказов о подобных случаях, подтверждаемых даже историею. Можно сомневаться, но нельзя отрицать“.
В этой драме сто семь действующих лиц, не считая присутствующих только на сцене. Содержания её мы не будем рассказывать читателям: пусть они сами прочтут драму; уверяем их, что скажут нам спасибо за совет и внакладе от труда не останутся. Впрочем, предуведомляем читателей, они найдут много странного в драме г. Ивельева; но это — следствие его особенного и оригинального взгляда на сущность драмы, который мы, признаемся, не хорошо понимаем, а потому и желали бы, чтобы талантливый автор изложил в особенном теоретическом сочинении свои понятия о драматической поэзии[680]. Тогда мы поговорили бы с ним об этом интересном предмете и, может быть, поспорили бы. Кстати о странностях: мы очень желали бы знать, какое впечатление произведёт на читателей вот эта песня из „Любви и чести“, которую поют песенники в Москве, в Марьиной роще:
Великая нацья при море живёт, Ест хлебенный суп, виноградное пьёт. А есть на востоке другая страна, Море то при ней, не при море она; Хлеб режет ломтями, и кашу да щи Простым запивает, что в горле трещи. Хор: Гой, гой, гой! Буки аз, Буки раз, Буки люди, Буки жлуди, Буки ер Кавалер… Вив Генри катер, Виве Наполео!Окончания этой прекрасной песни не выписываем, не почитая себя в праве брать целиком лучшие места (как это, вероятно, сделают другие журналы) и помня пословицу: „хорошего понемногу“…
Драма г. Ивельева издана со всею типографическою роскошью и изяществом».
Мнение «Литературной газеты», редактировавшейся тогда Ф. А. Кони, было более благоприятно для Великопольского.
«В наше время, — писали здесь, — время совершенного упадка драматической литературы, „Любовь и честь“ очень отрадное явление. В пьесе разбросано много искр ума, в ней есть движение, хотя нет общей связи между этим движением и ходом самого происшествия, то есть нет драмы в том смысле, в каком мы её доселе понимали. Прочитав драму г. Ивельева, вы увидите, что у автора совсем другой взгляд на этот предмет, но какой именно — трудно понять.
Если почтенный автор издаст ещё несколько пьес в этом роде, мы, может быть, возьмёмся объяснить его взгляд и степень пользы и необходимости нововведения, которое он, по-видимому, усиливается усвоить современной драматургии. Несмотря на странности, которые на каждом шагу поражают читателя, „Любовь и честь“ читается с удовольствием. Есть много сцен живых, оригинальных, списанных с природы бойко и верно. Такова, например, Марьина роща[681], где автор вас совершенно переносит на место действия и до того поражает верностью картины, что всякий, кто только живал в Москве, невольно вспомнит весёлую, разгульную Марьину рощу. Некоторых критиков особенно поразил своею оригинальностью хор песенников…[682] Им эта песня показалась невероятною; но один коренной москвич, которому случилось слышать эту песню от одного солдата, сообщил нам её даже ещё в гораздо большем объёме… Вообще в драме очень много прекрасных мест… и мы советуем прочесть её; читатели останутся ею довольны, а за недостатки и длинноту великодушно простят автора, имеющего свой взгляд на это дело, точно так, как прощали некогда сухость и почти бесконечность драматических фантазий Кукольника»[683].
Самым удачным, по нашему мнению, отзывом о пьесе Великопольского является разбор, напечатанный в «Маяке»[684] и принадлежащий перу одного из его редакторов — П. А. Корсакова: он, рассматривая «Любовь и честь», находил, что в ней, так же как и во «Владимире Влонском», «есть хорошие сцены, видна наблюдательность, начитанность, ум, но нет целого, нет драматического интереса. Это — ряд картин, иногда довольно удачно схваченных, но сшитых между собою на живую нитку. Автор… гоняясь… за частностями, совершенно уничтожил главный интерес, расхолодил его до утомительности бездной других мелких интересов, целым строем действующих лиц, появляющихся одно за другим как китайские тени в волшебном фонаре[685]. Такое множество характеров, рачительно выставленных напоказ, каждый в своей сфере, в своих частных действиях, до того развлекают внимание читателя, что он поневоле холодеет к главным действователям… Мы далеки от того, — пишет далее Корсаков, — чтобы отрицать в почтенном авторе всякий талант: мы даже уверены, что если он послушается добросовестного совета нашего, то может подарить отечественную публику произведением, достойным и родины, и пишущего её сына…»[686].
Выше уже было вскользь упомянуто об уничтожении изданной Великопольским, одновременно с драмой «Любовь и честь», трагедии «Янетерской»[687]. Причиной этого уничтожения цензурой выставлена была «безнравственность» произведения Ивана Ермолаевича, который представил в нём печальную судьбу своего героя, не знающего ни отца, ни матери.
Содержание пьесы состоит в следующем: один молодой человек, по фамилии Янетерской[688], тщательно скрывающий своё незаконное происхождение, но сообщивший о нём полковнику Глуминцеву, вызывает последнего на дуэль, когда тот выдаёт его тайну княгине Ситской, за дочерью которой они оба ухаживают, и убивает Глуминцева. Затем, из духовного завещания, полученного Янетерским из суда, он узнаёт, что воспитавший его человек, которого он почти и не знал, но считал своим отцом, был некто Терской, но что на самом деле он не был его отцом. В последнем действии Янетерскому делается известно, что одна сумасшедшая женщина, Стешнева, уже давно помешавшаяся от потери своего ребёнка, не кто иная, как его мать, а Глуминцев, которого он убил на дуэли, его настоящий отец. Как видит читатель, на наш современный взгляд в содержании пьесы нет ничего противоцензурного; нет его и в отдельных выражениях. Но в 1841 г. судили иначе: пьесу сочли более чем безнравственной и опасной по содержанию, и по поводу пропуска её цензором возгорелось целое дело, из которого мы позволим себе привести некоторые характерные документы[689].
Узнав о разрешении на выпуск в свет «Янетерского», попечитель С.-Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков, бывший одновременно и председателем Цензурного комитета, немедленно послал запрос пропустившему её цензору Евстафию Ивановичу Ольдекопу, — и последний 20 февраля представил князю свои объяснения в следующем письме:
М. г. князь Михаил Александрович! Вашему Сиятельству угодно было предписать мне изложить, на каком основании одобрена мною трагедия «Янетерской».
Вашему Сиятельству известно, что я в течение двенадцати лет был театральным цензором, и во всё это время единственное и беспрестанное моё занятие состояло в чтении неистовых произведений новейших романистов. То, что мне сначала было отвратительно, в течение многих лет сделалось менее неприятным, и пьесы самые гнусные, без всякой нравственной цели, как, например, «Антоний», были даже, хотя против моего мнения, одобрены и представлены на здешней сцене[690]. Таким образом, я, мало-помалу, привык к этим ужасам, которые показались мне более сносными от привычки. Человек может привыкать ко всему: Митридат привык даже к яду.
В прошедшем году, летом и осенью, я страдал сильным ревматизмом в голове, но, несмотря на ужасную боль, ревностно занимался не только порученными мне делами цензурными, но и делами двух моих почтенных товарищей, находившихся тогда в отсутствии. В это самое время явился ко мне г. сочинитель пьесы «Янетерской», которого я знал и уважал прежде. Он изложил мне весь ход своей пьесы, мне уже прежде известной. Я просил его обращаться к его сиятельству князю Григорию Петровичу Волконскому. Он это сделал, и его сиятельство сказал мне, что, по его мнению, пьеса может быть одобрена. Главная вина моя та, что я увлёкся убеждениями г. сочинителя, в котором я нашёл человека самого благородного, с честнейшими правилами. Находя в нём истинного дворянина и удостоверившись, что главная цель пьесы самая моральная, я одобрил её. Теперь я ясно вижу всю необдуманность моего поступка, но, по крайней мере, могу уверить Ваше Сиятельство, что главная вина моя состоит в том, что не устоял против убеждений г. сочинителя, который во всех отношениях мне известен, как уважения достойный человек.
Книга ещё не поступила в продажу, даже ещё не объявлена. Г. сочинитель сообщил мне, что отпечатано было 720 экземпляров, из которых только 40 разосланы, все другие находятся в С.-Петербурге, отчасти у сочинителя, отчасти — у его комиссионера и книгопродавца Юнгмейстера. Г. сочинитель, всегда верный благородству души своей, готов ко всем переменам, даже — к уничтожению книги.
Изложив Вашему Сиятельству всё дело, как оно было, с полною откровенностью, я повторяю, что теперь чувствую всю вину мою, но почти уверен, что каждый другой цензор, уважая благородство сочинителя и увлечённый его убеждениями, может быть, сделал бы подобную ошибку.
С глубочайшим почтением и проч.
Евстафий ОльдекопВ дополнение к этому письму на другой же день Ольдекоп писал следующее:
В письме моём к Вашему Сиятельству сознавшись в моей ошибке — в пропущении трагедии «Янетерской», я немедленно спешил исправить вину мою по мере сил моих. По вторичном рассмотрении пьесы и снесшись с автором, честь имею представить Вашему Сиятельству перепечатанные картоны со всеми нужными переменами. Если Вашему Сиятельству благоугодно будет согласиться на эту меру, то покорнейше прошу приказать вклеить эти картоны во все прочие экземпляры, находящиеся в Петербурге, отчасти — у сочинителя, отчасти — у книгопродавца Юнгмейстера. Г. сочинитель обязывается отправить картоны ко всем лицам, которым он отослал своё сочинение.
При одобрении трагедии «Янетерской» я находился, может быть, невольным образом под влиянием мнения автора, но, подвергая себя просвещённому суждению Вашего Сиятельства, осмеливаюсь надеяться, что пьеса, в нынешнем её виде, несмотря на романическую её оболочку, может быть пропущена, уважая моральную цель её, тем более, что г. автор сказывал мне, что, вследствие сделанного ему запроса, сам будет иметь честь представить Вашему Сиятельству свой взгляд о сочинении своём и ту точку зрения, с которой он желает, чтобы его трагедия была рассмотрена.
Мы позволим себе привести суть тех объяснений, которые были представлены Великопольским председателю Цензурного комитета в длиннейшем официальном «оправдательном письме» от 22-го того же февраля 1841 г., так как оно небезынтересно во многих отношениях. Вот что писал Иван Ермолаевич:
М. г. Князь Михайло Александрович! Г. секретарь Цензурного Комитета сообщил мне вчерашнего числа, что Ваше Сиятельство, по прочтении напечатанной мною трагедии «Янетерской», бывшей прежде в рукописи частным образом на Вашем рассмотрении и не удостоившейся Вашего одобрения, поручили ему передать мне, что Вы желаете знать, каким образом эта пьеса, после известного уже мне Вашего о ней отзыва, была представлена мною на рассмотрение Цензуры. — Имею честь дать на это Вашему Сиятельству следующее объяснение со всею полностью, требующеюся обстоятельствами.
Написав, несколько лет уже тому назад, трагедию «Янетерской», прежде бывшую под названием «Незаконнорождённый», я её читал нескольким из моих приятелей. Мнения их были различны. Говорить об их отзывах насчёт литературной стороны сочинения считаю здесь неуместным; но, тогда как некоторые поощряли меня к её напечатанию и даже отдаче на сцену, другие, более знакомые с требованиями ценсуры, с сожалением говорили, что пьесы не пропустят. Предмет сочинения: судьба незаконнорождённого; мой взгляд на драму: человек и жизнь в полном их развитии; моё, основанное на твёрдом убеждении, мнение, что нравственная сторона всякого сочинения выходит из впечатления целого, а не из частностей, служащих только орудием к воспроизведению этого целого, — ввели в мою драму многие лица, сами по себе, конечно, безнравственные, но не мешающие нравственности целого и необходимые для пьесы, как тени в картине. Эти лица образовали сцены, может быть, точно несколько вольные, но, впрочем, такие, подобные которым, и ещё гораздо худшие, то и дело представляются на всех европейских театрах, не выключая и русских. Следовательно, всё зависело от взгляда, с которого моё сочинение было бы рассматриваемо. Около этого времени, тому назад, кажется, уже два года, я узнал о Вашем приезде в Москву. Моё собственное и общее всех к Вам уважение, место, Вами занимаемое, и та уверенность, что Вы, давно уже меня зная, ни в каком отношении, в случае даже и неблагоприятного взгляда на моё сочинение, не сделаете невыгодного заключения об авторе, побудили меня отнестись к Вам с моею покорнейшею просьбою — прочитать мою трагедию частным образом и указать на поправки, которые должны быть сделаны для того, чтобы пьеса могла пройти сквозь ценсуру. Вследствие того Ваше Сиятельство взяли мою пьесу с собою в Петербург, откуда вскоре мне её возвратили, с приложением мнения ценсора (Петра Александровича Корсакова, как я узнал после), написав с своей стороны, что Вы во всём с ним согласны. Мнение г. ценсора, присланное ко мне без подписи имени, сделано было в объёме гораздо большем, нежели я смел надеяться. Это был написанный с одного почерка пера, но полный, с критическою опытностью, взгляд на моё сочинение, по своему обзору выходивший уже из коротких указаний ценсорских, но заключавший в себе чисто литературную критику с добросовестными осуждениями и, вместе, похвалами[691], которых — я был бы очень счастлив, если бы смел находить себя достойным. В конце всего было горестное для меня заключение, что пьеса не может быть одобрена… Целый год, если не более, после того пьеса лежала в моём портфеле. Самые похвалы, рассеянные г. ценсором между некоторыми осуждениями, подстрекали, однако же, меня к попытке представить мою пьесу снова на его рассмотрение, сделав нужные в ней переделки. Но имя г. ценсора мне было неизвестно, следовательно, я не мог с ним переписаться; затруднять Вас второю просьбою я счёл неуместным, а в разборе не было подробных указаний на противные правилам ценсуры места.
Каждый сочиняющий знает, что часто казавшееся невозможным вчера делается лёгким сегодня, и что всё зависит от минуты и расположения. В одно такое время, прошлою осенью, я стал перечитывать мою пьесу, соображаясь со сделанными мне замечаниями и стараясь смотреть на всё такими глазами, как бы я сам был ценсором чужого сочинения. В два или три дня я исправил мою трагедию так, как, по моему мнению, она могла уже быть пропущена. При этом я должен с благодарностью сказать, что некоторые замечания г. ценсора послужили к значительному даже улучшению моей пьесы.
Тою же осенью прошлого года приехал я сюда, в намерении показать сделанные мною поправки Петру Александровичу и, в случае его одобрения, снова представить пьесу Вам. Но как Ваше Сиятельство, так и Пётр Александрович — были в отсутствии. Не думав, чтобы случай привёл меня опять в скором времени быть в Петербурге, я показал мою рукопись, прежде также частным образом, г. ценсору Евстафию Ивановичу Ольдекоп, передав ему с полною добросовестностью о том, какому суду она подверглась в прежнем своём виде, и при этом случае изложив ему мой собственный взгляд на моё сочинение. Экземпляр был самый тот же, который находился у Вашего Сиятельства. Он её прочитал, — и вот его слова, как они мне помнятся: «Я не знаю, в каком виде была Ваша трагедия прежде; ни князя, ни Петра Александровича я, в настоящее время, по их отсутствию, спросить не могу. Я вижу, однако же, по самой рукописи, что Вы сделали перемены, и теперь, соглашаясь с Вашим взглядом на сочинение, считаю, что пропустить его можно, ежели Вы сделаете ещё исправления в некоторых, обозначенных мною, местах». Я сделал поправки и на другой же день привёз их к нему. Но он, всё ещё останавливаясь прежде высказанными мнениями как Вашего Сиятельства, так и Петра Александровича, просил меня, для большей осторожности, отнестись к г. исправляющему тогда должность попечителя — князю Григорию Петровичу Волконскому. Я тот же час поехал к князю, объяснил ему все обстоятельства дела и, в отсутствии Вашего Сиятельства, просил его покровительства. Вскоре после того пьеса получена мною уже одобренною к печати.
Изложив далее свой взгляд на положительную нравственную силу, заключающуюся даже в такой пьесе, в которой выставлены отрицательные типы, Великопольский рисует перед князем Дондуковым-Корсаковым характеристики действующих лиц его трагедии:
В моей пьесе лицо Янетерского есть тот характер, около которого обвивается окружающая жизнь. Он есть камертон, по которому настроена пьеса и по которому должно её поверять. Он — сын порочной любви. Его отец мог ли быть иначе выведен, как развратником; его мать — иначе, как презрительною [sic] женщиной? Поэтому — та скрытая безнравственность в словах и поступках Глуминцева, хотя в полной мере обладающего чувством светской чести… Верный слуга государю и отечеству, справедливый человек, рыцарь чести по светскому понятию этого слова, он пользуется общим уважением и заслуженно обращает на себя внимание всех и — свыше; но вместе с тем заражённый внутренним, невидимым свету развратом, он ни разу в нём не раскаивается, он сжился с ним, составляет с ним одно, — и тем его характер остаётся верен самому себе, наводя на себя в то же время нравственное пятно. Оттуда же истекает и цинизм лица Стешневой. Но вникните в этот цинизм. Стешнева выведена здесь уже почти старухой. Развратные примеры и научения матери, сластолюбие, в которое она погрузила её почти от рождения, усвоились ею. Она потеряла стыд и является вакханкою, обвитою цветами и виноградом, эмблемою порочных радостей и упоений жизни. Но это вакханка уже покинутая, которая, в неистовых своих песнях, уже только напоминает себе прежнее, между тем как превратности жизни, опытность и морщины заставляют её внутренно чувствовать всю презрительность [sic] своего положения и не закрывать наготы потому только, что она к ней привыкла. Она выкупает заблуждение молодости слезами всей своей жизни; порок разврата, уже наказанный в ней, исчезает в несчастном материнском чувстве, которым наполнены все её последние дни; а потому она имеет права на сострадание. Лиза — обманывающая мужа распутница[692]. Читатель, может быть, хотел бы её выкинуть из пьесы, как негодную траву; но она в пьесе потому, что находится в жизни, и этот в читателе порыв её выбросить есть то чувство, которое делает характер безнравственный литературно-нравственным. Злодейство мужа её Петра, доведённого её поведением и низким поступком Глуминцева до горячки мстительной жажды[693], есть следствие нравственного наблюдения того, до чего могут обстоятельства довести человека. К нему нет в пьесе презрения, но есть ужас и сожаление, как к человеку больному, — сожаление, носящее в себе вместе и осуждение… Княгиня [Ситская] представляет собою образец дамы высокого общества, которая под блеском имени и положения своего в свете скрывает свои пятна. Её дочь — прекрасных душевных свойств девица, но подвластная предрассудкам общества. Я очень был бы счастлив, если б характер гувернантки предостерёг хотя одну нежную мать, занимающуюся воспитанием дочери. Возвышенные поступки уже покойного Терского держат на себе общее уважение драмы… Все прочие лица — побочные: они выведены в пьесе, как предметы жизни, вошедшие в объём картинной рамы, — лица сторонние, но без которых ландшафт был бы не полон…
Так защищался Великопольский, стараясь доказать нравственное значение своей трагедии, в которой цензура углядела опасные места. Но доказательства Ивана Ермолаевича были «гласом вопиющего в пустыне»: ревностный председатель счёл за лучшее дать делу дальнейший ход и 23 февраля писал министру народного просвещения Уварову:
М. Г. Сергей Семёнович! Около двух лет тому назад один из моих старых сослуживцев г. Великопольский прислал мне рукопись — драму, под заглавием «Незаконнорождённый», и просил моего мнения о пропуске её по цензуре. Передав частным образом рукопись на рассмотрение одного из цензоров и основываясь на его мнении, я сообщил автору, что пьеса его не может быть пропущена для напечатания. На днях я получил при письме автора вновь отпечатанную драму под названием «Янетерской»; по содержанию книги хотя во многом изменённой, не мог я не узнать прежнего сочинения Великопольского и был приведён в недоумение местами, коих пропуск показался мне явно противным правилам цензуры.
Пьеса, как оказалось, была пропущена отдельным цензором здешнего Комитета, Ольдекопом, и билет на выпуск книги подписан им же 5-го числа этого месяца. Узнав, что все экземпляры вновь отпечатанной книги находятся у книгопродавца Юнгмейстера, я, нимало не медля, отнёсся к С.-Петербургскому обер-полицейместеру о запрещении дальнейшего выпуска в свет этого сочинения и об отобрании в том подписки[694], а вместе с тем потребовал от цензора и сочинителя объяснения, которые имея честь приложить при сём в подлиннике, смею обратить благосклонное внимание Вашего Высокопревосходительства на отзыв сего последнего. Не совсем соглашаясь с его теориею в литературе, я считаю долгом свидетельствовать о его благонамеренности, которая видна, впрочем, и из готовности его к перепечатанию на свой счёт указанных ему мест. Дело сие, при принятых уже мною мерах, не представляет никаких дурных последствий, ибо 5-го числа сего месяца только выдан билет на выпуск сей книги, которая ещё не поступила в продажу, и объявление о ней ещё не было сделано, а 20-го числа уже просил я обер-полицеймейстера о запрещении её впредь до дальнейшего решения.
Представляя ныне всё дело, а равно и книгу на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, я буду иметь честь ожидать Вашего по сему решения.
Князь Дондуков-КорсаковОтветом Уваров не замедлил, и уже 25 февраля писал князю Дондукову:
Рассмотрев с особым вниманием донесение Вашего Сиятельства от 23-го февраля, равно и объяснения цензора и самое драматическое сочинение под названием «Янетерской», я убедился, что ничего предосудительнее в печати не могло быть допущено оплошностью цензора, и что предлагаемые изменения[695], на двух особо припечатанных листках изложенные, ни мало не изменяют ряда безнравственных картин, коими наполнена вся вообще трагедия. Относя важную ошибку, сделанную цензором Ольдекопом к нарушению его обязанностей, и к его неспособности постигнуть силу и дух существующих узаконений, я предлагаю Вашему Сиятельству уволить немедленно Ольдекопа от должности цензора с тем, чтобы, вследствие особого Вашего ходатайства, ему дозволено было представить просьбу об увольнении от сей должности. Сверх сего, покорнейше прошу Вас принять неукоснительные меры к истреблению всех имеющихся экземпляров трагедии «Янетерской» и к возвращению чрез посредство автора тех из них, которые были им розданы разным лицам. Если же сочинитель, по выполнении сих условий, ссылаясь на право, приобретённое им чрез соблюдение цензурных форм, будет просить вознаграждение за понесённые при напечатании этой книги убытки, то в таком случае остаётся мне дополнить сие предложение указанием, что, по сему же самому началу, удовлетворения следует автору искать с цензора, а о моих по сему предмету распоряжениях донести Его Императорскому Величеству.
Министр Народного Просвещения С. УваровВо исполнение полученного предложения, Великопольский написал всем восьми лицам, которым успел послать свою трагедию, письма с просьбой возвратить ему экземпляры пьесы. Из них Д. Ю. Струйский, В. А. Каратыгин и Е. А. Егоров ответили Великопольскому, что они не могут отыскать книги; П. А. Корсаков и И. А. Нератов[696] — что они уже отправили её в деревню, Ф. Булгарин сообщил, что книга была доставлена к нему в его отсутствие и что люди затеряли её; В. С. Межевич ответил, что «по особенным причинам» он её уже уничтожил; наконец, Нестор Кукольник писал Ивану Ермолаевичу: «Не смею думать, чтоб она [книга] была украдена, но за слуг нерасторопных и неграмотных не могу отвечать. У меня весь почти Вальтер-Скотт переехал на кухню. Не удивительно, если и Ваше произведение попало туда же вместе с журналами, которых я не читаю. Рассеянность моя приводит меня в отчаяние, тем более, что, прочитав Ваши пьесы, я именно назначил их к сохранению в библиотеке, но, приготовляясь сделать им разбор для себя, — что я делаю с каждою замечательною книгою, — оставил их на верху, между журналами… Примите удостоверение в отличном уважении к прекрасному таланту Вашему».
Немедленно по собрании нужных сведений о количестве, в котором книга была издана (всего было напечатано 720 экземпляров), в Цензурном комитете было сожжено 628 экземпляров[697], о чём и был составлен акт, за подписью цензоров А. В. Никитенко и М. С. Куторги[698].
Вся эта история свалилась на голову Великопольского совершенно неожиданно. Зная его образ мыслей, можно с уверенностью сказать, что он никак не думал и, во всяком случае, не желал в своей трагедии дать, как писал Уваров, «ряда безнравственных картин» (да их, безусловно, и нет во всей пьесе): цель его была самая «благонамеренная» — изобразить несчастную судьбу незаконнорождённого, невинно страдающего и нравственно, и физически. Иван Ермолаевич, желая оправдаться от взведённого на него обвинения в неблаговидном поступке (он полагал сперва, что его обвиняют в незаконном получении разрешения на пропуск книги), написал 28 февраля следующее письмо князю Дондукову:
М. Г. Князь Михайло Александрович! Не знаю, каким образом могла распространиться такая низкая на меня клевета: но в городе идёт молва, и это было говорено третьего дня за каким-то большим обедом, что будто бы я провёл мою пьесу сквозь цензуру обманом. Отношение автора к председателю Цензурного Комитета идёт своим чередом; я теперь пишу к Вам просто, как знакомый. Оскорбление кипит в моей душе; такая клевета могла только идти от человека, не имевшего случая слышать об этом деле прямо от Вас. Вполне уверенный в благородстве всех Ваших слов и действий, я нимало не сомневаюсь, что Вы, будучи единственным человеком, который может снять с меня низкий этот извет, снабдите меня, в ответ на это, письмом, которым бы я мог заставить молчать каждого, осмеливающегося произнести что-либо подобное.
Князь Дондуков удовлетворил просьбу автора и ответил Ивану Ермолаевичу письмом, в котором удостоверял факт вполне законного пропуска его пьесы цензором. Но всё это, как мы видели, ни привело ни к чему, хлопоты и старания Великопольского не имели успеха, — и экземпляры пьесы были уничтожены…
Такая крупная неудача не сломила, однако, энергии Великопольского. Быть может, из той строгости, с которой отнеслись к «Янетерскому», он вывел заключение о могущественном влиянии и большом значении, какое могут иметь на читателей его произведения, а потому и после описанной катастрофы он не только не перестал работать на избранном им поприще бытописателя-драматурга, но отдался излюбленным занятиям с ещё большим усердием. Его «Пёстрый альбом» по-прежнему пополняется наблюдениями, заметками, выписками, соображениями и т. п. для вновь задумываемых пьес. В том же 1841 г. он особенно увлёкся историческими исследованиями скончавшегося в 1839 г. Юрия Венелина. «Меня очень заинтересовал, — писал он Погодину из Петербурга 20 августа 1841 г., — первый том изысканий Венелина: его доказательства о тожестве гуннов и болгар, о россиянах, как старожилах России, и, наконец, прямое наименование Аттилы Царём Русским просто не давали мне покою. Здесь мне вдруг пришла мысль его поверить. Поэтому я перечитал о Гуннах и Аттиле, что мог найти[699] и, признаюсь, отдавая справедливость остроумию покойного Венелина, потерял некоторым образом уважение к его добросовестности. Высказывая такое дерзкое своею оригинальностью мнение, он должен был представить на рассмотрение читателя всё, что есть этому противоречащего, и всё это опровергнуть. А он умолчал, и о чём же? — о сохранившемся описании наружности Аттилы, которое явно свидетельствует о его азиатском происхождении и одно наводит сомнение на всё то, что говорит Венелин. Несмотря на это, в изысканиях его столько ума и деятельности, что всё это можно теперь назвать загадкою. Изучив таким образом Аттилу в его характере и деяниях, я (грешен) вздумал написать историческую драму, в которой <хочу> развернуть, между прочим, мой взгляд на то, что я понимаю под историческою драмою. Из этой горы может родиться мышь, но вы всё-таки не откажетесь помочь мне, в чём можете. А мне нужно, чтобы вы указали мне только на источник, откуда Венелин почерпнул известие о том, что Аттила подступал к стенам Рима и что папа Лев Святой поднёс ему скипетр обладания миром. У Венелина это в первом томе на странице 242-й. Я нигде об этом не нашёл. Гиббон решительно говорит, что Аттила не доходил до Рима, указывая на место свидания его с папою — близ Мантуи. Я предполагаю, что это должно быть одно из сказочных известий историков венгерских; но фреска Рафаэля, представляющая (сколько мне известно) папу выезжающим на встречу Аттиле из врат Рима, служит некоторым доказательством о существовании подобного предания. Сам папа Лев Святой упоминает об Аттиле только вскользь, в одном своём письме, которого мне не случилось ещё видеть. Между тем это обстоятельство очень важно для драмы. Напишите строчку, но сделайте одолжение — с первою почтою. Не думайте, чтобы я вслед за Венелиным вздумал представить Аттилу Русским царём: нет, пусть это останется в драме загадкою, как в истории»[700]. Не знаем, отвечал ли Погодин Великопольскому; знаем только, что драма с сюжетом из жизни Аттилы осталась лишь в области многочисленных литературных предположений нашего писателя.
С этого времени излюбленные занятия Великопольского отходят на задний план. Он начинает дело, сулившее ему громадные барыши, но в действительности совершенно разорившее его: это был новый способ обработки льна и других прядильных растений, о котором мы скажем подробнее несколько ниже, покончив обозрение литературных трудов Ивана Ермолаевича. Итак, на этот раз только после долгого промежутка[701] наш писатель снова выступил перед публикой; на этот раз он появился со своим произведением на сцене Александринского театра: 28 апреля 1848 г., в бенефис режиссёра Н. И. Куликова, была дана «Память Бородинской битвы, сельская картина 1839 года, сочинение, современное торжеству открытия Бородинского памятника… с хором, преобразующим [!] общий народный голос (музыка соч. г. Кажинского)».
Содержание этой «картины» состояло в следующем[702].
«Отставной унтер-офицер Илья Степанов, потерявший руку под Бородиным, живёт в деревне с своим семейством, то есть с дочерью Аннушкою, матерью, братом и невесткою. Рассказы о подвигах русских воинов в 1812 году составляют первую его страсть, а как он грамотный, то и читает всякий день историю этой знаменитой кампании, которую он даже выучил наизусть. За дочь его сватаются двое. Один — богатый целовальник, а другой — молодой бедный парень. Аннушка любит последнего. Отец склоняется в пользу богача, но бедняк придумывает самую удачную хитрость. В день ангела отца своей возлюбленной он составляет для него сюрприз, представляя ему на лугу из простынь, досок и флагов всё Бородинское сражение, о котором рассказ тоже выучил из книги. Это до того восхищает старого инвалида, что он выдаёт дочь свою за бедняка и благословляет их. В заключение сходятся крестьяне и поют хор», написанный на музыку известного в своё время композитора Виктора Кажинского. Пьеса написана была Великопольским в 1839 г. под впечатлением торжества открытия памятника на месте Бородинской битвы. Иван Ермолаевич присутствовал на этом торжестве; он видел устроенный на поле Бородинском временный театр, но с грустью узнал, что никто из писателей русских «не осмеливался принять из рук Музы театра перо, которое она держала». «Автор пьесы „Память Бородинской битвы“, — говорит Великопольский, — побуждённый минутою, взял это перо, не с тою дерзостию, которая заставляет иногда слишком надеяться на свои силы, но с тем увлечением, которое невольно порождается минутою»[703].
Несмотря на это восторженное увлечение, находясь в котором Великопольский написал пьесу всего в три дня, она вышла неудачною и не понравилась публике, которая встретила её холодно, а мнения критиков были диаметрально противоположны. Рецензент «Северной пчелы» Р. 3. (P. М. Зотов) находил, например, что в пьесе этой пьесы, собственно, нет, то есть нет завязки и развязки, чем и объяснял то равнодушие, с которым она была принята публикой. Однако, отметив несколько ошибок в изложении фактов, он находил, что автор «очень хорошо схватил главные черты сельского быта», главную же заслугу его видел в том, «что он бойким и живым рассказом возобновил в памяти зрителей великие события исполинской битвы». Критик «Пантеона»[704] был более строг к нашему автору, обвиняя его пьесу в неестественности, натяжках, ошибках и тому подобном и вообще не одобряя самой её идеи. Совершенно обратного мнения был издатель «Литературной газеты» В. Р. Зотов. В августе того же года он уделил на страницах своего издания место не только обширному «Опыту оправдания „Памяти Бородинской битвы“»[705] и самой пьесе[706], но даже снабдил первый очень лестным для нашего автора примечанием[707]. «И. Е. Великопольский, — говорил он, — принадлежит к числу тех немногих писателей, о которых сожалеешь, что они не исключительно занимаются литературою. Конечно, другие занятия от этого выигрывают, но литература во всяком случае теряет. Давно уже имя г. Великопольского, в возмужалой эпохе своей литературной деятельности взявшего псевдоним „Ивельев“, не появлялось в печати. В апреле нынешнего года явилась на Александринской сцене его пьеса „Память Бородинской битвы“. Она показалась нам до того замечательной, не только в сценическом, но и в литературном отношении, что мы с удовольствием напечатаем и в следующих же нумерах нашей газеты. Предлагаемая теперь статья составляет объяснение этой пьесы и ответ на рецензии её, помещённые в некоторых журналах. Это не чисто критическая статья, потому что в ней изложены многие идеи автора о драме и сценическом искусстве. Надеемся со временем представить нашим читателям ещё одну пьесу г. Великопольского, не игранную, и очерк литературной деятельности этого талантливого писателя, который в особенности замечателен в истории русской литературы новым и оригинальным взглядом на сценическое искусство»[708].
Статья Великопольского, в которой он оправдывался от нападок критиков «Северной пчелы» и «Пантеона», была выпущена им и в отдельных оттисках[709], ввиду повторения пьесы на сцене в том же году, с тою целью, «чтобы располагающие быть в спектакле 26-го августа могли, предварительным обсуждением взглядов автора и его критиков, составить себе верное понятие о представлении, которого будут зрителями». Здесь же он старался доказать, что «блистательный переворот славной для России войны 1812 года произошёл не от случая, как то ещё полагают многие, но был неоспоримым следствием плана, глубоко соображенного и заранее обдуманного великим русским полководцем».
После спектакля 26 августа, в годовщину Бородина, пьеса была поставлена всего ещё один раз и с тех пор навсегда сошла с репертуара. Успеху её не посодействовало и то обстоятельство, что исполнителями в ней ролей явились В. А. Каратыгин, П. И. Григорьев 1-й, В. М. Самойлов, А. Е. Мартынов и Е. Я. Сосницкая[710].
В то время как Великопольский был занят постановкой на сцену, а затем защитой своей «сельской картины», он уже работал над новым произведением — «высокой», как он назвал её, комедией в пяти действиях «Мир слепых». Эта пьеса была любимым детищем Ивана Ермолаевича, для которого он уже давно собирал материалы и обдумывал план: так, в «Пёстром альбоме» уже с 1843 г. встречаются заметки к драме «Слепые»; вот некоторые из них: «Слепому все кажутся в том виде, как были тогда, когда он был ещё зрячим». — «Любопытно знать, как представляет себе человека слепой от рождения?» — «Представить двух слепых: одного слепого от рождения, другого — ослепшего в юности. Их разговоры. Последний рассказывает первому о красоте человека, о красоте женской. Понятие первого о человеке. Нос очень пугает слепого от рождения: он представляет себе его уродством». — «Сюжетом драмы „Слепые“ сделать то, что молодой человек любил и был любим — и вдруг ослеп. Девушка за него не вышла… Под старость он на ней женится. Слепой же от рождения именно не женится потому, что нос представляется ему уродством». — «Слепому возвращают зрение, и он приходит в отчаяние, увидев все предметы не в том виде, как они ему представлялись» и т. д.
Принявшись за разработку намеченных вопросов и соображений, Великопольский опять, как и раньше, запутался в мелочах и подробностях, и в результате дал произведение, быть может, самое курьёзное из всех других его творений. Он вывел на сцену четырёх слепых: Владимирова («характер возвышенный»), Тизо («пустой, но возвышенный»), Ежа («злой и отвратительный»), Нищего, «воссылающего к Богу благодарность за своё несчастие», и одного глухого. Владимиров, слепой от рождения, живёт в доме некоего Прибрежного, исполняя обязанности учителя его шестнадцатилетней дочери Вареньки; она неравнодушна к слепому, в котором уважает ум и высокие душевные качества; брат её Михаил, по прозванию Ёж, также слепец, ненавидит Владимирова. С Прибрежными знакомится некто Тизо, слепой музыкант-тапёр, бывший прежде прекрасным живописцем; в дом их вводит его невестка Прибрежного, но слепец сперва не знает, что она — та самая Маша, в которую в молодости он был влюблён, но за которого она не вышла потому, что была сосватана за другого. Теперь же, спустя четырнадцать лет и уже овдовев, она решается выйти за него замуж, предварительно убедившись в том, что Тизо можно вылечить от слепоты; тот в восторге от своего счастья, они обвенчиваются, и Тизо действительно вновь получает зрение. Но тут начинаются его разочарования. «Маша моя, — говорит Тизо Владимирову про свою жену, — не та, какою была прежде… Теперь это чудное наливное прежде личико уже носит начатки морщин. Она всё ещё хороша, но художник не найдёт в ней того невыразимого создания, которое, едва вступив в свою весну, является восторженному юноше в виде существа, обитающего в лучах зари. Глаза её, всё ещё так же светлые, окружены впалыми синеватыми рамками. Дивное отражение розы заменено таинственно румянами… Но всего более поразило меня изменение её маленького, обаятельного прежде носика[711] в какой-то… не уродливый… но придающий ей совершенно другую наружность. Одна минута, которой я ожидал с таким нетерпением, как высшей благодати, разрушила очарование 14 лет, проведённых мною без Божьего света». «Не касайся меня такое зрение!» — в ужасе восклицает Владимиров, создавший уже в своём воображении образ Вареньки, в котором ему было бы страшно разочароваться.
Эта странная фабула донельзя запутана разными отступлениями, длинными монологами действующих лиц, устами которых автор непременно хочет поделиться с читателями своими знаниями, наблюдениями и совершенно не идущими к делу отклонениями от темы, вплетёнными им в пьесу всё с тою же целью. В его комедии мы находим целые рассуждения из области физики, психологии, краниологии, медицины, обоснованные на сочинениях Каруса, Юнкена, Пулье, Descuret, Кленке, Кабаниса, Деппинга, Вольтера, Дидро и т. д., и т. д. Пьеса представляет из себя смесь глубокомысленных рассуждений, явившихся, очевидно, плодом долгой работы и размышлений автора, со смешными по своей нелепости сценами и комичными подробностями. Так, например, Великопольский заставляет говорить слепого Тизо с глухим вожатым следующим образом: Тизо, топнув, чтобы обратить на себя внимание, упирает палку себе в грудь; а Гаврилков (глухой) берёт другой её конец в рот — и так выслушивает вопросы Тизо; «таким образом, — говорит Великопольский в примечании, — если не повреждена слуховая улитка, могут явственно слышать, по передающемуся сотрясению, некоторые глухие, на которых не действуют даже самые сильные звуки („Начальное основание физиологии человеческого тела“, соч. Валентина). Владимиров, желая узнать поближе Тизо, говорит ему: „Дай прежде слепцу-краниологу познакомиться с тобою по своей науке“ и затем „ощупывая его череп“, говорит: „Лоб не обширный, но возвышенный по средине. Средняя часть черепа развита более прочих. Следовательно справедливо, что ты художник, а малое образование ушного позвонка, действительно, не свидетельствует о музыкальных способностях“» и т. д. ещё на полстранице, с постоянными ссылками на «Основания краниологии» Каруса. С тем же глухим Гаврилковым Тизо иногда объясняется знаками глухонемых. В одной сцене Варенька, в лунатизме, одетая в белую ночную блузу, заходит в комнату Владимирова в то время, как он поёт гимн Богу, аккомпанируя себе на арфе. Некоторые сцены, например дуэли на пистолетах между Владимировым и Тизо (слепцами!), грубо-комичны. Можно себе вообразить поэтому, что было бы со зрителями, если бы они увидели всё это на сцене![712]
Мы несколько подробнее остановились на «Мире слепых» как по тому значению, которое ему придавал сам автор (он переделывал его много раз и закончил лишь в 1857 г.), вложивший в него все свои знания и всё искусство, так и потому, что в бумагах Ивана Ермолаевича мы нашли целый лист замечаний на эту пьесу, сделанных старинным знакомцем Великопольского С. Т. Аксаковым. Приводим как письмо его, так и замечания[713].
15 февраля <1853 г.>
Я получил оба Ваши письма, любезнейший Иван Ермолаич! Очень рад, что Вы проводите масленицу в Москве. Желаю Вам, почтеннейшей Софье Матвеевне и Вашей милой дочери провести приятно время. Мы, слава Богу, живём по-прежнему; я продолжаю постоянно заниматься моими скромными трудами. Прилагаю Вам биографию Загоскина, изуродованную ценсором и типографией[714]. Прощайте! Обнимаю Вас. Ваш С. Аксаков.
Начинаю мои замечания с того, что прописи[715] Вас увлекают. Для читателей они точно дополняют драматичность, а для зрителей не могут быть выражены мимикой. Надобно, чтобы смысл прописей истекал из слов, из положения лиц.
№ 1. Щавельской[716] мог сказать такое неприличное предложение; но Притекин[717] не мог его одобрить: это человек с душой, понимающий оскорбительность этой выходки, особенно после всего рассказанного слепым Тизо.
№ 2. Вся сцена с венком, по-моему, не годится. Во-первых, потому, что все церемонии, до которых охотники французы, русскому человеку смешны[718]. Во-вторых, для увенчания венком Гомера и Мильтона надобно, чтоб стихи были гораздо лучше. Я заметил в них много выражений неправильных, напыщенных и не нахожу — прошу не сердиться — поэтического одушевления.
№ 3. После чтения вдохновенных, по ходу и смыслу сцены, стихов такое предложение — гадко со стороны Притекина[719].
№ 4. Какие же это земные и неземные жилища у мечты? Жилище мечты — воображение, следовательно — духовное. Можно мечтать о земном или о духовном, — это дело другое.
№ 5. Владимиров не мог поверить увёртке Тизо: слепые особенно понимают звуки, тоны. По естественному ходу сцены, Тизо должен был сказать правду.
№ 6. Эту молитву[720], по-моему, надо написать прозой! Простота и естественность, действительность её, так сказать, после лирической песни были бы поразительны и чувствительны для зрителей. Впрочем, это моё личное мнение.
№ 7. Даже подозрение слишком поспешно, а здесь уже является уверенность. Вот если бы Владимиров не поверил увёртке Тизо и выразил для зрителей, что не верит ему, тогда бы теперешняя уверенность в обмане была бы естественна.
№ 8. Вся эта сцена не достойна Владимирова, этого высокого существа, каким автор хотел сначала его представить. Он мог пожелать удостовериться в своём нещастии — и только. Тут нет ни измены, ни вероломства. Владимиров должен был сейчас догадаться, что эта женщина — та самая, которая давно любила Тизо: за что же гневаться? Он мог только страдать, но драться… фи! весь характер его погиб[721].
№ 9. Мысль о дуэли нелепа для такого умного и нравственного человека, как Владимиров; а его ругательства и самохвальство становят его ниже Легкого[722].
№ 10. Ну может ли добрый отец свою дочь, невинную, слишком молодую дочь, ставить на очные ставки с служанками? Положим, что подозрение могло закрасться в сердце отца (чего не должно быть); но открывать истину он будет наедине с дочерью[723].
№11. Если уже дозволить Владимирову мысль о дуэли, для которой нет причин, то мысль эта должна была уничтожиться его сознанием и раскаянием.
Вот вам мои частные замечания; их немало, если соединить с замечаниями, сделанными в самой рукописи. Общее заключение, лично моё, состоит в том, что «Мир слепых» может иметь место в художественных произведениях и даже на сцене, хотя многие не согласятся со мной. Ваша пьеса, имея свои достоинства, не удовлетворяет меня. Восторженность главного лица, то есть Владимирова, сначала лишает его достоинств действительности, а потом — так противоречит с его ни на чём не основанною ревностью и злобой, что такая непоследовательность бросается в глаза всякому[724]. Мысль же о дуэли и исполнение такой мысли лишает его достоинства умного человека. В нём уже нельзя принимать участия, — и весь интерес пьесы уничтожается. Его набожность — чисто поэтическая; во всех его поступках нет признака верующего христианина. Тизо исправить не трудно, но Владимирова надо создать вновь. Я нахожу положение Тизо, забывшего время и не нашедшего прежнего образа милой женщины, — поэтичным и драматичным; новая любовь или склонность[725], конечно, — скоренька, но она возможна, и драматичность положения увеличивается. Желая быть верным действительной жизни, Вы делаете иногда слепых смешными и допускаете других смеяться над ними; по-моему это не нужно. Не над всеми, не всегда и не все смеются над слепыми. В этом нет необходимости. Выводя вдруг четырёх слепых, Вы и так подвергаетесь опасности, что это покажется смешно для зрителей, а Ваша цель — возбудить к ним живое участие.
Мнение Аксакова не возымело действия, и в 1857 г. Великопольский представил свою любимую комедию на конкурс только что учреждённой Уваровской премии, скрыв своё имя в запечатанном конверте с девизом «Все музы сёстры и живут семейством». Комиссия по присуждению наград графа Уварова, собравшись 15 июня 1857 г., постановила разбор комедии Великопольского поручить В. И. Далю, но он под благовидным предлогом от рецензирования отказался, ответив непременному секретарю академии следующим письмом:
Милостивый Государь. Оценяя доверенность г. академиков, желающих поручить мне разбор комедии «Мир слепых», представленной на соискание Уваровской награды, я, однако же, как по совести, так и по обстоятельствам, должен от части этой отказаться.
По совести, потому что не признаю в себе достаточных на дело это способностей: я не критик, и разбор этот легко бы вышел односторонним, что было бы несогласно с положением учредителя и с достоинством Академии. К сожалению, этому бывали примеры, ещё более меня напугавшие, — например, разбор словаря Павлова, представленного на Демидовскую награду. По обстоятельствам — за недосугом. Я получил рукопись сегодня, 3 июля; к 1 августа разбор должен быть уже на месте, а между тем я только что возвратился из поездки по губернии, должен кончить множество дел, ожидавших моего прибытия, и снова ехать.
По сим причинам, прошу снисхождения Академии и Вашего. Рукопись при сём имею честь возвратить. Покорнейше прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности моей.
3 июля 1857 г. Нижний. №10[726]
В. ДальПосле отказа Даля академия 15 июля обратилась с тою же просьбою к Аполлону Николаевичу Майкову; однако Великопольский и здесь потерпел неудачу: премия не была ему присуждена…
Следуя хронологическому порядку изложения, нам надлежит сказать теперь о сочинении Ивана Ермолаевича, которое он издал в 1854 г. под инициалами И. Е. В.: «Русское чувство, драматическая фантазия, по поводу репетиции на Петербургской сцене представления „Морской праздник в Севастополе“», причём выручка от продажи 1000 экземпляров этой пьесы была назначена автором «на патриотическое употребление». Успех на александринской сцене «Морского праздника в Севастополе», написанного Н. В. Кукольником, подал Великопольскому «мысль о возможности написать пьесу в том же патриотическом роде и по отношению к тому же событию (Синопскому бою. — Б. М.), но в совершенно других очерках, перенеся сцену в закулисный быт, а потому не впадая в повторение. Завязки, собственно так называемой, тут и ожидать не должно. Всякая драматическая интрига, введённая для неё в пьесу, отвлекла бы только от главной цели — прославления торжеств русского оружия»[727].
«Вывести действующими лицами самих актёров, — говорит он далее, — есть мысль совершенно новая в драматическом искусстве[728], но это не может помешать представлению, потому что всё в пьесе служит им к чести. Притом, хотя каждый из них выведен на сцену собственным своим лицом, но всё-таки исполняет роль, данную ему в пьесе, действует по указанию и говорит словами автора».
Сцена в «Русском чувстве» представляет собою кулисы Александринского театра, где собрались, для репетиции «Морского праздника в Севастополе» и других репетиций, одновременно с нею назначенных, артисты В. С. Самойлов, А. М. Читау, Н. И. Подобедова, П. И. Григорьев 1-й, А. М. Максимов 1-й, Е. Я. Сосницкая, П. И. Орлова, Г. Н. Жулев, П. Г. Григорьев 2-й, П. А. Каратыгин, П. П. Булахов, А. Е. Мартынов, Л. П. Фалеев, солдаты-статисты, хористы, певцы, а также «проведённый на сцене под видом статиста, по любопытству видеть представление Синопского сражения», унтер-офицер Балтийского флота Боченков. Артисты разговаривают между собою о том о сём; А. М. Читау между тем говорит, что в представление «Морского праздника» ей хотелось бы вставить одну сцену, «которая не выходит у неё из головы». П. И. Григорьев 1-й говорит, что просить автора о вставке этой сцены в пьесу уже поздно, и предлагает её сымпровизировать. Каратыгин одобряет мысль, Читау приглашает для импровизации Самойлова, Максимова, Орлову и Сосницкую, и они вместе разыгрывают сцену, дополнительную к «Морскому празднику»: проводы моряка Ипполита на войну и прощание с ним его невесты и её отца, обещающего выдать за него дочь только в том случае, если он вернётся «с Георгием или весь израненный». После этой сцены, разыгранной экспромтом, артисты продолжают между собой беседовать по поводу совершающихся военных событий, наполняющих их патриотическим воодушевлением и восторгом при чтении новых стихов, посвящённых прославлению военных подвигов русских в Крыму, и при пении солдатских и матросских песен. В это время вбегает Г. Н. Жулев и сообщает известие о новой победе подполковника Огарева над кокандцами у форта Перовский; все кричат «ура!» и бегут смотреть на то, как несут взятые у неприятеля турецкие знамёна. Второе действие всё занято кантатою «Молитва русского народа». Однако пьеса эта, которая могла бы понравиться публике, находившейся тогда в восторженном настроении по случаю наших побед, красноречиво описывавшихся на страницах «Северной пчелы», не была поставлена на сцене. «Дозволение цензуры на представление пьесы, — говорит Великопольский, — вышло перед самою масленицею, а потому, по отзыву Дирекции, не было уже времени изучить и поставить её не только вполне, но даже и в отрывке последних сцен, как имелось в виду»[729].
Литературную деятельность свою Великопольский думал заключить изданием в 1859 г. сборника своих сочинений, вышедшего под вычурным заглавием: «„Раскрытый портфель“: выдержки из „сшитых тетрадей“ автора, не желающего объявлять своего имени. Первый отдельный выпуск. Издание „Любителя“»[730] (СПб., 1859). Долго останавливаться на нём нам не приходится, так как о некоторых помещённых там пьесах мы говорили уже выше. Скажем только, что в него вошли, кроме двадцати стихотворений Великопольского, статья его «О творчестве в искусстве» (из предисловия к трилогии «Часы с флейтой»[731]); «Нимфодора», простонародная русская повесть в стихах (1825); «Чудо Перуна», лирическое представление в двух частях. Часть 1-я: «Заряна»[732]; «Отрывки из драматической фантазии-ералаж: „Приключение знаменитого артиста, или Недоконченный бенефис одного из первых любимцев публики“. Предварительные понятия о пьесе, Примечание об Ихтиосавре и Бовании, Отрывок первый (Родослон и Красавица) и Отрывок второй (Цветы и деньги, Идиллия)».
Издавая «Раскрытый портфель», Великопольский хотел, так сказать, подвести итог своей «40-летней литературной деятельности, естественно переходившей от юности к летам возмужалым, от незрелости и соединённой с ней неопределённости, — к опыту и сознанию. Цель эта, — говорилось далее в предисловии издателя, — очень понятна в сочинителе, как человеке, уже пережившем 60 лет, в особенности при обстоятельствах, в которые поставили его исключительные случаи жизни, отчуждив в последнее время от всего, что составляет наслаждение в искусстве и фантазии, и, следовательно, оставив для него в литературе одно прошедшее. Это душевное состояние так ярко выражено в стихотворениях „Мечта о поминках“ и „Я умер“, а также в христианском чувстве преложения молитвы: „Господи и Владыко живота моего“, обличающей минуты умилительного обращения души к Подателю сил в борьбе с судьбою, начавшейся для автора ещё с первых лет молодости, что они помещаются в этом первом выпуске „Раскрытого портфеля“ с особенною целью: с первого же раза ознакомить с некоторыми данными касательно сочинителя…»[733]. Там же говорилось, что в том случае, если «первый выпуск „Раскрытого портфеля“ будет принят публикою одобрительно, то может ещё выйти четыре и более…». Но приём книги оказался более чем неблагоприятен: оба известные нам разбора: в «Русском слове»[734] и «Современнике»[735] — представляют из себя сплошную насмешку над произведениями нашего автора, имя которого, кажется, действительно осталось неизвестно критикам. Более всего насмешек вызвали «Отрывки из драматической фантазии-ералаж: „Приключение знаменитого артиста, или Недоконченный бенефис одного из первых любимцев публики“»[736]; по определению Великопольского, это не что иное, как «своенравие творчества, литературная забава», «сон и явь, смесь обыденной жизни, волшебства, мелодрамы, водевиля, оперы, фарса, идиллии, комедии, концерта, балета, пляски, декламации, стихов и прозы, с таинственным окончанием пьесы — возрождением ихтиосавра». Суть фантазии в том, что актёр Дмитриев (в рукописи А. Е. Мартынов), который должен играть в свой бенефис, засыпает, выпив слишком много шампанского, и видит во сне всякие небылицы, попадает в волшебные страны и т. д. Критик «Современника» выставил всю пьесу в шутовском виде, которого, строго говоря, она, быть может, и не заслуживает: это просто фантазия, вполне допустимая, а в некоторых местах остроумная и с очень недурными стихами. Романтическая повесть «Нимфодора», написанная в 1825 г., рассказывает печальную судьбу двух любовников, перед самым венцом разлучённых злодеем, отвергнутым прежде Нимфодорою, которая, убив его, сходит с ума, а жених её идёт в монахи. Не всегда удачные стихи мешают общему хорошему впечатлению от повести. Дидактическая трилогия «Часы с флейтой», написанная в 1828 г., представлена в сборнике лишь первым действием; она по своим качествам стоит гораздо выше всех других пьес Великопольского и по мысли, и по изложению, и по подробностям. Однако, как видно по пометке на рукописи, представленной в Театрально-литературный комитет в 1865 г., пьеса не была им одобрена к представлению, так как не могла понравиться публике: в ней нет завязки, а это просто печальная повесть о тленности земного счастья и его кратковременности, повесть, вставленная в излюбленные Великопольским рамки драматического произведения. Приведём отзыв о ней из Журнала Театрально-литературного комитета от 11 декабря 1865 г. за № 39: «Вся пьеса состоит из размышлений и рассуждений действующих лиц о том, что всё живущее умирает. Они постоянно горюют об умерших. В I акте старик и старуха с грустью вспоминают о лицах, им близких, похищенных смертью. Во II акте[737] — старик и старуха уже умерли, а их дочь и зять горюют о их смерти, а вместе с тем этот зять опасается, чтоб не умерла его жена, которая уже страдает какою-то болезнью. В III акте[738] жена уже умерла, а муж — в отчаянии, чуть не в помешательстве по поводу её смерти и сам уже совсем готов умереть. В продолжение всех трёх актов бьют стенные часы с флейтой[739], и сидящая возле них дурочка, после каждого боя часов, приговаривает: „А часы идут“. Посредством участия этих часов автор хотел выразить мысль о беспощадной настойчивости времени, в полёте своём сокрушающего всё живущее. Пьеса не имеет драматического, ни даже сценического интереса. По этим основаниям пьеса не может быть одобрена к представлению».
Одновременно с этой пьесой Иваном Ермолаевичем была представлена в Театральный комитет и другая: «Мечта и действительность, фантастическая драма в 5 действиях, основанная на германском поверье» (СПб., 1865). Не имев возможности ознакомиться с нею[740], мы должны ограничиться приведением выписки из того же Журнала Театрально-литературного комитета: «Содержание этой пьесы основано на немецком предании, мало известном в самой Германии и совершенно не интересном для русской публики. Самая завязка неестественна, потому что человек, живущий два месяца в одном семействе в качестве распорядителя делами и домашнего друга, не мог не знать, что меньшая дочь хозяйки дома два года назад умерла. Неестественно и то, чтобы он, любя два месяца девушку, которую видит очень часто, не сказал ей ни одного слова, не слыхал даже её голоса. По этим причинам драма не может ожидать никакого успеха на сцене, а потому и не одобряется к представлению…»
Таково было заключение критики о последнем произведении нашего автора, который не терял веры в своё призвание драматурга и не складывал оружия, несмотря на столько неудач, на свой преклонный возраст (в это время ему было уже 68 лет) и на целую цепь годов, исполненных для него тяжёлой борьбы с несчастьями.
Мы уже упоминали выше, что в 1842 г. Великопольский начал большое дело по вопросу о новом — простом, но необыкновенно доходном — ручном (мяльно-толчейном) способе обработки и подготовления к пряже волокон прядильных растений — льна и преимущественно пеньки; принадлежавший ему секрет этого нового способа обещал ему большие выгоды, которые он рассчитывал получить, добившись в правительственных сферах признания его выгодности и полезности[741].
Изобретателем этого способа был московский мещанин Пётр Иванович Игнатьев (ум. 13 августа 1846 г.). Последний в 1841 г. показывал свой способ в Удельном земледельческом училище, получил одобрение от директора М. А. Байкова, а в 1842 г. произвёл опыты обработки перед комиссиею, назначенной от Учёного комитета Министерства государственных имуществ под председательством члена его А. П. Заблоцкого-Десятовского, — и также получил одобрение. В 1843 г. с Игнатьевым встретился Иван Ермолаевич, который и купил у него секрет открытия за 1000 рублей; начав работать над его улучшением, он вскоре значительно усовершенствовал способ обработки благодаря разным новым приспособлениям в устройстве орудия и в 1845 г. подал о нём записку в Вольное экономическое общество, которое поручило рассмотрение его председателю Учёного отделения общества, тогда инспектору Технологического института Ал. Петр. Максимовичу. Как Максимович, так и директор Удельного земледельческого училища Байков, исследовавший способ по поручению министра внутренних дел и товарища министра уделов, дали об изобретении Великопольского самые лестные отзывы, найдя способ его крайне простым, лёгким, чрезвычайно выгодным как для помещиков, так и для крестьян и заслуживающим всякого поощрения и возможно широкого распространения; к такому же заключению пришли: в 1846 г. — образованная по распоряжению графа П. Д. Киселёва особая секретная комиссия из одного члена Учёного комитета Министерства государственных имуществ (барона Герм. Карл. Дальвица) и Вольного экономического общества (А. П. Максимовича и самого вице-президента этого общества действительного тайного советника князя Вас. Вас. Долгорукова), а в 1848 г. — высочайше утверждённая комиссия из представителей министерств: военного, государственных имуществ, уделов и финансов[742]. Ввиду всего этого совет Вольно-экономического общества[743] отнёсся циркулярным извещением ко всем лицам, могшим иметь, «по разным отношениям, влияние на введение во всей России нового способа Великопольского, — с целью обратить на предприятие ближайшее их внимание и приобрести распространению способа попечительное их содействие». Министерство внутренних дел, со своей стороны, дозволило Великопольскому открыть на льготных условиях в Петербурге особую контору, а другие министерства обещали оказать предприятию всевозможное содействие. Одно время даже был поднят вопрос о приобретении секрета этого полезного способа в государственную собственность для наивозможно широкого его распространения, но затем, высочайшим повелением от 15 ноября 1848 г., решено было выдать Великопольскому безвозвратную ссуду (15 000 руб. сер.) и административные льготы для успешного ведения предприятия и назначить в Александровской мануфактуре опыты в присутствии депутатов от заинтересованных министерств; испытание это, состоявшееся лишь в 1850 г., дало самые лучшие результаты. Между тем как денежные дела Великопольского, от долгой волокиты дела и сопряжённых с нею издержек, приходили постепенно в упадок, а он всё не мог получить от казны обещанных на ведение дела 15 000 рублей, в 1852 г., ввиду новых усовершенствований, введённых им в машину, при Экономическом обществе, по высочайшему повелению от 8 января, была образована для производства дополнительных опытов новая комиссия из представителей трёх министерств, под председательством вице-президента общества князя В. В. Долгорукова; последнему предоставлено было главное руководительство делами предприятия Великопольского, который, однако, не мог получить от министерских канцелярий ничего, кроме одобрительных отзывов и обещаний содействия ему. Князь Долгоруков, не видя способов поправить запутавшееся по департаментам дело и облегчить денежное положение Великопольского, которому уже грозила продажа с молотка имений его и жены, внёс ходатайство о нём (уже в 1854 г.) в Комитет министров; здесь дело, несмотря на всю железную энергию и настойчивость Ивана Ермолаевича, тянулось опять два года и окончилось решением: назначить новую (уже девятую!) комиссию для рассмотрения способа и, в случае признания его полезным (что уже было признано восемь раз), предоставить ему право взять привилегию (это он мог сделать уже с 1843 г.) в установленном порядке или уступить его правительству за известную сумму. Истерзанный нравственно и уже доведённый почти до нищеты, Иван Ермолаевич добивался рассмотрения своего дела в Сенате, о чём и просил в 1857 г. В 1858 г. дело его, по высочайшему повелению, было снова пересмотрено, в следующем году Великопольский взял привилегию на десять лет, а затем представил в Сенат составленный им план распространения его изобретения; по этому плану он предполагал, продавая, до истечения срока своей привилегии, свидетельства на право употребления своего способа, войти в соглашение с одним или несколькими благотворительными учреждениями о розыгрыше, в дозволенных им лотереях, премий в деньгах и вещах. Не получив со стороны Сената возражений на свой план, он в декабре 1860 г. заключил договор с советом лютеранской церкви св. Петра в Петергофе на два розыгрыша. Добившись этого, Великопольский воспрянул духом и повёл дело с присущею ему энергиею, не ослабевшею несмотря на двадцать лет борьбы и неудач. С 1861 г. снова открылась его контора, появились агенты во всех городах России и началась продажа свидетельств на право узнать секрет способа на льготных и заманчивых условиях: из двух таких свидетельств (с чётным и нечётным номером) имевший их выигрывал непременно на одно в денежной премии не менее цены свидетельства и в вещевых премиях — на счастье; кроме того, были ещё и условные выигрыши; всё дело было построено на строгом математическом расчёте (Великопольский довольствовался ничтожным процентом прибыли) и велось безукоризненно честно: он добился даже назначения особой официальной комиссии от четырёх ведомств для ревизования его конторы каждые три месяца с опубликованием журналов её во всеобщее сведение и, кроме того, предоставил губернскому правлению право ревизовать её во всякое время[744].
Будучи так обставлено, дело пошло успешно[745], и к середине 1862 г. было продано паев уже на сумму около 120 000 рублей, хранившихся в Государственном банке. Казалось, всё шло благополучно, как вдруг, по неизвестным нам побуждениям, в дело вмешался «Главноначальствующий над III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», который погубил окончательно дело и разорил самого Великопольского. Он нашёл, что лотерея в том широком развитии, которое она получила, вышла из границ, предоставленных ей высочайшим повелением, так как-де Великопольский устроил какую-то свою лотерею, независимо от церкви св. Петра. Ивана Ермолаевича обвиняли, кроме того, в будто бы неблаговидных уловках для завлечения доверчивой публики, в неясности его предложений и т. п. Пошла опять бесконечная переписка между III Отделением, Управой благочиния, петербургским военным генерал-губернатором, министерствами внутренних дел и финансов и т. д. Наконец, дело снова дошло до Комитета министров, по представлению которого 6 июля 1862 г. состоялось высочайшее повеление, коим приказано было прекратить дальнейшую раздачу билетов и обязать Великопольского разыграть уже розданные при лотерее церкви св. Петра[746]. Иван Ермолаевич, с присущей ему энергиею, настойчивостью и верою в правоту дела, ходил и просил всюду, где только видел хоть малейшую надежду на то, что его выслушают, примут в соображение его оправдания и признают права. Не добившись ничего, окончательно разорившись[747] и потеряв надежду на поправление самого дела, но желая, по крайней мере, восстановить своё честное, невинно поруганное имя, Великопольский 13 мая 1863 г. подал прошение в Сенат, жалуясь на санкт-петербургского военного генерал-губернатора за запрещение ему продолжать лотерею, разрешённую ему по высочайшему повелению, и на министра внутренних дел за то, что он не исполнил совершенно законного его требования о разрешении произвести при церкви Петра второй розыгрыш (по контракту). По возникшему между сенаторами и министром внутренних дел разноречию, дело Великопольского дошло до общего собрания Сената. Только 2 апреля 1865 г. оно окончилось Высочайшим утверждением решения Сената, признавшего за Великопольским право продолжить его дело. Вследствие этого он 18 октября подал в Сенат на рассмотрение новый план второй лотереи; только 19 мая 1867 г. последнее прошение его было рассмотрено в общей собрании, и за ним было окончательно признано право продолжать свою лотерею (то есть произвести, по договору, второй розыгрыш) и требовать назначения формального исследования по взведённому на него обвинению в учреждении собственной лотереи. Теперь право было признано, но… не было уже никаких средств для продолжения дела. Чукавино, в котором он проживал теперь, уже и раньше много раз чуть не проданное с молотка, но спасённое разными невероятными ухищрениями, было снова назначено в продажу. Вот что, между прочим, писал он про себя в циркулярном воззвании к публике (помеченном: «С.-Петербург, 29-го ноября 1867 г.»)[748]:
В настоящее время, уже при 70-ти годах жизни Великопольского, за решением Общего Собрания первых трёх Департаментов и Департамента Герольдии Правительствующего Сената по предмету продажи лотерейных свидетельств, предстоит ему возобновить свои действия для распространения его, Великопольского, изобретения, на основании прав, уже признанных за ним тем Общим Собранием. Но покуда он получит возможность к тому, бедствия его и семейства достигнут крайних пределов.
В течение 24-х лет дела его и жены его достигли такого положения, что всё имение жены уже назначено к продаже по казённым и частным взысканиям, а многие из кредиторов Великопольского, уже потеряв терпение в ожидании возобновления предприятия и оставив, наконец, всю прежнюю свою снисходительность, домогаются немедленной продажи всего и его имущества. Впереди — позор и самые крайние лишения, а при душевном состоянии жены, долженствующей быть изгнанной из единственного своего убежища, грозят ещё и более ужасные последствия. Между тем иссякли все средства даже к жизни, тогда как и самое возобновление предприятия требует ещё времени и больших предварительных издержек.
О содержании упомянутого решения Сената и о мерах, принимаемых Великопольским по его руководству, изложено им к общему сведению в статье, напечатанной в № 150 газеты «Москва» и № 151 «Петербургского листка», а в № 68 «Тверских Губернских ведомостей», чрез которые всегда поставлялись в известность о ходе этого дела кредиторы, помещено формальное о том объявление.
Безвыходность положения, при истощении всякого кредита, вынуждает Великопольского к шагу, который уже сам собою доказывает крайность и высшую степень отчаяния.
Посредством этого циркулярного обращения, он решается прибегнуть к содействию г. Предводителей Дворянства и Городских Голов, а чрез них и других лиц, которым дорога отечественная польза, доказательно, по 8-ми исследованиям способа, ожидаемая от успеха его предприятия, и сочувствию которых не чужды подобные бедствия человека, употребившего всё лучшее время своей жизни и убившего всё своё состояние на такое важное промышленное дело.
Не скрывая, что настоящее обращение заключается в просьбе о денежной поддержке, Великопольский, для придания ей, сколько возможно, благовидности и для отстранения от неё характера унижающего, присоединяет объявления из № 103 и 141 газеты «Москва», о заблаговременной подписке на две его, уже готовые к изданию, брошюры: «Чудо Перуна» и «27 басен и сказок»[749], с назначением, уже более по обстоятельствам, цены каждой из них по 1 руб. 50 коп., с пересылкою внутри России, прося о наибольшей, и притом самой поспешной, подписке на них.
Мы не знаем, откликнулась ли публика на его призыв, в котором было столько искренности, простоты и непоколебимой веры в своё дело и правоту его. Впрочем, если и нашлись сочувствующие Ивану Ермолаевичу люди, ему скоро сделалась уже не нужна их помощь. Уехав 15 декабря 1867 г. в Чукавино, чтобы отдохнуть в семье[750] после петербургских треволнений и провести в деревенской тишине праздники и день своего рождения, он занялся приведением в порядок своих бумаг и счетов по предприятию и собирал материалы для подачи жалобы в Окружной суд, как суд новый, «скорый, правый и милостивый»; в этом, только что вводившемся тогда, институте он надеялся найти, наконец, своё оправдание. Но и этой мечте его не удалось сбыться: утром 6 февраля 1868 г. Иван Ермолаевич, совершенно здоровый накануне, был найден мёртвым в постели. Девятого числа он был погребён при церкви села Чукавина, где, много лет спустя (7 апреля 1897 г.), с ним рядом легла и жена его, Софья Матвеевна…[751]
Душевное состояние и материальное положение Ивана Ермолаевича, о коем уже с достаточною, кажется, ясностью можно судить по прочтении вышеприведённой грустной повести о его неудачах, ещё ярче обрисовывается из его собственного письма к Погодину, писанного ещё в марте 1852 г. «Я всё ещё пред Вами виноват, — писал он, — но Вы теперь, из самых тесных обстоятельств, вдруг сделались миллионщиком и генералом[752], всё-таки оставшись добрым человеком, — и не требуете с меня. Спасибо Вам! Но этого мало. Я, знаю Ваше сердце, уверен, что при таком внезапном, Богом и царём устроенном обороте Ваших дел Вы не забудете ближнего, измучившегося в неимоверных страданиях, и подадите мне руку помощи. Дело моё идёт хорошо, честью уверяю Вас в том; могу даже показать доказательства, хотя положительный результат также ещё зависит от Бога и Царя. Оно в таком положении, что в нынешнем году я надеюсь быть совершенно обеспечен во всех моих обстоятельствах и вместе с тем обеспечить всех моих кредиторов, с которыми через год или два, может быть, окончательно расплатиться, не без остатки и для себя. Но теперь моё положение самое ужасное. Я в Москве с больною женой. Живу уже месяц. Сегодня последние деньги отдаю бабушке. Нечем ни жить, ни платить доктору, а на днях должна быть консультация. Обратиться совершенно не к кому; у всех много мёду истекает из уст, но мало — из сердца. Помогите мне, если можете, пятьюстами руб. сер., а не можете, — то хоть тремястами. Бога призываю в свидетели, что деньги Ваши не пропадут»[753].
Погодин отвечал уклончиво и в вежливой форме дал отказ. «Сию минуту, поздно вечером, возвратился домой и прочёл Вашу записку, — писал на это Иван Ермолаевич. — Благодарю, что Вы не оставили меня без ответа, но из Вашей записки ясно вижу только то, что Вы не можете ссудить меня деньгами. Извиняюсь же в моей просьбе, но извиняюсь тем, что я обратился не столько к Вашему карману, сколько к Вашему сердцу, потому что карманов много, но без сердец. Притом я вспомнил о Вашей записке ко мне, когда я выиграл 60 000 р. асс., из которых получил 40. Вы тогда находили, что я должен уделить что-нибудь Шафарику, а когда я привёз Вам для него четыреста, то Вы с Ольгой Семёновной Аксаковой находили, что я должен был дать тысячу. Всё это обнадёживало меня, что я не останусь в настоящем моём положении без участия с Вашей стороны. Что касается прочего содержания Вашего письма, то сначала я не разобрал его, а потом сожалел, что разобрал. Вы пишете, что весь медицинский факультет готов приехать на консультацию к дочери Мудрова, что Университет отведёт ей комнату и что Вы уже и писали к некоторым (!!!!), наконец, чтобы я не вступался в это дело, потому что я хотя и прекрасный гражданин, но не сего мира и дел никаких делать не умею. Позвольте, со всею почтительностью, отвечать Вам на это, что за участие благодарю, даровыми посещениями докторов я пользоваться не намерен, тем более, что они этого не любят, а о Мудрове давно забыли, ежели ещё не бранят; что отдавать мою жену в Университетскую больницу я постыжусь, а как вести мои дела, — то знает мой умишко, который советов ни у кого не просит. Конец венчает дело. Пожалуйста, не рассердитесь: не с тем пишу, чтобы огорчить Вас. Но, по прочтении Вашей записки, мне сделалось тошно. Вероятно, она подействовала на желчь, которая в 55 лет легко от таких речей раздражается. Я разорвал на части… К кому из докторов писали Вы? Что Вы писали? Кто просил Вас о том? Это удивляет и оскорбляет меня. Конечно, это легче, нежели дать денег, но такая непросимая услуга хуже, нежели отказ в деньгах»[754].
На другой день, поуспокоившись немного, Иван Ермолаевич написал Погодину другое письмо, в котором говорил следующее: «Вчера я отвечал на Вашу записку словом „благодарю“, потому что другого нечего было отвечать; но как она содержит сильное негодование на дух, в котором было последнее моё письмо, то я сейчас перечитал первое, от Вас полученное. Вот, после сорока восьми часов я и хладнокровнее; а всё-таки скажу, что нельзя было принять Ваших слов равнодушно. В моём положении они почти насмешка, а в мои лета — глубокое оскорбление. Притом, не мало не сомневаясь в участии душевном, я искал того участия делом, о котором Вы пишете. Неужели оно состоит в намерении написать к Страхову[755] и Гульковскому. Обращаясь к Вашей справедливости, я пишу эту записку, с целью остаться с Вами в прежних отношениях, в которых до сего времени не проходило ни одного облачка. Между тем моё положение делается с каждым часом ужаснее. После Вас моя надежда была на управляющего здешнею Комиссариатскою Комиссиею — генерала Щулепникова, служившего юнкером у меня в роте. Вчера хотел писать к нему — и вдруг узнаю, что он — в холере. Его жаль душевно, и моё в этом видно особое несчастие. Я не объяснил Вам в последнем письме, что к маю месяцу ожидаю денег из казны; следовательно, я просил у Вас только до мая; повторить просьбу не смею, но если Вы пришлёте хоть 200, хоть 150, наконец, хоть 100 рублей серебром, то сделаете величайшее мне добро, тем более что дела мои требуют скорой поездки, дня на два, в Петербург, а я останавливаюсь ехать даже и к Броку, для приглашения его к жене, потому уже нет и на извощика. Посылаю эту записку по городской почте для того, чтобы не вынуждать Вас на ответ, неприятный для Вас в случае отказа; но стану то и дело посматривать на дверь, не входит ли в неё мужичок с бородкою, принёсший от Вас вчерашнюю записку»[756].
Из положения дел Великопольского можно видеть, что участь его так и не облегчилась до самого дня его смерти. Не помогли ему и разные другие предприятия, к которым он обращался в надежде поправить свои дела, как, например, взятый им на себя, в компаньонстве с неким Трувеллером, подряд на поставку из зубцовского своего имения леса в Тверь для моста через Волгу. Дело было выгодное, но Иван Ермолаевич, по словам его дочери, как человек крайне непрактичный, и тут вместо барышей получил одни убытки: «…он доставил весь материал в Тверь водою к сроку, но Трувеллера там не было, и никто не был уполномочен им принять лес. Каждый благоразумный человек засвидетельствовал бы свою исправность полиции и потом взыскал бы стоимость убытков с компаньона, а отец своими рабочими вытаскал дерева из воды и караулил их, а Трувеллер приехал и забраковал лес… И вот они друг с друга стали требовать ежедневную неустойку и каждый насчитал свыше 90 000 рублей; судились много лет, тратили гербовую бумагу, вносили пошлины и дошли до Сената, который, рассмотрев дело, окончил его в десяти строках и в 90 или 93 копейках»[757].
К таким же неудачным опытам относится и устройство, в конце 1850-х гг., фабрики сигар в Чукавине и много других подобных предположений. Уже в последние годы жизни Иван Ермолаевич задумал разыграть в лотерею имевшийся у него замечательный портрет Шекспира[758], но не получил на то надлежащего разрешения и отправил через английского консула в Петербурге Ф. И. Мичелля в Лондон, в Шекспировское общество; вскоре затем он умер, а дочь его — Н. И. Чаплина — уже не могла добиться возвращения портрета из Англии: просвещённые мореплаватели оставили себе эту редкость на память.
Литературные предприятия, как мы уже видели выше, также не переставали занимать Ивана Ермолаевича, и даже в самые тяжёлые времена своей жизни он не раз появлялся в печати. Так, например, в 1856—1858 гг. он задумывал издавать сочинения своего тестя Мудрова и хлопотал перед духовною цензурою о разрешении ему напечатать труд Матвея Яковлевича «Духовное врачевство»[759]; в 1864 г. намеревался переиздать уничтоженного в 1841 г. «Янетерского»[760]. Наконец, уже совсем незадолго до своей смерти предполагал приступить к изданию сборника «27 басен и сказок Ивельева» и своей лирической драмы «Чудо Перуна»[761], сюжет которой был взять им из древнего славянского быта, — с посвящением её «бывшим в России в 1867 году славянским гостям». «К настоящему изданию в свет этого моего сочинения, — говорил он в приведённом выше воззвании, — побудило меня особое стремление. Заключительный хор драмы свидетельствует, что панславическая мечта уже занимала меня в то время, когда она ещё не высказывалась в гласных желаниях всеславянского духовного объединения. После же съезда славян на Этнографическую Московскую выставку, когда смысл панславизма окончательно определился тем объединением, я также, хотя в значении последнего члена в обширном братстве, заявляю себя одним из горячих и давних его сторонников. — Исполняю это заявление изданием настоящего моего сочинения под истинным, на этот раз, полным моим именем, рядом с псевдонимом, под которым я печатал произведения моих зрелых лет, и посвящая его „бывшим в России в 1867 году славянским гостям“».
Но ни то ни другое издание, предполагавшееся к выходу в апреле 1868 г., не могло уже состояться.
Мы заключим наш очерк приведением любопытного письма Ивана Ермолаевича к Анатолию Фёдоровичу Кони[762], с отцом которого, известным литератором, Фёдором Алексеевичем, Великопольский был в давних дружеских отношениях[763]. Анатолий Фёдорович знал Ивана Ермолаевича ещё со времени своего детства, но более близко познакомился с ним в первой половине 1860-х гг., будучи на одном из старших курсов юридического факультета Московского университета, и от этого знакомства сохранились самые лучшие воспоминания. По словам его, Иван Ермолаевич был человек чрезвычайно добрый, сердечный и отзывчивый, готовый поделиться с нуждающимся ближним последним, что только имел; он живо интересовался, несмотря на свой преклонный возраст и привычки богатого барина-помещика, преобразованиями Александрова времени, — и между молодым студентом и поломанным судьбой стариком не раз происходили затягивавшиеся далеко за полночь оживлённые споры по разным современным вопросам. Иван Ермолаевич внимательно следил не только за беллетристикой, но и за научною литературой. Его молодой собеседник, прежде чем перешёл на юридический факультет в Москву, слушал математику и естественные науки в Петербургском университете и помнит, что Великопольского очень занимала и даже волновала теория происхождения видов Дарвина, с которою он ознакомился по переводу Рачинского и по поводу которой не раз высказывал оригинальные взгляды, полные наблюдательности. Анатолий Фёдорович помнит также, что Иван Ермолаевич приходил в восторг от появившейся тогда поэмы Майкова «Смерть Люция»[764]. Последний раз Анатолий Фёдорович виделся с Великопольским в конце 1865 г. Узнав, что окончивший курс молодой юрист колеблется в выборе между судебною службою и приготовлением себя к кафедре уголовного права, старик пришёл к нему, в маленькую студенческую квартиру на Малой Бронной, и, хотя возлагал большие надежды на новый суд, горячо убеждал его предпочесть практической деятельности науки, пред которой благоговел. Вот что писал Великопольский в упомянутом письме от 13 мая 1865 г. из Чукавина:
М. Г. Анатолий Фёдорович! В последнем Вашем ко мне письме Вы, не объяснив мне, остались ли Вы с Вашею маменькою на прежней Вашей квартире — на Сивцевом Вражке, в доме Капустина, или переехали на другую, сообщили, чтобы отвечать Вам просто в Университет, студенту юридического факультета, как я и отвечал Вам. Поэтому теперь, хотя я и сам располагаю быть в Москве очень не в продолжительном времени, мне удобнее снестись с Вами письмом, нежели, приехав без человека, отыскивать Вашу квартиру. А я имею к Вам следующую просьбу.
Я приготовил к изданию брошюру: «Три важные для государства проекта: 1) Внутреннего займа, выгодного для казны и для народа, 2) Переводных денежных листов Почтового ведомства и 3) Гласного суда, равно применимого как к старым, ещё существующим, так и к предстоящим, по изданным уставам, новым судебным порядкам».
Вы можете видеть уже из одного содержания, что брошюра выйдет довольно пространная, так что можно натянуть её, избрав покрупнее шрифт, на 10 листов и тем избавиться, по новым цензурным правилам, от предварительной цензуры. (Это освобождение от предварительной цензуры есть, впрочем, чистый миф законодательства, самая даже неловкая ловушка простаков к восхвалению либерализма полезных для России действий П. А. Валуева. По ст. 13-й «сочинение, напечатанное без предварительной цензуры, может быть выпущено в свет не прежде, как по истечении трёхдневного срока с получения числа экземпляров», — а в эти три дня его и цап-царап! Извольте перепечатывать, если хотите издать, да ещё выдержать целый судебный процесс! Не лучше ли по-старому: всё цензировать?) Во всяком случае, я не желаю печатать без цензуры, тем более что новые правила будут введены с сентября, а я имею причины торопиться изданием. Но для меня не удобно представить всю рукопись на предварительное рассмотрение: во-первых, надобно для этого отдать в чистую переписку, а для этого потребуются время и издержки, — у меня же нет ни времени, не денег; во-вторых: я так имел мало досуга для окончательной отделки сочинения, что неминуемо придётся делать большие поправки и перемены во время самого напечатания. Всё это объяснив С.-Петербургскому Цензурному Комитету прошением, посланным 23 апреля из деревни, я просил о дозволении мне представлять на предварительную цензуру корректурные листы, но от 5 мая за № 356 получил следующий ответ:
«Канцелярия С.-Петербургского Цензурного Комитета имеет честь уведомить Вас, м. г., что на основании 62 § Устава Ценз, просьба о дозволении печатать сочинения Ваши — проекты внутреннего займа, переводных денежных листов и гласного суда, с представлением на просмотр цензуры в корректурах, не может быть удовлетворена».
У меня под рукою нет Цензурного Устава, но, сколько я помню, то предварительное рассмотрение журналов и газет определено делать в корректурных листах, но нет воспрещения, которое послужило бы препятствием к такому же рассмотрению и других отдельных изданий, если Цензурный Комитет найдёт это удобным и возможным. Гораздо же удобнее и для цензора читать не рукопись, а корректурные листы. Лет 15 тому назад одно моё сочинение мне даже и дозволено было печатать таким образом[765]. Как бы то ни было, затруднение, в которое вошёл, по настоящей моей просьбе, С.-Петербургский Цензурный Комитет, не может иметь в себе ничего обязательного для московского Цензурного Комитета.
Не сделаете ли же Вы мне одолжения переговорить об этом лично с председателем Московского Цензурного Комитета, не скрывая от него содержания бумаги, полученной мною от Петербургского.
Я был здесь целых две недели и, только что поправляясь, собираюсь завтра или послезавтра ехать в Петербург, не заезжая в Москву, как располагал прежде; но в Петербурге пробуду, вероятно, не более недели или двух и думаю побывать в Москве, где начну немедленно и печатание, если Московский Цензурный Комитет окажется храбрее Петербургского. Сделайте же одолжение, не оставьте без внимания моей к Вам просьбы и поспешите ответом, адресовав его в Петербург, до востребования, так как прежнюю квартиру я оставил, а где буду жить — ещё не знаю.
Свидетельствуя моё душевное почтение Милостивой Государыне Ирине Семёновне, я непременно буду иметь честь посетить её (разумеется и Вас), если Вы сообщите мне адрес квартиры.
Сейчас возвратился с прогулки и очень утомился. Не знаю, как выдержу дорогу.
Многоуважающий Вас И. ВеликопольскийТак писал сохранивший юношескую бодрость семидесятилетний старик, до конца дней своих не терявший веры в людей и в лучшее будущее, с сочувствием встречавший все реформы просвещённого Александрова царствования. И хотя вся жизнь его представляет собою ряд неудач, недоразумений и разочарований, хотя он не оставил нам в наследство ни высоких литературных произведений, ни вещественных богатств, мы всё-таки не можем не поблагодарить его за то, что своею жизнью он показал нам хороший пример, как человек безусловно честный, всегда к чему-нибудь стремившийся и, несмотря на кажущуюся погоню за наживой, — совершенно бескорыстный. Вся разгадка жизненной драмы Великопольского состоит в том, что он, будучи, по выражению Погодина, «гражданином не сего мира», брался за дела, вершить которые могут лишь люди с более практическим умом и с более растяжимой, чем была у него, совестью…
1902
Работы П. В. Анненкова о Пушкине[766]
Пушкиноведение — наука ещё новая: ей всего около семидесяти лет, если считать от первых наших пушкинистов — Бартенева, Анненкова и Грота. За эти семьдесят лет она дала обильную литературу; но обилие это скорее количественного, чем качественного значения, — ибо тогда как работы о Пушкине исчисляются не сотнями, а тысячами, мы до сих пор не имеет ни одной монографически полной, научно написанной биографии поэта, которая удовлетворяла бы всем требованиям, какие к такой биографии могут быть теперь предъявлены. Причин этого прискорбного явления много, — и одна из них, едва ли не главнейшая, то обстоятельство, что к работам над Пушкиным — были ли то вопросы текста, или истории творчества, или вопросы биографии поэта — подходили без выработанных методологических приёмов, принимались за дело с лёгким сердцем, брались за него, как за дело простое, обычное, чуть ли не всем доступное. Этими чертами некоторого легкомыслия грешили многие, даже очень известные пушкинисты, имён которых не называем, так как за каждым из них, кроме грехов, имеются и заслуги, за которые мы должны быть им благодарны, если вспомним, какую работу они в общем проделали. Лишь в последние пятнадцать — двадцать лет изучение Пушкина становится на должную высоту, становится наукой. Пушкиноведение из области просвещённого любительства или более или менее случайного занятия переходит на степень пристального исследовательского труда, начав с проверки того, что в области изучения текстов и биографии Пушкина сделано было в предыдущие десятилетия. Такой цели призван служить и служит вот уже двадцать пять лет основанный в 1902 г. академический сборник «Пушкин и его современники», из недр которого вышла целая плеяда пушкинистов-исследователей, в работах своих вновь поставивших и окончательно разрешивших ряд общих и частных вопросов пушкиноведения, запутанных подчас, казалось, до полной неразрешимости. Задачам пересмотра, ревизии того, что сделано было по вопросам пушкиноведения, посвящены многие капитальные работы П. Е. Щёголева, покойного М. О. Гершензона, Н. О. Лернера, М. Л. Гофмана, Б. В. Томашевского, Ю. Г. Оксмана и, наконец, М. А. Цявловского, который недавно издал в своей, как всегда, ювелирно-тонкой и изящной обработке записанные много лет тому назад П. И. Бартеневым рассказы о Пушкине нескольких современников, друзей и знакомых поэта[767]. Хотя П. И. Бартенев (1829—1912), основатель «Русского архива», не пользуется теперь как пушкинист такою известностью, как Анненков, Грот, Ефремов, Майков и другие, — его заслуги в области пушкиноведения весьма значительны: его, собственно говоря, следует считать главою научного пушкиноведения, основателем «науки о Пушкине». Человек с большим научным и литературным образованием, с обширнейшими историческими и историко-литературными познаниями, с редкой склонностию к русской словесности и с благоговейной любовью к Пушкину, — он был первым русским учёным, который спустя лишь десяток лет после смерти поэта начал собирать материалы о нём и о его литературном наследии. Метод собирания этих материалов был прост, но верен: Бартенев расспрашивал лиц, близких к Пушкину, и затем немедленно заносил вызнанное от них на бумагу, а иногда давал ещё свою запись рассказчику и на проверку.
Из таких записей составлялся ценнейший биографический и историко-литературный материал, предназначавшийся Бартеневым для дальнейшей обработки в форме связной, подробной биографии Пушкина. Как известно, Бартенев успел обработать лишь начальные главы жизнеописания своего любимого писателя, и затем, уступив место Анненкову, приобретшему право на издание сочинений Пушкина, он исключительно отдался «составлению» и изданию своего детища — «Русского архива» и к Пушкину возвращался уже редко, и то лишь по отдельным поводам, а собирание материалов совсем прекратил; но тетрадь с его ранними записями, по счастливой случайности, сохранилась в руках известного московского любителя книги Л. Э. Бухгейма и недавно — в 1925 г. — издана просвещённою фирмою М. В. Сабашникова на радость и на пользу всех, кто любит и изучает Пушкина.
Свои работы по собиранию материалов для биографии Пушкина Бартенев начал около 1850 г. и вёл их в 1852—1853 гг.[768] Тогда же и с теми же приёмами приступили к работам по изучению Пушкина и Павел Васильевич Анненков, которого судьба вовлекла в это дело довольно неожиданно для него[769]; одновременно с работою над текстами он стал собирать материалы и для биографии поэта[770], литературный и человеческий облик которого постепенно завлёк этого деятельного исследователя, а затем и окончательно покорил его своим обаянием.
До настоящего времени мы знали мало подробностей о путях, которыми шёл Анненков к достижению поставленной себе грандиозной задачи — издания первого научного собрания сочинений Пушкина и такой же его биографии. Из работ Л. Н. Майкова, Д. Сапожникова и И. А. Шляпкина, в руки которых попали и которыми были использованы некоторые остатки от «пиршеств» Анненкова, мы могли лишь догадываться о том, чем обладал последний и как он работал. И если приёмы издания текстов Пушкина и способы обращения его с подлинными рукописями поэта вызывали справедливую критику позднейших исследователей[771], а подчас и негодование на кощунственное с нашей точки зрения отношение к драгоценным автографам, бывшим в его бесконтрольном распоряжении, — то знаменитые «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», составляющие I том «Сочинений Пушкина» под редакцией Анненкова и вышедшие одновременно со II томом этого издания[772], — до сих пор остаются не опороченными и служат исходным пунктом при исследовании многих биографических и иных вопросов пушкиноведения[773]. Если мы припомним то плачевное состояние, в котором находилась пушкинская историография ко времени появления в свет «Материалов» Анненкова, наличие большого числа поклонников поэта и лиц, хорошо помнивших его ещё в жизни, а также огромное количество новых, совершенно свежих и чрезвычайно интересных, собранных Анненковым, материалов, которые заключала в себе эта первая биография Пушкина, — нам станет понятным тот хор приветствий, какими встречен был замечательный труд Анненкова[774]. Ещё до выхода его в свет Плетнёв уведомлял (6 января 1855 г.) кн. П. А. Вяземского, бывшего за границею: «…про биографию Пушкина, составленную Анненковым, вы, конечно, уже слышали. Она содержит в себе столько подробностей, что из неё одной выйдет том»[775]. Когда же издание было совсем уже закончено, в ноябре 1857 г., выпуском VII тома, Лонгинов восклицал: «Весело библиографу и любителю литературы говорить о появлении подобных книг! Как не радоваться, что первый из наших поэтов издан полно, отчётливо, с полным знанием дела, с благоговейным уважением к его любезной для всякого из нас памяти?»[776]. Он находил, что изданием своим Анненков оказал «не одну литературную, но и важную общественную услугу»[777]; так же писал впоследствии и С. А. Венгеров в статье своей об Анненкове, говоря об издании сочинений Пушкина 1855 г.: «Это был настоящий подвиг со стороны Анненкова — подвиг не только литературный, но и общественный. Нужно прочитать статью Анненкова „Любопытная тяжба“[778], чтобы увидеть, сколько энергии и ловкости пришлось употребить издателю, чтобы отстоять неприкосновенность Пушкинского текста»[779].
Итак, до последнего времени значение работы Анненкова не поколеблено, — его труд с благодарностью вспоминается и используется всеми, кто обращается к работам над Пушкиным.
Познакомимся теперь с некоторыми данными по истории издания Анненкова и его трудов, связанных с этим изданием, пользуясь для этого печатными и рукописными материалами, хранящимся в Пушкинском Доме.
Из публикуемой ниже переписки Ивана и Фёдора Васильевичей Анненковых с их младшим братом Павлом Васильевичем видно, что главным побудительным основанием к работам последнего послужило желание вдовы Пушкина — Натальи Николаевны Ланской и её мужа — генерала Петра Петровича Ланского (одного из членов опеки над детьми и имуществом Пушкина) осуществить новое издание сочинений Пушкина. Желание диктовалось как спросом на произведения поэта, так и соображениями о выгодах детей Пушкина, наследников его литературных прав. К концу 1840-х гг. так называемое посмертное издание сочинений Пушкина, выпущенное опекою в 1838—1841 гг., окончательно было распродано и было находимо лишь у букинистов, и притом по высокой цене[780]. Из писем H. Н. Ланской к мужу в 1849 г. мы узнаем, что вопрос о приискании издателя на сочинения Пушкина очень занимал её в то время.
Так, 20 июля 1849 г. H. Н. Ланская писала мужу из Петербурга (по-французски): «Я была у Исакова, которому я очень хочу предложить купить издание Пушкина, не имея до сих пор никакого ответа от других книгопродавцев. Не найдя хозяина в лавке, я получила обещание, что его пришлют ко мне в воскресенье»[781]. В одном из следующих писем, от 2 октября 1849 г., она писала (по-французски): «Был у меня Попов[782], который пришёл сказать, что книгопродавцы не дают более — Глазунов 14 000 асс. и Лоскутов 10 000. Он не советует мне уступить издание по столь низкой цене. По его мнению, было бы лучше всего напечатать издание самим и войти в соглашение с типографиею Дубельта или каким-либо учреждением подобного рода, принадлежащим правительству, с тем чтобы они исполнили на свой счёт и удержали бы плату впоследствии, — деньгами, которые будут выручены».
Однако или предложения книгопродавцев были признаны H. Н. Ланской и Опекой слишком невыгодными, или книгопродавцы, в конце концов, не рискнули завершить свои более чем скромные предложения заключением формального договора, — но Ланские решили последовать совету Попова — самим выступить в роли издателей. В это время П. П. Ланской, генерал-майор и генерал-адъютант, был командиром лейб-гвардии Конного полка, а третьим полковником в полку был Иван Васильевич Анненков. Человек просвещённый, он тогда только что выпустил в свет четырёхтомную «Историю лейб-гвардии Конного полка от 1731 по 1848 год», которая доставила ему громкую известность в военных кружках[783]; с 7 ноября 1846 г. он был флигель-адъютантом Николая I. Близкий к Ланским, он пользовался их доверием, был своим человеком в их доме, был им предан и оказывал разные услуги в ведении имущественных дел. По словам близкого к нему И. Г. Данилова, И. В. Анненков «отличался глубокою религиозностью и редкою душевною добротою, которая невольно привлекала к себе его сослуживцев и тех немногих близких к нему лиц, в кругу которых он проводил часы своего досуга»[784]. Помимо упомянутой выше «Истории лейб-гвардии Конного полка» Анненкову принадлежат воспоминания о Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которую он поступил в 1831 г., восемнадцатилетним молодым человеком. Воспоминания эти напечатаны лишь в 1917 г. в № 3 журнала «Наша старина»; к сожалению незаконченные, они отличаются большим богатством содержания, прекрасно рисуют внутренний быт и порядки этого своеобразного военно-учебного заведения и написаны с несомненным литературным талантом: очевидно, любовь к литературным занятиям была присуща И. В. Анненкову, как и его братьям, так как и третий брат, Фёдор Васильевич Анненков, также страстно любил Пушкина и усердно помогал братьям в работах над изданием сочинений поэта.
На И. В. Анненкове как возможном издателе Пушкина и остановились H. Н. и П. П. Ланские. Вспоминая впоследствии о зиме 1849/50 г., которую он проводил в Петербурге по возвращении из-за границы, П. В. Анненков писал:
«В это время Ланская, по первому мужу Пушкина, делами которой, по дружбе к семейству, занимался брат Иван, пришла к мысли издать вновь сочинения Пушкина, имевшие только одно издание 1837 года. Она обратилась ко мне за советом и прислала на дом к нам два сундука его бумаг. При первом взгляде на бумаги я увидал, какие сокровища ещё в них таятся, но мысль о принятии на себя труда издания мне тогда и в голову не приходила. Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание…»[785]
План этот, в деталях нам не известный, очевидно, был принят Опекою, так как из прошения её, с которым она через несколько месяцев, 30 августа 1850 г., обратилась к гр. А. Ф. Орлову, видно, что, испрашивая высочайшее соизволение «на напечатание новым изданием всех сочинений покойного Александра Сергеевича Пушкина в том виде, как они были напечатаны в последнем издании», Опека намеревалась «изменить один только порядок распределения статей» и дополнить новое издание некоторыми стихотворениями, не бывшими ещё в печати[786]. Разрешение на испрашиваемое издание было дано, по докладу Орлова, уже 31 августа[787], о чём тотчас была уведомлена и Опека, и министр народного просвещения А. С. Норов, как глава цензурного ведомства, долженствовавшего следить за новым предположенным изданием[788].
Но изданию этому не суждено было осуществиться, так как И. В. Анненков, став, как упомянуто, ближе к делу литературного предприятия Опеки и заинтересовавшись им, по горячей любви своей к творениям Пушкина, сам пожелал познакомиться с оставшимся от поэта рукописным наследием. В пространных и обстоятельных письмах к брату Павлу Васильевичу от 21 апреля, 12 и 19 мая 1851 г. (см. ниже, с. 496—505 [См. ниже «К истории анненковского издания сочинений Пушкина». — Прим. lenok555]) он, вместе со старшим братом Фёдором Васильевичем[789], сообщал ему о результатах этого ознакомления и созревавшем намерении взять на себя новое издание сочинений Пушкина, причём убеждал Павла Васильевича принять участие в работе по редакции издания, доказывая, что такая работа вполне по его силам и что незачем привлекать к ней постороннего литератора (вроде рекомендованного ему С. С. Дудышкина), которому должно будет за работы заплатить — и немало. Утвердившись в своём намерении, он заключил с H. Н. Ланскою письменный договор, который и был подписан обеими сторонами перед самым отъездом Натальи Николаевны за границу, состоявшимся 12 мая 1851 г.[790] Известие о решении братьев поразило П. В. Анненкова «громадностью задачи на достойное исполнение плана…»[791]. Но осенью того же года, когда И. В. Анненков привёз в Москву известие, что «дело издания Пушкина он порешил окончательно с Ланской, заключив с нею и формальное условие по этому поводу», «издание, — говорит Анненков, — разумеется, очутилось на моих руках. Страх и сомнение в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидали меня и в то время, когда уже по разнёсшейся вести о нём, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имевшими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перечитку журналов 1817—1825 годов…»[792].
До нас сохранилась записка Гоголя к Погодину, относящаяся, по-видимому, к сентябрю 1851 г., в которой Гоголь писал Погодину о своём старом знакомце: «Павел Васильевич Анненков, занимающийся изданием сочинений Пушкина и пищущий его биографию, просил меня свести к тебе за тем, чтобы набрать и от тебя материалов и новых сведений по этой части. Если найдёшь возможным удовлетворить, то по мере сил удовлетвори»[793]. Сохранились в бумагах Анненкова, по свидетельству Л. Н. Майкова, и следы просмотра Анненковым периодической печати пушкинской эпохи, в виде «целых тетрадей его выписок и извлечений из журналов не только этого, но и более позднего времени» (из «Вестника Европы», «Московского телеграфа», «Московского вестника», «Атенея», «Телескопа» и т. д.). «Очевидно, — пишет Майков, — биограф придавал особое значение старинной журнальной полемике и справедливо искал в ней указаний на то, как постепенно слагалось в русском обществе воззрение на поэтическую деятельность Пушкина».
«Рядом со старыми журналами, — читаем у Майкова, — другим важным источником служило для Анненкова живое предание. В то время, когда он принялся за свой труд, ещё жили и здравствовали многие из соучеников Пушкина по Лицею, а также многие другие близкие к нему люди. Анненков обратился к содействию их памяти. В числе лиц, собиравших ему письменные сведения, важнейшие были следующие: младший брат поэта — Лев Сергеевич, их свояк Н. И. Павлищев[794], П. А. Катенин[795], В. И. Даль и некоторые из лицейских товарищей Пушкина, изложившие свои воспоминания в одной общей записке. Всё это были биографические свидетельства первостепенной важности, и Анненков воспользовался ими обильно. Впоследствии почти все они появились в печати, и ненапечатанными остались только воспоминания Катенина. К сожалению, рукопись их не находится в той части бумаг Анненкова, которая была нам сообщена»[796].
Собирал он и устные рассказы современников Пушкина; так, сохранилось указание на участие Анненкова вместе с П. И. Бартеневым и другими на вечере у Погодина 7 октября 1851 г., устроенном специально для беседы и воспоминаний о Пушкине[797]. Запись для Анненкова рассказов С. П. Шевырёва, сделанная едва ли не Н. В. Бергом, ещё 23 декабряя 1850 — 3 января 1851 г., опубликована Л. Н. Майковым в его сборнике «Пушкин»[798]. О рассказах П. В. Нащокина и П. А. Плетнёва упоминает сам Анненков в своих «Материалах для биографии»[799]. По поводу всех этих бесед Анненкова Л. Н. Майков писал: «Много важного, любопытного и характерного имел он случай услышать от П. В. Нащокина, П. А. Плетнёва, М. П. Погодина; но уже в самом свойстве их сообщений заключалась известная слабая сторона: изустные рассказы не могли не быть отрывочными и не представляли той определённости и полноты, какой можно ожидать от воспоминаний, изложенных на письме, более тщательно обдуманных и нередко подкреплённых справками в современных документах. По-видимому, впрочем, не все друзья Пушкина, даже опытные в литературных делах, чувствовали себя в силах последовательно высказать все те впечатления, какие сохранили они от близких сношений с великим человеком. Так, П. А. Плетнёв, напечатавший о Пушкине небольшую статью в 1838 году[800] и призывавший других к сообщению сведений о нём, сам не решался впоследствии взяться за перо, чтоб изложить свои собственные воспоминания, как можно было бы ожидать от его дружбы[801]. А между тем рассказы о Пушкине были одною из любимых тем в его беседах, и кто имел случай слышать их, согласится с нами, что чувство, которое питал Плетнёв к дорогому покойнику, нельзя назвать иначе, как обожанием. Казалось, всё одинаково нравилось Плетнёву в личности Пушкина»[802].
Несомненно, однако, что не всё, что слышал, узнавал и знал Анненков, он смог и пожелал огласить: это видно, между прочим, и из приводимых ниже кратких записей Анненкова, который иные из отмеченных им фактов не ввёл в свои «Материалы» и вовсе не использовал. Как бы то ни было, с конца 1851 г. Анненков погрузился в работы по Пушкину, — и дело у него пошло быстро и успешно, хотя робость и неуверенность в своих силах не покидали его. Когда, в октябре 1851 г., Анненков, поправившись от болезни, приехал из Москвы в Петербург с братом Фёдором Васильевичем[803], слух о его предприятии получил уже широкую огласку[804]. 17 декабря 1851 г. Погодин из Москвы писал Плетнёву о работе Анненкова и о желательности содействия ему в этой работе[805]; в то же время (15 января 1852 г.) и Соболевский писал Погодину, обещая свою помощь в работах П. И. Бартеневу: «Анненкова я тоже знаю, но с сим последним мне следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, коль неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам [?] то, что писалось для немногих или что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей»[806].
Под 25 февраля 1852 г. читаем в дневнике А. В. Никитенки: «Встретился в зале Дворянского собрания с Анненковым, издателем сочинений Пушкина. Государь позволил печатать их без всякой перемены, кроме новых, какие найдутся в бумагах поэта: последние должны подвергнуться цензуре на общих основаниях. Новых, говорит Анненков, очень много. Разумеется, их трудно будет поместить в предстоящем издании. Анненков за всё заплатил вдове Пушкина пять тысяч рублей серебром[807], с правом напечатать пять тысяч экземпляров. Выгодно!»[808]
В августе 1852 г. П. В. Анненков, проработав несколько месяцев над бумагами Пушкина, хранившимися у его вдовы и ею переданными в распоряжение редактора[809], уехал, для большей продуктивности работы и чтобы иметь возможность сосредоточиться на ней одной, в свою деревню — село Чирьково, Симбирской губернии[810].
Некоторые сведения о ходе его работ, о различных частных вопросах, с нею связанных, о сомнениях, колебаниях и затруднениях, встречавшихся ему на пути, мы находим в отчасти ещё не изданной переписке Анненкова с Тургеневым, хранящейся, в подлинниках и копиях, в Пушкинском Доме. Приводим из этой переписки несколько извлечений, которые покажут, между прочим, какое значение придавал Тургенев — как известно, горячий почитатель Пушкина — труду Анненкова[811].
12 октября 1852 г. Анненков писал Тургеневу из своего Чирькова в Спасское-Лутовиново: «Третий месяц живу один-одинёшенек в деревне и засел на 1832 годе биографии Пушкина. Решительно недоумеваю, что делать! Он в столице, он женат, он уважаем — и потому вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. И так, и сяк обходишь, а всё в результате выходит одно: издавал Современник и участвовал в Библиотеке. Из чего было хлопотать и трубы трубить? Совестно делается. Бессилие своё и недостаток лучшего писательского качества — изложения твёрдого и скромного вместе, чтобы всем легко было читать, — видишь как 5 пальцев. Надаёшь себе нравственных плюх и сядешь опять за ткацкий станок. Какая же это биография? Это уже не писанье, а просто влаченье по гололедице груза на клячонке, вчера не кормленной. Только и поддержки ей, что убеждение (хорош корм!), что по стечению обстоятельств никто так не поставлен к близким сведениям о человеке, как она. Не будь этой ответственности, не из чего было бы и отравлять себя. И так в ноябре доберусь питоябельным образом до конца[812] в гадчайших лохмотьях. Нечего больно зариться на биографию. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости. Только и ожидаю одной награды от порядочных людей, что заметят, что не убоялся последней. Вот вам исповедь моя — и верьте — бесхитростная…»[813]
«Я понимаю, как Вам должно быть тяжело так дописывать биографию Пушкина — но что же делать, — отвечает Тургенев из деревни 28 октября 1852 г., — истинная биография исторического человека у нас ещё не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения ценсуры, но даже с точки зрения так называемых приличий. Я бы на вашем месте кончил её ex abrupto[814] — поместил бы пожалуй рассказ Жуковского о смерти Пушкина — и только. Лучше отбить статуе ноги, — чем сделать крошечные, не по росту. А сколько я мог судить, торс у вас выйдет отличный. Желал бы я, говорю это откровенно, так же счастливо переменить свою манеру, как вы свою в этой биографии. Вероятно, под влиянием великого, истиннодревнего по своей строгой и юной красоте Пушкинского духа, вы написали славную, умную, тёплую и простую вещь. Мне очень хочется дослушать её до конца. Ещё причиной больше вам сюда приехать»[815].
«Кончил биографию, — читаем в следующем письме Анненкова к Тургеневу, от 4 ноября, на Чирькова, — то есть, собственно, никогда и не начиналась она, — ну да там мало ли чего захочется человеку, откормленному разными затеями чужой кухни. Ченстон продолжает составлять мучение моей жизни. У меня есть просьба к вам. Напишите мне: 1) К какому изданию приложен список предшественников Шекспира и сколько их числом (о современниках его я знаю), 2) между Шекспиром и классическим направлением Английской литературы были ли трагики его школы и сколько их. Вы понимаете, что сказав это в биографии, моё полное убеждение, почерпнутое из соображений Пушкинских рукописей, что Ченстон выдумка — будет иметь вид посерьёзнее, и аккуратным исполнением моей просьбы избавите вы меня от докучных справок в Москве. Сделайте это.
Вторая просьба. У Пушкина есть список драм, им задуманных, или может даже и написанных, но истреблённых потом. В этом списке между Скупым, Моцартом — стоят и заглавия вроде следующих: Ромул и Рем (эти имена достаточно объяснены Кайдановым), Беральд или Берольд Савойский[816]. При этом имени я бросился к Конверсационс-Лексикон — нет, к Biographie universelle — нет, к Лео, к Сисмонди — нет. Что же это такое? Поройтесь, пожалуйста, у себя в голове или в шкапу у себя: не найдёте ли какой-нибудь ниточки, чтоб вытащить его на свет. Не трубадур ли? Да у Фориеля его тоже нет.
Третья просьба. Мне нужно непременно знать ваше мнение о Guzla, Меримэ. Имели ли вы эту книгу в руках и нет ли её у вас и теперь. В последнем случае, величайшее одолжение сделаете, если тотчас же перешлёте её в Симбирск. Я от вас этого жду, но во всяком случае скажите, не кажется ли вам Guzla двойным шарлатанством, — взятием некоторых дальних звуков от мотивов действительно народных и потом заверением, что до всего дошёл своим умом. Конечно, всё это более объяснилось бы фактами, чем рассуждениями, но мне хочется только знать ваше нравственное убеждение, ваш взгляд, ваше впечатление».
Между тем слухи о работе Анненкова распространялись. 19 ноября (1 декабря) кн. П. А. Вяземский спрашивал Плетнёва, «что слышно о новом издании Пушкина»[817], а П. И. Бартенев в то же время писал Плетнёву (21 ноября): «Как бы я желал… показать вам мои собрания и материалы. Не без основания думаю, что издание Анненкова не совсем уничтожит мои труды… Хочу с ним состязаться в любви к Пушкину и во внимательности к его творениям… Надо сказать, что ведь я подбираю только оброненные колосья, тогда как у Анненкова целое несжатое поле…»[818]
Пятого декабря сам Анненков, в разгаре своих трудов, писал Погодину, что работа «занимает теперь всё его время». «Работа моя, известная вам, оказалась гораздо сложнее, чем я думал. Биография подвигается медленно, что объясняется её задачей — собирать сведения о Пушкине у современников. Вы знаете, какая бывает беготня за современниками. Биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо более разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сиденья. Мне удалось уже отобрать письменные сведения у барона Корфа[819], Матюшкина, Комовского, Яковлева. Много ещё обещают впереди. Я писал отсюда к Вельтману и С. Д. Полторацкому, прося их о сообщении истории их знакомства с Пушкиным, особенно касательно Кишинёвской и Одесской её эпох, но ответов ещё не получал[820]. Горько будет, если совсем не получу. П. А. Плетнёв, которому читал я первые листы биографии, делится своим добром весьма радушно, но есть ещё человек, не сказавший своего слова. Это вы, Михаил Петрович. Я знал в Москве, что вы крепко заняты, и стыдился просить вас о постороннем деле. На бумаге это делается как-то легче, потому что бумага, вероятно, не краснеет. Глубокое, тёплое воспоминание о Пушкине, которым вы оканчиваете своё письмо, развязало мне язык совсем. Ради Бога, сообщите о Пушкине всё, что вы хотели бы слышать сказанным громко перед русской публикой; составьте записку вашу о Пушкине и не бойтесь отдать ваши воспоминания в неверные руки. Оценить его заслуги, может быть, я не сумею, но в способности понять этот удивительный характер — вряд ли кому уступлю. Много и здесь я получил от друзей-неприятелей его странных поминок, но в самих рассказах их превосходная личность Пушкина высказывается чрезвычайно ясно, назло им. Всё это я пишу вам, чтоб несколько убедить вас в способности моей разбирать материалы. Что касается до ваших сообщений, то каждая ваша заметка, каждое число и каждый анекдот будут добро, благо и сущая драгоценность для Биографии. Это не комплимент, а моё убеждение»[821].
Отвечая на вышеприведённый вопрос Анненкова по поводу «Скупого рыцаря», Тургенев писал Анненкову из Спасского-Лутовинова 10 января 1853 г.: «О загадочном Шенстоне или Ченстоне я с месяц тому назад написал моему хорошему приятелю Чорлею[822], одному из редакторов „Атенэума“; как только получу ответ, — перешлю вам».
Затем, приехав в Петербург, Анненков 26 января 1853 г. писал Тургеневу: «Катенин мне прислал записку о Пушкине — и требовал мнения. В этой записке, между прочим, Борис Годунов осуждается потому, что не годится для сцены, а Моцарт и Сальери потому, что на Сальери взведено даром преступление, в котором он не повинен. На последнее я отвечал, что никто не думает о настоящем Сальери, а что это только тип даровитой зависти. Катенин возразил: Стыдитесь! Ведь вы, полагаю, честный человек и клевету одобрять не можете. Я на это: Искусство имеет другую мораль, чем общество. А он мне: мораль одна, и писатель должен ещё более беречь чужое имя, чем гостиная, деревня или город. Да вот десятое письмо по этому эфически-эстетическому вопросу и обмениваем, но напишите, как вам сам вопрос кажется?.. А за ваше участие в разысканиях о Ченстоне — глубокое спасибо. Буслаев мне обещался оказать точно такую же услугу в отношении Меримеевской подделки Славянских песен»[823].
«С каким нетерпением ожидаю я известие о вашем Пушкине!» — восклицал Тургенев в следующем письме из деревни, от 29 января 1853 г.[824], а 2 февраля писал Анненкову: «Сообщу вам отрывок из письма Ф. Чорлея, одного из редакторов Атенэума о Шенстоне (Ченстона он не знает вовсе).
„Я могу сказать Вам с уверенностью, что в этом случае Ваш великий писатель — (Пушкин) — позабавился над Вашей публикой. Ни такой драмы, ни даже отрывка такой драмы не существует у Шенстона; это был приятный, несколько болезненный писатель, который писал идиллии во вкусе Гварини. Он также написал поэму под названием Школьная Учительница — в духе старинного английского юмора“.
Вопрос о Шенстоне кончен, но Ченстон меня мучит. Я опять напишу Чорлею, чтобы он опять порылся, не было ли какого Ченстона между драматическими английскими писателями. Несколько стихов в монологе Скупца носят слишком резкий отпечаток не Русского происхождения — от них веет переводом: а именно:
совесть, Когтистый зверь скребящий сердце, совесть и т. д.до
Смущаются и мёртвых высылают.Чистая Английская, Шекспировская манера.
Я написал Чорлею, чтобы он спросил об этом у Пэна Коллиера, первого знатока этого дела в Англии, — Вы верите, любезный друг, мы для вас готовы воротить небо и землю… Вы, я думаю, знаете, что почти все антологические стихотворения Пушкина переведены из А. Шение?»[825]
«Спасибо о Шенстоне, — отвечал Анненков, — хотя он был решён для меня ещё в Москве; — остаётся Ченстон, но и тот много утерял важности своей. Издатели Атенеума не слыхивали об его трагедии! Значит — всё вздор».
Двадцать четвёртого февраля, из Орла, Тургенев снова с нетерпением спрашивает: «Да что издание Пушкина?» — а 14 марта писал: «Что вы ничего не говорите о вашем издании?» — и прибавлял: «О Ченстоне нет ещё окончательного ответа». «О Ченстоне окончательного ответа пока нету», — писал он и 2 апреля.
Около того же времени Анненков писал П. А. Плетнёву: «Этими тетрадями кончается первая часть биографии, почтеннейший Пётр Александрович. Вторая начинается женитьбой и завершается смертью поэта. Нет ли каких-либо дополнений, упущенных подробностей, не тронутых сторон, анекдотов, частностей? Заметки ваши — сокровище. Если угодно будет сделать какой-либо намёк, то я сам буду иметь честь приехать к вам за объяснением. Боюсь, что вы не разберёте руки в последней тетради. П. Анненков»[826]. Судя по помете на этом письме, Плетнёв ответил Анненкову 6 апреля, но ответ его нам не известен.
«Что вы мне ни слова не скажете об издании Пушкина? Боитесь сглазить?» — снова спрашивал Тургенев 21 апреля, а 12 мая писал из Спасского, что из письма Анненкова только что узнал, что тот ещё «не приступил к печатанию издания Пушкина и раньше осени не приступит».
Семнадцатого мая Анненков писал Тургеневу: «Теперь я не могу оставить город, в котором все материалы у меня под рукою, начиная с Публичной Библиотеки и до Вашей, да, Вашей, сохраняющейся у Языкова[827]. Польза, которую вы мне приносите ею, тогда только может быть оценена, когда узнаешь, что русской библиотеки нет нигде, что Публичная не имеет не только собрания журналов и альманахов, но даже изданий 1825 и 30 годов (Крылов, Дельвиг, Востоков считали её своей собственностию и оставляли у себя на дому присылаемые книги), что для незначительной справки о стихе надо объехать Лонгинова, Гаевского, Плетнёва, Срезневского и проч. и проч. Таковы условия труда на Руси. Вы мне подтвердите право на вашу библиотеку, как на мою временную собственность, это необходимо для меня. Но уже время не далеко, полагаю, — когда я высвобожусь».
«Даю вам полное право распоряжаться по благоусмотрению вашему купленною мною библиотекой, находящейся у Языкова», — отвечал Тургенев Анненкову 25 мая. Девятого июня он снова спрашивал, подвигается ли издание, и повторял вопрос 15 июня: «Что ваш Пушкин — подвигается?.. Я получил письмо от Чорлея окончательное — о Ченстоне. Такого писателя решительно не было. Вопрос этот кончен».
Между тем Анненков продолжал свои разыскания. «Я познакомился здесь со Смирновой для собственных нужд, — писал он Тургеневу из Петербурга 6 июля. — Женщина умная и человек — бестия. Большим пособием в этих сношениях служит для меня то, что она нисколько меня не уважает, и по малозначительности персоны не имеет нужды ни себя ломать, ни меня притеснять, но пользу уже оказала».
«Пушкин весь кончен, — сообщал наконец Анненков Тургеневу через две недели (20 июля) в письме из Петербурга, — с биографией, с хронологическим порядком, с примечаниями. В рукописи имеет, кажется, Европейский вид, но наступает решительный шаг».
«Пушкин кончен, — отзывался Тургенев в письме от 26 июля, — вот это большая и радостная весть. Поздравляю вас с окончанием такого славного и трудного дела. Ваше издание останется в русской литературе — и ваше имя. Дай Бог вам благополучно окончить печатанье и не замешкаться в материальных и пр. подробностях. Вот бы время вам приехать отдохнуть на месяц в Спасском!»
Но отдыхать было ещё рано: предстояли хлопоты с цензурою, едва ли не более сложные, чем самое собирание материалов. Хлопоты эти заняли у Анненкова август и сентябрь 1853 г., растянувшись затем и на длинный ряд последующих месяцев[828]. В записках, поданных тогда министру народного просвещения А. С. Норову, «он изъяснил, что Опека над детьми Пушкина передала своё право на издание ему, Анненкову, с условием непосредственного наблюдения за сим изданием, и поручила ему же, для полноты издания и предупреждения опытов биографии А. С. Пушкина, какие уже показывались в журналах, заключая не совсем верные показания, — составить такую биографию. Он, Анненков, исполнил это, обращая преимущественное внимание на литературную деятельность покойного; черты же из его жизни сообщены составителю родственниками и близкими людьми поэта, как-то: братом, покойным Львом Сергеевичем Пушкиным, сестрою — Ольгою Сергеевною Павлищевою, H. Н. Ланскою[829] и проч. Г. Анненков присовокупил, что цель биографии также заключается и в том, чтоб указать примерное религиозное и нравственное направление Пушкина во второй половине его жизни. При сём г. Анненков представил мне: 1) составленную им биографию под названием „Материалы для биографии А. С. Пушкина“, в двух рукописных томах, 2) пять рукописных тетрадей под литерами А, Б, В, Г, Д, с разными стихотворениями и прозаическими, отчасти не бывшими ещё в печати, отчасти же напечатанными в периодических изданиях прежнего времени статьями Пушкина и примечаниями на все его сочинения, и 3) девять печатных брошюр с разными статьями, напечатанными в периодических изданиях прежних лет, но в последнее издание не вошедшими»[830].
Цензура представленных рукописей была поручена попечителем петербургского учебного округа М. Н. Мусиным-Пушкиным известному цензору А. И. Фрейгангу[831], придирчивая и мнительная осторожность которого причинила немало хлопот и огорчений Анненкову. «Издание моё в цензуре и притом — у Фрейганга, — писал Анненков Тургеневу 8 октября. — Оно должно пройти все степени, повышаясь всё более, а я за ним — хоботом. Процедуре этой я рад, потому что только ею узнаются намерения, очищаются сомнения и открывается мысль, а всего этого я не боюсь. Однако ж и ворочает это — точно процесс».
И действительно, дело с цензурой вызвало целую «любопытную тяжбу», которую Анненков должен был вести с цензурным ведомством и о которой он впоследствии рассказал подробно в особой статье под тем же заглавием[832].
Между тем Тургенев не переставал спрашивать Анненкова о положении дел.
«Что вы мне ничего не пишете об издании Пушкина? Я из этого заключаю, что оно идёт своим порядком», — писал он 6 ноября 1853 г. — как раз в то время, когда, по окончании первого строгого и придирчивого просмотра Фрейганга, рукописи Анненкова, вернувшись из цензуры в министерство народного просвещения, направлялись последним в III Отделение для решения вопроса, могут ли в таком виде, более полном, чем издание 1838 г., быть изданы сочинения Пушкина. Начальник III Отделения гр. А. Ф. Орлов 27 января 1854 г. положил следующую резолюцию на записке, представленной ему по этому случаю: «Издание сочинений Пушкина может быть допущено в испрашиваемом Г-м Анненковым виде[833], но необходимо, чтоб г-н Министр Народного Просвещения испросил на это высочайшее соизволение». Норов уведомлен был о решении Орлова 28 января[834] и затем, 26 марта и 7 мая, цензура разрешила добавления и поправки к биографии Пушкина, доставленные Анненковым[835]. Последний 1 мая писал Тургеневу: «Пушкин подвигается. Биография переписывается и теми, которые слышали её, похваливается, ибо есть люди, изливающие силу свою из одежд, если даже и сзади к ним прикоснёшься. А вышло биографии на могущественный том листов в 30. Это, разумеется, сожмётся, в дальнейшем ходу. Задавлен я теперь проверкой текстов. Это работа, под которой, с непривычки, я ей богу погибал и теперь ещё едва на поверхности, но надеюсь нынешнем летом все порешить».
«Известите о Пушкине, если что выйдет благоприятное, — и вообще не оставляйте известиями», — писал Тургенев Анненкову из Спасского спустя пять месяцев, 1 октября 1854 г.[836] Но лишь 7 октября последовало, по представлению Норова, окончательное разрешение со стороны Николая I на анненковское издание в следующих характерных выражениях: «Согласен, но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок редактора»[837].
«На прошлой неделе, — сообщал по этому случаю Анненков Тургеневу, — получено последнее согласие на издание Пушкина, но с некоторыми ограничениями. Как бы то ни было, — к половине октября начнётся печатание» (письмо от 11 октября).
Пятнадцатого октября Тургенев спрашивал из Спасского: «…вышло ли разрешение на печатание Пушкина?» — а 18 октября, получив письмо Анненкова, писал: «Душевно радуюсь получению разрешения насчёт Пушкина — наконец!»
Шестнадцатого октября Некрасов, в свою очередь, сообщал Тургеневу, что Анненков «Пушкина получил и на следующей неделе приступает к печатанию»[838], а 22 октября писал, что Анненков «в сильной деятельности, но что это за кулацкое безвкусие! Я ему помогаю в выборе бумаги, но не я буду виноват, если формат нового Пушкина будет уродлив и шрифт гадок, — уж эти статьи он решил! Шрифт (тонкий и узкий) особенно для стихов мне решительно не нравится. Издание скоро начнётся»[839].
Упрёки Некрасова[840] нельзя признать справедливым, но сообщение его о начале издания было верно: 22 октября помечены цензурные разрешения на I и II томах Сочинений (цензором А. И. Фрейгангом)[841], а 27 октября сам Анненков сообщал Тургеневу: «Наступили хлопоты для меня. Я печатаю Пушкина в двух типографиях[842] — бумага, обёртка, рисунки, шрифты, факторы, брошировка, — сон даже потерял. Первого ноября надеюсь увидать первую корректуру — будет мне это впечатлительно. Затем пойдут листы за листами, листы за листами. Не скрою, что страшно за себя, — ведь я собрал все мерзости последнего издания в примечаниях моих, а как сам наделаю ровно такое же количество их, то уж нехорошо. А русские корректоры и русские типографии на то и существуют, чтоб показать, как бы приятно было иметь настоящих корректоров и настоящие типографии…» «Посылаю вам корректуру (неисправленную) только что полученную моего объявления. Это из календаря на 1855 г., где оно будет приложено[843]. Такое же точно будет припечатано и во всех газетах. Напишите, достаточно ли? И так ли?[844] Да распространите около себя слух об издании. Деньги нужны, ах, нужны — менее 15 т. руб. сер. нельзя сделать, а их далеко, очень далеко ещё нет».
Незадолго до выхода в свет «Материалов» Анненкова ему пришлось вступить в спор с конкурировавшим с ним Бартеневым, — по следующему поводу. В № 71 «Московских ведомостей» от 15 июня 1854 г., в литературном его отделе, появилась 1-я глава работы Бартенева «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии», посвящённая детству поэта, причём в 4-м примечании к статье было сказано: «Большую часть сведений о детстве Пушкина мы заимствуем из записки, составленной со слов сестры его, Действ. Ст. Советницы Ольги Сергеевны Павлищевой, и приносим ей за то усерднейшую благодарность». Примечание это дало И. В. Анненкову повод спустя четыре месяца обратиться к Павлищеву с таким письмом:
Милостивый Государь
Николай Иванович!
Я обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою. В бытность вашу в Петербурге в 1851 году я просил вас составить записку о детстве Александра Сергеевича Пушкина, по воспоминаниям супруги вашей, для будущей биографии поэта, которую предполагал присоединить к новому изданию сочинений его, порученному мне тогда опекой над детьми покойного. Супруга ваша и вы сами были так добры, что приняли мою просьбу, и драгоценная записка о детстве Пушкина, написанная вашею рукою, была мне вручена тогда же. Впоследствии я передал как составление биографии поэта, так и приготовление издания брату моему Павлу Васильевичу Анненкову. После многих трудов, целого года высшего цензурного рассмотрения и наконец Высочайшего соизволения на издание как сочинений поэта, так и биографии его (куда с искренним изъявлением признательности за сообщение вошла и записка ваша) — я к удивлению нахожу в Московских Ведомостях 1854 года, № 71, в статье «Александр Сергеевич Пушкин», отрывки из вашей записки и всё содержание. Автор статьи г. Бартенев приводит её, как будто это была его собственность или поручена ему для опубликования.
Теперь, когда уже началось печатание нового издания сочинений Пушкина, вы легко поймёте, как неприятно будет брату моему носить упрёк в присвоении чужой собственности или употреблении материалов, не принадлежавших изданию. Вот почему обращаюсь к вам с убедительнейшей просьбой уведомить меня, дано ли было вами позволение г. Бартеневу к опубликованию записки вашей. В случае, если никакого позволения от вас не было, то я прошу вас послать в редакцию Московских Ведомостей или журнала «Москвитянин» небольшую записку с объяснением истины и с подтверждением, что записка исключительно принадлежит изданию Пушкина, которое теперь печатается.
В случае данного вами позволения, так как вы всегда имели право располагать своей собственностию, — убедительнейше прошу вас о публичном заявлении посредством тех же органов, что записка ваша первоначально была составлена по просьбе издателей нового собрания сочинений Пушкина. Вы понимаете, Милостивый Государь, настоящие причины моего домогательства, — тут дело не в интересах, а в сохранении честного имени перед публикою, что особенно и тревожит брата моего, нынешнего издателя Пушкина. Надеясь на прежнее ваше благорасположение, я смею ожидать ответа вашего, и если вы убедитесь в необходимости публикаций, по моему мнению неизбежных, то утруждаю просьбою о присылке с них копий. Вы согласитесь, что неприятно быть зачисленным в число тех писателей, которые не имеют понятия о правах литературной собственности и ради тщеславия посягают на всё, что ни попалось под руку или что плохо лежит.
Для отстранения даже и тени неблагородного подозрения, я прошу вас как от своего имени, так и от имени брата — услуги, которая совершенно сходна с истинною, как вы знаете.
С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга
1854 года октября 16 дня. И. Анненков.
Адрес мой: в Главном Штабе.
С. Петербург[845].
Павлищев, получив это письмо 23 октября, на другой же день ответил И. В. Анненкову, что он Бартенева не знает, и просил прислать ему № 71 «Московских ведомостей».
Получение этого письма Павлищевым совпало с получением О. С. Павлищевой письма Бартенева (от 30 октября); в нём Бартенев, посылая сестре Пушкина отдельные оттиски двух первых статей своих о поэте, благодарил её «за сведения, найденные им в записке её об детстве его», и просил «об исправлении и указании сделанных им ошибок». «Биография Александра Сергеевича, — прибавлял он, — есть дело общее: это одно даёт мне смелость обращаться к вам с подобною просьбою…» Между тем П. В. Анненков 13 ноября снова писал Н. И. Павлищеву, по тому же поводу использования Бартеневым записки Павлищева о Пушкине:
Милостивый Государь
Николай Иванович!
Я решаюсь лично благодарить вас за письмо ваше к брату моему Ивану Васильевичу, которым вы изволите подверждать права нового издания Пушкина на записку, вами составленную. Препровождаю при сём статью г. Бартенева. Если вы признаете нужным сделать какую-либо протестацию против самоуправства автора, то нескольких строк в Московских Ведомостях будет достаточно. Брат желал бы устранить своё имя из печати, так как всё издание передано мне, и я им один и занимался действительно. Во всём остальном просим вас поступить совершенно по вашему благоусмотрению и самим определить — пользу или бесполезность печатного объявления.
Подписка на новое издание Пушкина здесь открыта. Передо мной уже лежат первые 11 листов, вышедших из печати. Нет сомнения, что вы и супруга ваша получите первые экземпляры прямо из типографии.
Я бы желал знать, есть ли русские книгопродавцы в Варшаве, и можно ли открыть, посредством их, подписку и продажу Пушкин в Варшаве с той уступкой 10% в пользу комиссионеров, какую я здесь делаю всем вообще книгопродавцам. Я не смею утруждать вас каким-либо поручением, но желал бы знать ваше собственное мнение о возможности или невозможности приобресть покупщиков Пушкина в самом сердце Польши. Простите эту докуку заботливости человека, не очень богатого, который употребил 20 000 р. сер. на издание поэта, так близкого всем по всем отношениям[846].
Во всяком случае, прилагаю объявление о выходе издания[847] и остаюсь в надежде вашего ответа. Я живу вместе с братом: в Главном Штабе, в квартире Вице-Директора Инспекторского Д-та.
С глубочайшим уважением имею честь остаться покорнейшим слугою
С.-Петербург. Павел Анненков.
Ноября 13-го дня 1854[848]
Получив это письмо 22 ноября, Н. И. Павлищев на следующий же день, 23 ноября (5 декабря), писал жене Ольге Сергеевне в Петербург, где она жила с сыном и дочерью:
Некто Бартеньев, чуть ли не хромоногий гувернёр Шевичей, напечатал в Московских ведомостях статью: «А. С. Пушкин. Глава 1-я. Детство». В примечании к статье сказано: «Большую часть сведений о детстве Пушкина мы заимствуем из записки, составленной со слов сестры его, Действ. Ст. Советницы Ольги Сергеевны Павлищевой, и приносим ей за то усерднейшую благодарность».
Записку эту составлял я для Анненкова, по случаю издания им сочинений А. С-ча, с подробною биографиею.
Как издатель, дорожащий материалами и собираемыми сведениями, Анненков (не флигель-адъютант, а брат его Павел Васильевич) обратился ко мне с жалобою на Бартенева, который невесть с чего предал тиснению то, что ему не принадлежало и было написано для издателей полных сочинений А. С-ча. Конечно, неприятно и неловко теперь Анненкову печатать биографию с такими сведениями, которые, по-видимому, заимствованы из статьи Бартенева, тогда как напротив Бартенев едва ли законно огласил то, что принадлежало издателям Пушкина.
Посему-то Анненков просит меня объявить в газетах, что записка, составленная мною со слов твоих, мой друг, составлена была для него, как издателя Пушкина сочинений.
Из статьи Бартенева видно, что ты давала ему эту записку. Но отдавая её ему, не помнишь ли, что ты ему сказала: разрешала ли ею пользоваться как ему угодно, или давала ему только для прочтения? Согласно твоему ответу я напишу статью в Московские ведомости. Если он употребил во зло рукопись, данную ему только для прочтения, то взмою ему голову; если же он имел от тебя разрешение поступить с запискою как ему угодно, то ограничусь только объявлением, что она составлена мною для Анненкова, по желанию и просьбе его, как издателя сочинений П-на.
В заключение скажи, пожалуйста, у тебя ли эта записка или она осталась в руках Бартенева? Всё это — с первою почтою…[849]
Но ещё до получения этого письма О. С. Павлищева писала мужу (29 ноября): «От Соболевского… я получила довольно глупое письмо, ибо шуточки выкидывает некстати, посылает также печатный вздор [?!] Бартеньева Хромоногого насчёт сведений об Александре Сергеевиче с приложеньем от него письма ко мне, на которое, разумеется, отвечать не намерена»[850]. Этот тон не совсем понятного неблагожелательства к талантливому и усердному биографу ещё резче звучит в следующем письме О. С. Павлищевой к мужу, — от 3 декабря, — в ответ на приведённый выше запрос Павлищева:
Cet imprudent diable Bartenef m’a donné du fil à retordre; quel front d’airain! C’est inoui!!! je vous écris encore aujourd’hui pour vous dire que hier j’ai répondu à ses amabilités par Sobolevsky auquel j’ai écrit aussi quelques lignes pour le mettre au fait de la chose, en lui envoyant en même votre lettre concernant Bartenef. Mon épitre à celui-ci était inserrée sans être cacheté. Je priai Sobolevsky de la lui lire tout haut, devant les autres, et s’il le trouvait (нрзб.) nécessaire, de la publier même dans la Gazette de Moscou[851].
Вот письмо Бартенева при присылке его брошюрок[852]. На это я ему с месяц не отвечала и не хотела отвечать, но твоё письмо вынудило меня уже написать. —
«М. г. Пётр Иванович! — Получивши письмо ваше чрез Сергея Александровича, я была чрезвычайно удивлена изъявлением вашей признательности за данные будто бы мной вам сведения о детстве А. Сер. Я вовсе её не заслуживаю, удивляясь лишь только тому, кто бы мог сообщить вам оные от моего имени; конечно, не господин Анненков, которого статья ваша, публикованная в Московских ведомостях, привела в справедливое негодование против меня и моего мужа.
Муж мой единственно для господина Анненкова составил из слов моих краткое начертание о детстве покойного брата, и в то время (нужно ли мне вам это напомнить?), когда вы меня расспрашивали о нём, я лишь советовала вам обратиться к самому г. Анненкову или к Сергею Александровичу Соболевскому, у которого тогда находилась копия с оного. Мне же очень понятно, что если б даже я и хотела удовлетворить вашему любопытству, я не была в состоянии этого сделать, страдая жестокой головной болью, которая и принудила меня чрез минут десять прекратить с вами мою беседу; с тех пор я не имела удовольствия нигде вас встретить. Позвольте же мне вам повторить, что я никак со стороны вашей не заслуживаю благодарности; изъявите оную тому, кто вам доставил, без моего согласия, материалы для вашей статьи и даже совершенно без моего ведома. О. П.»
J’ai été pressée de lui envoyer cette lettre que je ne pensais ni à corriger le style, ni les fautes qui probablement s’y sont glissées, Léon étant déjà parti pour son université, — toutefois je prie Sobolevsky de le faire s’il juge à propos de l’inserrer dans les Московские Ведомости; je ne crois pas pourtant qu’il se donne cette peine[853], для этого надо бы и предыдущую статью об этом написать, и потому не сделаешь ли ты сам этого, предуведомляя, однако Соболевского обо всём. Бартенев же присылает свой адрес: в Москве, на Молчановке, в доме Ст. Сов. Бахметева; Соболевского же — на Девичьем поле, в доме Мальцова…[854]
Вскоре Соболевский, получив упомянутое письмо О. С. Павлищевой (нам неизвестное), послал самому Н. И. Павлищеву следующее любопытное письмо.
На днях, любезный Павлищев, получил я письмо от Ольги Сергеевны, к которому приобщено было ваше от 23 ноября (5 декабря). Претензии Анненкова вздорны: вот как было дело:
Приезжаю раз к Ольге Сергеевне и прошу её о позволении привезти к ней некоего юношу Бартенева, ревностного собирателя сведений об Александре Сергеевиче. Позволение мне дано: впрочем, промолвила Ольга Сергеевна, всё, что я знаю и помню о детстве брата, внесено в эту тетрадь; возьмите её и сообщите ему. Тут не было прибавлено ни слова об том, чтобы вышеписанная театрадь была составлена для особой цели или в пользу какого-нибудь лица; ergo: Бартенев имел полное право пользоваться её содержанием; я же имел не только право, но и обязанность сообщить тетрадь Бартеневу.
Из сего следует, что вы, любезнейший Павлищев, не имеете ни малейшего повода претендовать на Бартенева de jure. А что и de facto претендования на него быть не может, в том уверитесь вы из самой его статьи, при сём прилагаемой. Статья содержит 66+16 страниц (82 страницы), каждая страница содержит до 35 строк; положим только 80 страниц по 30 (только) строк на каждую; и так написано на этот раз Бартеневым 2400 строк.
Сколько заимствовано Бартеневым из тетради Ольги Сергеевны и не было прежде у Бантыша-Каменского и других биографов?
1) то, что мать Пушкина называли креолкою,
2) то, что Дельвигу нравились письма бабки Пушкина (другие подробности о сей последней слышаны Бартеневым от родной его тётки Надежды Петровны Бурцевой, которая коротко знала Марью Алексеевну Ганнибал и Надежду Осиповну Пушкину),
3) Анекдот: Ну нечего скалить зубы[855],
4) то, что сказано о первых поэтических стихах Пушкина.
5) то, что Пушкина крестил Воронцов[856]
Вот и всё. Остальное о детстве Пушкина взято из Бантыша-Каменского, писавшего со слов Сергея Львовича.
Ergo, из 2400 строк статьи Бартенева только 50 (ad maximum, и то гораздо меньше) почерпнуты из того, что есть в статье, писанной со слов Ольги Сергеевны.
Удивляюсь мелочности наших Литераторов и их жадности. Как не делиться тем, что есть или что знаешь? Например, хорошо ли бы я сделал, если бы сохранил у себя и для себя ту массу стихов (из Онегина, Бориса Годунова, Кто знает край, где небо блещет[857]; Какая ночь, мороз трескучий и пр.), которую я немедленно после смерти Пушкина и возвращения моего из-за границы отдал в Современник 1838 года? Хорошо ли бы я сделал, держав под спудом найденную мною в бумагах Льва статью об Александре (она напечатана в Москвитянине)[858] и наконец, неужели мне теперь, когда выйдет биография Анненкова, чинить на него суд за всё то, что Анненков поместил в неё вероятно из 36 писем Александра к Льву, писем, принадлежащих моему опекунству, мною самим переписанных и сообщённых многим, разумеется не для корысти, а в пользу отечественной Литературы?
Для оной же пользы замечу, что я вышереченных писем никому не сообщал в оригинале, а сам списывал их прежде, дабы исключить некоторые шуточки или намёки на лица семейные или живущие, от чего в ходячем списке произошли такие перемены и перестановки, коими я приобрёл возможность доказать всем и каждому, что эти письма до меня никому и никем сообщены быть не могли и что, следовательно, всякое их обнародование есть нарушение собственности малолетних, коих имущество вверено моему попечению.
6/18 декабря 1854. Прощайте. Весь ваш Соболевский
Москва,
дом Мальцова на Девичьем поле
Наше дело в Ломбарде подвигается к концу и по полученным мною сведениям, вам уплата учинится послезавтра (8-го числа). Дай Бог! 3000 по заёмному письму также есть чем уплатить, о чём мною приказано. А как мы уплатили прочие долги (долги собственно Льва Сергеевича) — это весьма гадательная статья[859].
Седьмого декабря О. С. Павлищева снова упоминала в письме к мужу «насчёт Бартенева» и сообщала, что 29 ноября писала ему, переписав письмо к ней Бартенева и свой ответ последнему; «будет ли мне отвечать Соболевский, это ещё вопрос»[860]; но Соболевский ответил, — что видно из письма О. С. Павлищевой к мужу от 16 декабря: «Sobolevsky m’a écrit, il prétend que je lui avais donné la copie de l’article concernant son [т. e. Пушкина] enfance rien que pour la communiquer à Bartenief; il prend le parti de ce dernier, cela va sans dire — comment ai-je pu le faire? Sobolevsky avait déjà la copie et ce n’est que pour me débarrasser du diable boiteux[861] que je renvoyais celui-ci à Sobolevsky[862]. Я не ожидала такой плохой шалости от Соболевского». Несмотря на то, что, как видно из этих слов О. С. Павлищевой, она сама была виновата в том, что записка попала к Бартеневу, она считала виновными и Бартенева, и Соболевского.
Приведённое выше письмо Соболевского от 6/18 декабря не убедило и Павлищева в правоте Бартенева и в неосновательности Анненкова, — и он в тот же день составил следующее заявление, которое, судя по помете его на черновике, было составлено им 22 декабря 1854 г. (3 января 1855 г.) при письмах в редакции «Северной пчелы» (Булгарину), «Москвитянина» (Погодину) и «Московских ведомостей». В заявлении этом, указав на печатную благодарность Бартенева О. С. Павлищевой за её записку о детстве Пушкина, он писал: «Автор статьи выразился неясно. За что именно благодарит он? Я знаю, что он благодарит за сведения, найденные им в записке, благодарит сестру поэта за то, что она передала на бумагу воспоминания свои о детстве брата; но другие могут подумать, что благодарность изъявляется ей за сообщение самой записки, тогда как подобная благодарность должна быть изявлена не ей, а тому, кто сообщил г. Бартеневу записку. Это требует объяснения[863]. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина, со слов сестры его, моей жены, написал я в Петербурге, в 1851 году, для издателя сочинений Пушкина Павла Васильевича Анненкова, будучи свидетелем усердного желания его обогатить новое издание биографиею, достойною памяти нашего поэта. Таким образом записка эта сделалась собственностью П. В. Анненкова и вошла в состав биографии поэта гораздо прежде, нежели г. Бартенев почерпнутые в ней сведения напечатал в Московских Ведомостях. Варшава. 19 (31) декабря 1854 г.»[864]
Между тем О. С. Павлищева продолжала негодовать на Соболевского. 4 января 1855 г., упоминая о посещении Ф. Ф. Вигеля, она писала: «Соболевского он терпеть не может, — кажись за эпиграмму на его счёт, — а сей напакостил с Бартеневым и увёртывается правдоподобною ложью» — и прибавляла: «Надоели мне все эти господа, — не думала, не гадала — попала под тиснение, что меня почти бесит…»[865] Когда же вскоре заявление Н. И. Павлищева было напечатано в «Москвитянине» (1855, № 1, кн. 1, с. 200)[866], оно очень раздражило, в свою очередь, Соболевского, судя по письму О. С. Павлищевой к мужу от 25 февраля. «Соболевский, — читаем здесь, — бесится за твою статью в Москвитянине, il dit: „Votre époux a fait inserrer dans le Москвитянин un avis tout à fait déplacé et injuste à propos de Bartenief — je vous en remercie tous les deux de ne pas savoir à votre âge ménager vos vieux amis!!! с выноской: par rapport à ce qui me concerne“»[867].
Перед выходом в свет первых томов анненковского издания в ноябрьской книжке «Современника» появилась информационная заметка, принадлежащая, быть может, перу одного из редакторов журнала — Панаева или Некрасова, из коих последний, как мы видели, принимал участие в судьбе издания и очень им интересовался. Такие же заметки были напечатаны в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1854, № 255) и в «Журнале Министерства народного просвещения» (1854, ч. LXXXIV, отд. VII, с. 91); в последней сообщалось: «Собрание сочинений Пушкина, — появившееся вскоре по кончине его, около пятнадцати лет тому назад, сделалось ныне в продаже весьма редким, и потому нельзя не порадоваться, что представляется случай иметь новое издание сочинений нашего незабвенного Поэта, стяжавшего произведениями своими столь заслуженную славу»; при этом давалась информация об анненковском издании, извлечённая из объявления о нём. В упомянутой статье «Современника» читаем следующее:
«Современник», для которого не может не быть дорога память незабвенного его основателя, неоднократно сетовал, что «Сочинения Пушкина» изданы у нас в разгонистых одиннадцати томах, с опечатками, без хронологической или какой-нибудь другой системы, без необходимых примечаний и, наконец, без биографии Пушкина, о которой до настоящего времени публика знает менее, чем об ином обыкновенном авторе, беседующем с читателями о самом себе в своих статейках. К этим сетованиям в последнее время можно было присоединить ещё, что каково бы ни было издание Пушкина, но уж и его в продаже по обыкновенной цене не имеется, и вся вновь прибывающая масса читателей или должна обходиться без Пушкина, или платить за издание баснословную цену, именно: от тридцати пяти до сорока рублей серебром за экземпляр! По всем этим и ещё по многим другим, понятным русскому читателю причинам, мы чувствуем неизъяснимое удовольствие, имея наконец возможность объявить, что в скором времени Россия будет иметь новое, как мы надеемся — прекрасное издание сочинений своего национального поэта. Нынешний издатель Пушкина литератор — и, следовательно, понимает своё дело и всю важность моральной ответственности за выполнение его перед всеми образованными русскими; поэтому должны думать, что он сделает всё, что только будет возможно, чтоб сообщить изданию полноту, отчётливость и все качества, придающие подобному труду характер строго-классический. Мы слышали, что издание расположено в хронологическом порядке, проверено с прежними изданиями и подлинными рукописями Пушкина, снабжено необходимыми примечаниями и, наконец, дополнено новыми стихотворениями, которые посчастливилось издателю найти в бумагах поэта и которые, таким образом, явятся в издании г. Анненкова в первый раз в печати. Равным образом собрано и включено в состав издания всё, что было обнародовано из произведений Пушкина, по выходе одиннадцати томов его «Сочинений». Наконец, к изданию приложена будет подробная биография Пушкина, богатая новыми и любопытными фактами, материалом для которой послужили бумаги самого поэта, письма его к разным лицам, записки о нём брата его Льва Сергеевича и других лиц, близких Пушкину. Имея в руках так изданного Пушкина, читая его биографию (которая одна составит значительный том), где рядом с фактами жизни прослежены многие любопытные особенности его творчества, присматриваясь к почерку поэта, к его портрету, к рисункам, которые он иногда рисовал на полях своих рукописей (что всё войдёт в издание г. Анненкова), читатель получит возможность как бы перенестись в мастерскую великого поэта, из которой вышли бессмертные создания его гения. Вот какого издания «Сочинений Пушкина» давно и горячо желал «Современник»! И мы уверены, что наше желание разделяла вся читающая Россия. Кажется, нет причины сомневаться, чтоб всё сказанное нами не осуществилось именно так, как здесь сказано. Издатель приступил уже к печатанию «Сочинений Пушкина». Всё издание будет состоять из шести или семи томов (смотря по тому, как удобнее будет разместить) и будет стоить, вместе с биографией и другими приложениями, 15 рублей серебром с пересылкою, а без пересылки 12. Первые три тома издатель обещает в марте 1855, остальные в течение лета того же года. За дальнейшими подробностями адресуем читателей к объявлению г. Анненкова, которое должно вскоре появиться в свет[868].
6 января 1855 г. Плетнёв в письме к кн. П. А. Вяземскому писал: «Про биографию Пушкина, составленную Анненковым, вы, конечно, уже слышали. Она содержит в себе столько подробностей, что из неё одной выйдет том…»[869] — а 12 января Некрасов просил Анненкова: «Принесите мне завтра полный экземпляр биографии Пушкина, — я начну о ней писать…»[870] К этому дню, очевидно, книга ещё не вышла в свет, но уже несколько дней она была в руках читателей, с нетерпением ожидающих нового издания Пушкина. Успех его, как выяснилось сразу, был блестящий и прочный — общество приняло его с восторгом. Семнадцатого февраля Анненков угощал своих друзей обедом по поводу выхода двух первых томов своего труда[871].
Несколько отзывов современников покажут их отношение к изданию Анненкова. М. Н. Катков 6 апреля 1855 г. писал редактору, благодаря его за «драгоценный подарок»: «Труд ваш истинно почтенный. Ваши замечания и взгляды, проблескивающие в биографических материалах и комментарии, прекрасны… Успех издания несомненен»[872]. В то же время, предваряя своею заметкою статью об издании Анненкова К. Н. Бестужева-Рюмина, Катков писал: «Предприятие это есть событие важное в нашей литературе. Мы уверены, что новое издание Пушкина будет иметь благотворное влияние на умственную производительность у нас. Честь и слава даровитому издателю! Сколько усилий, сколько трудов, сколько кропотливых разысканий и притом — сколько свежих и остроумных мыслей, высказанных им в биографии нашего славного поэта!..»[873] В. С. Аксакова, читая с отцом, С. Т. Аксаковым, издание Анненкова, отметила в дневнике своём: «Продолжаем читать Пушкина; замечательного, любопытного чрезвычайно много…»[874] Герцен, познакомившись с изданием, назвал его «полным и превосходным»[875].
«Я чрезвычайно доволен новым Пушкиным, — писал С. А. Соболевский М. Н. Лонгинову по получении I и II томов издания Анненкова. — Не могу не радоваться тому усердию, с которым Анненков изучил своего Автора в печати и рукописях… Умно уже и то, что Анненков назвал это: материалами… Труд Анненкова прекрасен, особенно если вспомнить все трудности, с которыми следовало ему бороться, чтобы, и вне интимности, высказать многое, особенно если вспомнить, что он должен был решиться сказать несколько глупостей в виде пачпорта истине[876]. Другая уловка: сообщить публике неконченое, не доделанное или исключённое так, чтобы оно не пропало и чтобы, однако же, не пришлось прибегать к собственному рукоделию, — весьма счастлива… Благодарю Анненкова 1) за приличный и благородный тон его труда; 2) за отсутствие возгласов и хвалебных эпитетов, знаков восклицания и других типографских прикрас (NB Это было бы приятно Пушкину самому, любившему во всём приличие и порядность); 3) за то, что он не восхищается эпиграммами Пушкина, приписывает их слабости, сродной со всем человеческим, и признаёт их пятнами его литературной славы (c’est le premier biographe qui ait osé dire celà de son héros, que je sache[877])… Что он ни слова не упоминает о Гавриилиаде…»[878]
Очень доволен был биографией Пушкина и Погодин; это видно из дневника его. «Читал Пушкина и приписывал, что помнил. Был очень рад», — записал он 31 января 1855 г., а на другой день отмечал: «Всё утро с великим удовольствием за биографией Пушкина; вспоминал и плакал»[879]. Написал он и Анненкову письмо с похвалою его труду; благодаря Погодина за это «доброе слово», Анненков писал ему с некоторым упрёком:
«Если бы вы исполнили намерение своё изложить письменно свои заметки, впечатления, опровержения и дополнения — вы дали бы драгоценнейший документ к жизненной стороне биографии. Что в молодости и в кончине есть пропуски, — не удивляйтесь. Многое даже из того, что уже напечатано и известно публике, не вошло и отдано в жертву, для того, чтобы, по крайней мере, внутреннюю, творческую жизнь поэта сберечь всю целиком. И она, благодаря благороднейшему нашему министру и содействию умного Л. В. Дубельта, — сбережена по возможности. Пропасть, однако ж, она — эта жизненная сторона — не может совсем; есть и у меня кой-что, но ещё более есть у вас. Напишите же, сообщите, разъясните облик поэта в тех местах, где он скучен в биографии или где не дописан или криво написан. Во всяком случае, одобрение, выраженное вами, сказать без фразы, дало мне веру в мою работу. Всякий будет занимателен, когда заговорит о таком человеке, как он; но если очевидец и приятель скажет: похоже, — это уже другое дело»[880].
Зять Пушкина, Н. И. Павлищев, писал Анненкову из Варшавы 3 (15) марта 1855 г., по получении «Материалов» и II тома Сочинений.
Милостивый Государь Павел Васильевич.
Я не мог оторваться от первого тома Вашего издания сочинений Пушкина: так увлекательно сказание Ваше о жизни Пушкина под скромным названием материалов. Примите же самую тёплую благодарность мою за доставление первых двух томов; продолжения ожидаю не один я, — ожидает вся читающая Русь.
При засвидетельствовании душевного почтения Ивану Васильевичу, искренно желаю, чтобы помнили и любили вашего покорнейшего слугу Н. Павлищева[881].
Высокого мнения об издании Анненкова был и друг Пушкина — И. И. Пущин, который выразился, что Анненков «запечатлел свой труд необыкновенною взыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку»[882].
Наконец, показателем единодушно восторженного отношения к труду Анненкова служит и тот факт, что друзья издателя чествовали его по случаю выхода в свет первого тома Сочинений торжественным обедом, состоявшимся 17 февраля 1855 г.[883], затем поднесли ему экземпляр этого тома в хорошем шагреневом переплёте, с надписью на первом белом листе книги: «Автору образцовой биографии Пушкина и добросовестному издателю сочинений великого нашего поэта — Павлу Васильевичу Анненкову — от его литературных друзей и знакомых в память обеда 17 февраля 1855 года» — и с подписями: «Иван Тургенев, Иван Панаев, Василий Боткин, Ник. Некрасов, Александр Дружинин, Мих. Михайлов, Михаил Авдеев, Алексей Писемский, А. Майков, Г. Геннади, В. Гаевский, Е. Корш, М. Языков, А. Жемчужников, гр. Алексей Толстой, Арапетов, Н. Гербель, Я. Полонский»[884].
Отзывы критики были также единогласно благоприятны для Анненкова. Приведём из этих отзывов некоторые, в отрывках и в тех частях, которые обрисовывают взгляды современников Анненкова на задачи биографа и издателя сочинений Пушкина.
Критик «Современника», говоря о «Материалах», писал: «Это первый труд, который надлежащим образом удовлетворяет столь сильно развившемуся в последнее время стремлению русской публики познакомиться с личностями деятелей русской литературы… Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, и вместе с ними незабвенною навеки останется личность Пушкина. Важный труд, который знакомит нас с нею, представляется г. Анненковым в совершенно обработанной литературной форме. Кропотливая мелочная работа сличений и поисков, ему предшествовавшая, не выставляется на первом плане, затемняя для читателя черты великого писателя и его трудов; исследователь даёт нам завершённую картину жизни и творчества Пушкина…»[885] В другом месте тот же критик писал о том, «как много новых и чрезвычайно важных данных заключается в „Материалах“, с добросовестною неутомимостью собранных г. Анненковым, как внимательно и проницательно г. Анненков старался объяснить нам личность великого нашего поэта, как основательно и осмотрительно он разгадывает черты его характера»[886].
В «Отечественных записках», в отзыве В. П. Гаевского, читаем: «Если „Материалы“ г. Анненкова не представляют полного собрания всех напечатанных материалов и указаний для биографии поэта, зато они представляют много неизданного, в высшей степени любопытного и проливающего совершенно новый свет на жизнь и деятельность Пушкина. Вообще, немногие из биографов имели возможность пользоваться для своего труда такими богатыми данными, как г. Анненков, и потому необыкновенный интерес и совершенная новость нескольких страниц „Материалов“ вполне выкупают некоторую неполноту их в библиографическом отношении». Особенно подчёркивал В. П. Гаевский у Анненкова «новость фактов, поражающую внимание читателя во многих местах биографии»[887].
А. В. Дружинин в «Библиотеке для чтения» поместил восторженный отзыв о «Материалах» Анненкова, составленных, по его мнению, «с редким талантом и с редкою проницательностью»[888].
«Библиографический труд нашего издателя всеми встречен с заслуженным одобрением», — свидетельствует тот же Дружинин в отзыве о III и V томах сочинений[889], но замечает при этом, что «честный и благородный труд г. Анненкова должен служить только началом других трудов о том же предмете и сам г. Анненков хорошо сделает, если будет продолжать, в каком угодно виде, свои исследования о жизни, характере, мнениях и занятиях усопшего поэта. Ещё не все факты, ему известные и им собранные, вошли в состав „Материалов“, ещё далеко не все источники им исчерпаны. Стоит подумать о том, что ещё может быть рассказано читателю о жизни Пушкина. Кто из наших литераторов своим глазом видел село Михайловское или село Болдино, имена которых навеки должны остаться в русской словесности? Если люди имеют у себя в кабинете виды Нюстидского аббатства и заезжают в Шотландию для того, чтобы пройтись по залам Абботсфордского замка, то как же нам не знать вида, местоположения, физиономии уголков России, посреди которых создавались „Онегин“, „Русалка“, „Медный всадник“, „Цыгане“? Раз коснувшись деревенской жизни Пушкина, мы должны сказать, что окрестности Михайловского до сих пор наполнены имениями, которых помещики, люди весьма образованные, лично знали поэта, видались с ним беспрестанно и в настоящую пору, без сомнения, могут доставить приезжему исследователю десятки любопытных подробностей про жизнь, привычки и беседы Александра Сергееча. В Петербурге и Москве равным образом можно насчитать несколько искренних друзей покойного, его родственников, его лицейских товарищей, которым дороги слова поэта, любезно его имя. Кто из названных нами лиц найдёт неуместными расспросы биографа или не сделает всего, что от него зависеть будет, для облегчения трудной задачи? Нам самим приходилось не раз беседовать с людьми, пользовавшимися дружбой Александра Сергеевича, и мы можем сказать с полной уверенностью, что с их стороны сам назойливый Босвелль (если б предположить его существование в наши дни) не встретит ни осуждения, ни холодности. Для всех дорога память поэта, но из этого не следует, чтоб новые о нём сведения приходили к биографу сами, без хлопот, разъездов, новых знакомств и просьб всякого рода. Иначе и быть не может — приготовительный труд разве когда-нибудь бывает лёгок? Знакомившись с местами, в которых жил Пушкин, и собрав запас характеристических сведений о его жизни и привычках, биограф должен будет приступить к занятию, весьма не лёгкому и у нас ещё новому, именно к сохранению беседы (table-talk) покойного поэта, насколько оно будет возможно. Нельзя думать, чтоб из значительного числа особ, близко знавших Пушкина, не нашлось ни одной, запомнившей некоторые речи Александра Сергеевича и способной передать их с некоторой верностью. Автор „Онегина“ обладал замечательным разговорным талантом, был жив и остёр в беседе; сверх всего этого он мог назваться любимейшим писателем своего времени, оттого его речи не могли выслушиваться без внимания и скоро забываться. Конечно, если биограф захочет бесед, словно записанных стенографом, он ошибётся в своих изысканиях, но ему надо помнить, что в беседах важен дух речи, а не её буквальная верность истине. Мур не записывал своих разговоров с Байроном, сам Босвелль, конечно, передаёт нам беседы Джонсона не с полной верностью, — но тот и другой выполнили свою задачу прекрасно. До сих пор в свете ходят остроумные шутки Пушкина, его саркастические отзывы о том или другом из знакомых людей (имён нам не нужно, и биографу нечего о том думать), с помощью некоторых усилий эти disjecta membra poëtae могут быть приведены в систему и спасены от всепоглощающей реки забвения. Для того, чтоб с успехом трудиться по части сохранения свету частных бесед Пушкина, биограф должен соединять большую неутомимость с не меньшей изобретательностью. Он должен помогать лицам, от которых добивается сведений, и, облегчая их занятия, водворять порядок в массе собственных приобретений. Тут не мешает иметь своего рода систему, равно полезную и для самого биографа, и для того лица, которое сообщает ему свои личные воспоминания. Положим, например, что мы собираем сведения о беседах Пушкина и для этой цели сошлись с человеком, имевшим наслаждение часто с ним разговаривать. Если обе стороны при свидании захотят кончить всё дело разом, в какой-нибудь час времени наговорившись о поэте и разговорах его, — ничего дельного не выйдет из подобного свидания. Годы прошли недаром, впечатления утратили свою свежесть, наконец, самое занятие (воспоминание о частном разговоре за столько лет назад), на первый раз, кажется таким странным занятием! Но положим, что и мы, и лицо, желающее дать нам нужные сведения, приступаем к делу не торопясь, помогая друг другу, — насколько будет облегчено общее дело! Мы условливаемся в самой методе рассказов и таким образом создаём вокруг себя некоторый порядок. Беседы с Пушкиным, о которых идёт здесь речь, относятся, например, к 18** году, происходили они в Петербурге, осенью. О чём говорили в Петербурге в 18** году? чем Пушкин занимался в это время? какие дела сближали его с нашим теперешним собеседником? в чьём доме они видались и в их беседах участвовали ещё какие лица? Как отзывался поэт о предметах, составляющих обычную тему городских разговоров, как судил он о музыке и театре, о семейной жизни, о деревенских занятиях, „о Шиллере, о славе, о любви“, говоря его словами? После таких вопросов самый рассеянный человек почувствует свою память хотя немного освежённою. Далее: в том году, о котором идёт речь, печаталось ли что-нибудь замечательное в русской литературе? не предпринимал ли поэт какого-нибудь занятия? не происходило ли в его жизни каких-либо перемен? Лишним считаем выписывать здесь ряды вопросов, из которых каждый может навести рассказчика на забытую мысль, фразу, особенно меткое выражение, на отзыв, на предмет беседы за целый вечер…»[890]
«Теперь, когда издание г. Анненкова опять обратило глаза всей просвещённой России на поэта, дорогого её сердцу, — теперь, говорим мы, надо торопиться говорить о Пушкине, надо делать исследования о жизни Пушкина. Поспешим же сохранить то, что может быть сохранённым. Поспешим от души попросить каждого из бывших сверстников и товарищей поэта набросать свои о нём заметки и сохранить свой труд для будущих биографов. Время не ждёт никого, годы идут своей чередою, унося прошлое, гася воспоминания, изменяя самый вид мест и людей. Мы слышали, что село Михайловское уже во многом утратило физиономию, которую оно имело во время Пушкина; а мы ещё не имеем ни описания Михайловского, ни рисунков дома, в котором обитал первый из певцов русских. Пройдут ещё года и последуют ещё перемены. Всепоглощающая река забвения нахлынет на воспоминания о частной жизни Александра Сергеевича, — и труд самого искусного биографа сделается невозможностью. Трудитесь же, почтенные любители русского слова, не откладывайте предприятий ваших! Почтимте память поэта, доставившего нам столько наслаждений, и честным трудом нашим постараемся заслужить благодарное слово от будущих поколений!»[891]
Таковы были главнейшие отзывы печати, и недаром наиболее крупный из преемников Анненкова в работах по Пушкину и живой свидетель времени появления в 1855 г. сочинений поэта под редакцией Анненкова — Л. Н. Майков уже на склоне дней вспоминал о том «сильном впечатлении, которое произвело в обществе и особенно — в литературных кругах» это издание. «Среди однообразия тогдашней литературы какою свежестью пахнуло от этих красиво напечатанных страниц, на которых читатели, рядом с давно знакомыми и давно любимыми произведениями славного поэта, встретили новые, дотоле неизвестные в печати откровения его музы и затерянные в старых журналах яркие блёстки его гениального дарования и могучего ума! Какою драгоценностью казались сведения о жизни и творчестве Пушкина, собранные во введении, которое автор-издатель скромно назвал „Материалами“ для биографии поэта! Что издание Анненкова не вполне исчерпало литературное наследие, уцелевшее в бумагах Пушкина, — об этом стало известно очень скоро, и сам издатель поспешил пополнить по возможности пробелы своего труда, выпустив в 1857 году седьмой, дополнительный том к шести, изданным за два года перед тем. Но сила впечатления, произведённого изданием, зависела не от новых дополнений, а от того, что в труде Анненкова создания поэта являлись впервые в исправном, не испорченном опечатками тексте, расположенные в правильном хронологическом порядке и умно объяснённые трудолюбивым и внимательным биографом. На читателя благотворно действовало то благоговение, с которым издатель относился к своему делу. Если за Белинским остаётся заслуга первой критической оценки Пушкина в связи с общим развитием новой русской литературы, то прекрасное начало научному истолкованию художнической деятельности поэта в связи с событиями его жизни положено было, без сомнения, П. В. Анненковым»[892].
Когда, два года спустя после выхода I—VI томов сочинений, Анненков, пользуясь наступившею большею свободою цензуры, выпустил VII, дополнительный том своего издания, — снова раздался целый хор хвалебных отзывов, в которых давалась и общая оценка всего труда. Так, мы уже приводили выше восторженный отзыв такого осведомлённого знатока дела, как библиограф М. Н. Лонгинов[893]; так, А. В. Станкевич в журнале «Атеней» писал: «П. В. Анненков положил прочные основания биографии Пушкина, он сделал всё, что было в его власти, всё, что мог он сделать в данное время и при данных материалах, указаниях и сведениях о поэте». Но, прибавлял он, «сколько вопросов относительно деятельности и жизни Пушкина пробуждает биограф прекрасным трудом своим, вопросов, на которые до сих пор не может быть ответа! Личность, жизнь и деятельность нашего поэта будут тогда только вполне ясны и вполне понятны, когда все подробности, касающиеся их, будут обнародованы теми, кто имеет на это возможность и право. Пора являться в печати подлинным письмам Пушкина, подробным заметкам и воспоминаниям о нём и обо всех обстоятельствах его жизни, со стороны лиц, имеющих что-либо сообщать в этом отношении. Это — долг последних русской литературе и русскому обществу. Выскажем желание, чтобы срок уплаты по этому долгу не отдалялся произвольно на неопределённые времена. В конце седьмого и последнего тома сочинений Пушкина приложены издателем алфавитные указатели стихотворных и прозаических произведений, а также подробный указатель к материалам для биографии Пушкина, помещённым в первом томе издания. Всё это сделано с такою тщательностию и представляет читателю такие удобства, к которым мы до сих пор не приучены русскими изданиями»[894].
В «Библиотеке для чтения», в рецензии И. Л., говорилось по поводу «Материалов» Анненкова, что издатель, «не дозволяя себе ни одного хоть сколько-нибудь гадательного положения и основываясь везде на тщательном изучении предмета, на фактах и самой строгой, учёной их проверке, скуп на выводы и приговоры, но зато выведенные им положения драгоценны, как твёрдые и точные определения науки…»[895].
Один из лучших пушкинистов той эпохи, Е. И. Якушкин, в 1858 г. также писал, что «издание г. Анненкова во многих отношениях может быть названо образцовым. На это название дают ему право: система, принятая издателем, многочисленные примечания и превосходно составленные материалы для биографии поэта, которые, при всей неполноте своей, могут по справедливости считаться лучшим биографическим трудом в русской литературе»[896]. Последующие редакторы Сочинений Пушкина — Г. Н. Геннади и Н. В. Гербель — широко пользовались изданием Анненкова и не опорочивали его; зато П. А. Ефремов в своём издании 1880 г. сделал, со свойственной ему резкостью и неблагожелательностью, много выпадов против Анненкова, находившегося тогда ещё в живых[897]. По поводу ожесточённых полемических нападок Ефремова Анненков дал горькую, но справедливую отповедь в специальной статье об издании самого Ефремова, напечатанной в «Вестнике Европы» (1881, № 2)[898].
Немного позднее строго критиковал издание Анненкова и В. Е. Якушкин, считавший, что Анненков «пренебрёг значительною, большею частью бывшего у него в руках материала»[899]. Упрёки эти поддерживал и цитованный выше Венгеров, говоривший, что Анненков в отношении пушкинских текстов сделал далеко не всё, что следовало сделать историку литературы и библиографу, которому выпало счастие получить в своё распоряжение такую драгоценность, как бумаги Пушкина[900], а по поводу «Материалов для биографии» писавший, что это «действительно, одни только „материалы“, в которых лично Анненкову принадлежащее и в количественном и в качественном отношении занимает совершенно второстепенное место. Как сборник документов, выписок из бумаг Пушкина и устных рассказов лиц, знавших поэта, „Материалы“ Анненкова, однако, имели чрезвычайно важное значение в своё время», признаётся Венгеров. Но если их рассматривать как литературное произведение, то ценность «Материалов», по мнению Венгерова, будто бы «донельзя темно, вяло и малоинтересно написанных», совсем не велика. «Страстная, кипучая натура Пушкина совершенно пропадает в бледном изображении Анненкова, — вместо полной высокого драматизма картины жизни несчастного поэта получается какой-то ряд сухих справок». Впрочем, Венгеров готов был объяснять последнее обстоятельство причинами, вне автора стоявшими, то есть цензурными условиями времени появления «Материалов»[901], на которые, напомним кстати, указывал и сам Анненков в статье своей «Любопытная тяжба»[902]).
Подводя итоги литературным заслугам Анненкова в его некрологе, А. Н. Пыпин делал такой вывод об анненковском издании Пушкина: «Предприятие Анненкова было особенно ценно в обстоятельствах, среди которых жила тогда наша литература. Обстоятельства были очень малоблагоприятные. Окружённая тяжёлым недоверием и подозрениями, литература едва хранила нить предания сороковых годов, и издание Пушкина приобрело цену нравственного ободрения; это было притом не только напоминание, но в значительной степени и реставрация писателя, который для критики сороковых годов был величайшим явлением русской литературы и залогом её будущего. Труд Анненкова был первый в своём роде опыт исследования внешней и внутренней биографии писателя, истории его содержания и способов творчества. Позднее, когда подобные изыскания установились и размножился вообще историко-литературный материал, не трудно было указать недосмотры и ошибки в работе Анненкова; забывают только, что в подобных случаях чрезвычайно важно и особенно трудно бывает именно начало. Как притом мудрено было внешнее положение Анненкова в качестве издателя Пушкина, можно видеть из того, что когда по окончании издания наступили более благоприятные цензурные условия, Анненков мог издать в 1857 г. целый дополнительный том»[903].
Благоприятен для Анненкова и отзыв современного пушкиноведа Н. О. Лернера, который признаёт, в свою очередь, что работа Анненкова «не утратила до сих пор своего значения» и что, несмотря на то, что «позднейшая специальная критика обнаружила и до сих пор продолжает обнаруживать много недостатков в его комментаторском, редакторском и биографическом труде, обличая и ошибки в освещении предметов, и шаткость метода, и общую небрежность, — нельзя не признать, что именно Анненков положил начало наукообразному пушкиноведению» и что его «Материалы для биографии Пушкина» «в некоторых отношениях служат даже первоисточником» и «изучение Пушкина без них немыслимо»[904]. Наконец, новейший исследователь текстов Пушкина Б. В. Томашевский считает издание 1855—1857 гг. «первым критическим изданием сочинений Пушкина», говоря, что Анненков «основательно изучил библиографию произведений Пушкина и почти все его рукописи», но что, «к сожалению, изучение это шло в процессе издания, в основу же текста легло посмертное издание, к которому Анненков относился с излишней доверчивостью и исправлял лишь самые очевидные промахи» и т. д.[905]
Выпустив свои «Материалы», Анненков не переставал собирать сведения о Пушкине. Так, например, уже 12 апреля 1856 г. он писал Погодину: «Тот же неотвязчивый проситель, которого вы видели в Москве, снова прибегает к вам. Дело всё о Пушкине. Ради Бога, отверзите руку вашу, соберите материалы ваши и пособите ему! Время всё идёт: вот уже весна на дворе и весна в обществе[906]. Я считаю обязанностию моею перед публикой договорить начатую речь о Пушкине, когда речь начинает бежать вообще из-под льда со всех сторон. А как заговорить без вашей помощи? Я буду в Москве на Фоминой неделе, проездом, и постучусь у вашей двери. Впустите меня! Если вы дадите мне тогда кусок живого хлеба, я увезу его в деревню и потружусь над ним. Обстоятельства у нас переменчивы. Кто не торопится сказать того, что сказать имеет, тот, может быть, и не скажет уж ничего. Сколько у нас таких молчальников, пропустивших свою очередь слова, — сами знаете. Будьте же добры ко мне и разрешите мне слово: это от вас зависит»[907].
Но Погодин, по-видимому, так и не собрался написать для Анненкова просимые им записки о Пушкине[908]. Зато в 1857 г., при содействии Л. Н. Толстого, Анненков получил замечательные записки М. И. Пущина о встрече с Пушкиным на Кавказе в 1829 г.[909] На этом, однако, поскольку мы знаем, работы Анненкова по собиранию материалов о Пушкине прекратились, — и все последующие статьи его, касавшиеся Пушкина, были написаны уже по ранее собранным данным, ни одной публикации новых материалов, — которых, конечно, он мог бы разыскать немало, — он не сделал. Печатаемые ниже материалы представляют собою часть того, что накопилось в рабочем портфеле Анненкова в период его работ над Пушкиным в 1850—1854 гг.; это, конечно, не всё, что было в бумагах Анненкова, — но всё, что из них перешло в Пушкинский Дом; некоторая часть тех же материалов хранится ныне в бумагах Л. Н. Майкова в Рукописном отделении Библиотеки Академии наук, небольшая часть приобретена была П. Е. Щёголевым в 1923 г. у одного букиниста и готовится им к изданию.
Материалы Пушкинского Дома мы разделим на пятнадцать групп, сообразно отдельным листам рукописей Анненкова, писанных в разное время, по разным поводам[910].
Из черновых заметок П. В. Анненкова для биографии Пушкина
I. От Сабурова (Якова Ивановича)
1) Каверин, сын сенатора, образованный человек, воспитывавшийся в Геттингене, красавец собой, богатый; он, по словам Сабурова, лечился от французской болезни холодным шампанским, вместо чаю выпивал с хлебом бутылку рому и после обеда, вместо кофею, — бутылку коньяку, но был остроумен, и любезен, и блестящ. Гусар.
2) Молоствов[911], широкоплечий гусар, был просто пьяница горький и буйный, но умный. Цинизм времени выразился в нём шуткой: «лучшая женщина есть мальчик и лучшее вино — водка».
3) Чаадаев, воспитанный тёткой Шаховской превосходно, не по одному французскому манеру, но и по-английски, был уже 26-ти лет, богат и знал 4 языка. Влияние на Пушкина было изумительно. Он заставлял его мыслить. Французское воспитание нашло противодействие в Чаадаеве (сперва гусарском офицере, потом адъютанте И. В. Васильчикова), который уже знал Лока [?] и легкомыслие заменял исследованием. Чаадаев был тогда умён; он думал о том, о чём никогда не думал Пушкин. Сабуров рассказывает, что Пушкин, восхищавшийся Державиным, встретил у Чаадаева опровержение, а именно за неточность изображений. Пример был «Путник» Державина: «Луна светит, сквозь мрак ужасный едет в челноке»[912]. Чаадаев был критик <?> тогда. Взгляд его на жизнь был серьёзен. Он поворотил его на мысль. Пушкин считал себя обязанным и покидал свои дурачества в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом трактире. Он беседовал с ним серьёзно.
4) Об оде на свободу. Александр её знал, но не нашёл в ней поводов к наказанию. Между прочим ода, как говорили тогда, была подсказана Пушкину Н. И. Тургеневым. Александр <Тургенев>, между прочим, был владыкою Синода при Голицыне и старался сообщить лютеранско-мистическое направление духовенству. Когда невежественная часть духовенства свергла Голицына, князь остался министром (почт-директором), а Тургенев очутился брошенным. Дело о ссылке Пушкина началось особенно по настоянию Аракчеева и было рассматриваемо в Госуд. Совете, как говорят. Милорадович призывал Пушкина и велел ему объявить, которые стихи ему принадлежат, а которые нет. Он отказался от многих своих стихов тогда и между прочим от эпиграммы на Аракчеева, зная, откуда идёт удар.
II. От Данзаса
Генеральша Гартунг[913] в Кишинёве, дочь Стурдзы, господаря, и первая жена Гики, сын которого недавно был господарем, жила в разводе с мужем и не отличалась строгим поведением. У ней-то жила гречанка, о которой Пушкин писал в стихах. Гартунг приняла раз самого Данзаса в ванне. О еврейке, о которой часто упоминает Пушкин, он говорил, что это должна быть дочь одной из двух хозяек-жидовок, содержавших два трактира в Кишинёве. Она была недурна, но коса. Липранди часто бывал с Пушкиным — он был тогда подполковником Генерального Штаба, потерял жену-француженку и выстроил ей богатую часовню, в которой часто уединялся. Он жил богато. Из знакомых Пушкина — Давыдовы важную роль играли. Один, женатый на Орловой (теперь Давыдов-Орлов)[914], другой — сосланный в Сибирь и умный в семействе, третий — обжора, женатый на герцогине Грамон, вышедшей после его смерти замуж за известного маршала Себастьяни. Дочь её от Давыдова — Адель, к которой написаны стихи, кажется жива: она сделалась католичкой и живёт монахиней в Sacré-Coeur в Париже. Сын её от Давыдова — служил в кавалергардах. У Раевских было большое родство. Катер. Раевская вышла за Михаила Орлова, она называлась в Кишинёве за либерализм свой Марфой Посадницей; другая — за Волконского, с которым последовала в Сибирь. Сестра Раевского была за Бороздиным и тоже не отличалась добродетелью[915]. Одна из трёх дочерей её показала себя Пушкину в наготе, кажется, при купании. Любопытно, что одна из молодых Бороздиных вышла замуж за Поджио, другая за Лихарева, сосланных в Сибирь, но они не последовали за мужьями, а, напротив, вышли замуж в Одессе, не помню за кого, от живых мужей, потерявших свои права. В Москве в 29 году Пушкин волочился за Зубковой, прикинувшись, что влюблён в сестру её Пушкину, которая сделалась потом Паниной. К ней стихи: «Не Агат в её глазах». Эти урождённые Пушкины были сироты и воспитывались у Апраксиной, сестры Д. В. Голицына и сестры Кочубей и Строгановой, тоже Голицыных. В Кишинёве, в биллиярде кофейной Фукса, Алекс. Серг. смеялся над Ф. Орловым, тот выкинул его из окошка; Пушкин вбежал опять в биллиярд, схватил шар и пустил в Орлова, которому попал в плечо. Орлов бросился на него с кием, но Пушкин выставил два пистолета и сказал: «Убью». Орлов струсил.
III
Пушкин два раза уезжал в деревню из Москвы в 1826 и 1827 году, и всё осенью. По прибытии в Москву хотел драться с Американцем, потом уехал в деревню, по первопутке прибыл в Москву и остановился у Соболевского. Его кофей с пастилой, майор Носов, знавший бездну прибауток[916], по ночам просиживали у Марьи Ивановны Корсаковой, когда она спала, стих. тогда к Паниной, Не агат в её глазах[917], история с Зуровой. Основание Москов. Вестника, обещание Пушкину 10 т. р., читает Годунова — ничего не пишется <?>. Часто у Зинаиды Волк<онской> бывает. Переехал в Петерб. и остановился у Демута в трактире.
Ревизор — случай с Пушк. в Нижнем и у Перовского.
Мёртвые души — г. Павлов.
IV
Енгельгард — Егор Антонович.
Гауеншильд.
Малиновский умер 1812, и 3 года Лицей был без директора.
Юрий Алекс. Нелединский-Мелецкий.
Теппер.
В лицее журналы: Лицейский Мудрец, Для удовольствия и пользы, Неопытное перо, Пловцы.
Общие рассказы посетителей, где были раз. Метель и Выстрел.
За второе издание Руслана и Кавказ. Плен. Смирдин заплатил 7 т. р. ас. и продал.
За Бахчисарайск. Фонтан 3 т. р. первое издание.
За Братьев-разбойников 1500 р.
За полного Онегина 12 т.
Потом платил Смирдин по 11 р. за стих и 1000 заплатил за Гусара. — Смирдин предлагал 2000 в год Пушкину, лишь бы писал что хотел.
Всё издание мелких стих, куплено за 12 т. р.
Лизка Шот Шедель — блядь, которой выздоровление[918].
Наташа — Актриса Толстого, которой Наташе[919].
Надинька Форет — образованная блядь.
Ольга Массон.
К Самойлову.
В Домике в Коломне о г-же Зуровой, по первому мужу Стайновская[920].
Татьяна городская — со Строгоновой, урожд. Кочубей.
Жаркая история с женой Австр. Посланника[921].
Каменка, Алекс. Львовича Давыдова, который тоже и философ, сослан в Сибирь, как Декабрист.
Андрей Петр. Есаулов.
Нет не Черкешенка — Паниной, урождённой Пушкиной, в которую он был влюблён, а по другим в сестру её Зубкову, с которой через неё хотел (нрзб).
О сцене свидания у Фонтана в Годунове, что написана после возвращения верхом из Тригорского и которая будто была лучше той, которую написал недели три спустя (И тайные мечты обдумывать люблю).
В Лицее свободно курили, а в библиотеке книги с отметками императора, — гувернёр Чириков р….. (нрзб) рассказы.
Был суеверен Пушкин, и Нащокин заказал кольцо с бирюзой от насильственной смерти, которое его не спасло.
Гекерен был педераст, ревновал Дантеса и потому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество.
Мусина-Пушкина, урожд. Урусова, потом Горчакова (посланника), жившая долго в Италии, красавица собою, которая возвратившись сюда, капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании. Пушкин хотел написать стихи на эту прихоть и начал описанием Италии
Кто знает крайНо клюква, как противуположность, была или забыта, или брошена[922].
Княж. Елена Волконская, потом Хилкова, была в Екатер. институте. Кюхельбекер видел её там часто благодаря связям и службе матери своей[923], влюбился в неё и говорил, что ему достаточно и одной любви к ней. Отсюда стих. Мечтателю.
К Всеволжскому, у которого давались пиры под именем Зелёной Лампы.
П. ругал Нессельроде, что она увезла во дворец жену его, говоря: Нечего делать, где меня не принимают, там нельзя и жене быть. Это дошло до Двора, и его сделали камер-юнкером. Жуковский и В. отливали его водой при этом известии. Он хотел просто идти и наговорить царю грубостей. Он говорил также, что три года тому назад Г<осударь?> предлагал ему камергерство, но П. не принял. Он успокоился впоследствии и писал к жене, что Царь не хотел его оскорбить и потому он ему прощает эту шутку над собой.
Импровизация Мицкевича о равенстве народов в Демутове трактире.
С. Л. Пушкин, разъезжающий в карете и выглядывающий из неё, чтоб показать, что у него карета; жена, подличающая перед Архаровой и дарящая А. И. Васильчиковой письмо Пушкина страстное [?], извещающее о помолвке его, мая 1831[924].
6 Генваря 1829 г. Пушк. выехал на Кавказ.
Загоскину пишет ответ с Соболевским на 4 страницах.
В (нрзб), ему приснились стихи:
Пускай…………. Равно всем общая, как чаша круговаябыло (нрзб)
Адели — дочери Давыдова.V. Из записки Кононова[925]
1) Мерзляков — был небольшой ростом, с одутловатым лицом, редковолосый и небрежен в туалете. Беспечность в характере: кухарка раз отдала колбаснику тетрадку его стихотворений.
2) На Шаликова, бывшего в хороших связях с Борисом Карловичем Бланком, кн. Вяземский при отъезде его из столицы написал епиграмму, где были стихи:
Прощай, прощай о Бланк дурной, Единственный читатель мой…3) Князь Шаховской, толстый, высокий мущина с орлиным носом и в мешковатом фраке, даже в 1829 году говорил, что «История» Карамзина очень плоха. Он, между прочим, за Буянова, где упоминается о его Стерне
Две бляди дюжие сидели, рассуждали И Стерна нового, как диво, величали. Прямой талант везде защитников найдёт, —отомстил В. Л. Пушкину, сказав в одном обществе: «Буянов действительно хорош, а остальное всё плохо у него. Прибавлю ещё жалобу: Надо же моё несчастие, что раз удалось бздуну перднуть — и то на мой счёт». Причину вражды к Кар<амзину> со стороны <Шаховского> В. Л. Пушкин объяснял непомещением стихов в журнале за ошибки в версификации.
4) В. Львович в 1829 году был старик чуть двигавшийся от подагры, небольшой ростом, с открытою физиономией, с седыми немногими <?> волосами, весёлый, балагур, гастроном, беспутный, как всё семейство; он имел огромную библиотеку, в которой стояли книги в три ряда, так что отыскать нужную не было возможности. Между прочим, он умер совсем не так, как рассказывает Бартенев. В 1830 году он уже не мог ходить, лежал на диване и перелистывал Беранжера, которого весьма любил, — и вдруг вздохнул тяжко и умер.
5) Хмельницкий, очень приятной наружности, имел весьма сильные неприятности по службе и был переведён в 1837 году с смоленского губернаторства губернатором в Архангельск. Последние его произведения: Мундир и Мой мячик <?>, которых не знаю, — исполнены желчи. Он был застенчив в обществе и любезен в небольшом кругу.
6) С. Н. Глинка, ходивший в синем или сером фраке и в круглой шляпе, довольно странной формы. Он оставил своё родительское наследство сестре, сам <?> пошёл в учителя; участие его в событиях 1812 года. Вот анекдот.
В 1818 году в Москве он ехал на извощике и в Иверских воротах встретился с отрядом солдат. Молодой гвар. офицер с обнажённой шпагой сперва яростно кричал на извощика, потом ударил его шпагою и окровавил. Глинка соскочил с дрожек, узнал фамилию офицера в задней шеренге и прямо отправился к дивизионному командиру, объявляя, что если извощик не будет удовлетворён, он войдёт с просьбой к Государю. Призвав молодого офицера к генералу, Глинка объяснил ему, что он офицер, но извощик тоже полезен и они друг другом заменены быть не могут. Смущённый офицер попросил извинения у извощика в своей горячности и дал ему 25 р. Глинка тотчас же стал обнимать его. Замечательно, что офицер сознался, что уже давно серый фрак Глинки возбуждал в нём желание придраться к нему и напакостить.
В Смоленске Глинку все знали и уважали. Раз извощик утащил у него верхний сертук. Он в полицию. В полиции говорят: извольте подать прошение на 50-коп. листе. Как? — возражает: меня же обокрали, да я же и заплачу? Идёт на биржу, созывает извощиков, рассказывает происшествие, называет себя и свой адрес. «Знаем, батюшка вас, Сергей Николаевич», отвечают извощики, — и на другой день сертук и вора приводят. Последнему С. Н. делает наставление, но тотчас отправляется в отысканном сертуке в полицию, чтобы сказать канцеляристу: полтины я не платил, сертук на мне, а я не полицмейстер.
VI. Дело по просьбе Пушкина о разрешении поездки для лечения
Генерал-губернатор Эстляндии в 1826 г., маркиз Паулучи, обратился к графу Карлу Васильевичу Нессельроде с следующим письмом:
М. Г. мой, Граф Карл Васильевич!
Выключенный из службы Коллежский Секретарь Александр Пушкин, присланный по распоряжению г. Новороссийского Генерал-Губернатора из Одессы в Псковскую Губернию и о подвержении коего надзору Псковского Губернского Начальства Ваше Сиятельство сообщить мне изволили в отношении от 12 июля прошлого 1824 году Высочайшую волю блаженные памяти Государя Императора Александра Павловича, поданным ныне к Псковскому Гражданскому Губернатору на Высочайшее имя прошением, при коем представил свидетельство Псковской Врачебной Управы о болезненном его состоянии и подписку о непринадлежности его к тайным обществам, просит дозволения ехать или в Москву, или С.-Петербург, или же в чужие краи для излечения болезни.
Усматривая из представляемых ко мне ведомостей о состоящих под надзором полиции проживающих во вверенных главному управлению моему губерниях, что помянутый Пушкин ведёт себя хорошо, я побуждаюсь, в уважение приносимого им раскаяния и обязательства никогда не противуречитъ своим мнением общепринятому порядку[926], препроводить при сём означенное прошение с приложениями к Вашему Сиятельству, покорнейше Вас, Милостивый Государь мой, прося повергнуть оное на Всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение, полагая мнением не позволять Пушкину выезда заграницу, и о последующем почтить меня уведомлением Вашим[927].
С совершенным почтением и преданностью имею честь быть Милостивый Государь мой
Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Маркиз Паулуччи
Рига
Июля 30-го дня 1826 года
№ 922[928]
* * *
Подлинная просьба Пушкина, вся писанная его собственной рукой (на простой бумаге).
Всемилостивейший Государь
<и т. д., — дословно, но без соблюдения некоторых особенностей орфографии Пушкина, как, например: «нещастие», «разкаянием», — напечатано в книге Анненкова «Пушкин в Александровскую эпоху», стр. 315—316>.
* * *
Подписка, приложенная к просьбе, тоже собственной руки поэта <напечатана там же, стр. 316>.
* * *
Свидетельство, приложенное к просьбе на гербовой бумаге (цена три рубля).
По предложению Его Превосходительства, Господина Псковского Гражданского Губернатора и Кавалера за № 5497 свидетельствован был во Псковской Врачебной Управе Г. Коллежский Секретарь Александр Сергеев сын Пушкин. При сём оказалось, что он действительно имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровевозвратных жил (Varicositas totius cruris dextri); от чего Г. Коллежский Секретарь Пушкин затруднён в движении вообще. Во удостоверение сего и дано сие свидетельство из Псковской Врачебной Управы за надлежащим подписом и с приложением Ее печати. Июля 19-го дня 1826 года.
Инспектор Врачебной Управы В. Всеводовс[929]
№ 426
Печать чёрная
VII
Ченстон — поэт 18 столетия, автор идиллий приторных, пользовавшихся успехом, из которых одна школьная учительница имела некоторое достоинство.
VIII. <Переписка о вызове Пушкина в Москву в сентябре 1826 г.>
Высочайшая резолюция на просьбы <sic> его существует в следующем виде, переписанная неизвестно чьей рукой:
Высочайше повелено Пушкина призвать сюда.
Для сопровождения его командировать фельдъегеря.
Пушкину позволяется ехать в своём экипаже, свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта.
Пушкину прибыть прямо ко мне.
Писать о сём Псковскому Гражданскому Губернатору.
27 Августа.
За тем псковскому губернатору писано:
Дежурство Главного Штаба Его Императорского Величества.
По Канцелярии Дежурного Генерала.
№ 1432.
31 августа 1826.
В Москве.
Господину Псковскому Гражданскому Губернатору.
По Высочайшему Государя Императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше Ваше Превосходительство находящемуся во вверенной вам губернии 10-го класса Александру Пушкину позволить ему отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочном фельдъегере.
Г. Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к Дежурному Генералу Главного Штаба Его Величества.
Подписал: Начальник Главного Штаба Дибичь.
Скрепил копию: Верно. Правитель Канцелярии Вердеревский.
4-го <сентября> 1826 года псковский гражданский губернатор барон[930] фон Адеркас отвечал за № 188 барону Дибичу, что Пушкин отправляется того же числа вечером.
Пушкина, по назначению барона Дибича, привезли к дежурному генералу, которым тогда был генерал Потапов. Он сей час написал Дибичу официальную записку:
«Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что сей час привезён с фельдъегерем Вельшем, из Пскова, отставной 10-го класса Пушкин, который оставлен мною при Дежурстве впредь до приказания.
Дежурный Генерал Потапов
Москва.
8-го сентября 1826»
На этой записке Дибич сделал резолюцию:
«Нужное. 8 сентября Высочайше повелено, чтобы Вы привезли его в Чудов дворец в мои комнаты к 4 часам по полудни».
Наконец, 21 ноября 1826 г. состоялась записка:
«По распоряжению Г. Начальника Главного Штаба Е. И. В. вытребованный из Пскова чиновник 10-го класса Александр Пушкин оставлен в Москве.
Правитель Канцелярии Николаев (?)»
[Я видел].
Следует сказать, что в начале 1826 года посылался от правительства агент для разысканий о Пушкине, что по близким связям последнего с декабристами весьма понятно[931]. Агент был коллежский советник Бошняк, который в проезд через губер. С.-Петербургскую, Псковскую, Витебскую и Смоленскую собрал несколько сведений о местных, частных злоупотреблениях и представил их в особенной записке. «Предписано было мне не только разыскать касающееся до Пушкина, но и не упускать из вида и прочих случаев, которые могли бы казаться мне не недостойными внимания, почему и излагаю здесь подробный отчёт о всём слышанном и замеченном мной в продолжении пути». — Что доносил Бошняк о Пушкине, не мог ни от кого узнать[932].
IX. Некоторые подробности о 1829 г. От Н<атальи> Н<иколаевны>
NB. Когда в этом году ему отказано было, за молодостию H. Н., в руке её, Пушкин уехал на Кавказ, а на возвратном пути только проехал по Никитской, где был дом Гончаровых в Москве, и тотчас же отправился в Маленники к Вульфам, где и были написаны стих. Зима и проч. Вольфовы[933] с родственниками жили в трёх деревнях Тверской губернии, в недальнем расстоянии, именно в Павловском, Бернове и Маленники. Семейство состояло из Анны Н. Вульф, которая осталась в девках, из Евпраксии Н., которая за Вревским, из Александрины Ивановны Осиповой, которая <зачёркнуто: имела дурную часть: она была замужем за каким-то ремесленником> тоже замужем за кем-то, из (нрзб) (кажется, Трувеллер). У них же жила Вельяшева, к которой написаны стихи (Подъезжая под Ижоры).
<…>[934]
XIII. От Сабурова Я. И. (ещё подробности о времени его)
1) Шереметьев волочился за Истоминой, которая жила с Завадовским. Ревность произвела ссору на ужине оргии. Шереметев был убит наповал. Завадовский, брат сенатора и мужа красавицы, отдал своему секунданту Каверину часы, чтобы ничем не быть защищённым, и потом не взял их у Каверина. Это была луковица серебряная, английская, и с ней Каверин тотчас после дуэли приехал к Сабурову, хвастаясь в шутку неожиданным приобретением[935].
2) Рылеев был упорный человек и не отступавший перед средствами. Так, он сводил всех с старой девкой, сестрой своей, которую хотел выдать замуж, и даже имел за это дуэль. Бестужев был вертопрах, которому всё равно было — бунтовать или шуметь. Он перед 14 декабрем собирался ехать в Москву, чтоб жениться там на какой-нибудь богатой невесте.
3) Щербинин и Юрьев — оба офицера гвардии, в известном типе блестящих, насмешливых, без особенных принципов, но образованных.
4) Это уже особенный тип — Кривцов. Он был в Семёновском полку, являлся к Коленкуру, будучи ещё юнкером, встретил у подъезда Александра Павловича расстёгнутым и с брызжами, ободрен им к продолжению посещений посланника, ранен в Бородине, ранен под Дрезденом, испросил в госпитале дозволения у самого Императора следовать в Париж, когда ещё о Париже не было и мысли, в Париже жил рядом с Лагарпом, который про него сказал Императору: «Вы имеете отличную голову, которую надо употребить», сделан губернатором в Воронеже, где нажил врагов за правдивость, потом губернатором в Тамбове, кажется, где губернское правление занесло в журнал, что он с ума сошёл, после того, как он его разругал в присутствии. Наряжено было следствие, Александр умер, племянник[936] его Кривцов же попался в 14 дек., а сам он удалён от должности за беспокойство характера. Александр дал ему 100 т. на свадьбу, которые Кривцов и употребил буквально на свадьбу, но с женой жил плохо, будучи педерастом, чего не скрывал. Был образованный человек, Вольтерианец и эпикуреец — с честными правилами по службе.
От О. С. Павлищевой
Довольно любопытно, что Пушкин на руке носил перстень из корналина с водточными буквами, называя его талисманом, и что точно тем же перстнем запечатаны были письма, которые он получал из Одессы, — и которые читал с торжественностию, запершись в кабинете. Одно из таких писем он и сжёг. Этот перстень подарен после смерти Вигелю, а у Вигеля его украл пьяный человек[937]. Любопытна также панихида, отслуженная Пушкиным по Байрону, и то, что он стал есть один картофель, в подражанье его умеренности.
XIV. Подробности о семействе Вольфов
Во время пребывания Пушкина в Михайловском общество Вольфов состояло: из матери Прасковьи Александровны Осиповой, прежде бывшей замужем Вольф, дочерей её и кузин сих последних.
1) От Вольфа, Николая Ивановича, П. А. имела 4 дочери и сына; из последних две: Катерина Ник. и Марья Ник. были ещё очень малы во время Пушкина. Жизнь обеих несчастна: первой от замужества, второй от распутства; вторая и осталась в девках. Таким образом Пушкин вращался между матерью и двумя старшими дочерьми, именно Анной Николаевной, теперь старой девкой, и Евпраксией (Euphrosine) Н., теперь за Вревским, братом генерала, недавно убитого под Севастополем. Эта Анна Н. была влюблена до безумия в Пушкина, а Пушкин, как всегда бывает, скорее расположен был к Евпраксии Н., которая между тем будировала его и рвала его стихи, написанные к ней, чем и нравилась. Кроме того, были ещё и другие предметы страсти, именно сама Осипова и множество девушек <зачёркнуто: её племянниц>. Осипов женился на Прасковье Александровне, имея дочь Александру Ивановну Осипову, которая за Беклешевым; по стихам Пушкина видно, что он и к ней, ребёнку в то время, был неравнодушен. Затем были ещё кузины у девушек, находившиеся тоже в Михайловском иногда и тоже игравшие свою роль в деревенской жизни поэта. У первого мужа Осиповой было ещё два брата: Павел Иванович Вольф и Иван Иванович. Дочь последнего Анна Ивановна Вельяшева, которая в письмах называется Netty, имела синие глаза и почтена стихами: «Подъезжая под Ижоры…»[938] Была ещё Вульфова, которая вышла за Полторацкого Петра: от неё известная Анна Петровна Полторацкая, впоследствии Керн, к которой были стихи: «Я помню чудное мгновенье…» Эта была, кажется, развязнее всех девушек, кузин своих. Следует пояснить, что Павлу Ивановичу в Тверской губернии принадлежало Павловское, где Пушкин часто бывал; жена у Павла Вульфа была немка. Рядом с Павловским лежит другое село Вульфов, кажется Ивана Ивановича — Берново, а через две версты от него Маленники, село покойного Николая Ивановича Вольфа, т. е. Осиповой. Так всегда близко друг от друга всё его семейство жило — и делило патриархально удовольствия любви.
Как жаль, что недавно срубили одну из трёх сосен, с которых всегда виден был уже Пушкин, идущий от Михайловского в Тригорское с своей железной палкой.
XV. Нечто о Пушкине (Записка Соллогуба junior)[939]
В октябре месяце 1835 г., бывши с H. Н. Пушкиной у Карамзиных, имел я причину быть недовольным разными её колкостями, почему я и спросил у неё: Y-a-t’il longtemps, Madame, que vous êtes mariée? Тут была Вяземская, впоследствии вышедшая за Валуева, и сестра её, которые из этого вопроса сделали ужасную дерзость. В то же время отправился я в Тверь, где по истечении 2 месяцев получил письмо от А. Карамзина, коим он извещал меня, что он во второй раз требует от меня от имени Пушкина экспликации, и что Пушкин ругает меня у Вяземских. Я сейчас написал П-у и ждал с нетерпением приезда его в Тверь. В ту пору через Тверь проехал Валуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать с своей стороны. От Пушкина привёз мне ответ Хлюстин следующего содержания:
Vous vous êtes donné une peine inutile en me donnant une explication que je ne vous avais pas demandé. Vous vous êtes permis et vous vous êtes vanté d’avoir dit des impertinences à ma femme. Le nom que vous portez et la société que vous fréquentez m’obligent de vous demander raison de l’indécence de votre conduite.
Последние строки ясно показывают, как много для Пушкина значило мнение общества.
В мае месяце проехал П. в Тверь. Меня в Твери не было.
Узнав о его приезде, я поскакал в Москву и нашёл его рано утром у Нащокина на квартире.
— Вы у меня были в Твери. Я поставил долгом быть у вас в Москве, — сказал я.
Он меня благодарил.
Разговор завязался. Он меня спрашивал: кто мой секундант?
— У меня нет, — говорил я. — А так как дуэль эта для вас важнее, чем для меня, потому что последствия у нас опаснее, чем самая драка, то я предлагаю вам выбрать и моего секунданта.
Он не соглашался. Решили просить кн. Ф. Гагарина. Впрочем, разговор был дружелюбный.
— Неужели вы думаете, что мне весело стреляться, — говорил П. — Да что делать? J’ai le malheur d’être un homme publique et vous savez que c’est pire que d’être, une femme publique.
Вошёл Нащокин. «Вот мой секундант», — сказал П. Вы знаете Нащ. Он на секунданта не похож. Начались экспликации. Враги мои натолковали Пушкину, что я будто с тем намерением спросил жену, давно ли она замужем, чтобы дать почувствовать, что рано иметь дурное поведение <sic!?>. Это и глупо, и гадко. Я объявил своё негодование. П. просил, чтобы я написал его жене. Я написал следующее: «Madame. Certes je ne me serais attendu à avoir l’honneur d’être en correspondance avec vous. Il ne s’agit de rien moins que d’une malheureuse phrase prononcée par moi dans un accès de mauvaise humeur. La question que je vous [avais] adressée signifiait que l’espièglerie d’une jeune fille ne convient pas à la dignité d’une reine de la société. J’ai été desesperé que l’on aye pu donner à ces paroles une acception indigne d’un homme d’honneur».
П. говорил, что это слишком……[940] Письмо он желал как доказательство в случае, что ему упрекать будут, что оскорбили его жену, и просил, чтоб в конце я просил у жены извинения. На это я долго не соглашался. П. говорил: «On peut toujours demander des excuses à une femme». Нащокин также уговаривал. Наконец, я приписал: «et je vous prie de recevoir mes excuses», чему теперь душевно радуюсь. Пушк. мне подал руку и был очень доволен.
Через два дни уехал я в Белоруссию.
Возвратившись в октябре 1836 г. в П-бург, жил я у тётки Васильчиковой.
Пушкин, увидав меня у Вяз., отвёл в сторону и сказал: «Ne parlez pas é ma femme de la lettre». Она спросила меня своим волшебным голосом извинения. Всё было забыто.
В начале ноября 1836 прихожу я к тётке. «Смотри, пожалуста, какая странность», — говорит она. Получаю по городской почте письмо на моё имя, а в письме записка: «Алекс. Сер. Пушкину».
Первая мысль впала мне в голову, что это может быть о моей истории какие-нибудь сплетни. Я взял записку и пошёл к Пушкину. — П. взглянул и сказал: «Я знаю! Donnez-moi votre parole d’honneur de ne le dire à personne. C’est une infamie contre ma femme. Впрочем это всё равно, что тронуть руками… Неприятно, да руки умоешь — и кончено. C’est comme si on rachait sur mon habit par derrière. C’est l’affaire de mon domestique. Вот, — продолжал, — что я писал об этом Хитровой, которая мне также прислала письмо».
— Не подозреваете ли Вы кого в этом?
— Je crois que c’est d’une femme, — говорил он.
В тот же день Виельгорский[941], Карамзины, Вяземские получили подобные билеты и их изорвали, прочитав. Замечательно, что Клем. Россети, который не бывает в большом свете и придерживается только тесного <?> Карамз. круга, получил также письмо, с надписью:
Клементию Осиповичу Россети. В доме Занфтелебена, на левую руку, в третий этаж.
След, писавший письмо хорошо знал в подроб. даже что касалось до приятелей Пуш-а. С этого времени Пуш. сделался беспокоен.
Кн. Вяз., с которым я гулял, просил меня узнать, что он замышляет.
Я пошёл к нему и встретил его на Мойке. «Жены нет дома», — сказал он. Мы пошли гулять и зашли к Смирдину, где он отдал записку к Кукольнику. «Vous n’avez pas affaires avec ces gens-là», — сказал он. Гуляя, сочиняли мы стихи:
Как ты к Смирдину взойдёшь, Ничего там не найдёшь, Ничего ты там не купишь, Лишь Сенковского толкнёшь«Иль в Булгарина наступишь», — прибавил Пушкин.
Мы пошли на толкучий рынок и купили калачей. «Что же, — спросил я, — узнали вы писателей писем? Du reste si vous avez besoin d’un troisième, d’un second, — disposez de moi».
Пушкин с живостью благодарил. «Мне надо, — говорил он, — человека, принадлежащего обществу, который бы был свидетелем объяснения. Я вам скажу, когда вы мне понадобитесь».
Через несколько дней я сидел рядом с ним у Кар<амзиных> за обедом. «Venez demain chez moi, сказал он: je vous prierai d’aller chez d’Archiac pour vous arranger avec lui pour le matériel du duel». Я посмотрел на него с удивлением и сказал, что буду.
В этот вечер был раут у гр. Фикельмона. По случаю смерти Карла X все были в глубоком трауре, — одни Гончаровы приехали в белых платьях. На Пуш. лица не было. Дантес ухаживал около Г<ончаровы>х. Я его взял в сторону.
— Quel homme êtes-vous? — спросил я.
— Tiens cette question, — отвечал он и начал врать.
— Quel homme êtes-vous, — повторил я.
— Un homme d’honneur, mon cher, et je le prouverai bientôt.
Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьёт Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость, — куда угодно. Я заговорил о жене его.
— Mon cher, c’est une mijaurée.
Впрочем, об дуэли он не хотел говорить.
— J’ai chargé de tout d’Archiac, je vous enverrai d’Ar<chiac> ou mon p<ère>.
С Даршиаком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что П. подошёл к нему на лестнице и сказал: «Vous autres français, — vous êtes très aimables. Vous savez tous le Latin, mais quand vous vous battez, vous vous mettez à 30 pas et vous tirez au but. Nous autres Russes — plus un duel est sans…..[942] et plus il doit êroce féroce».
На другой день — это было во вторник 17 ноября, — я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всём на д’Аршиака. Наконец сказал: «Vous ne voulez donc pas comprendre que j’épouse Catherine. P. reprend ses provocations, mais je ne veux pas avoir l’air de me marier pour éviter un duel. D’ailleurs je ne veux pas qu’il soit prononcé un nom de femme dans tout cela. Voilà un an que le vieux (Heckeren) ne veut pas me permettre de me marier».
Я поехал к Пуш-у. Он был в ужасном порыве страсти. «Dantes est un misérable. Je lui ai dit hier jean-f., говорил он: Вот что. Поезжайте к Даршиаку и устройте с ним le matériel du duel. Как секунданту должен я вам сказать причину дуэли. В обществе говорят, что Д. ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Всё равно — я не хочу, чтобы их имена были вместе. Получив письмо анонимное, я его вызвал. Гекерн просил отсрочки на две недели. Срок кончен, Даршиак был у меня. Ступайте к нему».
— Дантес, — сказал я, — не хочет, чтоб имена женщин в этом деле называли.
— Как! — закричал П. — А для чего же это всё? — И пошёл, и пошёл. — Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого.
Я поехал к Даршиаку. Он показал мне всю переписку. Вызов Пушкина, потом отзыв его — qu’ayant appris par le bruit public que M. Dantes voulait épouser sa belle soeur il retirait la provocation. Даршиак требовал, чтоб вызов был уничтожен без причин. Я говорил, что на Пуш-а надо было глядеть как на больного, а потому можно несколько мелочей оставить в стороне. Даршиак говорил, что он всю ночь от этого дела не спал. Этот Даршиак — славный малый.
К 3-м часам мы съехались у Дантеса. После долгих переговоров написал я П-ну след. письмо.
«Ainsi que vous l’avez désiré je me suis arrangé pour le matériel du duel, qui aura lieu samedi — vendredi je n’ai pas le tems (это были именины отца) du côté de Pargolovo à 6 du matin, à 10 pas de distance. M. D’Archiac m’a ajouté confidentiellement que M. G. Heckeren était prêt à épouser votre belle-soeur, si vous reconnaissiez que dans cette affaire il s’est conduit en homme d’honneur. Il va sans dire que M. D’Archiac et moi nous sommes les garants de la parole de M. G. H. (Dantes). Je vous supplie au nom de votre famille d’accéder à cette proposition, que de mon côté je trouve entièrement avantageuse pour vous». Dantes хотел было прочесть письмо, но мы до того не допустили. Извозчик, которому я велел отвезти письмо туда на Мойку, откуда я приехал, — отвёз письмо к отцу моему. Мы ответа долго ждали. Наконец извозчик воротился и привёз записку от Пуш-а:
«Je prie ММ. les seconds de regarder la provocation comme non avenue, ayant appris par le bruit publique que M. G. H. voulait épouser ma belle soeur. Du reste je ne demande pas mieux que de reconnaître qu’il s’est conduit dans cette affaire en homme d’honneur», и т. д.
Dantes хотел прочесть письмо. Д’Аршиак сказал ему, что как он первого письма не читал, то он и ответа читать не должен. Свадьба решилась.
«Dittes à M. P. que je le remercie», — сказал Дантес. Я взял Даршиака в сани и повёз его к П-у. Он вышел из<-за?> стола в кабинет. Дар<шиак> повторил слова Дант<еса>. Я прибавил: «J’ai cru de mon côté pouvoir promettre que vous saluriez <saluerez?> votre beau-frère dans le monde». — «Pour rien au monde, заметил П.: Il n’y aura rien de commun entre ces deux familles — du reste je ne demande pas mieux que de dire que dans cette affaire M. G. Heck. s’est conduit en homme d’honneur».
Вечером y Салтык<ова> свадьба была объявлена.
П-н ей всё не верил — так что он со мной держал пари: я — тросточку, а он свои сочинения.
Однажды он сказал мне: «Vous êtes plutôt le second de Dantes que le mien. Cependant je dois vous lire cette lettre au vieux. С молодым я кончил — подавайте старика».
Тут он начал мне читать своё письмо к старику Гекерну. Я письма этого смертельно испугался и в тот же вечер рассказал его Жуковскому у Одоев<ского>. На другой день у Кар<амзиных> Жук<овский> сказал мне, что письмо остановлено. Тем и кончается моё участие в этом деле. Я уехал в Москву.
XVI. К истории анненковского издания сочинений Пушкина (Письма И. В. и Ф. В. Анненковых к П. В. Анненкову)
1
21 апреля <1852 г. Петербург>
В дополнение к тому, что я тебе писал в прошлом письме, Павлуша, на счёт сочинений Пушкина, имею прибавить, что я решительно взял от Генерала[943] право их печатать за 5000 серебром, — и приступаю к нему на днях. — Проект распределения всех его стихотворений я пришлю тебе на будущей почте, дав его здесь просмотреть кому следует; он очень близко подходит к твоему, — ты увидишь. — Теперь я отыскиваю в его бумагах что-нибудь новое, что не было в печати. — Но теперь вот что самое главное — написать разбор его сочинений; положим, люди найдутся и сделают ето; но вить ето стоить будет больших денег; ето раз; потом у меня есть предположение не писать его биографии особо, а к стихотворениям каждого года сделать не большую выноску, в которой оговорить, где он был в течение такого-то года, куда уезжал и вообще всё, что делал. — Ети выноски также нужно мне поручать другому. — Всё сие сообразивши, я полагаю, почему тебе не приехать сюда на один месяц и всё что нужно написать и устроить; ето выгодно будет очень в денежном отношении, потому что сбережёт расходы на заказ его разбора и вообще дело ето довольно сурьёзное, за которое если приниматься, так нужно основательно. — Некрасов мне намекал, что у него есть едакой человек, какой-то Дурышкин или что-то в роде етого[944]; но при сём случае он сказал, что он возьмёт за все его около 1500 р. серебр. — Вопрос — зачем же ету сумму отваливать другому, когда ты можешь ето сделать. — А что тебе стоит подняться и доехать до Москвы; а оттуда сесть в брик; отсюда же ты можешь до Москвы доехать с Фединькой. — Уведомь обо всём етом поспешнее, а я с будущей почьтою с своей стороны уведомлю, в каком положении ето дело. — А также уведомлю и об денежном предположении на счёт етого оборота. — А теперь будь здоров.
21 Апреля Твой И. Анненков
Приписка Ф. В. Анненкова: Предприятие Ванюшино очень серьёзное, и он за него взялся горячо; не знаю, доставит ли оно ему денежные выгоды, но все говорят, что 5 т. сер. дёшево взял Ланской, да ещё в долг. А так как жена Ланского едет за границу на воды 19-го мая, то Ванюша торопится с нею сделать законным образом контракт и также роется в бумагах Пушкина и нашёл очень и очень много хороших вещей как для сведения, так и для печати, что тобою без внимания были пропущены, — и твоя леность и самоуверенность была тому причиною, что не до основания были пересмотрены все рукописи…
2
12-го мая <1852 г. Петербург>
На счёт Пушкина слушай, Павлуша, что я буду тебе говорить и говорить основательно, вникнув в дело. — Более, чем сколько ты думаешь, знал я, как важно ето предприятие, и приступаю к делу, разобрав его со всех сторон. — Я вижу в етом деле две главные стороны: во-первых, чтобы не острамиться дурным изданием, и во-вторых, не оборваться в денежном отношении. В первом случае я видел, что нужно следующее: 1) Такой человек, который бы следил за всем ходом етого дела; а именно: написал бы критический разбор сочинений А. С. Пу., написал бы биографию его из материалов, которые я ему дам, написал бы замечания, которые встречаются от издателя, или выноски; просмотрел бы все старые журналы, для составления (в критическом разборе) мнения тогдашних критиков об произведениях Пушк. и для отыскания забытых последним изданием сочинений его. — Етот человек есть ты, Павлуша; значит мне нужно знать, берёшься ли ты за ето, или нет. Если берёшься, то тебе нужно нарочно для етого приехать сюда и не медля приступить к делу, написать здесь статью, подготовить выноски и вообще всему делу дать ход; сделав ето, ты можешь отправиться, куда хочешь, потому что пока будет идти печатание, мы можем продолжать дело перепискою. — Если ты на ето не согласен, то для етой работы Некрасов рекомендует мне какого-то г-на Дурышкина, редактора «Отечественных Записок», говоря, что он за всё сие возьмёт не менее 1500 р. серебром. — Если ты не возьмёшься, то я возьму Дурышкина, если только не найду кого-нибудь лучше; значит твой решительный ответ мне необходим и поспешнее, да без двухсмысленных фраз; а прямо пиши: можешь ли ты ето сделать, или нет, и когда можешь приехать. — Полагаю, что тебе за ето дело нужно взяться; а впрочем, как знаешь. — Между прочим Некрасов предлагает мне быть со мною в доле и говорит, что ето есть отличнейшее предприятие и весьма выгодное; но я не желал бы с Некрасовым иметь дело, только потому, впрочем, что он, как человек безденежной, не принесёт мне пользы, особенно если будет нанят кроме его редактор. — Напиши своё мнение об предложении Некрасова и об Дурышкине, если только его знаешь. —
2) Нужно, чтобы над сим редактором был ещё кто-нибудь, человек известный и достойный, и который смотрел бы за ходом издания; таковыми людьми будут Плетнёв и Вяземский, которые охотно изъявили готовность принять участие в етом деле, и я ничего, ниже двух слов не напечатаю без их одобрения. —
3) Успеху предприятия способствовать будут новые, не бывшие в печати сочинения Пушкина. — Твоё резкое суждение, что их нет, — несправедливо. — Я нашёл около 50 стихотворений достойных печати и от которых Некрасов и Боткин были в восторге, когда я им читал. Найдены они мною в его бумагах; некоторые из них — цельные, а большая часть неоконченных; но как их не включить в новое издание? — Все они пойдут на рассмотрение Государя. — Вот, например, можно ли оставить ети неоконченные стихи:
Два чувства дивно близки нам; В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. — На них основано от века •По воле Бога самого •Самосостоянье (sic! — Б. М.) человека, •Залог величия его. — •Без них нам целый мир пустыня, И жизнь без них мертва; И как Алтарь без божества Ду… (конца нет).• Ети 4 стиха зачёркнуты Автором.
Или вот ещё:
Воспоминание в Ц. С. 18 декаб. 1829 Воспоминаньями смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады прекрасные! под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой. — Так отрок библии, безумный расточитель, До капли расточив раскаянья фиал, Увидя наконец родимую обитель Главой поник и зарыдал. * * * В пылу восторгов скоротечных, В бесплодном вихре суеты, О, много расточил сокровищ я сердечных За недоступные мечты. — И долго я блуждал, — и часто утомленный Раскаяньем горя, предчувствуя беды, Я думал о тебе, приют благословенный, Воображал сии сады. — * * * (и затем ещё 3 строфы об Лицее и Царскосельском саде).Одним словом новых стихотворений наберётся порядочно довольно.
4) Статья о распределении стихотворений почти что кончена; основанием было твоё распределение с некоторыми незначительными переменами. — Некрасов и Боткин нашли её дельною; теперь она покажется Плетнёву и Вяземскому, и с мнением их я к тебе перешлю.
5) Образчик бумаги и печати при сём тебе посылается; ето будет очень хорошо, как все находют[945].
6) Типографический корректор будет, разумеется, выбран лучший.
При таковом распоряжении почему полагать, что я острамлю своё имя; тут будет не один мой глаз; ты видишь: я на себя немногое беру. — А вот опасаюсь не затемнить твою громкую литературную славу; но ты об етом вздоре не беспокойся. — Система, принятая мною в издании, пойдёт также на утверждение людей дельных и тебе перешлётся; ты увидишь, что она сделана не зря. — А есть ли сделана зря, то она пройдёт через многие руки и будет исправлена. — Никогда не делал я вещей зря, а тем более етой вещи. Неуважения к Пуш. у меня нету, потому что хочу сделать издание классическое, какого до сих пор не было в России. — А что ты ужаснулся, услыхав, что я взялся за ето дело, то ты прав, потому что ты не знал всех побочных обстоятельств, об коих я тебе пишу теперь, — и об чём я тебе ещё напишу с следующей почтою, где ты увидишь, что издание украсится двумя его портретами, виньетками, рисованными самим Пушкиным, и может быть рисунками Гагарина, — снимками с почерка Пуш. и биографией в следующем порядке: у каждого года будет выноска, в коей будет сказано: где Пушкин был в течение того года, что делал, чем занимался, какие были с ним случаи. — Ето всё будет независимо от разбора критического его сочинений, приложенного в начале. — Но ето всё ты увидишь подробнее в том, что получишь с следующей почтою. — Всё сие есть следствие трёх месяцев постоянного моего труда и занятия сим предметом; долго я думал о нём и не очертя голову принимаюсь за него. — Право, так.
Затем другое обстоятельство, об коем следовало подумать, — ето денежное; об нём скажу тебе одно только: 5000 серебр., которые я плачу за право печатать, я взношу не теперь, не сейчас, а когда пойдёт распродажа напечатанных уже экземпляров с 4% на всю сумму, со дня совершения условия. — Чтобы тронуть дело или, лучше сказать, пустить его в ход, нужно 5000 р. серебром, которые я думаю занять, да хоть под залог самого предприятия; если ты у своих приятелей можешь их достать; то не опасаясь ничего, сделай ето. — Здесь все, кто даёт денег, ломются на то, чтобы быть в доле со мною. — Какая же мне в том выгода? Поделиться доходом и платить ещё проценты на занятую сумму. — А впрочем можно достать денег и без етого условия. — Теперь в заключение скажу: печататься будет 5000 экземпляров; а чтобы окупить все расходы по изданию (и Генеральские и проценты), нужно, чтобы продалось 2500 екземпляр. — Если они продадутся, то спекуляция — удалась; в противном случае она будет не удачна. — Вот на етот предмет нужно обратить внимание, — разойдётся ли 2500 екземпляров; ето мне давало много заботы; но обнадёживают все. — В Петербурге и 50 екземпляров нет старого издания, в Москве — ни одного, теперь он стоит 25 р. серебром. — Желающих иметь Пушкина — много; в одной Москве, как пишет Стрекалов, книгопродавцы на расхват желают иметь Пушкина. — Обо всём етом я думал, и долго. — И так, вот мои предположения, расчёты и мысли. — Теперь для окончания прибавлю, в каком положении находится ето дело в сию минуту. — Условие с Генералом мною уже подписано, — значит, назад нельзя, да и сам не хочу. — В нынешнем месяце собираются сочинения, не бывшие в печати; составляется проект распределения статей, всё приводится в систематический порядок и показывается Плетнёву и Вяземскому; в Июне ненапечатанные сочинения идут на рассмотрение к Государю; а там начинается печатание и вместе с ним составление критического разбора и всего нужного к изданию. — Теперь слушай, Павлуша: если ты уведомишь меня, что скоро сюда приехать не можешь, то есть, если раньше, едак, месяцев 3-х или 4-х; то я беру Дурышкина (или другого кого-нибудь); если же ты можешь приехать; то я остановлю весь ход и самое печатание до твоего приезда. — Пожалуйста, подумай об етом хорошенько и дай решительный ответ; а я бы желал, чтобы ты приехал, и ето право нужно. — Тогда вот как распоряжусь: дождусь тебя и когда ты напишешь разбор, биографию и всевозможные и нужные выноски, тогда всё вместе за один раз пойдёт к Государю и по Высочайшем разрешении начнётся печатание, а ты уезжай восвояси. — Остальное уже будет дело корректора по части поправок и моё — по части типографии. — Затем писавый ждёт ответа; устал от непривычки долго писать и от учений, которыми замучили; остальное место посвящаю на некоторые пьесы Пуш., найденные мною в его бумагах и не бывших в печати <карандашом отметки 13.17.22.37>.
Подруга дней моих суровых[946],и т. д. до стиха:
То чудится тебе…NB. Стихотворение неоконченное, писано в одно время с V главою Онегина, то есть около 1828-го года.
Конечно, презирать не трудно Отдельно каждого глупца; Сердиться также безрассудно, И на отдельного страмца. — Но что чудно! — Всех вместе презирать их трудно. Кокетке И вы поверить мне могли. Как простодушная Аньеса? В каком романе вы нашли, Чтоб умер от любви повеса? и т. д.NB. Подчёркнутые стихи были зачёркнуты Автором.
<Рукою И. В. Анненкова:> Отвечаю тебе, Павлуша, на последнее письмо твоё от 28 Апреля. — Присланные тобою деньги 850 р. серебр. получены нами; они помогли нам заткнуть кой-какие дыры, и мы тебе за ето очень благодарны… Твои замечания об Пушкине, то есть об печатании его сочинений заставили меня местами улыбнуться. — Послушай, Павлуша! — Почему ты думаешь, чтобы я на едакое сурьёзное дело кинулся так, как на обед к Дюме; почему же ты не предполагаешь во мне столько здравого рассудка, чтобы понять важность етого предприятия, и столько понятия, чтобы сделать его основательно? — Три месяца я думал об етом деле и рассмотрел (да не один) со всех его сторон. — Значит, я могу говорить об нём основательно; а ты говоришь поверхностно: а имянно: 1) ты пишешь — подожди тебя и не говоришь, когда ты можешь приехать; 2) что я решительно на всё смотрю <легко?>, — неправда, потому что до окончательного моего решения я долго думал и, сообразив всё, приступаю; 2) опозорить своё имя, — я не сделаю; я очень хорошо знаю, что я сам один с етим предприятием не справлюсь и уж устроено, что… <далее карандашом:> что начатое письмо заменено другим, в етих же листках № 1, 2, 3; но не уничтожается, ибо время нет с етим возиться.
<Далее рукою Ф. В. Анненкова:> Сейчас получил от Голицына письмо…
* * * Когда в объятия мои Твой стройный стан я заключаю И речи нежные любви Тебе с восторгом расточаю, —и т. д. до:
И слёзы их, и поздний ропот.NB. Сие стихотворение написано в одно время с Полтавою.
12-го Мая. С. П. Бург
Из 4-х Номеров Ванюшинова писания ты увидишь и узнаешь, Павлуша, решительное его намерение приступить к изданию сочинений Пушкина, и так как сие дело и условие Генеральшой подписано (и она сегодня с детьми на пароходе уехала за границу), то и видя в этом предприятии со временем и выгоду и не желая притом сделать какого-либо упущения, то выслушай по сему случаю и моё мнение.
Ванюша неутомимо всё пересмотрел в оставшихся бумагах, — и есть вещи, которые могут быть и в печати. План и распределение, сделан им, был нелицемерно одобрен Некрасовым и Боткиным; теперь его ещё пересмотрют Плетнёв и Вяземский, которые убедительно просили Генеральшу отдать непременно Ванюше, а не связываться с книгопродавцами и хотят и просили её познакомить <их> с Ванюшей, обещая ему всё, что они знают о Пушкине, ему сообщить и содействовать. И так, теперь нужен человек, который напишет <всё>, исключая биографии, и даст сему делу направление, — и по справедливости Ванюша тебя о том убедительно просит, и я тоже нахожу, что ты легко можешь теперь отлучиться из деревни и сюда приехать, чтобы это серьёзное дело покончить и устроить; и даже так можно рассчитать, что ты со мною можешь уехать обратно в Москву, ибо я решительно отсюда уезжаю 20-го Июня (и взял уже места два внутри и один сзади в Маль-Посте); но если сие для тебя неудобно — так скоро привести в исполнение, то можешь меня подождать в Москве и одному приехать. К тому же если ты уже взялся быть нашим благодетелем, то и тут тебе предстоит ещё сделать доброе дело, а именно: в проезд через Москву меблируй и устрой мою квартеру порядочным и приличным и недорогим образом, и если даже будет возможность взять напрокат до Генваря, то будет ещё лучше.
Обо всём, что здесь писано, будем ждать твоего решительного ответа, причём полагаю, что если ты не решишься приехать, а наделишь своими наставлениями, что на будущее время может нам принести пользу, но в существенном отношении мы от того много потерпим. Подумай хорошенько. Да, я забыл ещё упомянуть, что 1500 р. сер. дать Дурышкину есть вещь, не совсем благоразумная: или ты бы мог от сего избавить расхода, или по крайней мере лично мог бы с ним откровенно переговорить и согласоваться; а что Г-н Некрасов без капитала хочет участвовать, то об этом и не нужно писать и не следует говорить. — Аминь.
За неимением времени Ванюши, я несколько (выбранных) переписал стихотворений, кои предполагаются к печати. — Но вот заглавных ещё №, которые тобою были пропущены (для сведения мною списанные): 1) К О… которой Митрополит прислал плодов из своего сада, 1817 г.; 2) Второе Послание к цензору; 3) Эпиграмма; 4) Изыде сеятель сеяти семена свои; 5) Богоматерь; 6) Христос Воскрес; 7) Пропуск из Чеодаева послания; 8) Сказали, что Риего; 9) Песня Девственницы; 10) Кишинёв; 11) На голос Вальца Дюпорова; 12) Цыгане (бесподобная).
Напиши, если они у тебя уже находятся. За сим прощай, ждём твоего ответа. Твой брат Ф. Анненков.
3
19 мая <1852 г. Петербург>
Отвечаю тебе, Павлуша, на твоё письмо от 4 мая. Оно, по расчёту, было написано тобой до получения ещё моего длинного письма; значит, ты писал его, полагая, что я взялся за издание Пушкина очертя голову; не знаю, разуверит ли тебя моё последнее письмо, но только я тебе спешу отвечать; если твоя боязнь в етом деле происходит от опасения, чтобы я не взвалил новых долгов на имение, то можешь быть покоен. — Я буду занимать денег под залог самого предприятия и у таких людей, которые гадости не сделают; кроме того, я могу пойти в дело с человеком денежным, не смотря на всю невыгоду, которая мне от того предстоит; если ты боишься, чтобы издание ето не острамило всех нас, то опасения твои напрасны при всех мерах благоразумных и осторожных, принятых мною; а впрочем, почитая память Пушкина святынею, как пишешь ты, приезжай взглянуть на ход дела. — Если ты опасаешься, чтобы я не запутывался или не запутался в етой спекуляции, то я вполне ценю твою братскую привязанность и покоряюсь своей судьбе; один я потерплю в етом деле и никого другого с собою в пропасть не потяну; а если паче всякого чаяния будет успех, то рады будем все. —
Когда я объявил, что беру на себя печатание, то все единодушно обрадовались тому, что ето будут делать я, а не какой-нибудь книгопродавец; все изъявили готовность помогать мне всеми возможными средствами, а именно: Вяземской, Плетнёв, Соболевской, Виелгорской и много им подобных, которых не называю, потому что в них пользы не нахожу. — Об Некрасове и Боткине не говорю, ибо уже писал тебе их мнение на етот счёт. — Лица, в начале приведённые, были только удивлены малой ценой, взятой за позволение печатания; но так <как> никто больше не давал, то и согласились на сию цену.
Теперь далее: в опеке было 7 картин Гагарина к Кавказ. Пленнику; по нерадению, они неизвестно куда девались, но начинают, кажется, отыскиваться; когда отыщутся, — они мне даются даром; Айвазовский обещал нарисовать для сего издания несколько картин; мне предоставлен выбор сюжета, где бы находилось море, разумеется; я тебе его передаю с тем, чтобы ты не медля указал бы на такие места Пушкина, из которых можно было бы дать Айвазовскому сюжет. — Мне думается два места: я помню море перед грозою (из Онегина 1 части) и Ты видел деву на скале (4 том, 214 страница). — Поищи и ты. —
Орлов маленькой[947] принимает участие в етом и будет полезен для исходатайствования позволения на печатание новых пьес. — За тем вся переписка, просьба и всё касающееся до издания будет от имени опеки, где имя малолетных будет играть немаловажную роль. — Генеральша по возвращении из-за границы даёт мне переписку Пушкина с сестрою, когда ему было 13 лет. Ланского племянник рисует мне на камне портрет Пушкина, когда ему было 12 лет. — И много, много ещё я мог бы тебе насчитать вещей, которые все были взвешены, когда я брался за дело. — Скажи, кто может иметь все ети удобства; скажи мне, если я передам издание, разве я передам все ети выгоды, которые делаются собственно для меня, и ни для кого другого. — Ето печатание приняло теперь такой оборот, что уж ето не спекуляция книжника какого-нибудь, а намерение выдать соч. Пушк. в достойном его виде, с помощью всех его бывших друзей; я же играю тут только ту роль, что взял на себя все издержки и хлопоты по изданию. — Обо всём етом, Павлуша, подумай. — Обещанные программы и распределение статей я не посылаю, ибо всю неделю как пиявка сидел за черновыми книгами Пуш. и ей Богу не без успеха. — Напрасно называешь ты ето плесенью: ты разуверишься, когда увидишь толстую тетрадь не бывших в печати стихов. — А впрочем, твой ответ на последнее моё письмо даст мне основание, что мне предпринять и как распорядиться, чего с нетерпением ожидаю.
19 мая Твой А.
Для картинки: Я помню море перед грозою, полагаю, хорошо выдет: женьщина в задумчивой позе, сидя на скале или стоя на берегу, облокотясь на балкон, — и волна плеснула ей в ногу. — Как ты думаешь?
4
26-го августа <1852 г. Петербург>
Письмо твоё, Павлуша, от 12 Августа застало ещё меня в Петербурге, но уже укладывающегося в чемоданы. Я выезжаю из Петербурга 28 Августа на Москву и в Чугуев. Не знаю, с тобой ли Фединька… Государь дал мне поручение осмотреть там всех юнкеров до его приезда, — вот я и тороплюсь… Теперь отвечаю на твоё письмо.
1) У Пушкиной я могу собрать нужные тебе сведения по моём возвращении, потому что теперь её здесь нет, — она уехала в деревню, а ето жалко, ибо может задержать твою работу.
2) Вместо оглавления стихотворений с 1830 года я посылаю тебе мою продолговатую тетрадку: она заменит тебе мою выписку.
3) Твоя фраза: «перешли мне все отдельные листки со стихотворениями или заметками или начатками, какие ещё есть в пакетах», — совершенно не понятна: чего ты хочешь? Какие ещё есть листки, которые мы уже не пересмотрели? Да и потом вить отрывки, не бывшие в печати, находятся не в одних пакетах, а и в книгах. — Я распорядился так: посылаю тебе все пакеты с стихотворениями и мою тетрадь, где я сделал выписку того, что не было в печати: она тебе заменит напрасный труд самому рыться в лоскутках. — Равным образом я затрудняюсь в просьбе твоей переслать все тетради Пушк., которые с 30 года идут. — Что тебе нужно: прозу или стихи? да и у него нигде не сказано, которые бумаги идут с 30 года. Я распорядился так: посылаю тебе тетради, но не книги стихов и опять повторяю, что моя тетрадь тебе будет в этом случае полезна. Наконец, посылаю тебе пакет от Катенина, это есть такая чушь, гиль и вздор, что Боже упаси, и переписка твоя с ним только в том отношении будет полезна, что упрёка не сделает, что упустили его из виду; а то вот ты увидишь, какой вздор он написал.
5
<Письмо[948] без даты. Петербург>
…Вышли мне, пожалуста, 12 часть сочинений Пушкина и тетрадь, в которой выписаны ненапечатанные его сочинения. — Ето не для других, а для меня собственно нужно; пожалуйста, не замедли. Затем будь здоров…
Статьи и заметки
Библиотека А. С. Пушкина[949]
Памяти Л. Н. Майкова
Жуковский, в своём известном письме о последних днях жизни Пушкина передаёт трогательную подробность: когда поэт, привезённый после дуэли домой и положенный в своём кабинете, узнал от доктора Шольца о том, что жизнь его в опасности, он, обратив глаза на свою библиотеку, сказал: «Прощайте, друзья!»[950]
Книги действительно были всегдашними друзьями Пушкина, друзьями всей его жизни, почти с колыбели и до самой могилы: Анненков свидетельствует, что страсть к чтению, а следовательно, и к книге начала развиваться у Пушкина с девятого года его жизни; начав с Плутарха, «Илиады» и «Одиссеи» в переводе Битобе, мальчик перешёл затем к библиотеке своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVIII в. и произведениями философов XVIII в.[951]; расположение к чтению поддерживал в своих детях и отец поэта, знакомя их, в собственной мастерской декламации, с произведениями Мольера; по свидетельству того же Анненкова, подкрепляемому словами Льва Сергеевича Пушкина, поэт, будучи мальчиком, «проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца, и без разбора „пожирал“ все книги, попадавшиеся ему под руку…»[952]. Поступив в Лицей, Пушкин широко пользовался его библиотекою, довольно богатою и постоянно пополнявшеюся[953], — и уже с самого вступления туда удивлял товарищей своею начитанностью[954]. Жизнь на юге, а потом в Михайловском, дававшая Пушкину много, хоть и подневольного, досуга, была посвящена им в значительной степени чтению. Не довольствуясь присылаемыми и покупаемыми книгами, он брал их у Липранди[955], В. Ф. Раевского (XIII, 36) и у многих других своих приятелей и знакомых; в письмах его к брату Льву и к Плетнёву[956] из Кишинёва, а потом из Михайловскаго то и дело встречаются просьбы о присылке тех или иных книг; они доставляли поэту немало материалов для умственных трудов, для текущих его работ и замыслов, для самообразования. Библиотека соседнего Тригорского сразу же привлекла к себе его внимание, — и он любил рыться в её книгах и во время своего заточения, и позже, наезжая туда на время[957]. Зарабатывая довольно много изданием своих произведений, Пушкин тратил деньги в это время преимущественно на покупку книг[958], и собственная его михайловская библиотека была весьма значительна по размерам[959]; об этом можно судить, между прочим, потому, что когда в 1832 г. поэт, переселившись окончательно в Петербург, задумал перевезти туда и свою деревенскую библиотеку, поручив хлопоты по этому делу П. А. Осиповой, то книги его заполнили собою не один ящик. К. А. Тимофеев, посетивший Михайловское в 1859 г. и встретивший там кучера Пушкина — Петра, передаёт следующий любопытный разговор свой со стариком: «Случилось ли тебе видеть Александра Сергеевича после его отъезда из Михайловского»? — Видел его ещё раз потом, как мы книги к нему возили отсюда. — «Много книг было»? — Много было. Помнится, мы на двенадцати подводах везли; двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были. — «Где-то теперь эта библиотека, — добавляет г. Тимофеев, — любопытно было бы взглянуть на неё: ведь выбор книги характеризует человека. Простой каталог их был бы выразителен. Найдётся ли досужий человек, который занялся бы этим лёгким, почти механическим делом?[960] Если бы перелистывать, хоть наудачу, несколько книг, бывших в руках у Пушкина, может быть внимательный взгляд и отыскал бы ещё какую-нибудь интересную черту для истории его внутренней жизни. Может быть, и у Пушкина, как у его героя, —
Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей,и по этим отметкам и «чертам его карандаша» внимательный и опытный взгляд мог бы уследить,
Какою мыслью, замечаньем Бывал наш Пушкин (sic) поражён, С чем молча соглашался он,где он невольно обнаруживал свою душу
То кратким словом, то крестом, То вопросительным крючком»[961].Посетив однажды, 15 сентября 1827 г., поэта в Михайловском, А. Н. Вульф застал Пушкина за его рабочим столом, на котором, наряду с «принадлежностями уборного столика поклонника моды», «дружно… лежали Montesquieu с „Bibliothèeque de campagne“ и „Журналом Петра I“; виден был также Alfieri, ежемесячники Карамзина и изъяснение слов, скрывшееся в полдюжине русских альманахов»[962]. Помимо покупок, Пушкин получал от своих друзей и знакомых-писателей их произведения и издания, которые в довольно большом количестве входили в состав его библиотеки и отчасти доныне в ней сохранились. Любовь к книге никогда в Пушкине не остывала и во всю жизнь в нём не охладела. Обыграв И. Е. Великопольского (1828), он, вместо денег, взял у него тридцать пять томов «Энциклопедии»[963]. Летом 1832 г. только что выпущенный из Лицея Я. К. Грот случайно сошёлся с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. «Увидя Пушкина, — рассказывает он, — я забыл свою собственную цель и весь превратился во внимание: он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, разспрашивал о них книгопродавца»[964]. Временно находясь в Москве в 1831 г., он заказывает Плетнёву прислать ему книг от Беллизара[965]; попав в 1833 г. в Ярополец, к тёще, он с восторгом пишет жене: «Я нашёл в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками[966]. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен»[967]. По приезде затем в Москву, по пути в Оренбург, он, «по своему обыкновению, бродил по книжным лавкам», хотя и «ничего путного не нашёл». «Книги, взятые мною в дорогу, — добавляет он, — перебились и перетёрлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке [дочери] капризничать и воевать с нянею: прибью» (XV, 75—76). 17 апреля 1834 г. поэт сообщает жене, что он, вместе с С. А. Соболевским, «приводил в порядок библиотеку» (XV, 128), а 29 мая пишет: «Книги из Парижа приехали, и моя библиотека растёт и теснится» (XV, 153). Уехав на короткое время в Михайловское осенью 1835 г., он берёт у баронессы Е. Н. Вревской переводного Вальтера Скотта и перечитывает его, жалея, что не взял с собою английского. «Кстати,— пишет он жене, — пришли мне, если можно, Essays de М. Montaigne — 4 синих книги, на длинных моих полках. Отыщи»[968]; в то же время он по вечерам ездит в Тригорское и «роется в старых книгах» (XVI, 52). «Что-то дети мои и книги мои?» — спрашивает он жену из Москвы 16 мая 1836 г., тревожась о том, как совершится переезд семьи на дачу с зимней квартиры…
В путешествия Пушкин всегда брал с собою запас книг. Так, мы видели, что они были с ним во время его поездки в Оренбург. М. В. Юзефович, встретившийся с поэтом в Закавказье в 1829 г., передаёт, что у него «было несколько книг и в том числе Шекспир»[969], а в Эрзеруме читал он «Божественную комедию»[970]. Л. Н. Обер свидетельствует, что перед отъездом своим из Москвы в Петербург (рассказ его, вероятно, относится не к 1829, а к 1828 или 1827 г., когда Пушкин неоднократно бывал в обеих столицах[971]) поэт, остановившийся в его доме, передал ему ключ от своего сундука с книгами, прося сохранить их во время его отсутствия и позволив в них рыться. Пересматривая их, Обер увидел, что «книги все были, большею частию, на иностранных языках»[972].
Таким образом, книги всегда и везде сопутствовали Пушкину, — и мы назвали бы его библиофилом в лучшем значении этого слова. В последние два года своей жизни Пушкин в большом количестве покупал книги у Беллизара, не имея сил совладать с желанием приобретать их, несмотря на требования рассудка, который не мог не подсказывать поэту, что траты его на книги совсем не соответствовали обстоятельствам, в которых он тогда находился, и его бюджету. Просматривая эти счеты и письма Беллизара с требованиями об уплате долга, мы можем понять, что, действительно, книги были «единственным предметом влечения» Пушкина, как выразился хорошо осведомлённый Лёве-Веймар в написанном им некрологе поэта (Journal des Débats. 1837, 3 mar.)[973]. Незадолго до смерти, в 1836 г., набросав известное стихотворение своё: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» — поэт сопроводил его следующим замечанием: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой. О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc.» (III, 941). Так мечтал поэт, но мечтам его о тихом пристанище не суждено было осуществиться. Вот почему его предсмертное прощание с книгами, этими нелицемерными друзьями всей его жизни, приобретает в глазах наших особенную трогательность и ценность.
Привязанность Пушкина к книге, очерченная выше несколькими собственными его показаниями и свидетельством лиц, его знавших, интересна, конечно, и сама по себе, как всё, что содействует выяснению черт многогранной души поэта; но она представляется достойной изучения в особенности по тому специальному значению, которое имеет в глазах исследователя, пытающегося по тому или иному поводу проникнуть в тайники творчества поэта.
Исследователю подчас прямо необходимо бывает знать, для правильности вывода, что именно читал он, имел ли он в своих руках то или другое сочинение, в какой мере был он знаком с ним, какие места книги остановили на себе его внимание и т. п. Ещё в 1855 г. А. В. Дружинин, говоря в статье своей «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»[974] о том, что «поэт читал много, читал с наслаждением, выписывая запасы книг из Петербурга и нетерпеливо поджидая их прихода», что «он задумывался над прочитанным, делал отметки на страницах, выписывал в особые тетради то, что ему особенно нравилось», и что только что изданные «Материалы» Анненкова несколько бедны указаниями по этой части, — писал: «Библиотека Пушкина не могла пропасть без следа. Сведения о любимых книгах Александра Сергеевича, изложение его заметок со временем будут собраны, — в этом мы твёрдо уверены. Странно думать, что мы можем по месяцам проследить за ходом чтения англичанина Соути и знаем так мало о том, что читал и любил читать поэт, которым гордится наше отечество. Указания подобнаго рода потому ещё будут полезны, что сокрушат вконец разные остатки теорий о непосредственности талантов и чистой художественности, будто бы не ладящей с изучением великих образцов. Между нашими литературными предрассудками один ещё не вырван с корнем, — это предрассудок о малом значении труда. Не один литератор нашего времени готов обидеться, если ему придадут эпитет трудолюбивого».
Времена изменились: трудолюбие не ставится теперь в упрёк писателю-художнику, а что касается вопроса о «непосредственности талантов и чистой художественности», то Дружинину, быть может, пришлось бы теперь бороться с другою крайностью — стремлением некоторых исследователей находить зависимость одного литературного произведения от другого даже там, где для установления этой зависимости нет никаких оснований, кроме чисто внешних, незначительных признаков, вроде совпадения отдельных мыслей, слов и выражений… Как бы то ни было, вопрос о составе пушкинской библиотеки неоднократно останавливал на себе внимание биографов и исследователей различных сторон жизни и творчества поэта. Первый шаг к разрешению этого вопроса сделал покойный Л. Н. Майков. Получив от А. А. Пушкина принадлежавший его отцу экземпляр «Опытов» Батюшкова (изд. 1817 г.) и вполне правильно оценив значение сделанных поэтом на полях книги критических замечаний[975], Леонид Николаевич начал переговоры с потомками Пушкина о предоставлении ему возможности ознакомиться и со всею библиотекой поэта. О ней ходили самые разнообразные слухи, но оказалось, что библиотека эта, после долгих странствований[976], нашла себе окончательный приют в сельце Ивановском, Бронницкого уезда Московской губернии — имении внука поэта, местного предводителя дворянства, камер-юнкера Александра Александровича Пушкина. Переписка Л. Н. Майкова с ним началась ещё в 1899 г., вскоре после юбилейных Пушкинских дней, а в апреле 1900 г. Леонид Николаевич, получив уже разрешение на командирование автора этих строк в с. Ивановское, — скончался… Налаженное дело чуть было совсем не остановилось, но Отделение русского языка и словесности, которому были известны намерения покойнаго Леонида Николаевича, постановило командировать нижеподписавшегося за библиотекой, благо со стороны владельцев её не было против этого возражений.
Приехав в сельцо Ивановское в сентябре 1900 г., я встретил со стороны А. А. Пушкина самый радушный приём и полное содействие выполнению моей задачи. Библиотека оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами, многие были помяты или растрёпаны; спешно она была разобрана (отделены были все случайно попавшие в неё книги, изданные после 1837 г., как очевидно не принадлежавшие поэту), уложена в тридцать пять ящиков и отправлена до станции Бронниц на подводах, а затем — по железной дороге. В Петербург книги были доставлены 1 октября[977] и временно помещены в одной из комнат славянского отделения Библиотеки Академии наук, где и производилось затем постепенное их описание. Таким образом, библиотека Пушкина, свыше шестидесяти лет странствовавшая с места на место и подвергавшаяся всевозможным случайностям, снова, хотя, конечно, и не в полном уже виде, вернулась в Петербург, — на этот раз уже навсегда.
При самом начале работ над описанием библиотеки выяснилось, что в ней сохранилось далеко не всё, чего можно было ожидать: многих книг, вне всякого сомнения бывших у Пушкина, в ней не оказалось[978]. Объяснений этому факту можно найти несколько: во время многократных перевозок библиотеки с места на место часть книг могла просто растеряться; несомненно, что после смерти поэта его друзья и знакомые получали «на память» некоторые книги (даже рукописи его, как известно, широко раздавались); многочисленное потомство и родня поэта также, без сомнения, оставили себе что-нибудь из его книг, по всей вероятности — экземпляры его собственных сочинений[979]; мы уже видели, что экземпляр «Опытов» Батюшкова, издания 1817 г., и до сих пор хранится у А. А. Пушкина; у покойного Г. А. Пушкина, как слышали мы от Ю. М. Шокальскаго, также были отцовские книги; у племянника поэта, Л. Н. Павлищева, также есть книги, принадлежавшие его дяде <…> А. А. Бахрушин приобрёл недавно у внука поэта экземпляр III части «Московского вестника» 1829 г. с замечаниями Пушкина на статью Погодина. Если бы даже и включить в каталог библиотеки Пушкина список книг, несомненно бывших у него, но теперь в библиотеке не находящихся, то, конечно, и такой «исправленный и дополненный» каталог не представил бы нам всего, что имел когда-то Пушкин в своей библиотеке. С другой стороны, даже при наличности той или иной книги в каталоге нельзя с полною достоверностью сказать, что она принадлежала безусловно к составу библиотеки поэта (если, конечно, не носить ясных, положительных признаков такой принадлежности), а не попала в неё со стороны при тех случайностях, которым она подвергалась и о которых было говорено выше.
По ходатайству, возбуждённому внуком поэта, А. А. Пушкиным, вся библиотека его деда 21 апреля 1906 г. была приобретена в казну, для Пушкинскаго Дома[980], по сооружении которого и должна войти в его будущие собрания; пока же она хранится в Рукописном отделении Библиотеки Академии наук; она расположена по шкафам в том порядке, в котором была привезена в Петербург и в котором описывалась. Карточный каталог библиотеки, с указанием на номера книг по этой описи, находится там же.
1910
Пушкин — ходатай за Мицкевича[981]
Печатаемые ниже строки Пушкина относятся к самому началу 1828 г.; они важны не столько с литературной, сколько с исторической и биографической стороны и лишний раз выказывают в тёплом свете человеческую сущность души Пушкина, которой столь свойственны были высшие порывы к добру и справедливости. Сам «поднадзорный», незадолго перед тем возвращённый из ссылки и получивший лишь видимость личной и духовной свободы (ибо поставлен был в официальные, подчинённые отношения к «высшей полиции» и тогдашним её представителям — Бенкендорфу и фон Фоку, начальникам всесильного когда-то, мрачной памяти III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии), — наш чистосердечный, незлобивый поэт-гражданин берётся хлопотать — и хлопочет — о своём новом друге, друге-изгнаннике, представителе братского народа, так же, как и он сам, поэте «Божею милостью» — Адаме Мицкевиче. Напомним, что позже, в 1834 г., вспоминая промчавшиеся годы, писал о нём Пушкин в своём известном, дошедшем до нас лишь в набросках, стихотворении[982]:
…Он между нами жил, Средь племени враждебного; но злобы В душе своей к нам не питал, и мы Его любили. Мирный, благосклонный, Он посещал беседы наши. С ним Делились мы и чистыми мечтами И песнями (он вдохновен был свыше И с высока взирал на жизнь). Нередко Он говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта. Он Ушёл на Запад — и благословеньем Его мы проводили…В этих строках Пушкин вспоминал о «былом» Мицкевиче, некогда столь близком ему по духу, но, взволнованный его политическими настроениями и выступлениями, продиктованными русско-польскими событиями 1830—1831 гг., говорил далее:
…Теперь Наш мирный гость нам стал врагом, — и ядом Стихи свои, в угоду черни буйной, Он напояет. Издали до нас Доходит голос злобного [падшего] поэта, Знакомый голос! Боже! освяти В нём сердце правдою твоей и миром И возврати ему… [Твой мир в его озлобленную душу]…Пути двух поэтов в ту пору разошлись: в каждом слишком сильны были национальные чувства, сознание принадлежности к своему народу и долга перед ним… Не то было в 1826—1828 гг. Познакомившись в последние месяцы 1826 г. в Москве, куда Мицкевич прибыл в марте этого года, будучи определён на службу в гражданскую канцелярию московского военного генерал-губернатора князя Д. В. Голицына[983], друзья-поэты быстро сошлись очень близко и тесно сдружились. Много обстоятельств содействовало этому сближению: и личный характер Пушкина, самая природа его души, всегда общительной, живой, легко и охотно отзывавшейся на всякое доброе чувство, а в то время, в период упоения полученной свободой, — даже экспансивной; и общее настроение окружающей литературной и светской среды, в которой оба поэта вращались в то время. Один из современников (князь Вяземский) пишет по поводу пребывания в Москве польского поэта: «Мицкевич радушно принят был Москвою. Она видела в нём подпавшего действию административной меры, нимало не заботясь о поводе, вызвавшем эту меру; в это время не существовало ещё так называемого польского вопроса. Всё располагало к нему общество: он был умён, благовоспитан, одушевлён в разговорах, держался просто, не корчил из себя политической жертвы, в нём не было ни следа польской заносчивости, ни обрядной уничижительности. При оттенке меланхолического выражения в лице он был весел, остроумен, меток в словах и выражениях, говорил хорошо по-русски»[984]. Пушкин был пленён Мицкевичем и его поэтическим и импровизаторским талантом; с своей стороны, и польский поэт отнёсся к Пушкину с искреннейшею симпатиею и быстро оценил его гениальность. «Я с ним знаком, — писал он своему другу Одынцу в марте 1827 г., — и мы часто видаемся. Пушкин почти ровесник мне… В беседе он очень остроумен и пылок, читал много и хорошо знает современную литературу; понятия его о поэзии чистые и возвышенные. Он теперь написал трагедию „Борис Годунов“; я знаю несколько сцен её в историческом роде, хорошо задуманных и с прекрасными частностями»[985].
Вскоре затем, 19 мая 1827 г., Пушкин покинул Москву и вторую половину этого года провёл большею частию в Петербурге; сюда же, в свите князя Д. В. Голицына, в первых числах декабря 1827 г. приехал и Мицкевич, вскоре сделавшийся центром внимания со стороны столичной польской колонии и прогостивший в столице до начала февраля 1828 г.[986]; в этот приезд он, без сомнения, видался и с Пушкиным; хотя точных указаний на их сношения до нас и не дошло, — зато мы имеем теперь документ, с определённостью показывающий, что сердцу Пушкина была в это время очень близка судьба опального польского поэта: в числе различных безымянных и незначительных бумаг фон Фока, управлявшего III Отделением, нам удалось найти остававшуюся доселе неизвестной записку Пушкина по делу Мицкевича от 7 января 1828 г.; она составлена в обычной форме «меморандума», или «памятной записки», передаваемой при личном ходатайстве, и писана на листе писчей бумаги большого формата обычным «нарядным» или официальным почерком Пушкина:
Adam Mickiewicz, professeur à l’Université de Kovno, ayant appartenu à l’age de 17 ans, à une société littéraire qui n’exista que pendant quelques mois, fut mis aux arrêts par la comission d’enquête de Vilna (1823). Mickiewicz convint d’avoir connu l’éxistance d’une autre société littéraire, mais d’en avoir toujours ignoré de but qui étoit de propager le Nationalisme Polonais. Aureste cette société ne dura non plus qu’un moment et fut dissoute avant l’Oukase. Au bout de 7 mois Mickiewicz fut mis en liberté et envoyé dans les provinces Russes, jusqu’à ce qu’il plut à S. M. l’Empereur de lui permettre de revenir. Il servit sous les ordres du General Witt et sous ceux du General Gouverneur de Moscou. Il espère que leurs suffrages lui étant favorables, l’Autorité lui permettra de revenir en Pologne où l’apellent des affaires domestiques.
7 Janvier 1828
Перевод: Адам Мицкевич, профессор университета в Ковне[987], за принадлежность, в возрасте 17 лет, к одному литературному обществу, которое существовало в продолжение лишь нескольких месяцев, был арестован Виленскою следственной комиссией (1823)[988]. Мицкевич сознаётся, что знал о существовании и другого литературного общества, но всегда был в неведении о цели его, которая состояла в распространении идей польского национализма. Впрочем, и это общество существовало лишь самое короткое время и было закрыто до издания указа[989]. По истечении 7 месяцев Мицкевич был выпущен на свободу и выслан в русские губернии, — до тех пор, пока государю императору благоугодно будет разрешить ему возвратиться. Он служил под начальством генерала Витта[990] и московского генерал-губернатора. Он надеется, что, так как их отзывы для него благоприятны, правительство позволит ему возвратиться в Польшу, куда призывают его домашние обстоятельства[991].
7 января 1828
Ходатайство поэта, составленное не без дипломатической ловкости, не увенчалось немедленным успехом, хотя, надо думать, всё-таки помогло Мицкевичу освободиться от столь несвойственной ему чиновника гражданской канцелярии московского генерал-губернатора: вскоре после получения памятной записки Пушкина, когда Мицкевич снова приехал в Петербург, фон Фок, при очередном своём письме (от 9 мая 1828 г.) к находившемуся тогда в отъезде с Николаем I Бенкендорфу, послал последнему особую заметку (среди других заметок, которые он озаглавливал: «Секретная газета», номер такой-то) следующего содержания[992]:
СЕКРЕТНАЯ ГАЗЕТА
5.
Сюда переселились из Москвы два поляка: первый — польский поэт Мицкевич и друг его Малевский, принадлежавшие некогда к Студентскому Виленскому обществу Филаретов, за что они, вместо наказания, высланы из Литвы на жительство в Россию, в 1824 г. По достоверным сведениям, общество сие не имело никакой возмутительной цели. Главные его правила были: учиться, не пить, не играть в карты, помогать своим товарищам, а политическая цель была, чтоб распространять Польскую Национальность[993].
Мицкевич и Малевский люди образованные, тихие, скромные, ведут себя отлично в отношении нравственном и политическом и вовсе исцелились от своей школьной политики. Московский Военный Генерал-Губернатор Князь Голицын особенно им покровительствует и неоднократно ходатайствовал за ними (sic). По ходатайству Князя Голицына Малевский, как искусный законник и Магистр Прав, определяется в Сенатские Метрики, где он будет весьма полезен Сперанскому при составлении свода Польских Законов. Сперанский знает о достоинстве Малевского. Мицкевич ищет себе места в Министерстве Внутренних Дел[994].
Казалось бы, лучше всего, чтоб не мешать переселению этих смирных молодых людей из Москвы в Петербург. Во-первых, этим Правительство получит много приверженцев между молодыми Поляками; во-вторых, пора бы предать забвению детские проступки; в-третьих, если Мицкевич и Малевский так хороши, как об них со всех сторон относятся, то они не только не сделают вреда, но произведут пользу в Петербурге, поселяя в юношестве хорошие правила; если же окажется, что образ мыслей их не таков, как о том свидетельствуют, то здесь лучше и удобнее за ними наблюдать и, в случае нужды, принять свои меры. В Москве же между молодыми людьми пребывание их не может быть полезно, ни им самим, ни другим, ибо дух Московского юношества известен[995].
Любопытно отметить, как раз в это время, когда Фок заступался за Мицкевича, возникла обширная переписка властей (барона И. И. Дибича, H. Н. Новосильцова и графа А. И. Чернышёва) о Мицкевиче по поводу изданной им тогда в Петербурге поэмы «Konrad Wallenrod», — но переписка эта окончилась благополучно для поэта, и ходатайство за него Пушкина в конце концов осуществилось в полной мере: возбуждённое властями «дело» было «оставлено без дальнейшего внимания»[996], а Мицкевич весною 1829 г. получил возможность выехать за границу.
Во время пребывания своего в Петербурге в 1828—1829 гг. Мицкевич нередко видался с тем, кого позже назвал: «Народа Русского избранник, прославленный на Севере певец». Пушкин принимал Мицкевича и у себя, в Демутовой гостинице, встречал его и у общих знакомых, — например, у барона Дельвига, у К. А. Собаньской, у графа И. С. Лаваля, вероятно — у Жуковского и Козлова; тогда же Пушкин принялся за перевод «Конрада Валленрода» и «мастерски» перевёл начало его, а также подарил ему свою «Полтаву»[997]; в это же время, вероятно, он получил от Мицкевича и экземпляр сочинений Байрона издания 1826 г. с надписью на польском языке: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих — А. Мицкевич»[998].
С отъездом Мицкевича из России прекратились личные сношения поэтов, хотя оба они, конечно, никогда не теряли друг друга из виду[999]; а когда Пушкин погиб, Мицкевич написал свою известную статью о русском национальном поэте и, подписав её: «Один из друзей Пушкина», показал тем самым, что он не изменил чувствам преданности и признательности к своему собрату и ходатаю.
1918
Пушкин и Лажечников[1000] (Из галереи современников и знакомцев Пушкина)
Одною из отличительных черт всеобъемлющей души Пушкина была его исключительная и вполне сознательная благожелательность, сердечное доброжелательство, при полном отсутствии зависти к кому бы то ни было, — в частности, к литературным собратьям[1001]. Появление всякого нового таланта среди немногочисленной в его время писательской семье всегда искренно радовало его, за каждым молодым дарованием он следил с повышенным, всегда благожелательным вниманием. Чувства, которые питал Сальери к Моцарту, были понятны и столь тонко обрисованы Пушкиным лишь благодаря особенно чуткой исключительной его интуиции, способности перевоплощения, — ибо сам он был абсолютно чужд завистливых движений сердца, как ни близко подчас задевали его те или иные литературные явления, ставившие перед ним вопрос о возможности соперничества. Уже не раз отмечалось на редкость восторженное отношение Пушкина к появлению таких талантов в поэзии, как Боратынский, Языков; известна та повышенная радость, с какою он, уже признанный первый поэт, встречал успехи этих своих младших современников, — которые, как нам теперь известно, вовсе не так спокойно относились к произведениям Пушкина и к нему самому, творцу этих произведений… То же, что было в области поэтического творчества, наблюдается и в области прозы[1002], критики, историографии; каждый истинный талант или дарование встречаются Пушкиным с сердечностью, чистою радостью. Он даёт отзывы о них и в печати, и в своих письмах — самим ли авторам или к третьим лицам. Благожелательство, впрочем, не ослепляло его, не мешало ему видеть недостатки там, где они были, клеймить всеми доступными средствами порок или бездарность всюду, где он их замечал: но всё положительное, что встречал Пушкин, он принимал с беспристрастным доброжелательством, приветствовал от души, как шаг вперёд — к достижению недостижимого, но всегда влекущего к себе идеала.
В настоящей заметке мы хотим напомнить читателям один из многочисленных, почти бесчисленных примеров такого доброжелательства Пушкина: пример этот касается современника Пушкина, — известного когда-то писателя и одного из благороднейших, честнейших и чистейших людей своей эпохи. Мы имеем в виду пользовавшегося в своё время громкою славою исторического романиста, — «Русского Вальтера Скотта», как называли его некогда, — Ивана Ивановича Лажечникова, великого поклонника и подражателя славного шотландского писателя[1003]. Некогда имя его пользовалось широчайшей известностью, произведениями своими он сразу завоевал себе одно из самых блестящих мест в литературном мире; его роман «Последний Новик» был признан не только лучшим из русских исторических романов, но произведением, которое сделало бы честь любой европейской литературе… От сношений его с Пушкиным дошло до нас, правда, немного — несколько писем и небольшие воспоминания Лажечникова, но это немногое даёт нам достаточный материал для того, чтобы восстановить характер их взаимных отношений, отметить, с каким добрым чувством встречал поэт литературный успех первого исторического романиста, а притом с благодарностью вспомнить и о самом Лажечникове — прекрасном человеке и честном писателе, оставившем яркий, хоть и не слишком глубокий след в истории нашей словесности[1004].
Первое знакомство Лажечникова с Пушкиным состоялось при совершенно исключительных обстоятельствах, о которых дошёл до нас двойной рассказ самого Лажечникова — в одном его письме к поэту и в близко повторяющем рассказ этого письма отрывке из воспоминаний его о Пушкине. Обстоятельства эти настолько исключительны и характерны для молодого Пушкина, что нельзя отказать себе в удовольствии передать хотя бы часть рассказа Лажечникова, — тем более что очень ценные по некоторым подробностям воспоминания его о Пушкине мало кому знакомы[1005].
Свой рассказ Лажечников начинает с повествования о том, как в августе 1819 г. он приехал в первый раз в Петербург и остановился в доме своего начальника, графа А. И. Остермана-Толстого (при котором был тогда адъютантом), на Английской набережной, недалеко от Сената; дом этот занимал целый квартал и другим своим фасадом выходил на Галерную улицу. Молодой, двадцатисемилетний поручик гвардейского Павловского полка, совершивший все походы великой войны с Наполеоном 1812—1814 гг. и бывший при взятии Парижа русскими войсками, насквозь проникнутый романтическими настроениями той бурной эпохи и острым патриотическим чувством, Лажечников прибыл в Петербург человеком, уже получившим литературное крещение и лично знакомым с несколькими виднейшими тогда писателями — Гречем, Воейковым, С. и Ф. Глинками, Денисом Давыдовым, Жуковским, Вяземским и некоторыми другими авторами-современниками. Вспоминая о каждом из них и об обстоятельствах, при которых он познакомился с ними, Лажечников писал в своих воспоминаниях: «Но я ещё нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего в зиму 1819/1820 г. „Руслан и Людмилу“[1006], — Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, — Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был одним из восторженных его поклонников». Затем Лажечников приступает к рассказу о том собственно «необыкновенном случае», который доставил ему знакомство с молодым, но уже широко известным поэтом.
Лажечников жил в той части дома Остермана-Толстого, которая выходила на Галерную улицу, в двух комнатах нижнего этажа, но первую от входа, за несколько дней до описываемых событий, он уступил приехавшему в Петербург майору Денисевичу[1007] — человеку малообразованному, старозаветному, фанфарону, с большим самомнением. «В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро, — рассказывает Лажечников, — было ровно три четверти восьмого, — только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома; он уходил смотреть, всё ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, — из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень небольшой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем; во фраке. За ним выступали два молодца, красавцы, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями… Статский подошёл ко мне и сказал мне тихим вкрадчивым голосом; „Позвольте вас спросить, здесь живёт Денисевич?“ — „Здесь, — отвечал я — но он вышел куда-то и я велю позвать его“. Я только что хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич».
Из происшедшего между молодым статским и майором разговора Лажечников узнал, что накануне вечером, в театре, Денисевич обидел этого статского своими замечаниями по поводу его поведения, которое сильно возмущало сидевшего рядом с ним майора: молодой человек, которому исполнявшаяся пьеса не нравилась, зевал, шикал, говорил громко: «Несносно» и т. д. Майор сначала молчал, но потом, выведенный из терпения, сказал соседу, что он мешает ему слушать пьесу (которая ему, по-видимому, очень нравилась). Молодой человек искоса взглянул на Денисевича и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра. «Посмотрим», — отвечал тот хладнокровно — и продолжал повесничать. По окончании спектакля и при выходе уже из театра майор остановил своего соседа статского и, подняв указательный палец, сказал ему: «Молодой человек, вы мешали мне слушать пьесу… Это неприлично, это невежливо». — «Да, я не старик, — отвечал тот, — но, господин штаб-офицер, ещё невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живёте?» Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра, не подозревая, что тем самым формально вызывал своего противника на дуэль. Из разговора, последовавшего затем в квартире Лажечникова, последний узнал, что приехавший к Денисевичу в сопровождении двух офицеров и с целью драться с майором на дуэли молодой человек был не кто иной, как Пушкин… «При имени Пушкина, — пишет Лажечников, — блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодёжи Петербурга, и я спешил спросить его: „Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?“
— Меня так зовут, — сказал он, улыбаясь.
„Пушкину, — подумал я, — Пушкину, автору „Руслана и Людмилы“, автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, — будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать… нет, этому не бывать! Во что б ни стало устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой“».
И действительно, уведя Денисевича в свою комнату и «потратив ораторского пороху довольно», Лажечников так запугал майора перспективою возможных последствий дуэли с сыном «знатного человека», что заставил его извиниться перед Пушкиным и, таким образом, предотвратил дуэль. Денисевич протянул было даже Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказал только: «Извиняю» — и удалился со своими спутниками. «Скажу откровенно, — вспоминает Лажечников, — подвиг мой испортил мне много крови в этот день… Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предузнавшего своё будущее величие; если б на месте моём был другой, не столь мягкосердный служитель музы, а чёрствый, браннолюбивый воин, который вместо того, чтобы потушить пламя раздора, старался бы ещё более раздуть его; если б я повёл дело иначе, перешёл только через двор к одному лицу, может быть Пушкина не стало бы ещё в конце 1819 года, и мы не имели тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже:
Puis, moi, j’ai servi le grand homme![1008]…Через несколько дней увидал я Пушкина в театре, — заключает Лажечников свой рассказ об эпизоде с майором Денисевичем. — Он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом „Руслана и Людмилы“[1009], на что он отвечал мне: „О! это первые грехи моей молодости!“ — „Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение“, — отвечал я ему».
После описанного поистине необычайного эпизода, познакомившего столь случайно молодого поэта с одним из многих его пламенных поклонников[1010], пути их обоих резко и надолго разошлись: Пушкин успел отбыть свою ссылку на юге и заключение в михайловском уединении, дождался «освобождения» и вызова в Москву во время коронации, провёл и бурные 1826—1830 гг., заполненные у него многочисленными поездками по России и по Кавказу, — наконец, пережил период увлечения Гончаровой и женился на ней; в сфере поэтической — создал все свои поэмы «Онегина», «Бориса Годунова», маленькие драмы и многие другие перлы своего творчества; Лажечников же из гвардейского офицера с большим боевым формуляром давно уже — с конца 1820 г. — превратился в мирного работника на ниве народного просвещения, в должностях директора Пензенских училищ, Казанской гимназии и, с 5 марта 1831 г., училищ Тверской губернии. Одним словом, прошло более десятка лет прежде, чем между Пушкиным и Лажечниковым вновь завязались отношения, хотя и заочные, и кратковременные.
Давно уже — ещё с 1826 г. — работая над созданием исторического романа на тему из русской истории[1011], Лажечников в конце 1831 г. выпустил в свет два томика своего «Последнего Новика». Успех его был большой, совершенно исключительный. Ободрённый этим успехом, скромный Лажечников послал свои книжки Пушкину, снабдив их трогательною надписью: «Первому Поэту Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит Сочинитель. 18 декабря 1831. Тверь»[1012] — и предварив не менее трогательным письмом, в котором вспомнил о своём участии в мирном окончании ссоры Пушкина с майором Денисевичем. «Милостивый государь Александр Сергеевич! — писал Лажечников из Твери 19 декабря 1831 г. — Волею, или неволею, займу несколько строк в истории Вашей жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное слово и дело за неуважение к Его Высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана, в Галерной, с Вами двух молодцов Гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос Ваш: приехали ли Вы во время? отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал Вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поучение, како подобает сидети в Театре, и что майору неприлично меряться с фрачным; вспомните крохотку-адъютанта[1013], от души смеявшегося этой сцене и советовавшего Вам не тратить благородного пороха на такой гад и шпор иронии на ослиной коже. Малютка-адъютант был Ваш покорнейший слуга — и вот, по чему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в Вашей истории. Тогда видел я в Вас русского дворянина, достойно поддерживающего своё благородное звание; но когда узнал, что Вы — Пушкин, творец Руслана и Людмилы и столь многих прекраснейших пиес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память, — тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас и в числе тысячей поклонников (Ваших) приносил к треножнику Вашему безмолвную дань. Загнанный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с Вами? Ныне, когда голос избранных литераторов и собственное внимание Ваше к трудам моим выдвигает меня из рядов словесников, беру смелость представить Вам моего Новика, если первый Поэт Русский прочтёт его, не скучая. 3-ю часть получить изволите в первых числах февраля».
Пушкин не откликнулся на это милое письмо, — но, конечно, не почему-либо иному, как по недосугу или по причине суетливости жизни, которую он вёл в первый год своей женитьбы; к тому же письмо Лажечникова пришло в Петербург, когда он был в Москве, — написать ответ своевременно он так и не собрался. Но в добром и памятном сердце своём он отпечатлел и содержание письма Лажечникова, и самый факт присылки ему «Новика», который, без сомнения, он прочитал внимательно: Пушкин, как известно, сам очень интересовался историческим романом и повестью как литературным жанром, был большим поклонником Вальтера Скотта (сочинения которого любил и знал превосходно) и других европейских писателей того же типа — Дефо, Филдинга, Ричардсона, Стерна и многих других: «Арап Петра Великого» (1827), отрывки из которого появились ещё в конце 1828 и в начале 1830 г., «Повести Белкина» и, наконец, «Дубровский», «Капитанская дочка», ряд набросков и планов, все эти попытки свидетельствуют о давнем и повышенном интересе к исторической повести и роману[1014]. Он восторженно встретил выступление Загоскина и прерывал «увлекательное чтение» «Юрия Милославского» для того, чтоб поскорее написать (11 января 1830 г.) автору несколько горячих приветственных строк; находил он достоинства и в «Рославлеве» Загоскина, романы которого вообще склонен был считать выше романов Альфреда де Виньи[1015]. Нет сомнения, что и роман Лажечникова привлёк к себе особенное внимание Пушкина, который и в данном случае проявил к автору «Новика» то исключительно благожелательное отношение, о котором мы говорили в начале нашей заметки; это благожелательство было чуждо и тени того, что французы называют jalousie de metier — ревностию соперничества.
Издание «Новика» — его последнего, 4-го томика — закончилось лишь в 1833 г.; по выходе 3-й части — Лажечников послал её Пушкину из Твери через одного знакомого, который писал по этому случаю Лажечникову 19 сентября 1832 г.: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой… На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блёсток, ни жеманства в этом князе русских поэтов! Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична». «Совестно мне повторять слова, — пишет Лажечников, — которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Почему же не погордиться похвалою Пушкина…»
Письмо Пушкина и его похвалы (если они были изложены в отдельном письме поэта, а не переданы в письме приятеля и корреспондента Лажечникова) нам, к сожалению, не известны, но мы знаем по черновику более позднего, не дошедшего до нас (или не отправленного) письма поэта к Лажечникову от первой половины 1834 г., как он относился к романисту. Благодаря Лажечникова за присылку ему, при письме от 30 марта 1834 г., рукописи Рычкова, касавшейся Пугачёва, Пушкин писал, что несколько раз, проезжая через Тверь, он желал возобновить старое знакомство, но никогда не имел случая представиться Лажечникову и благодарить его — во-первых, за то «истинное наслаждение», которое он доставил ему своим первым романом («Новиком»), а во-вторых, и за внимание, которым «удостоил» его автор, прислав свою книгу. «С нетерпением ожидаем нового Вашего творения, — писал Пушкин, — из коего прекрасный отрывок читал я в альманахе Максимовича[1016]. Скоро ли он выдет? и как вы думаете его выдать — ради Бога, не по частям», — прибавлял Пушкин, так как, по его мнению, этот способ вредит занимательности, целостности впечатления и успеху книги. «„Последний Новик“, — говорит поэт, — выводил нас из терпения перерывом появления своих частей: эти рассрочки выводят из терпения многочисленных ваших читателей и почитателей», — заключал Пушкин (XV, 127, 128).
Возвращая Лажечникову через полтора года упомянутую рукопись Рычкова и извиняясь, что ещё не доставил ему экземпляра «Истории Пугачёвского бунта», Пушкин писал ему в Тверь (3 ноября 1835 г.): «Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, Ледяной Дом и выше Последнего Новика, но истина историческая в нём не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лице мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя[1017]. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем он имел великий ум и великие таланты» (XVI, 62).
Лажечников, в ответном письме от 22 ноября (XVI, 63—67), «счёл за честь поднять перчатку», брошенную ему «таким славным литературным подвижником», — и пространно, с ссылками на исторические источники и на свидетельства очевидцев, поддерживал свою точку зрения и на Волынского[1018], и на Тредьяковского, «педанта и подлеца», и, особенно, на Бирона, с которого «никакое перо, даже творца Онегина и Бориса Годунова, не в состоянии снять с него позорное клеймо, которое История и ненависть народная, передаваемая от поколения поколению, на нём выжгли». Оспаривал далее Лажечников и мысль Пушкина о том, что «ужасы Бироновского тиранского управления были в духе того времени и в нраве народа». «Приняв это положение, — писал он, — надобно будет всё злодеяние правителей отнести к потребностям народным и времени. Признаю кнут справедливым и необходимым для нашего, русского народа за преступления его; но не понимаю, почему бы он требовал за неплатёж недоимок окачивания на морозе холодною водой и впускания под ногти гвоздей. Впрочем народ наш до Бирона и после Бирона был всё тот же; думаю, что он не изменился и ныне, или очень мало изменился к лучшему. Долго ещё будет ходить за современную практическую истину пословица: гром не грянет, русский не перекрестится. Решительно скажу, что чувства нравственного (и даже религиозного), как у немецкого крестьянина нашего времени, и теперь не существует в нашем народе, и до тех пор не будет, пока не подумают о Воспитании его те, которые должны об этом думать[1019]. (Но об этом когда-нибудь после, и печатно, если удастся!..) И за что ж дух этого русского народа требовал ужасных Бироновских пыток? Бунтовал ли он против своей царицы или поставленных от неё властей? Нарушал ли он общественное спокойствие? — Ничего этого не было. Денег, золота требовал Бирон у этого бедного, тогда голодного народа, требовал у него бриллиантов для своей жены, роскошной жизни для себя — и народ, не в состоянии дать ни того, ни другого, должен был выдерживать всякого рода муки, как народы Колумбии, когда они отдали мучителям всё своё золото и не могли ничего более дать. Почему дух времени и нравы народа не требовали Бироновских казней при Екатерине I, Петре II, Анне Леопольдовне, Елизавете, Екатерине II и её преемниках? Народ, как мы сказали, всё тот же». Своё длинное и горячо написанное письмо Лажечников кончил извинением, что ответил на строки Пушкина «целою скучною тетрадью». «Я хотел, — писал он, — защитить себя от несправедливых упрёков и, между тем, защитить память русского патриота. Я молчал бы, — добавлял Лажечников, — если бы писал мне г. Сенковский[1020] <…> Но ваши упрёки задели меня за живое. Ответом моим хотел я доказать, что историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой. Это аксиома. Вините также славу вашу за эту длинную тетрадь. Ваши похвалы так вскружили мне голову, что я в восхищении от них забыл время и записался. Искренностью моего письма хотел я также доказать то глубокое уважение, которое всегда имел к вам…»
Составляя, двадцать лет спустя, воспоминания о знакомстве с Пушкиным и приведя в них письмо поэта от 3 ноября 1835 г., которое он тогда хранил «как драгоценность», Лажечников, пользуясь копией своего ответа Пушкину (приведённого нами выше), повторил в них все возражения, которые он сделал тогда поэту. «Я крепко защищал в нём (в ответном письме. — Б. М.), — пишет он, — историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде, чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего „Новика“! Могу прибавить, — я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию[1021] вдоль и поперёк, большею частью по просёлочным дорогам. Также добросовестно изучил я главные лица моего „Ледяного дома“ на исторических данных и достоверных преданиях». Поэтому упрёки Пушкина по своему адресу он считал незаслуженными и продолжал отстаивать свою точку зрения и на действующих лиц своего романа, и вообще на описанную им эпоху. Впрочем, он должен был сознаться, что по отношению к Тредьяковскому он был не совсем справедлив и что Волынский действительно поступил с ним жестоко, даже бесчеловечно; однако не соглашался с Пушкиным в том, что Тредьяковский достоин уважения потомства… По поводу же своих возражений Пушкину на его суждения о Бироне Лажечников писал, что оправдание поэтом Бирона он считал «непостижимою» для него «обмолвкой великого поэта». «Винюсь, — говорит он, — я принял горячо к сердцу обмолвку Пушкина — особенно на счёт духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на неё, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нём на резкие выражения, которые можно и должно было написать — только не Пушкину. „Рассердился ли он за них?“ — спросил меня мой приятель. „Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия“, — отвечал я. „Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые своё я ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что моё негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало неудержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться, — напротив, проезжая черезь Тверь, помнится, в 1836 г.[1022] прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне“».
«Я всё ещё надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма, за романы[1023] и пугачёвщину, но неудача меня преследует. — Проезжаю через Тверь на перекладных и в таком виде, что никак не осмеливаюсь вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство. — Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству. Сердечно вас уважающий Пушкин».
«Записка без числа и года, — замечает Лажечников. — Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстановляла хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка расстроила».
Лажечников мечтал ещё раз лично повидаться с своим любимым поэтом, в котором он так высоко ставил и личные, человеческие качества, — но мечте его не суждено было осуществиться. «В последних числах января 1837 года, — заканчивает он свои воспоминания о Пушкине, — приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал дома. Нельзя мне было оставаться долее в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером. 29-го — Пушкина не стало… Потух огонь на алтаре!»
Зная чувствительное сердце Лажечникова, легко можно представить, как горько оплакивал он преждевременную и неожиданную смерть своего любимого поэта…[1024]
Память о нём для него была всегда дорога и впоследствии, что видно, между прочим, из того, как он ценил и берёг письма к нему Пушкина и как заботился об их сохранении. Когда в 1858 г. он выпустил в свет первое собрание своих сочинений, известный библиограф М. Н. Лонгинов, — служивший тогда в Москве, — поместил в журнале «Атеней» статью о Лажечникове[1025]; последний был очень доволен отзывом Лонгинова и писал ему, что отзывом этим он «подарил ему один из самых приятных часов в его жизни»[1026]. Желая показать Лонгинову, как ценит он его доброе о себе мнение, он писал ему: «При свидании в Москве[1027] я попрошу вас принять от меня на память письмо ко мне Пушкина по случаю получения им моего Ледяного Дома и ответ мой на это письмо. У вас они сохранятся лучше и, может быть, когда-нибудь пригодятся»; а в одном из следующих писем — от 16 ноября 1858 г., он послал ему оба письма к себе Пушкина[1028]. Приводим это, очень интересное, неизданное письмо, — тем более любопытное, что в нём Лажечников, между прочим, снова возвращается к тому же давнему спору своему с Пушкиным по поводу его мнения об ошибках, допущенных Лажечниковым при обрисовке некоторых действующих лиц в «Ледяном доме», и защищается от критики А. Н. Афанасьева в статье последнего «Об исторической верности в романах И. И. Лажечникова»[1029].
Милостивый Государь,
Михайла Николаевич.
Посылаю вам обещанные мною письма Пушкина ко мне и комедию: «Точь-в-точь», игранную в Сибири в 1774 году. Сочинитель её г. Веревкин[1030]. Прошу покорно принять от меня то и другое на память[1031]. Ответ мой Пушкину я не нашёл в своих бумагах.
Из письма ко мне Пушкина вы увидите, справедливо ли я назвал обмолвкою великого писателя слова его, что «тиранское управление Бирона было в духе того времени и во нравах народа, которым он управлял». Приняв это положение, надобно будет всё злодеяние правителей отнести к потребностям времени и народа. Положим, законы, взыскивающие за преступления, могут быть издаваемы более или менее строгие, смотря по нравам народа; но никогда тиранское управление не может быть в духе времени и народа. История оправдывает иногда грозное управление государственных людей за их ум и таланты, за благодетельную для их отечества цель, к которой они стремились. Так историческая правда смотрит на дела Ришелье. Но какой великий ум и какие таланты правителя народного имел Бирон? То и другое должно доказываться делами. Что же славного и полезного для России сделал временщик? Быть может, какой-нибудь лихой наездник-историк, вроде Афанасьева, велит нам снять шапку перед его памятью за то, что он, ничтожный выходец, умел согнуть Петрову Россию в бараний рог и душил нас, как овец. Или, может статься, велит он увидеть его ум и великие таланты в мастерской езде верхом на разные манеры или в том, что он умел искусство сесть не в свои сани?.. Других памятников своего искусства править он нам не оставил.
В одном из последних №№ Атенея прочёл я ожесточённый разбор моих романов. В оправдание своё повторю то, что я сказал в статье моей: «Знакомство моё с Пушкиным». Прибавлю ещё, что я писал о Волынском под благородным впечатлением, окружавшем в 30-х годах могилу его, когда с восторгом повторялись известные стихи[1032]:
………приведи К могиле мученика сына: Да закипит в его груди Святая ревность гражданина.Сама великая Екатерина в завещании своём, приложенном к следственному делу Волынского, оправдала его: такому авторитету верить можно. Копию с этого завещания, списанную мною со всею точностью с подлинника, который я получил в 1837-м году от Жуковского, посылаю вам — на случай, если вы её не имеете. Из неё увидите, что следствие над Волынским производилось под пытками: хороша истина, выжатая клещами и на дыбах!! достойно исторического вероятия следственное дело, произведённое таким образом!.. Если следствие напечатано кем в Трудах исторического общества — конечно, ради оправдания отчёта о нём, сделанного некогда одним сильным лицом, — почему ж было не напечатать завещания мудрой государыни, из которого некоторые изречения следовало бы напечатать золотыми буквами?[1033] Тогда права обвинителей и адвокатов Волынского были бы более уравновешены. Легко критику осуждать меня под защитою обнародованного акта, когда он знает, что другой, сильнейший документ, его опровергающий, не мог быть издан в свет. Он нападает с оружием, которое дано ему правительством в руки против человека, не имеющего права употребить оружие, которое ему запрещено. Благородно ли это? Притом справедливо ли взыскивать с меня за то, что я изобразил в 1835 году Волынского не по историческим сведениям, сделавшимся известными только в 1858 году и до сих пор бывшим под государственным секретом? И по юридическим началам закон только со времени его издания имеет силу, а не действует назад. Разве шемякинский или афанасьевский суд действует иначе! Признаюсь, виноват, кругом виноват за то, дескать, что не знал в 1835 году то, что можно было только узнать в 1858 году?
И за отрывок Колдуна на Сухаревой башне[1034] критик ожесточается против меня. Упрёки в искажении мною характера молодого Долгорукова также пристрастны и несправедливы. Напечатанные мною письма[1035] (по просьбе книгопродавца) служили только вступлением к роману: Колдун на Сухар<евой> б<ашне>. Весь роман не был бы написан в эпистолярной форме, а в повествовательной по главам. По письму Долгорукова к Финку нельзя судить, как разовьётся характер первого впоследствии романа; да и Долгорукий играет в нём не главное лицо — главные лица у меня Брюс и его племянник, женившийся потом на княжне Долгоруковой, бывшей невесте Петра II, когда она возвратилась из Сибири. В этом письме Долгорукий выражается, как мальчик, хотя и с прекраснейшими мечтами о счастьи России, но более всего занятый голубою лентою через плечо, обер-камергерским мундиром и красотою девушки, с которою он стоять будет в церкви под брачным венцом. Кто не знает, что много обещавшие юноши не исполняли прекрасных надежд, которые они сулили! В письме барона Остермана к Брюсу (стр. 440 и 441-я) вернее обозначается, чего должна ждать Россия от таких людей, каковы члены семейства Долгоруких. «Пожалеешь и его [Меншикова], — пишет Остерман, — когда подумаешь, кто его заменяет. По крайней мере он был с великими заслугами Петру и отечеству, имел великий ум, испытанное мужество; а теперь его наследники… подумать-то страшно, что за люди!» и далее: «Предсказываю на несколько лет царство детей… Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита: не великие по душевным качествам, они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломить себе шею». Почему же притом, осуждая меня по одному вступлению к роману и то по одному письму юноши Долгорукова, то есть по одной стороне медали, не вздумать взглянуть на другую сторону её?..
Не знаю, что и сказать об оправдании Бирона критиком, по словам князя Щербатова, будто «народ был порядочно управляем, не был отягощаем налогами», когда все историки Анны Иоанновны именно и называют управление временщика тираническим, кровожадным, за жестокие истязания народа во взыскании налогов. Отчего ж ходил такой стон по земле русской? отчего ж целые селения бежали тогда в Литву? не от благодетельного же управления?[1036] Я начинаю сомневаться, не возникла ли эта защита Бирона ради того, что сильные потомки его ещё здравствуют и имеют родственные связи с сильными и знатными фамилиями русскими? Да и г-дин Афанасьев не приходится ли с родни Тредьяковскому?..
Наконец скажу, — меня судят, как биографа, как историка, а не как исторического романиста. Если бы разбирать строго исторические характеры в романах самого Вальтер-Скотта, сколько бы нашлось в них романических прикрас?[1037]
Не вдаваясь в печатную полемику с г-ном Афанасьевым, вот всё, что я хотел сказать вам в защиту свою. Простите, если я наскучил вам ею.
Прошу верить в совершенное уважение и искреннюю преданность.
Ваш покорнейший слуга
С. Кривякино, И. Лажечников
16-го ноября 1858
Тон глубокого убеждения звучит в этом письме заслуженного писателя, — убеждения, но не пристрастия. И действительно, современники свидетельствуют, что Лажечников был совершенно чужд этого чувства, что он умел быть совершенно беспристрастным. Человек «в высочайшей степени добрый, откровенный, совестливый, нежный», по отзыву близко и издавна знавшего его К. Н. Лебедева[1038], Лажечников с редкою любовию и в то же время беспристрастием следил за литературою, отзываясь на всё талантливое, что появлялось в ней: он, по выражению И. И. Панаева, принадлежал к тем «живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников — едва ли не единственный из литераторов своего времени… искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивающий руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею простотою, мягкостью, благодушием. Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с нею ни в какие сделки…»[1039]. Любя и почитая Белинского и пользуясь привязанностью последнего, он высоко ставил Гоголя, восторгался Тургеневым, до конца дней своих как бы оставаясь чистым и увлекающимся юношей, простосердечным, «неисправимым» идеалистом. «Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался ей весь, пылко, искренно, как юноша», — свидетельствует Т. П. Пассек. Одною из таких симпатий Лажечникова был, несомненно, Пушкин, память которого всегда была особенно дорога ему: к ней относился он с таким благоговением, что когда в 1856 г. Г. Е. Благосветлов написал статью «История русского романа» и в ней отвёл Лажечникову, как романисту, высокое место, последний писал А. В. Старчевскому, что «чести стоять между Гоголем и Пушкиным он не заслуживает…»[1040]. Конечно, Лажечников был прав, отводя себе в истории русской литературы более скромное место[1041], но заслуженного им никто отнять не вправе: Лажечников должен считаться родоначальником русского исторического романа; в этом отношении он занимает почётное место в истории нашей словесности, и имя его может быть поставлено наряду с Пушкиным, если последнего считать родоначальником нашего художественного романа. Успех в современном ему образованном обществе романы Лажечникова имели чрезвычайный, по выражению одного критика — жгучий, — и похвала Пушкина, высказанная по адресу романов Лажечникова, не фраза; их долго читали и перечитывали с наслаждением; поэтому прав был Лонгинов, когда говорил, что имя Лажечникова «не умрёт в летописях нашей литературы, в которые навсегда занесены: „Последний Новик“, „Ледяной Дом“ и „Басурман“».
1925
Пушкин и Ефим Петрович Люценко[1042]
В январской книжке «Библиотеки для чтения» 1836 г. появилось следующее сообщение от редакции: «Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэтму под заглавием „Вастола, или Желания сердца, Виланда“. Мы ещё её не читали и не могли достать, но говорят, что стих её удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: „Пушкин воскрес!“»
Эти строки были вызваны появлением в конце 1835 г. небольшой книжки, около ста страниц, носившей заглавие: «Вастола, или Желания. Повесть в стихах, соч. Виланда. В трёх частях. Изд. А. Пушкиным». Вполне естественно, что имя великого поэта, выставленное на заглавном листе, должно было обратить внимание журналистики на вновь вышедшую книгу. Но критики и рецензенты были поставлены в совершенное недоумение, когда вместо прекрасных стихов Пушкина они нашли вирши, напоминающие, по выражению Белинского, «времена Тредьяковского и Сумарокова»[1043]. Глава русской журналистики, знаменитый в своё время барон Брамбеус, с радостью воспользовался «Вастолой» как предлогом, чтобы унизить в глазах публики Пушкина, получившего в это время высочайшее разрешение на издание «Современника», в котором Сенковский опасался найти соперника «Библиотеке для чтения».
Во второй книжке своего журнала Сенковский поместил рецензию на «Вастолу», в которой, с присущим ему юродством, не лишённым, однако, желчного остроумия, старался доказать, что переводчик поэмы не кто другой, как сам Пушкин.
«Певец „Кавказского пленника“, — писал он, — сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице — доброй, честной русской публике. Та, которая любила его, как своего первенца, любила так искренно, так благородно, так бескорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздельно с драгоценнейшею вещию в мире — славою своего отечества; та самая, в возврат за свои нежные чувства, заслуживающие всякого уважения, получила от него, при визитном билете, „Вастолу“ с двусмысленным заглавием. Первым её делом было — посмотреть в календарь, не пришлось ли в нынешнем году в новый год первое апреля, нет, первое апреля будет первого апреля, а теперь — начало января, время излияния дружеских чувствований, время поклонов с почтением и всяких маскарадов. Бедная русская публика не знала, что делать, — гневаться ли за эту мистификацию, или „приказать кланяться и благодарить и в другой раз к себе просить…“. Посланец отпущен был без ответа.
Для многих, — продолжает Сенковский, — ещё не решён вопрос о „Вастоле“. Каждый по-своему толкует слово „издал“, которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал и напечатал. Одни утверждают, что это действительно стихи А. С. Пушкина; другие, — что она не его, а он только их издатель. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и „издавал“ книжки для спекуляций. Мы сами сначала позволили себя уверить, что Александр Сергеевич играет здесь только скромную роль издателя, но один почтенный „читатель“ убедил нас в противном… После этого я не смел и сомневаться, чтобы „Вастола“ не была действительно произведением А. С. Пушкина… Я читал „Вастолу“. Читал и вовсе не сомневаюсь, что это — стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться, не в том, так в другом отношении.
Некоторые, однако, намекают, будто А. С. Пушкин никогда не писал этих стихов, что „Вастола“ переведена каким-то бедным литератором, что Александр Сергеевич только дал на прокат ему своё имя, для того, чтобы лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может! Мы беспредельно уважаем всякое благотворительное намерение, но такой поступок противился бы всем нашим понятиям о благотворительности, и мы с негодованием отвергаем все подобные намёки, как клевету завистников великого поэта. Пушкин не станет обманывать публики двусмысленностями, чтобы делать кому добро. Он знает, что должен публике и себе. Если бы в слове „издал“ и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издаёт под покровительством своего имени, и что, в подобном случае, выставленное имя напечатлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана тысячу рублей для бедного, но обманывать не станет ни вас, ни меня. Дать своё имя книге, как вы говорите, „плохой“ из благотворительности?.. Невозможно, невозможно! Не говорите мне даже этого! Не поверю! Благотворительность предполагает пожертвование труда или денег, чего бы ни было, — иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать своё имя не стоит никаких хлопот. Александр Сергеевич, если бы пожелал быть благотворителем, написал бы сам две-три страницы стихов, и они принесли бы более выгоды бедному, которому бы он подарил их, чем вся эта „Вастола“. Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно своё имя для продажи, что равнялось бы презрению к бедному и презрению к публике, к вам, ко мне, ко всякому. Нет, нет! клянусь вам, это подлинные стихи Пушкина. И если бы даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего более, как признать их своими и внести в собрание своих сочинений. Между возможностью упрёка в том, что вы употребили уловку (рука дрожит, чертя эти слова), и чистосердечным принятием на свой счёт стихов, которым дали своё имя для успешнейшей их продажи, выбор не может быть сомнителен для благородного человека. Но этот выбор не предстанет никогда Пушкину. „Вастола“, мы уверены, действительно его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!»
Этот отзыв Сенковского до крайности раздражил Пушкина и, как увидим ниже, едва не кончился для него трагически.
Белинский, в вышеупомянутой рецензии своей, напечатанной в «Молве» при «Телескопе», тоже выражал недоумение по поводу появления «Вастолы» в связи с именем Пушкина; но недоумение его было искреннее, чуждое той злой иронии, которую мы видим в статье Сенковского. «При настоящем двусмысленном состоянии нашей литературы, — писал Белинский, — появление почти каждого нового произведения сопровождается какою-нибудь странною и совсем не литературною историею; то же случилось и с „Вастолою“. Пушкин — издатель или автор этой поэмы? вот вопрос. Мы не хотим решать его; нам нет дела до частных, домашних обстоятельств, соединённых с появлением того или другого сочинения; мы видим книгу и судим о ней. Да! так бы должно быть, но случай-то вовсе из рук вон! Мы скорее поверим, что какой-нибудь витязь толкучего рынка написал роман, который выше „Ивангое“ или „Пуритан“, драму, которая выше „Гамлета“ и „Отелло“, чем тому, чтоб Пушкин был переводчиком „Вастолы“. Пушкин может быть ниже себя, но никогда не ниже Сумарокова. Равным образом, мы никогда не поверим и тому, чтобы Пушкин выставил своё имя на негодном рыночном произведении, желая оказать помощь какому-нибудь бедному рифмачу; такого рода благотворительность слишком оригинальна; она похожа на сердоболие начальника, который не хочет выгнать из службы пьяного, ленивого и глупого подьячего, не желая лишить его куска хлеба. Конечно, может быть это сравнение покажется неверным, потому что оба эти поступка, по-видимому, имеют мало сходства; но я думаю, что они очень сходны между собою, и именно тем, что равно беззаконны при всей своей законности, неблагонамеренны при всей своей благонамеренности, и тем, что, как тот, так и другой, лишены здравого смысла. Итак, очень ясно, что последний слух лжив, по крайней мере мы так думаем вследствие нашего глубокого уважения к первому русскому поэту».
Далее Белинский приводит две причины, по которым считает невозможным, чтобы Пушкин был переводчиком «Вастолы». Во-первых, потому, что её автор — Виланд — «немец, подражавший или, лучше сказать, силившийся подражать французским писателям XVIII века, немец, усвоивший себе, быть может, пустоту и ничтожность своих образцов, но оставшийся при своей родной немецкой тяжеловатости и скучноватости». Да и сама «Вастола», по его мнению, «просто пошлая и глупая сказка, принадлежащая к разряду этих нравоучительных повестей (contes moraux), в которых выражалась, лёгкими разговорными стихами, какая-нибудь пошлая, ходячая и для всех старая истина практической жизни…». «Теперь спрашивается, кто может предположить, чтобы Пушкин выбрал себе для перевода сказку Виланда, и такую сказку?.. Вторая причина, — продолжает Белинский, — заставляющая нас не верить, как нелепости, чтоб Пушкин был переводчиком „Вастолы“, заключается в достоинстве перевода, в этих стихах, которые Русь читала с восхищением при Сумарокове, которые стали забывать с появления Богдановича, и о которых совсем забыла с появления Пушкина…»
Беспристрастный отзыв Белинского, конечно, был верен и вскоре подтвердился объяснением самого Пушкина, который, в первой же книжке «Современника», вышедшей в апреле 1836 г., сделал следующее заявление, с целью прекратить всякие толки и пересуды, главным образом ввиду недоброжелательного к нему редактора «Библиотеки для чтения».
«В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель „Вастолы“ хотел присвоить себе чужое произведение, выставя своё имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения с согласия или по просьбе автора до сих пор никому не воспрещалось. Это называется издавать; слово ясно; по крайней мере до сих пор другого не придумано. В том же журнале сказано было, что „Вастола“ переведена каким-то бедным литератором, что А. С. П. только дал ему на прокат своё имя, и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей. Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но конечно бы не принял милостыни от кого бы то ни было.
После такого объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намёкам столь оскорбительным» (XII, 26).
Выходка Сенковского, сильно раздражившая Пушкина, едва не повлекла за собою ещё больших неприятностей, а могла кончиться и трагически. С. С. Хлюстин, приятель Александра Сергеевича, завёл однажды при нём разговор о «Вастоле» и начал приводить замечания Сенковского, нисколько не разделяя его мнения и не желая оскорбить Пушкина. Одно уже имя Сенковского привело Пушкина в бешенство, и он ответил Хлюстину дерзостью, за что и был вызван на дуэль, которая, однако, не состоялась[1044].
Благодаря заявлению Пушкина повод к разного рода толкам и сплетням был устранён, но имя переводчика ещё долгое время оставалось неизвестным. Так, Я. К. Грот в письме к П. А. Плетнёву из Гельсингфорса от 6 октября 1845 г., спрашивал своего корреспондента об имени переводчика «Вастолы», на что Плетнёв отвечал ему так: «„Вастолу“ Виланда перевёл какой-то бывший некогда учитель Пушкина (не могу вспомнить теперь его фамилию); он состоял в первые годы членом „Общества соревнователей Просвещения и Благотворения“, после служил в военном министерстве чиновником и по общей слабости чиновников из класса учёных, попивал. Ему-то Пушкин и позволил назвать себя издателем его перевода»[1045].
Но частная переписка двух лиц, конечно, не могла быть известна публике, почему и позже, в 1846 г., известный библиограф Иван Павлович Быстров, поместивший в «Отечественных записках»[1046] «Заметки для будущего издателя Пушкина», опять высказал предположение, что перевод «Вастолы» мог принадлежать Пушкину. П. В. Анненков[1047], не считая Пушкина переводчиком этой поэмы, полагал, что некоторые места её были исправлены им, с чем, однако, трудно согласиться: «ex ungue leonem»…
В 1888 г. «Земляк из-под Глухова» напечатал в «Киевской старине»[1048] заметку, в которой положительно утверждал, что переводчиком «Вастолы» был Ефим Петрович Люценко, основывая это сведение на каком-то печатном некрологе, которого, однако, нам не удалось найти ни в одной из газет или журналов того времени.
Это же сведение целиком можно найти и в рукописных материалах митрополита Евгения Болховитинова, хранящихся в Императорской публичной библиотеке. Здесь находится заметка о жизни и сочинениях Е. П. Люценко, по-видимому автобиографическая, писанная около 1810 г., в которой, среди сочинений ненапечатанных, указан, между прочим, перевод: «Перфонтий и Вастола, шуточная повесть вольными стихами с немецкого, из стихотворений Виланда, 1807 года». Погодин, издавший в 1845 г. «Словарь русских светских писателей» дословно по рукописи митрополита Евгения, оконченной ещё в 1812 г.[1049], не вносил в неё никаких позднейших дополнений, почему в список трудов Люценко не вошла и «Вастола», изданная лишь в 1835 г.
«Вастола», содержание которой заимствовано из «Пентамерона», или «Cunto delli Cunti di Gian Alesio Abbatutis», — сборника неаполитанских народных и детских сказок, но не прямо, а через посредство сокращённого перевода с итальянского, напечатанного в «Bibliothèque Universelle des Romans» 1777 г. (июнь и сентябрь)[1050], — относится к тому периоду литературной деятельности Виланда, когда он, испробовав свои силы в драме и сатире, обратился к сказочному эпосу, взяв за образец французские fabliaux XI—XV вв., обработку которых он завершил «Обероном»[1051], представлявшим собою переходную ступень к новому немецкому романтизму.
Содержание «Вастолы», или, как она называется у Виланда, «Pervonte, oder die Wünsche», состоит в следующем.
В Италии, в Салерно, «в глубокой древности, во дни златаго века», жил король, у которого была красавица дочь, по имени Вастола. Много женихов съезжалось в Салерно со всех концов мира просить руки царевны, но тщетно: она отказывала всем. Около того же города жила одна бедная старуха-мещанка; у неё был сын Перфонтий, парень уродливой наружности, дурак и лентяй. Однажды старуха послала сына в лес за хворостом. Перфонтий, наломав связку, уже собирался идти домой, как увидел трёх красивых девушек, спящих на лужайке под палящими лучами солнца. Перфонтий, чтобы защитить их от жара, осторожно начал делать над ними шатёр из веток, но своим грубым смехом разбудил незнакомок, которые стали благодарить его за заботливость о них и заявили, что они волшебницы. Обещав Перфонтию в награду за его услугу исполнять все его желания, красавицы исчезли. Перфонтий, собрался уходить и, без намерения проверить слова волшебниц, выразил желание, чтобы приготовленная вязанка сама доставила бы его в хижину матери.
Едва сие словцо склеилось, загремело В Перфонтьевых устах, — Зашевелилась вдруг, как тело, Охабка дров в его руках; Меж лядвий нашему герою Скользит, вертится и стрелою Под восхищённым седоком Летит чрез реки, лес и горы, Шумит лишь воздух.Вастола, окружённая блестящею свитою придворных, сидела во дворце у окна в то самое время, как Перфонтий пролетал мимо, и, поражённая его некрасивой наружностью, не могла удержаться, чтобы не назвать его вслух уродом.
«Так я урод, так я повеса, —прокричал ей Перфонтий:
Сударыня, ты слишком зла. Ах, как бы я желал, лебёдка белокрыла, Чтоб пару ты повес подобных мне родила!»Его желание сбывается, и у Вастолы рождаются две девочки. Король в страшном горе. Проходит семь лет, девочки растут. Между тем один из придворных мудрецов говорит королю, желавшему знать имя виновника его несчастия, что дети по инстинкту могут узнать отца среди тысячи людей. С этой целью для всех подданных устраиваются балы, на одном из которых девочки действительно узнают отца в Перфонтии. Король в страшном гневе сажает его с Вастолою и детьми в бочку и бросает в море. Здесь Вастола припоминает, что она когда-то видела Перфонтия, и узнаёт от него о даре волшебниц. По желанию Перфонтия они получают роскошный корабль, пристают к берегу и помещаются в прекрасном дворце. Перфонтий, по желанию Вастолы, становится красавцем, умником и исполняет все прихоти безрассудной жены. Последняя думает только о своих удовольствиях, обзаводится другом сердца — Клавдием и уезжает в Рим и Венецию на празднества. Выведенный из терпения причудами своей ветреной и чувственной Вастолы, Перфонтий обращается к волшебницам с последней просьбою — возвратить его в то состояние, в каком он был прежде, год тому назад. Волшебницы исполняют его желание, оставив за ним дарованный ему ум. А Вастола, в свою очередь, переносится в Салерно,
Опять отцом своим любима, Краса Салернского двора, Где съездам прежняя пора; Опять девица, и невинной Слывёт такою ж, как была. Близнята снова улетают В воздушную страну, в волшебный мир назад, Короче — всё пошло опять на старый лад.Полученный Вастолою урок не проходит, однако, для неё бесследно, заставляя её чувствовать угрызения совести за свою ветреность и повторять с горестью:
«О, бедная Вастола, И ты в Аркадии была!»Таково содержание поэмы, не отличающееся замысловатостью фабулы. Относительно перевода должно сказать, что Люценко вообще держался близко к подлиннику, и лишь в двух местах находим отступления от него, принадлежащие перу самого переводчика. Так, рассказывая о полёте Перфонтия на охапке хвороста, он говорит:
Так на Крестовском я недавно Бумажный видел метеор: Сей шар от денег вдруг поднялся вверх исправно И на Елагином далёком острову К всеобщей радости спустился на траву, —причём издатель-Пушкин делает примечание: «Это прибавление переводчика от своего лица». Или, описывая наружность Перфонтия, Люценко добавляет от себя, что его герой
Копается в своей претолстой голове, Какую только лишь в Москве Или других больших столицах При древних князех и царицах Срывала на пирах с поджаренных быков Железная рука российских дюжаков.Но Люценко в своём переводе совершенно уничтожил лёгкость немецкого подлинника, придав своим стихам тяжеловатость и грубость, так что стихи вроде следующих попадаются сплошь и рядом:
Вастола, женихов следимая толпами; —или
И твёрже каменной осталася бумаги; —далее, в описании наружности Перфонтия:
Огромный рот, на лбу скулы (!), как роги, В полфута уши, длинный нос…Про старуху-мать рассказывается, что она
Не знала никогда покоя и в присядку (!) Трескучую свою вертела самопрядку.Про исчезновение волшебниц говорится:
С сим словом трёх девиц присутство исчезает.Затем:
«Тише, тише!» Вскрычала наша Псише; —или слова Вастолы к Перфонтию:
«В пригожем этом лбе Хотя немножко мозгу боле Не непристало бы тебе» и т. п.Как пример грубости выражений приведём также несколько мест перевода Люценко. В рассказе о том, как Вастола с Перфонтием плывут по морю в бочке, говорится, что при качке
Они руками и ногами Премного делают проказ. Царевнин ротик поминутно В косынку нехотя зарыт, Затем, что в шлюпке сей уютной На дюйм от рыла отстоит.Про себя Перфонтий выражается:
«Ведь леший я, урод, фефиола и повеса, Философ с длинными ушами и хвостом!»По приведённым выпискам можно составить себе довольно ясное понятие о достоинствах перевода. Что касается других литературных трудов Люценко, то о них мы будем говорить ниже, а теперь представим краткий биографический очерк Ефима Петровича, пользуясь его автобиографией, формулярным списком, сообщённым нам из Департамента герольдии В. В. Руммелем, и некоторыми другими данными.
Ефим Петрович Люценко сын священника, родился 12 октября 1776 г., в селе Яновке Черниговской губернии. До 1791 г. он обучался в Черниговской духовной семинарии, затем в Благородном училище в Шклове, основанном в 1778 г. С. Г. Зоричем для бедных дворян, а в 1793 г. поступил в Московский университет. Произведённый 4 апреля 1799 г. студентом, Люценко, 11 мая того же года, несмотря на убеждения начальства остаться при университете для занятий словесностью, поступил в находившуюся близ Царского Села Практическую школу земледелия, вместе с другими семью студентами, вытребованными по высочайшему повелению в означенную школу. Практическая школа земледелия была учреждена 30 апреля 1797 г.[1052] «для приведения домоводства в успешнейший порядок и надёжнейшее устройство». «Для скорейшего постижения нужных для сего сведений» приказано было «брать питомцев императорского университета и воспитательных домов». Для школы было отведено место между Тярлевой деревней и домом протопресвитера Самборского и Московскою дорогою (близ Павловска, в двадцати четырех верстах от Петербурга, имение «Белозерки»). В школе содержались, на казенный счёт, восемь студентов Московского университета, в числе которых был и Люценко. Первым начальником заведения был назначен софийский протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, сам писатель по сельскому хозяйству, бывший тогда членом Экспедиции государственного хозяйства. В сентябре 1799 г. школа из ведения генерал-прокурора была передана в Удельное ведомство, а на место Самборского был назначен, 11 августа 1799 г., камергер Модест Петрович Бакунин. В конце 1803 г., по представлению Д. П. Трощинского, министра уделов, Александру I, школа, как требовавшая несоразмерных с её пользою расходов, была закрыта[1053].
В 1800 г., за успехи, оказанные в хозяйстве, Люценко был назначен помощником наставника хлебопашества, с производством в коллежские регистраторы, а 12 июля 1801 г. получил должность наставника хлебопашества. С закрытием школы, Люценко, оставшийся за штатом, определился в Департамент уделов (27 октября 1803 г.). Получив 1 января 1806 г. чин титулярного советника, он через месяц, оставаясь при Департаменте уделов, определён был товарищем непременного секретаря в хозяйственное отделение Медико-филантропического комитета, откуда уволился 20 января 1809 г., а 16 июля утверждён столоначальником 1-го стола в Департаменте уделов. 8 августа 1811 г. Люценко был уволен по прошению от занимаемой должности и определился секретарём хозяйственного правления в Царскосельский лицей, куда в то время Пушкин держал вступительный экзамен[1054]. Но последняя служба Люценко была непродолжительна, ибо уже 20 августа 1813 г. он вышел из Лицея и определился столоначальником в общую канцелярию военного министра. В 1814 г. он состоял членом и хранителем библиотеки и архива Вольного экономического общества[1055]. Наконец, 22 января 1815 г. Люценко, оставаясь столоначальником, был причислен в штат Провиантского департамента комиссионером, а 13 января 1816 г., «по преобразовании канцелярии военного министерства», переместился в комиссию санкт-петербургского Провиантского депо членом, имея чин надворного советника.
На этом прерывается формуляр Люценко, сохранившийся в деле архива Департамента герольдии, в Месяцеслове на 1819 г. его уже нет в числе служащих в Провиантском департаменте. Мы не знаем, где продолжалась его служба, но знаем, что, дослужившись до чина статского советника, в 1843 г. он находился уже в отставке. Умер Люценко в Петербурге и похоронен на Смоленском кладбище, налево от входа. Из надгробной надписи видно, что он скончался 26 декабря 1854 г.[1056]
На литературное поприще Люценко выступил в 1792 г., ещё до поступления в университет, сотрудничая в журнале А. Г. Решетникова «Дело от безделья»[1057]. Позже, в 1793 г., уже будучи студентом, он поместил в журнале того же Решетникова «Прохладные часы» несколько мелких стихотворений, написанных «на случай». Затем он сотрудничал в «Приятном и полезном препровождении времени» 1794—1798 гг.[1058], в 1-й части «Ипокрены» 1799 г. и в «Журнале для пользы и удовольствия» 1805 г. (ч. 1—4). Во всех этих изданиях Люценко поместил огромное количество стихотворных и прозаических пьес, оригинальных и переводных с древних и новых языков[1059].
Из отдельно изданных в это время произведений Люценки вышли «Ода на всерадостное прибытие государя императора Павла Первого в Москву» (М., 1797) и «Благодарность его превосходительству, действительному статскому советнику и кавалеру, медицины доктору Самойловичу» (Николаев, 1804)[1060].
В 1795 г. Люценко, вместе с своим приятелем Александром Котельницким, издал книжку «Похищение Прозерпины, в трёх песнях, наизнанку» (М., 1795). В предисловии к ней авторы говорят, что они решились издать этот «первый плод и произведение своей юности» потому, что видели успех «Энеиды» наизнанку г. О.[1061] и такой же «Энеиды» г. Н.[1062] Последний труд, говорят они, несмотря на его огромные недостатки, всё-таки был принят очень благосклонно. Вот почему и они решились выступить с подобным же произведением.
Содержанием шуточной поэмы двух приятелей служит известный миф о похищении Прозерпины Плутоном. Церера, мать Прозерпины, представлена здесь в виде старой русской бабы, а сама Прозерпина — в образе русской девки. Описание как той, так и другой приноровлено к русскому быту. Прозерпина одевается в русское платье; охорашиваясь перед прогулкой, она, например, мочит голову квасом. Нимфам, с которыми Прозерпина отправляется в лес за грибами, даны русские имена, и т. п. Всё это рассказано местами в очень грубой форме, местами же не без остроумия. Лучшие стихи принадлежат, вероятно, Котельницкому, который в 1802 г. удачно пародировал Вергилиеву «Энеиду».
Книжка имела успех, о чём свидетельствуют авторы в предисловии ко второму, «исправленному и дополненному» изданию Петра Ступина, вышедшему в Петербурге в 1805 г.
В 1796 г. в Москве был издан роман Дюкре-Дюмениля, в 4-х частях — «Яшенька и Жеоржетта, или Приключение двух младенцев, обитавших на горе». По свидетельству самого Люценко, ему принадлежит перевод второй части этого романа. В 1798 г. Люценко издал «Науку любить», вольный перевод с французской поэмы, напоминающей собою «Ars amandi» Овидия. Перевод сделан грубыми и неуклюжими стихами.
Литературная деятельность Люценко не ограничивалась только изящною словесностью, но касалась иногда и научных областей. Само собою разумеется, что научные интересы Люценко не отличались глубиною, а имели практический характер, находясь в прямой зависимости от рода его службы. Так, находясь в Практической школе земледелия, он занимался агрономией и участвовал в переводе с немецкого языка агрономического сочинения Бургсдорфа, напечатанного в Петербурге в 1801—1803 гг., под следующим заглавием: «Руководство к надёжному воспитанию и насаждению иностранных и домашних дерев, которые в Германии, равномерно в средней и южной части России на свободе произростать могут». Перевод делался под наблюдением директора школы — М. П. Бакунина. Позже, уже покинув Практическую школу земледелия, Люценко в 1806 г. издал свой, вероятно залежавшийся, перевод с французского «Собрания кратких экономических сочинений, основанных на практике и опытах лучших английских фермеров», с посвящением его английскому филантропу и агроному графу Финледеру (Финдлетеру)[1063].
В 1811 г., во время службы в Лицее, Люценко обратился уже к педагогии и издал «Полную новейшую французскую грамматику», в основу которой была положена система Мейдингера. Руководство это, посвящённое графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву, имело успех и было введено в некоторых учебных заведениях, как о том свидетельствует сам Люценко в предисловии к переведённой и изданной им в 1818 г. «Французской грамматике Ломонда» с поправками француза К. К. Летелье и с собственными своими дополнениями.
Дальнейшая литературная деятельность Е. П. Люценко связана с «Вольным обществом любителей российской словесности». Это общество, носившее также название «Общество соревнователей просвещения и благотворения», было основано 17 января 1816 г. и составилось «из нескольких молодых любителей словесности, собиравшихся иногда читать между собою произведения свои»[1064]. С 1818 г. оно начало издавать свой журнал, получивший название «Соревнователь просвещения и благотворения», или «Труды высочайше утверждённого вольного общества любителей российской словесности». Ближайшею целью общества было «иметь приуготовительные и публичные собрания, читать в оных сочинения и переводы членов, издавать сии труды в журнале и обращать получаемый с того доход на благотворения»[1065], то есть на постоянные и временные пособия нуждающимся литераторам, учёным, художникам, а также их вдовам и сиротам и даже учащимся в учебных заведениях. Кроме выручки от журнала общество постоянно получало пожертвования от лиц, преданных делу благотворения. Отчёты в расходуемых суммах печатались время от времени в «Соревнователе». «По характеру своих тенденций, по связям с масонскими ложами и по лицам, его составляющим, — говорит А. Н. Пыпин, — это общество, по-видимому, было как бы посредствующим звеном между Библейским обществом и либеральными стремлениями молодого поколения»[1066]. И действительно, со временем членами общества становятся такие лица, как Пушкин, Батюшков, князь П. А. Вяземский, братья Тургеневы, Кюхельбекер, Рылеев, братья Бестужевы и многие другие.
Избранный действительным членом общества в первый же день его существования[1067] и являясь, таким образом, одним из его учредителей, Люценко вначале принимал деятельное участие в литературных собраниях членов. Первое время он был даже и председателем общества, из протоколов которого, хранящихся в архиве Академии наук[1068], видно, что Люценко в течение 1816—1818 гг. весьма часто выступал с чтением своих произведений, как в стихах, так и в прозе. Из них назовём: «Царь Иван Васильевич Грозной на звериной охоте», историческая повесть в прозе (1816), «Чеслав», эпический опыт в стихах (1816)[1069]; «Польза просвещения и благотворения» — дидактическое стихотворение (1817)[1070]; «Буривой и Ульмила», эпический опыт в стихах (1818)[1071] — «древнее происшествие»; «Церна, княжна Черногорская», древнее предание (1818)[1072] и т. п. Люценко в первые годы существования общества был избираем цензором поэзии, членом цензурного комитета и «исполнителем». Но в последующее время он только числился членом общества, имя же его не встречается ни на страницах «Соревнователя», ни в списках должностных лиц общества.
Отказавшись от сотрудничества в «Соревнователе», Люценко не прекратил, однако, своих литературных занятий и в 1819 г. напечатал в Петербурге свой перевод с немецкого известного сочинения Иоанна Масона «О познании самого себя». Этим переводом он надеялся заменить перевод того же сочинения, изданный И. П. Тургеневым в 1783 г. и отличающийся, по его словам, «темнотами в смысле» и «наполненный погрешностями». Перевод Люценко снабжён краткими примечаниями, и некоторые из них, в виде сентенций самого переводчика, изложены в стихах.
Трудясь над переводом сочинений Иоанна Масона, Люценко подготовлял и «Потерянный и возвращённый рай» Мильтона, руководствуясь при этом одним из позднейших французских переводов, исправленных сообразно с английским подлинником. К 1821 г. перевод Люценко был уже готов, но в печати появился только в 1824 г., с посвящением графу Александру Григорьевичу Кушелеву-Безбородко. В своей статье «Нечто о достоинстве и прежних переводах Потерянного и возвращённого рая», предпосланной самому переводу, Люценко рассказывает судьбу создания Мильтона после смерти его автора, причём замечает, что «Мильтон в христианстве есть почти то, что Гомер — в язычестве», и отдаёт преимущество первому, потому что «он воспевал нашего Бога, тогда как Гомер — языческих богов, чуждых нашему сердцу». Относительно переводов «Потерянного рая» на русский язык Люценко говорит, что как перевод 1780 г., издававшийся ещё в 1785 и 1801 гг., так и перевод 1795 г., переизданный в 1810 г., — неудовлетворительны; особенно второй, «наполненный схоластическим смешением важных первобытных славянских слов с языком последующих веков и с простонародными выражениями». Перевод 1820 г. также совершенно не удовлетворяет Люценко. Обращаясь к собственному труду, он замечает: «…я не держался рабским образом от слова до слова подлинника, но в некоторых местах, где поэт упадает, старался его возвысить благороднейшими (!) выражениями и, по возможности, уравнивал хотя единственный, но часто трудный и шероховатый путь его». Перевод Люценко в некоторых местах снабжён пояснительными примечаниями его собственного издания и, часто не относящимися к делу, сентенциями в прозе и стихах.
В это же время Люценко занимался исправлением, по рукописи, перевода Г. Шиповского, который ещё в 1805 г. издал Фенелоновы «Странствования Телемака». Новое издание, украшенное гравюрами, с прибавлением жизнеописания Фенелона и примечаний, вышло в Петербурге в 1822 г. и было посвящено графу Д. Н. Шереметеву.
Из автобиографической записки Люценко видно, что кроме перечисленных трудов ему принадлежали ещё следующие, оставшиеся в рукописях: «Избранные места и краткие поэмы из лучших древних и новых иностранных писателей, стихами»; «Воспитание, поэма в 4-х песнях, с французского, из 9-й части изданного на французском языке г. Доратом собрания Героид»; «Сельская экономия для дам, часть 1-я, с чертежом» и «Систематическая выписка из 24-х частей „Трудов Санкт-Петербургского Императорского Вольного экономического общества“», членом которого Люценко состоял с 1808 г.[1073]. Сверх того, в своей автобиографической записке, Люценко указывает ещё на изданный им в Москве перевод «Путешествия в Азиатскую Грецию», неизвестный по каталогам.
Обозревая литературную деятельность Е. П. Люценко, можно сказать, что хотя он и принадлежал к числу довольно образованных людей своего времени, но лишён был как авторских дарований, так и литературного вкуса, включая сюда и способность владеть родным языком. Писал и переводил он много, но все его труды были совершенно лишены всякой оригинальности и притом носили случайный характер, зависевший иногда от той жизненной обстановки, в которой находился Люценко. Деятельность его была до такой степени бесцветна, что её нельзя подвести ни под одно из господствовавших у нас литературных направлений. Таким образом, Пушкин, называя Люценко «литератором заслуженным», без сомнения имел в виду только его плодовитость.
Неосторожный поступок Пушкина, связавший его славное имя с ничтожным именем переводчика «Вастолы», исключительно объясняется порывом благородной и доброй души, желавшей помочь бедняку, который, кроме того, если верить словам Плетнёва, был некогда и учителем великого поэта.
1898
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящей книге собрано большинство монографических исследований Б. Л. Модзалевского, а также ряд статей и заметок, сохраняющих научное значение и по сей день (полный список работ учёного см. в кн.: Памяти Бориса Львовича Модзалевского. 1874—1928: Биографические даты. Библиография трудов. М, 1928; рецензии на работы, выходившие отдельными изданиями, см.: Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нём. 1918—1936. Л., 1973. Ч. 2). В подавляющем большинстве они не перепечатывались более шестидесяти лет и сейчас труднодоступны.
Сборник состоит из двух разделов. В первом сосредоточены работы монографического характера, во втором — небольшие статьи и заметки. Научный аппарат по возможности унифицирован и приближен к современным издательским нормам. Модернизация цитируемых источников не производилась, за исключением сочинений и переписки Пушкина, ссылки на которые переведены на издание: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937—1949, с указанием тома (римской цифрой) и страницы. Однако там, где Модзалевский цитирует переводы французских текстов, отличающиеся от опубликованных в указанном издании, ссылки не меняются, а дополнения даются в квадратных скобках. Примечания рассчитаны на массового читателя и имеют целью как уточнить некоторые факты, так и указать на более поздние работы, отчасти дополняющие разыскания ученого. Библиографический аппарат примечаний содержит указание на первую публикацию и источник перепечатки. В статьях, опубликованных в сборнике: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929 (далее — Изд. 1929), примечания редакторов этого издания (Н. В. Измайлова и П. Е. Щёголева), как правило, оставляются под строкой с указанием: Ред. (1929). Статьи датируются по времени их первой публикации; незавершённые работы, впервые опубликованные в Изд. 1929, относятся к последним годам жизни учёного.
Составитель считает своим долгом поблагодарить В. Э. Вацуро, А. В. Дубровского и С. А. Савицкого за помощь в работе над настоящим изданием.
Примечания
1
Биографические сведения о Модзалевском заимствованы из брошюры: Коплан Б. И. Краткий очерк научной деятельности Б. Л. Модзалевского. (К первой годовщине смерти). Л., 1929. См. также: Баскаков В. Н. Борис Львович Модзалевский // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1998. Т. 4 (в печати). В настоящее время Рукописным отделом Пушкинского Дома готовится к изданию переписка учёного.
(обратно)2
Модзалевский Б. Л. От редактора // Архив декабриста С. Г. Волконского / Под ред. кн. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского. Пг., 1918. T. 1. С. XLV—XLVI.
(обратно)3
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 38.
(обратно)4
Измайлов Н. В. Борис Львович Модзалевский (1874—1828) II Русская литература. 1974. № 3. С. 147.
(обратно)5
Приведём одно очень характерное суждение: «Историку литературы, задавшемуся целью проследить постепенное развитие литературных явлений и выяснить их источники, необходимо считаться с наличным материалом во всём его объёме, не ограничиваясь одними крупными фактами, шедеврами поэтического творчества. В истории литературы каждое отдельное произведение занимает своё определённое место, находится в причинной зависимости и потому объясняется целым рядом предшествующих и современных, анологических в каком-либо отношении фактов. Здесь, где каждое литературное явление рассматривается с точки зрения видоизменений традиции, даже самые мелкие факторы в эволюционном процессе имеют цену для исследователя, соответствуя тому, насколько они проливают свет на изучаемый ими вопрос» (Берг Ф. А. О методе историко-литературных исследований // Уч. зап. Казанского ун-та по историко-филологическому факультету. 1889 год. Казань, 1890. С. 4. Паг. 2-я). Сходные высказывания можно встретить у Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского, А. И. Кирпичникова, В. В. Плотникова и даже Н. Г. Чернышевского.
(обратно)6
К истории «Зелёной лампы». — Декабристы и их время. М., 1928. T. 1. С. 11—61; печатается по отдельному оттиску: М., 1928. Современный шифр хранения цитируемых документов: ИРЛИ, ф. 244, оп. 36.
(обратно)7
Щёголев П. Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 8. С. 19—50.
(обратно)8
Как бытовое и оригинальное явление «Зелёная лампа» заинтересовала покойного писателя-драматурга Ю. Д. Беляева, написавшего пьесу под тем же заглавием; но, к сожалению, она осталась «незаконченной», рукописи её не сохранилось в архиве Ю. Д. Беляева в Пушкинском Доме и лишь вкратце известно её содержание по изложению, сообщённому в журнале «Столица и усадьба» (1917. № 77—78. С. 21). В 1915 г. вышла в петроградском издательстве М. И. Семенова 1-я книга литературного сборника «Зелёная лампа» (обещана была и вторая книга), но название это не имеет никакой связи с обществом 1819 г., кроме звука.
(обратно)9
П. Е. Щёголев частично ссылается на известный «Алфавит декабристов» (издан в 1925 г. под редакцией Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса), в котором упоминаются члены «Зелёной лампы»; по изданию видно, что членами «лампы» отмечены 6: Н. В. Всеволожский, Я. Н. Толстой, Д. Н. Барков, А. Д. Улыбышев, бар. А. А. Дельвиг и А. Г. Родзянко; как члены «Союза благоденствия» из «лампистов» поименованы в нём 5: Я. Н. Толстой, П. П. Каверин, кн. С. П. Трубецкой, Ф. Н. Глинка и А. А. Токарев; из числа 21 «ламписта» в «Алфавит» вошли 11 человек: Н. В. Всеволожский, Я. Н. Толстой, Д. Н. Барков, П. П. Каверин, кн. С. П. Трубецкой, А. Д. Улыбышев, бар. A. А. Дельвиг, А. Г. Родзянко, Ф. Н. Глинка, А. А. Токарев и А. И. Якубович. В личных отношениях с Пушкиным из числа 20 (кроме самого поэта) членов «лампы» были 13: Н. В. Всеволожский (ему есть стихи и письмо Пушкина), Я. Н. Толстой (стихи и письмо), М. А. Щербинин (стихи), Ф. Ф. Юрьев (стихи), П. П. Каверин (стихи и письмо), П. Б. Мансуров (стихи и письма), B. В. Энгельгардт (стихи), Л. С. Пушкин (?), бар. А. А. Дельвиг (стихи и письма), А. Г. Родзянко (стихи и письмо), Ф. Н. Глинка (стихи и письма), Н. И. Гнедич (стихи и письма), Д. Н. Барков (стихи); не дошло таких следов личных отношений Пушкина с 7 «лампистами»: А. В. Всеволожским, А. И. Якубовичем, кн. С. П. Трубецким, А. Д. Улыбышевым, И. Е. Жадовским, рано умершим А. А. Токаревым и кн. Д. И. Долгоруковым*.
* Об общении Пушкина с указанными лицами см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е. Л., 1989.
(обратно)10
Как увидим ниже, указаний на чтение произведений Пушкина в бумагах этих нет**.
** Как установил Б. В. Томашевский, на заседаниях «Зелёной лампы» Пушкиным были прочитаны послание к Н. В. Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров…») и стихотворение «Мне бой знаком — люблю я звук мечей…» (см.: Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 208; далее — Томашевский ). См. также: Логинов М. Н. Несколько заметок о литературном обществе «Зелёная лампа» и участии в нём Пушкина (1818—1820) // Современник. 1857. № 4. Отд. V. С. 264—267.
(обратно)11
Из дальнейшего увидим, что это утверждение также неверно.
(обратно)12
Пушкин А. С. Соч. СПб., 1905. Т. 8. С. 135. Об этом же Ефремов писал и в своей заметке «Опять мнимое стихотворение А. С. Пушкина», говоря, что у него в руках были (в 1880-х гг.) бумаги общества «Зелёной лампы», а в них собственноручная рукопись стихотворения «Мальчик, солнце встретить должно…» и протокол общества, где прямо было указано, что Дельвиг сообщил обществу новое своё произведение «Мальчик, солнце» и пр. (Новое время. 1901. № 9198. 12 окт.). О бумагах общества «Зелёной лампы» Ефремов упоминал не раз и раньше, — например, в изданиях сочинений Пушкина под своей редакцией, изд. 1880 г., т. 1, с. 540 и 541 и изд. 1882 г. (Анского), т. 1, с. 501 и 507.
(обратно)13
Что это те самые бумаги, которые некогда пересматривал Ефремов, видно из карандашных собственноручных пометок его, сохранившихся на некоторых рукописях.
(обратно)14
В подлинном инвентаре (ныне в Пушкинском Доме), под № 2087, то же определение, с пометою сбоку рукою М. И. Семевского: «Не имеет ни малейшего интереса. Копии находятся у П. А. Ефремова»; часть этих копий, очевидно возвращённых Ефремовым, доныне сохранилась при оригиналах.
(обратно)15
Стоящие на некоторых бумагах номера (чернилами и карандашом) не дают возможности установить их порядок.
(обратно)16
* Б. В. Томашевский сделал попытку реконструировать порядок некоторых заседаний общества (см.: Томашевский. С. 207—208).
(обратно)17
Большинство рукописей — без подписей авторов, но многие нам удалось определить по почеркам; в этих случаях имена авторов мы приводим в угловых скобках.
(обратно)18
* Басня принадлежит И. Е. Жадовскому (см.: Томашевский. С. 210).
(обратно)19
** Автор этого стихотворения — Ф. Н. Глинка (см.: Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л., 1957. С. 203, 462).
(обратно)20
* Воспроизведены в кн.: Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. Изд. 3-е. М., 1983. С. 10—11.
(обратно)21
Стукодей — действующее лицо, выведенное в стихотворении В. Л. Пушкина 1798 г. «Вечер» и в «Послании к стихам моим» Батюшкова, 1804 (см.: Батюшков К. Н. Соч. / Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1887. T. 1. С. 7, 305.
(обратно)22
* Б. В. Томашевский приписывает эту басню И. Е. Жадовскому (см.: Томашевский. С. 210).
(обратно)23
** Эта атрибуция сомнительна (см.: Томашевский. С. 211).
(обратно)24
* Автор стихотворения — А. Г. Родзянка (см.: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка // Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971. С. 48).
(обратно)25
См.: Щёголев П. Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники. Вып. 8. С. 34; ср., однако, в конце этой статьи, в примечании, наши оговорки об А. И. Якубовиче и Льве С. Пушкине.
(обратно)26
О нём см. нашу статью в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1905. Т. [6]: Дабелов — Дядьковский. С. 537—541); его записки «Повесть о рождении моём, происхождении и всей жизни» и т. д. были изданы отдельно в Петрограде в 1916 г. (подлинная их рукопись — ныне в Пушкинском Доме), а в 1919 г. М. и С. Сабашниковыми был выпущен, в серии «Пушкинской библиотеки», «Изборник»: «Кн. Иван Михайлович Долгорукий», в который вошли избранные стихотворения князя и остроумный «Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года».
(обратно)27
Русский архив. 1915. № 3. С. 394.
(обратно)28
Русский архив. 1914. № 3. С. 359.
(обратно)29
Они напечатаны в «Русском архиве» (1914. № 3, 4, 5, 6—7, 11, 12; 1915. № 1, 2, 3.
(обратно)30
Русский архив. 1914. № 6—7. С. 213—215.
(обратно)31
Там же. С. 237—239.
(обратно)32
Там же. С. 255—257. Заметим, что в журнале «Новости литературы» (1822. № 11. С. 175—176) было напечатано ещё стихотворение кн. Д. И. Долгорукова «Желания».
(обратно)33
О чём свидетельствует надпись М. Н. Лонгинова на его экземпляре «Звуков», ныне в библиотеке Пушкинского Дома; кроме «Звуков» есть ещё изданное отдельною брошюрою стихотворение Долгорукова «Дроново» (М., 1859), с посвящением Фёдору Никаноровичу Хитрово.
(обратно)34
Русский архив. 1914. № 4. С. 479; № 6—7. С. 211.
(обратно)35
Месяцеслов на 1822 г. Ч. I. С. 329; с ним, вероятно, Пушкин посылал однажды, 4 сентября 1822 г., письмо к брату из Кишинёва в Петербург (Пушкин А. С. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. Л., 1926. T. 1. С. 35); о нём см.: Власьев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1907. T. 1. Ч. 3. С. 144—145; Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1893. Ч. 7. Третий брат — кн. Александр Иванович Долгоруков — тоже был поэтом; его стихи изданы в Москве в 1840 г.
(обратно)36
См.: Алфавит декабристов / Под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925. С. 185, 420.
(обратно)37
* Материалы для статьи о Минине заимствованы из дополнений к книге И. Голикова «Деяния Петра Великого» (М., 1790. Т. 2; см.: Томашевский. С. 220).
(обратно)38
О нём см.: Алфавит декабристов. С. 48, 60 и 273; П. Н. Арапов в своей «Летописи русского театра» (СПб., 1861. С. 246) так говорит о нём: «Дм. Ник. Барков, в то время поручик лейб-гвардии Егерского полка, был умный и образованный человек; он много трудился для театра, переводил большею частью оперы для Нимф. Сем. Семёновой, которая была прелестна везде, где требовались пригожество, грация, наивность и ловкость; голос у ней был небольшой, но весьма симпатичный». В своих заметках Барков неоднократно упоминает о H. С. Семёновой и её сестре, Екатерине Семёновне, знаменитой драматической актрисе. На близость Баркова к H. С. Семёновой есть указания в эпиграмме, приписываемой Пушкину (см.: Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1907. T. 1. С. 559):
Желал бы быть твоим, Семёнова, покровом Или собачкою постельною твоей — Или поручиком Барковым, — Ах он, поручик! ах, злодей! (обратно)39
* ИРЛИ, ф. 265, оп. 7, ед. хр. 54.
(обратно)40
В угловых скобках помещаем наши дополнительные данные, уточняющие записи Баркова.
(обратно)41
Министром полиции был тогда известный А. Д. Балашов.
(обратно)42
По репертуарному списку Каратыгина — в этот день шли оперы: «Целый роман, или Весь день в приключениях» и «Мельник колдун, обманщик и сват».
(обратно)43
Припомним эпиграмму Пушкина на Колосову-Каратыгину: «Всё пленяет нас в Эсфири…»
(обратно)44
Батюшков К. Н. Соч. Т. 1. С. 80, 327.
(обратно)45
О нём см. исследование Н. Ф. Лаврова в сб.: Бунт декабристов. Л., 1926. С. 129—222; об участии Трубецкого в «Зелёной лампе» — см. с. 159 указ. изд.
(обратно)46
Щёголев П. Е. «Зелёная лампа». С. 28; то же в издании Центрархива: Восстание декабристов. М., 1925. T. 1. С. 53—54.
(обратно)47
Вероятно, известный энциклопедический журнал, издававшийся с 1815 г. Г. М. Яценковым — «Дух журналов», а не «Дух законов» Монтескьё.
(обратно)48
Дельвиг А. А. Соч. СПб., 1850. С. 108—110.
(обратно)49
Вероятно, эту же Фанни упоминает и Пушкин в своём послании к М. А. Щербинину, того же 1819 г. По-видимому, это была довольно известная звезда тогдашнего полусвета (ср.: Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М., 1913. С. 15 [дважды], 16, 182.
(обратно)50
Поправка рукой Пушкина.
(обратно)51
На титульном листе книжки — гравированная гравёром А. Ш. [А. М. Шелковниковым ?] виньетка, изображающая горящую лампаду (или светильник, лампу), слева от которой находится — лира, а справа — якорь (эмблема надежды), т. е., в общей сложности, Зелёную (цвет Надежды) Лампу, посвящённую поэзии.
(обратно)52
Оно перепечатано в нашей статье о Я. Н. Толстом (СПб., 1899. С. 9—11) и в сборнике В. В. Каллаша «Русские поэты о Пушкине» (М., 1899. С. 8—10).
(обратно)53
Это всё говорится о кн. А. А. Шаховском.
(обратно)54
Начало оторвано; даём предположительную конъектуру.
(обратно)55
Одна из копий, сделанных для П. А. Ефремова.
(обратно)56
Щербинин был светский повеса, как и Юрьев и Энгельгардт, большой остряк; Мансуров, судя по известному письму к нему Пушкина, интересовался общественными вопросами, — например, о военных поселениях, но больше был склонен, по-видимому, к театральным делам; о Жадовском мы ничего не знаем, а Всеволожский был членом «лампы», по-видимому, лишь как «брат своего брата».
(обратно)57
Его можно видеть в Аленине повести Л. Толстого «Альберт» (см.: Толстой. 1850—1860: Материалы. Статьи / Ред. В. И. Срезневского. Л., 1927. С. 53—57).
(обратно)58
См.: Русский архив. 1886. № 1. С. 58.
(обратно)59
Ларош Г. А. О жизни и трудах Улыбышева. // Улыбышев А. Д. Новая биография Моцарта. T. 1. М., 1890. С. 36.
(обратно)60
Там же. С. 3; курсив наш — Б. М.
(обратно)61
Из них опубликована (Русский архив. 1886. № 1) лишь одна драма «Раскольник»; остальные нам не известны; пропал также дневник Улыбышева и другие его бумаги.
(обратно)62
Ларош Г. А. О жизни и трудах Улыбышева. С. 19.
(обратно)63
Заметим кстати, что к сестре Улыбышева, Е. Д. Пановой, были писаны Чаадаевым его «Философические письма».
(обратно)64
Сличение производилось по четырём фотографическим снимкам со скреп и подписей на бумагах, любезно доставленным нам Б. Е. Сыроечковским и взятым им из следующих дел б. С.-Петербургского Главного архива Министерства иностранных дел: VI, 1, 1816 г., № 25: «О принятии в Коллегию иностранных дел колл. рег. Александр Улыбышева»; IV, 7, 1817 г. № 16: «О пожаловании переводчика Ал. Улыбышева в титулярные советники, с производством ему жалованья»; IV, 14, 1816 г., № 19: «Об увольнении в отпуск колл. рег. (колл. сов.) Александра Улыбышева по 1826 г.» (прошения от 3 января и 22 ноября 1821 г.).
(обратно)65
О нём см. подробнее: Алфавит декабристов. С. 408; Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. В. И. Саитова. М. 1911. Т. 3; Русский архив. 1886. № 1.
(обратно)66
Перевод статей сделан, по нашей просьбе, сотрудницею Пушкинского Дома В. Б. Враскою-Янчевскою.
(обратно)67
В «Русской старине» (1902. № 121. С. 597—601) напечатана статья «Петербургское общество сто лет тому назад. (Письмо к другу в Германию)», с примечанием: «На письме нет даты, но оно должно быть отнесено к началу XIX века»; указания на происхождение рукописи нет, но несомненно, что письмо это — перевод большей части того же самого текста, что и публикуемая нами записка. Вероятно, в «Русской старине» перевод был сделан именно по подлиннику, извлечённому из архива «Зелёной лампы», почему этот подлинник и не дошёл до нас в составе архива (см. выше).
(обратно)68
Из числа сенаторов того времени, фамилии которых начинаются с буквы К., нам не удалось подыскать подходящее к описанным данным лицо.
(обратно)69
Эти слова напоминают напечатанную ещё в 1810 г. в «Цветнике» эпиграмму К. Н. Батюшкова:
Рыцарь нашего времени «О хлеб-соль русская, о прадед Филарет, О милые остатки, Упрямство дедушки и ферези прабабки! Без вас спасенья нет, А вы, а вы забыты нами!» Вчера горланил Фирс с гостями И, сидя у меня за лакомым столом, На нравы прогневясь, как истый витязь русский, Съел соус, съел другой, а там сальмис французский, А там шампанского хватил с бутылку он, А там… подвинул стул и сел играть в бостон. (обратно)70
На этом в «Русской старине» обрывается «Письмо к другу в Германию».
(обратно)71
Ср. эту фразу с такими же суждениями в записке «Сон» — см. с. 60 наст. изд.
(обратно)72
Намёк, несомненно, на Александра I, даровавшего конституцию Польше и лишь обещавшего её России.
(обратно)73
Вероятно, здесь имеется в виду известный А. С. Стурдза.
(обратно)74
Вероятно, здесь имеется в виду Александр I, так как трудно предположить, чтобы автор записки думал о жившем в Аничковском дворце молодом великом князе Николае Павловиче: в 1819 г. ещё никто не думал о том, что он будет занимать всероссийский престол.
(обратно)75
Ср. эту фразу с такими же суждениями в конце записки «Письмо к другу в Германию», — см. с. 51 наст. изд.
(обратно)76
Записка эта напоминает «Путешествие в землю Офирскую» кн. М. М. Щербатова (1784) и некоторые другие утопии западноевропейского происхождения. О знакомстве с ними декабристов — Пестеля, Лунина и др. — см. в книге В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов» (СПб., 1909, с. 15 и сл., 208—210 и сл., 629—630 и др.), «Каталог утопий» В. В. Святловского (Пг., 1922) и его же книжку «Русский утопический роман» (Пг., 1922). Об утопии кн. В. Ф. Одоевского «4338-й год. Петербургские письма» см. очерк П. Н. Сакулина «Русская Икария» в «Современнике» (1912. № 12. С. 193—206) и отдельное издание этой последней в библиотеке «Огонька» (М., 1926), со вступительным очерком Ореста Цехновицера.
(обратно)77
В. Д. Комарова указала нам на сходство описания храма и священнодействия в нём, сделанного автором записки, с тем, как описывает масонский храм и службу в нём Жорж Санд в своем романе «La Comtesse de Rudolstadt», т. II, гл. XLI: «En ce moment les portes du temple s’ouvrirent, en rendant un son métallique, et les Invisibles entrèrent, deux à deux. La voix magique de l’harmonica, cet instrument récemment inventé, dont la vibration pénétrante était une merveille inconnue aux organes de Consuelo, se fit entendre dans les airs et sembla descendre de la coupole entr’ouverte aux rayons de la lune et aux brises vivifiantes de la nuit» и т. д.* В письме своём к сыну, от июня 1843 г., во время работы над «La Comtesse de Rudolstadt», Ж. Санд писала, что она погружена в чтение масонских книг — «Kadosh», «Rose Croix», «Sublime Ecossais»… В примечании к слову harmonica она сообщила сведения об этом музыкальном инструменте и роли его в церемониях масонов-иллюминатов.
* «В эту минуту двери храма с металлическим звоном распахнулись, и туда попарно вошли Невидимые. Раздались волшебные звуки гармоники, этого недавно изобретённого инструмента, ещё незнакомого Консуэло. Казалось, они проникали сверху, сквозь полуоткрытый купол, вместе с лучами луны и живительными струями ночного ветерка» (Санд Ж. Графиня Рудольштадт / Пер. Д. Лившиц // Собр. соч.: В 9 т. Л., 1973. Т. 6. С. 433).
(обратно)78
Кн. С. П. Трубецкой показывал, что «Зелёная лампа» «возымела начало» в 1818 г. и что собиралась она «кажется, раз в две недели». Я. Н. Толстой относил основание «Лампы» к 1818 или 1819 г. и сообщал, что она «рушилась» в 1819 или 1820 г. (Щёголев П. Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники. Вып. 8. С. 27; Памяти декабристов. Л., 1926. Вып. 2. С. 178 и след.).
(обратно)79
Ему есть послание Я. Н. Толстого в сборнике «Моё праздное время, или Собрание некоторых стихотворений Якова Толстого» (СПб., 1821. С. 39—42).
(обратно)80
Его участие в «Зелёной лампе» вообще сомнительно: он 20 января 1818 г., за участие в дуэли Завадовского с Шереметевым, переведён был на службу в Нижегородский драгунский полк и уехал на Кавказ.
(обратно)81
Он родился 17 апреля 1805 г., и участие его, ещё мальчика, в кружке Всеволожского представляется также весьма сомнительным.
(обратно)82
Определённое указание на участие Родзянки в «Зелёной лампе» находим в «Воспоминаниях» А. И. Михайловского-Данилевского в «Русской старине» (1890. № 11. С. 505).
(обратно)83
Из 21 участника «Зелёной лампы» военными были 12: Толстой, Барков, Глинка, Трубецкой, Юрьев, Каверин, Мансуров, Якубович (если он был «лампистом»), Энгельгардт, Родзянко, Жадовский и Щербинин.
(обратно)84
А. И. Михайловский-Данилевский со слов А. Г. Родзянки сообщает, что «в каждом собрании „Лампы“ читали стихи против государя и против правительства» (Русская старина. 1890. № 11. С. 505).
(обратно)85
Пушкин под тайным надзором. — Былое. 1918. № 1 (под заглавием «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора»); печатается по третьему отдельному изданию: Л., 1925. Ряд приводимых Модзалевским доносов ныне атрибутируется Ф. В. Булгарину и перепечатывается с комментариями в кн.: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Изд. подготовил А. И. Рейтблат. М., 1998 (далее — Булгарин).
(обратно)86
Сочинения и переписка А. С. Пушкина здесь и далее цитируются по Полному собранию сочинений в 16-ти томах (Изд-во АН СССР, 1937—1949; Большое академическое издание). Римской цифрой обозначается том, арабской — страница.
(обратно)87
Щёголев П. Е. Пушкин. СПб., 1912. С. 230.
(обратно)88
Щёголев П. Е. Пушкин. С. 227.
(обратно)89
* Более полно это письмо процитировано Модзалевским в изд.: Пушкин А. С. Письма. М.; Л., 1926. T. 1. С. 191.
(обратно)90
Месяцеслов на 1818 г. Ч. 1. С. 797.
(обратно)91
* Имеется в виду письмо Ф. Н. Глинки к П. И. Бартеневу от 3 апреля 1866 г., частично опубликованное последним в «Русском архиве» (1866. № 6. С. 917—922) под заглавием «Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1821 году»; полная публикация: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. T. 1. С. 210—213 (далее — Пушкин в воспоминаниях).
(обратно)92
Отношения Пушкина к III Отделению рассмотрены и определены в статьях: <Попов М. М.> Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1874. Т. 10. С. 683—714; Лемке М. К. Муки великого поэта // Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 г. СПб., 1908. С. 465—526; Щёголев П. Е. Император Николай I и Пушкин в 1826 г. // Щёголев П. Е. Пушкин. С. 226—265; Лернер Н. О. После ссылки в Москве // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1909. Т. 3. С. 335; и др. [Возврат к примечанию[782]]
(обратно)93
Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 320.
(обратно)94
Теперь это донесение Александра Карловича Бошняка (доносчика на декабристов), в общем благоприятное для Пушкина, найдено в секретном отделе того же Архива III Отделения А. А. Шиловым; см. с. 80—84 наст. изд.
(обратно)95
Щёголев П. Е. Пушкин. С. 233—239.
(обратно)96
Ныне в Историко-Революционном архиве (ныне ГАРФ. — Ред.).
(обратно)97
Об учреждении III Отделения и о предшествовавших ему полицейских учреждениях, а также о Бенкендорфе и Фоке см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 г. С. 7 и след.
(обратно)98
У него, в свою очередь, был агент-секретарь Пётр Попов, числившийся при Московском архиве Министерства иностранных дел. И. П. Бибиков впоследствии покровительствовал поэту Полежаеву.
(обратно)99
См.: Русская старина. 1881. Т. 32. С. 172 и 314.
(обратно)100
См.: Там же. 1898. Т. 94. С. 454.
(обратно)101
Ср.: Там же. 1881. Т. 32. С. 312.
(обратно)102
Хорошее понятие о письмах Фока можно составить по письмам его к Бенкендорфу за июль — сентябрь 1826 г., опубликованным М. И. Семевским (в переводе на русский язык) в статье «Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая» (Русская старина. 1881. Т. 32. С. 163—164, 303—и 519—560).
(обратно)103
<Попов М. М> Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1874. Т. 10. С. 694—695.
(обратно)104
«Я потерял Фока; могу лишь оплакивать его и сожалеть, что не мог его любить» (франц.).
(обратно)105
Незадолго до смерти Фока Пушкин обращался к нему с письмом (до нас не дошедшим) по поводу предположенного им издания политической газеты, программу которой он сообщил тогда же и Бенкендорфу (при письме от 27 мая 1831 г. из Царского Села). Фон Фок, письмом от 8 июня, в изысканных выражениях благодаря Пушкина за доверие, оказанное обращением к нему, отклонил всякое своё участие в этом деле, причём писал поэту: «Желая вам самых блестящих успехов в вашем предприятии, я, конечно один из первых буду радоваться таковому и поздравлять публику, что человек вашего отличного таланта будет способствовать сколь к её удовольствию, столь и к просвещению» (Русский архив. 1881. Кн. 1. С. 440; ср.: XIV, 171, 427).
(обратно)106
* «Гамлет» Висковатова (пост. 1810, опубл. 1811) — не перевод Шекспира, а адаптация одноименной пьесы французского драматурга Ж. Ф. Дюсиса.
(обратно)107
Любопытно, что в 1828 г. другой агент фон Фока — некий Локателли сообщал своему патрону: «Многие смеются над известным Висковатовым, который напечатал в № XI Русского журнала „Благонамеренный“ стихи, обращённые им к генералу Бенкендорфу. Находят, что они очень плохи и преисполнены подлой лести». В это время Висковатов, по-видимому, уже больше не служил в III Отделении. О его «переделке» «Гамлета» см.: Лебедев В. Знакомство с Шекспиром в России до 1812 г. // Русский вестник. 1875. № 12. С. 788—789.
(обратно)108
Висковатов был сам пскович и имел там родственные связи и знакомства.
(обратно)109
«Voyez Гаврилиада сочинение A. Пушкина».
(обратно)110
Эта фраза отчёркнута по полю и сопровождена знаком вопроса.
(обратно)111
«Разделяя Ваши благородные намерения, я непрерывно размышляю о том, какими средствами можно было бы ещё крепче связать узы, соединяющие государя с его народом, и полагаю, что, кроме тех важных предметов, о которых я имел честь вести с Вами беседу в моих письмах, необходимо сосредоточить внимание на студентах и вообще на всех учащихся в общественных учебных заведениях. Воспитанные, по большей части, в идеях мятежных и сформировавшись в принципах, противных религии, они представляют собою рассадник, который со временем может стать гибельным для отечества и для законной власти.
Равным образом необходимо учредить достаточно бдительное наблюдение за молодыми поэтами и журналистами. Однако при помощи одной лишь строгости нельзя найти помощи против того зла, которое их писания уже сделали и ещё могут сделать России: выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве в таких пустынях, отлучённые, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массою мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии — этой узды, необходимой для всех народов, а особенно — для русских (см. „Гавриилиаду“, сочинение А. Пушкина). Пусть постараются польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов, — и они изменят своё мнение, так как не следует верить тому, что эти горячие головы руководились любовью к добру или благородным патриотическим порывом, — нет, их пожирает лишь честолюбие и страх перед мыслью быть смешанными с толпою.
Сообщаю здесь стихи, которые ходят даже в провинции и которые служат доказательством того, что есть ещё много людей зложелательных:
<…>
Я вынужден, генерал, входить с вами во всякого рода подробности потому, что Вы вовсе не должны рассчитывать на здешнюю полицию: её как бы не существует вовсе, и если до сих пор в Москве всё спокойно, то приписывайте это лишь божественному провидению и миролюбивому характеру большей части здешних жителей.
Б—в
8 марта 1826
К № 3» (франц.).
(обратно)112
* В 1826 г. А. И. Полежаев был отдан в солдаты именно по доносу Бибикова, которому попал в руки один из списков поэмы «Сашка»; в 1834 г. Бибиков выхлопотал для поэта двухнедельный отпуск, на который увёз его к себе в имение, и написал А. X. Бенкендорфу письмо, где просил у царя прощения для Полежаева.
(обратно)113
«Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечён к делу заговорщиков» (франц.)
(обратно)114
Русская старина. 1877. Т. 18. С. 657—660.
(обратно)115
Там же. С. 660, примеч.; Русский архив. 1904. Кн. 2. С. 137.
(обратно)116
Русская старина. 1877. Т. 18. С. 655—656; Шильдер Н. К. Император Николай I. СПб., 1903. T. 1. С. 427—428.
(обратно)117
О нём подробнее см.: Былое. 1918. № 2 (30). С. 71.
(обратно)118
Там же. С. 67—77. Не совсем правильные и точные сведения об этой «записке» были, как мы уже указали выше, известны ещё Анненкову; см.: Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. С. 320.
(обратно)119
Написано было: «С.-Петербург» и «июля», но зачёркнуто.
(обратно)120
Она, вероятно, в чистовом рапорте была помечена литерою А.
(обратно)121
Здесь, как и далее, в прямых скобках поставлено то, что в черновом рапорте зачёркнуто, но заслуживает внимания.
(обратно)122
Из заметок Бошняка на л. 2 видно, что в Порхов он прибыл с фельдъегерем Блинковым 20 июля, в 9 час. пополудни; здесь Блинков был им оставлен до ночи 23-го числа.
(обратно)123
Ср. этот рассказ с записью в дневнике опочецкого торговца И. И. Лапина о его встрече с Пушкиным в Святых же Горах годом ранее — 29 мая 1825 г.: «…имел щастие видеть Александру Сергеевича г-на Пушкина, которой некоторым образом удивил странною своею одеждою, а например: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чёрными бакинбардами, которые более походят на бороду, также с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим апетитом, я думаю, около 1/2 дюжины» (Софийский Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков, 1912. С. 203; перепечатано: День. 1912. 27 окт.).
(обратно)124
Т. е. в каторге. — Б. М.
(обратно)125
Полковник Алексей Иванович Львов был губернским предводителем дворянства лишь одно трёхлетие — 1823—1826 гг.
(обратно)126
С Пущиным Пушкин был знаком ещё по Кишинёву, где Пущин был командиром местной бригады и был отставлен в 1822 г.; в масонской ложе, основанной Пущиным — «Овидий № 25» — в Кишинёве, Пушкин был членом. Известно полушутливое послание Пушкина к Пущину (1821 г.), в коем поэт называет его иронически — «Грядущим нашим Квирогою» (Квирога — известный тогда испанский революционер); вообще, по словам Липранди, «Пушкин неоднократно подсмеивался» над Пущиным*, — что, может быть, и было причиною неодобрительного отношения его к поэту-соседу; впрочем позже, в начале 1830 г., Пушкин обращался к Пущину с письмом по делу судившейся с Пущиным П. А. Осиповой (см.: Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 2. С. 580—581; Пушкин А. С. Соч. / Изд. имп. Акад. наук. СПб., 1912. Т. 3. С. 52—53; Былое, 1906. № 12. С. 235).
* Пушкин в воспоминаниях. T. 1. С. 316.
(обратно)127
Т. е. тригорской помещицы Прасковьи Александровны Осиповой. Она была не в родстве, а в свойстве с Пушкиными: её сестра, Елисавета, была замужем за Яковом Исааковичем Ганнибалом, двоюродным братом Надежды Осиповны Пушкиной, матери поэта.
(обратно)128
Михайловское называлось в просторечии Зуевым. Церковь была не в Михайловском, а в соседнем Тригорском или, вернее, в Ворониче.
(обратно)129
Об игумене Святогорского монастыря Ионе и об отношениях его к Пушкину см.: Яцимирский Л. И. Святые Горы, место вечного упокоения Пушкина // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 6. С. 229—331; игумен Иоанн. Описание Святогорского Успенского монастыря. Псков, 1899. С. 110—111.
(обратно)130
Здесь фамилия соседки Пушкина написана Бошняком правильно.
(обратно)131
XIII, 259, 286.
(обратно)132
«…Я пользуюсь между своими соседями репутацией Онегина», — писал в октябре 1824 г. Пушкин кн. В. Ф. Вяземской (Пушкин А. С. Переписка / Под ред. В. И. Саитова. СПб., 1906. T. 1. С. 137 [XIII, 114]).
(обратно)133
Яцимирский А. И. Святые Горы, место вечного упокоения Пушкина // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 6. С. 326—327.
(обратно)134
XIII, 286.
(обратно)135
XIII, 293.
(обратно)136
Кобеко Д. Ф. Императорский Царскосельский лицей, СПб., 1911. С. 256.
(обратно)137
О Булгарине см. очерк М. К. Лемке в его книге «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (СПб., 1904. С. 369—427).
(обратно)138
Полное презрение к человеку (франц.).
(обратно)139
Презиратель (франц.).
(обратно)140
Записка Булгарина, следовательно, написана была после 13 июля 1826 г., т. е. после приведения в исполнение приговора над декабристами.
(обратно)141
Было написано: «Неспособность некоторых министров и учреждение излишнее бюрократии испортили сие прекрасное учреждение».
(обратно)142
Дальнейший абзац зачёркнут и нами здесь взят в прямые скобки.
(обратно)143
Булгарин, конечно, имеет в виду С. С. Уварова, Д. В. Дашкова, Д. Н. Блудова, А. И. Тургенева, П. И. Полетику, В. А. Жуковского и других членов «Арзамаса», в 1826 г. занимавших видные служебные посты. — Б. М.
(обратно)144
Во всей этой тираде чувствуются несомненные намёки на Пушкина и на друзей его молодости. — Б. М.
(обратно)145
Хотя и значительно позже (в апреле 1840 г.) генерал-майор Дмитрий Богданович Броневский был назначен Директором Лицея.
(обратно)146
Т. е. Уставе 10 июня 1826 г., так называемом шишковском.
(обратно)147
Здесь и далее Булгарин, несомненно, говорит уже и pro domo sua, как писатель и издатель «Северной пчелы».
(обратно)148
Здесь, как и выше, Булгарин имеет в виду сановников-арзамасцев: Уварова, Блудова, Дашкова, Тургеневых, Северина, Вигеля, Жихарева и др.
(обратно)149
без скандала и огласки (франц.).
(обратно)150
Карамзин выставлен был очень умно и забавно в комедии «Новый Стерн» (примеч. Ф. В. Булгарина).
(обратно)151
Это письмо Пушкина, очевидно перлюстрированное на почте, до нас не дошло*.
* Сохранилось ответное письмо Дельвига, датированное 15 сентября, где, в частности, он писал: «…куда посылать тебе деньги и письма…» (XIII, 295).
(обратно)152
«Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег, с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское. — Этот господин известен всем за мудрствователя, в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себя житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный приём и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему» (франц.).
(обратно)153
Она находится среди агентских донесений 1827 г. (№ 1134), но относится, несомненно, к сентябрю 1826 г.
(обратно)154
«Уверяют, что император соизволил простить знаменитому Пушкину его ошибки, в которых этот молодой человек провинился в царствование своего благодетеля, покойного императора Александра. — Говорят, что его величество велел ему прибыть в Москву и дал ему отдельную аудиенцию, длившуюся более 2 часов и имевшую целью дать ему советы и отеческие указания. Все искренно радуются великодушной снисходительности императора, которая, без сомнения, будет иметь самые счастливые последствия для русской литературы. Известно, что сердце у Пушкина доброе, — и для него необходимо лишь руководительство. Итак, Россия должна будет прославиться и ожидать для себя самых прекрасных произведений его гения» (франц.).
(обратно)155
На ней помета И. И. Дибича, карандашом: «Для объяснений с Г.-А. Бенкендорфом».
(обратно)156
Нет, мой добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мной. Если он мог в минуту своего счастия и когда он не мог не знать, что я хлопотал о его прощении, отрекаться от меня и клеветать на меня, — то как возможно предполагать, чтобы он когда-нибудь снова вернулся ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает ко мне ненависть, которую ни моё молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убеждён в том, что просить прощения должен у него я, но он прибавляет, что если бы я и решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы через окошко, чем дал бы мне это прощение. Что касается меня, мой добрый друг, то мне нет необходимости прощать его, ибо я прошу у Бога только милости, чтобы он укрепил меня в моём решении не мстить за себя. Я ещё ни на минуту не переставал воссылать мольбы о его счастии и, как повелевает теперешнее Евангелие, я люблю в нём моего врага и прощаю ему если не как отец, — так как он от меня отрекается, — то как христианин; но я не хочу, чтобы он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды. (франц.)
(обратно)157
Моё положение ужасно и горести, которых я для себя ожидаю, неисчислимы, но моя покорность провидению и моё упование на Бога остаются при мне. Я прошу его всякий день о том, чтобы он подкрепил меня в принятом мною решении — не мстить за себя и переносить всё. Мне очень хотелось бы надеяться, что Александр Сергеевич устанет, наконец, преследовать человека, который хранит молчание и просит только о том, чтобы его забыли. Более всего в его поведении вызывает удивление то, что, как он меня ни оскорбляет и ни разбивает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, конечно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда выезжать. Как примирить это с его манерой говорить обо мне, — ибо не может ведь он не знать, что это мне известно.
Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили мне, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что это он делал из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить: Байрон-де ненавидел свою жену и всюду скверно о ней говорил, а Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но все эти рассуждения не утешительны для отца, — если я ещё могу называть себя так. В конце концов повторяю ещё раз: пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое. (франц.)
(обратно)158
Помета И. И. Дибича: «Для объяснений с Г.-А. Бенкендорфом».
(обратно)159
1) «Я слежу за сочинителем П<ушкиным>, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды В<олконской>, князя Вяземского (поэта), бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются, по большей части, на литературе. Он только что написал трагедию „Борис Годунов“, которую мне обещали прочесть и в которой, как уверяют, нет ничего либерального. Правда, дамы кадят ему и балуют молодого человека; например, по поводу выраженного им, в одном обществе, желания вступить в службу несколько дам вскричали сразу: „Зачем служить! Обогащайте нашу литературу вашими высокими произведениями, и разве к тому же вы уже не служите девяти сестрам (т. е. музам. — Б. М.)? Существовала ли когда-нибудь более прекрасная служба?“ Другая сказала: „Вы уже служите в инженерах“ (по-французски здесь непереводимая игра слов. — Б. М.) и тому подобное. Я не говорил Вам об этом до настоящего времени, ибо поводы без последствий лишь поглощали бы драгоценное время».
2) «8 ноября 1826 г. Сочинитель П<ушкин>, о котором я уже имел честь говорить Вам в моём последнем письме, только что покинул Москву, чтобы отправиться в своё псковское имение. Его трагедия „Борис Годунов“, которую один из моих друзей читал, как говорят, поэтическое совершенство. Она — чисто историческая, составлена в стиле трагедий Шиллера и писана белыми стихами» (франц.).
(обратно)160
«Молодой хвастунишка, который обедал у флигель-адъютанта Абазы и проповедовал там равенство, называется Илличевский. Он воспитывался в Лицее, откуда вышел одновременно с Пушкиным, Пущиным и Кюхельбекером. Заражённый тем же бурным духом, как и они, он некоторое время прожил в Париже, где часто посещал дом г-жи Нарышкиной» (франц.).
(обратно)161
«Об этом разговоре передавал молодой Очкин, который был слегка замешан в большом деле», т. е. в деле декабристов). Амплий Николаевич Очкин — писатель, впоследствии редактор академических «Санкт-Петербургских ведомостей».
(обратно)162
«Ваше Превосходительство найдёте при сём журнал Михайлы Погодина за 1826 год, в коем нет никаких либеральных тенденций: он чисто литературный. Тем не менее я самым бдительным образом слежу за редактором и достиг того, что вызнал всех его сотрудников, за коими я также велю следить; вот они:
1) Пушкин.
2) Востоков.
3) Калайдович.
4) Раич.
5) Строев.
6) Шевырёв.
Стихотворения Пушкина, которые он ему передавал для напечатания в его журнале, — это отрывки из его трагедии „Борис Годунов“ которые он не может сообщить никому другому, потому что, по условиям Редакции, он не может предавать их гласности ранее напечатания. Из хорошего источника я знаю, однако, что эта трагедия не заключает в себе ничего противоправительственного. 7 декабря 1826» (франц.).
* Об истории возникновения этой записки, вызванной доносом Булгарина на М. П. Погодина, см.: Эйдельман Н. Я. Пушкин и его друзья под тайным надзором // Вопросы литературы. 1985. № 2. С. 129—135.
(обратно)163
Секретный архив, № 980, письмо за № 3. «Муха» или «Мушка» — карточная азартная игра.
(обратно)164
«По городу ходят стихи, которые приписывают Пушкину и которые все твердят наизусть. Вот они в том виде, как их мне повторяли… <…>» (франц.)
(обратно)165
Жуковский, любивший и умевший давать своим приятелям прозвища, называл Дашкова «Дашенькой», что было особенно смешно, так как Дашков был человек очень серьёзный, сдержанный, даже суховатый.
(обратно)166
B 1817 г., будучи камер-юнкером и поручиком Александрийского гусарского полка, убивший на дуэли Шереметева; в деле этом был замешан и Грибоедов. В декабре 1827 г. по его делам о приискании ему богатой невесты был послан в Москву агент тайной полиции — Осип Венцеславович Кобервейн, вошедший, для удобства слежки, в доверие к Завадовскому.
(обратно)167
Карандашная приписка Бенкендорфа: «homme tout a fait dépravé», то есть: «человек совершенно развращённый».
(обратно)168
То же: «J’en ai écrit au g-l Geltouhin», т. e.: «Я написал о нём генералу Желтухину».
«Тайная полиция не упускала из виду поведение и связи графа Александра Завадовского, которому она имеет некоторое основание не доверять.
В политическом отношении пока не замечено ничего, если не считать того, что несколько молодых ротозеев приходят к нему рассуждать и фрондировать, но — без каких-либо последствий.
Главное занятие Завадовского в настоящее время — игра. Он нанял дачу на Выборгской стороне, у Пфлуга, где почти каждый вечер собираются следующие господа и многие другие, менее значительные:
Полковник Друвиль, офицер достойный, как утверждают, но хвастун и фанфарон нестерпимый.
Полковник Гудим-Левкович.
Генерал Леванский.
Некий отставной офицер Якунчиков и известный Вереянов — профессиональные игроки, за коими следят.
Князь Василий Мещерский, назначение которого председателем Московской цензуры произвело повсюду самое скверное впечатление.
Г. Столыпин, статский советник, занимающийся винными откупами.
Молодой Понятовский, из Киева, сын знаменитого откупщика, и его приятель, г. Пениондзек.
Генерал Ансельм-де-Жибори не покидает более Завадовского: он совсем водворился к нему.
Пушкин, сочинитель, был там несколько раз. Он кажется очень изменившимся и занимается только финансами, стараясь продавать свои литературные произведения на выгодных условиях. Он живёт в гостинице Демута, где его обыкновенно посещают: полковник Безобразов, поэт Баратынский, литератор Фёдоров и игроки Шихмаков и Остолопов. Во время дружеских излияний он совершенно откровенно признаётся, что он никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который, по всем данным, собранным с разных сторон, должен быть человеком весьма опасным» (франц).
(обратно)169
* Ср.: Булгарин. С. 205—207.
(обратно)170
Это известные стансы Пушкина «В надежде славы и добра / Гляжу вперёд я без боязни…»
(обратно)171
Приятеля Пушкина, известного острослова Сергея Александровича Соболевского. Его поездка к Пушкину, кажется, не осуществилась (см. издание «Парфенона» — «Соболевский — друг Пушкина», со статьёй В. И. Саитова, Пг., 1922).
(обратно)172
Т. е. о журнале Погодина — Шевырёва «Московский вестник».
(обратно)173
* Ср.: Булгарин. С. 221.
(обратно)174
** Ср.: Булгарин. С. 228.
(обратно)175
* Ср.: Булгарин. С. 230—231. Здесь в комментарии указано, что автором приводимых в записке куплетов был сам Булгарин.
(обратно)176
Автор этих стихов не назван в донесении. В бумагах самого Греча они сохранились с подписью имени Измайлова (Александра Ефимовича) и так напечатаны в «Русском архиве» (1869. С. 603); в том же «Русском архиве» (1893. Кн. 1. С. 446) они напечатаны вторично — уже с неверною подписью С. Нечаева, т. е. Степана Дмитриевича Нечаева (впоследствии обер-прокурора Синода).
(обратно)177
Общественное мнение нуждается в том, чтобы его направляли (франц.).
(обратно)178
О ней см.: Кубасов И. Л. Пушкин и кн. Е. И. Голицина // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. T. 1. С. 516—526*.
* Из последних работ по этой проблеме см.: Чистова И. С. Пушкин в салоне Авдотьи Голицыной // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 186—202.
(обратно)179
Агент общей полиции, которая соперничала с агентурой фон Фока (см. выше).
(обратно)180
Около этого же времени — в феврале 1828 г. — другой агент (упомянутый уже выше — совершенно малограмотный) сообщал фон Фоку: «Княгиня Голицына, жительствующая в своём собственном доме, что в Большой Миллионной, которая, как уже по известности, имеет обыкновение спать день, а ночь занимается компаниями, — и таковое употребление времени относится к большому подозрению, ибо бывают в сие время особенные занятия какими-то тайными делами; из числа же собирающихся к оной есть одна дворянка, по фамилии Пучкова (см. выше, с. 71), исправляет какое-то препоручение, а из господ — князь Трубецкой, служащий при Дворе камер-юнкером, жительствующий в доме Кусовникова, где типография Плюшара; и, как сказывал служитель у Трубецкого, 14-го числа февраля, называемый Иван Степанов, что у его барина есть некто, имеющий какое-то особенное препоручение, — один служащий чиновник в Департаменте Внешней Торговли, по фамилии Бетхин, приходящий ежедневно к Трубецкому, даже и в то время, когда прочим знакомым запрещён бывает допуск» (Секретный архив, № 1134).
(обратно)181
* Ср.: Булгарин. С. 289—294.
(обратно)182
Записка писана карандашом и не подписана: несомненная принадлежность её Д. В. Дашкову устанавливается как почерком, коим она писана, так и некоторыми местами её содержания.
(обратно)183
Т. е. перлюстрированной.
(обратно)184
В подлиннике идёт сперва текст фон Фока и его примечания, а потом — замечания или примечания Дашкова; здесь, против примечаний Дашкова поставлены черты на поле; каждое примечание Фока и Дашкова помещается здесь под соответственной фразой выписки, к которой относится.
(обратно)185
Эти слова проникнуты беспричинной злобой (франц.).
(обратно)186
Слова Сганареля из комедии Мольера «L’Amour médecin» («Любовь-целительница»):
Вы мне отлично советуете — в свою пользу: Вы — ювелир, господин Жосс!Это говорится, когда кто-нибудь советует или действует, имея в виду не чужую, а свою пользу. — Б. М.
(обратно)187
Умение вести себя должным образом (франц.).
(обратно)188
Тот самый Владимир Павлович Титов (псевдоним «Тит Космократов»), рассказ которого «Уединённый домик на Васильевском», записанный им со слов Пушкина, был в 1913 г. переиздан П. Е. Щёголевым и Ф. Сологубом. Впоследствии Титов был посланником в Константинополе, членом Государственного совета. — Б. М.
(обратно)189
Они становились педантичными и нескромными (нем.).
(обратно)190
Князь Ливен — министр народного просвещения; Круг — академик, историк; Аделунг — историк, член-корреспондент Академии наук. — Б. М.
(обратно)191
Т. е. воспитание наследника Александра Николаевича. — Б. М.
(обратно)192
Оказался только один документ, от января 1830 г., имеющий лишь косвенное отношение к Пушкину, а именно записка жандармского офицера Брянчанинова, касающаяся карточного игрока Василия Семёновича Огонь-Догановского (ум. 15 мая 1838 г., на 63 г.), в сети которого в Москве в это время попал и Пушкин, входивший, весною 1830 г., в письменные с ним сношения по поводу уплаты ему по какому-то векселю. Вот этот документ (Секр. арх., № 1051):
«№ 2. Москва. Начальник I Отделения Майор Брянчанинов доносит.
О карточной игре.
Банковая в карты игра в Москве не переставала никогда; но в настоящее время, кажется, ещё усилилась, и в публике не без сожаления замечают слабой в оном присмотр полиции.
Между многими домами, составившими для сего промысла партии, дом Догановского есть особенное прибежище игрокам. Сказывают, что игорные дни назначены и сам хозяин мечет банк, быв с другими в компании.
Генваря 2 дня 1830 г. Москва».
(обратно)193
«Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всём его легкомыслии, во всей беззаботной ветрености. К несчастию, это человек, не думающий ни о чём, но готовый на всё. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях…» (франц.)
(обратно)194
Генерал! Попечению вашего превосходительства обязан я новою милостью, которою его величество только что меня облагодетельствовал: благоволите принять выражение моей глубокой признательности. Никогда в сердце своём не забывал я благосклонности — смею сказать — совершенно отеческой, — которую оказывал мне его величество; никогда не истолковывал я в дурную сторону и тот интерес, который вам всегда угодно было проявлять ко мне; моя просьба была высказана единственно для того, чтобы успокоить мать, находившуюся в тревоге и ещё более взволнованную клеветою.
Благоволите принять, генерал, дань моего высокого почтения.
Ваш нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин. 7 мая 1830 г. Москва.
(обратно)195
«Все новости, приходящие изнутри России, продолжают быть весьма успокоительными и не представляют ничего достойного быть отмеченным. Я прилагаю к сему несколько маленьких заметок, равно как и весьма курьёзное письмо Пушкина, на которое Вы положите решение, сообразное Вашей мудрости» (франц).
(обратно)196
* Впервые опубликовано: Дела III отделения об А. С. Пушкине. СПб., 1906. С. 304—305.
(обратно)197
«Посылаю вам нумер „Литературной газеты“ Вяземского, Пушкина и их сообщников. В нём вы найдёте статью мистическую, которую я отметил карандашом. Эта партия подыскивает себе единомышленников» (франц.).
(обратно)198
«В „Литературной газете“ было напечатано прелестное четверостишие на императора, должно быть — Пушкина или Боратынского. Оно подписано: Москва, но что замечательно, — эти стихи являются первою похвалою, которую сие сообщество молодых людей напечатало в знак внимания к императору. Переписываю здесь эти стихи: <…> Идея — великолепна, и публика разрывается на части, чтобы списывать эти стихи» (франц.).
(обратно)199
* Автор этих стихов не установлен до сих пор (см.: Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831: Указатель содержания. М., 1966. С. 93).
(обратно)200
К ним надо прибавить ещё те несколько документов, которые использованы были А. С. Поляковым в его книге «О смерти Пушкина: По новым данным» (Пб., 1922), а также записку Пушкина о Мицкевиче (см. наст. изд., с. 519—520). Для полноты данных об отношении к Пушкину полицейских властей следовало бы произвести разыскания в архиве Штаба корпуса жандармов, если таковой уцелел после революции 1917 г.: в нём несомненно должны были находиться сведения о Пушкине, поступавшие в Штаб от чинов жандармского надзора.
(обратно)201
Лернер Н. О. После ссылки в Москве // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 3. С. 337. Ср.: Саводник В. Ф. Заметки о Пушкине // Русский архив. 1904. Кн. 2. С. 139—140.
(обратно)202
К истории ссылки Пушкина в Михайловское. — Красная газета. 1927. 11 февр. (отрывок; под заглавием «Эпизод из жизни Пушкина»); полностью: Изд. 1929, по тексту которого и печатается. Как отмечено в предисловии к этому сборнику, «в основе статьи лежит речь, произнесённая в собрании Общества Друзей Пушкинского Заповедника 28 марта 1927 года, чем и объясняются некоторые особенности построения и стиля» (с. 13). Полную сводку данных по теме статьи Модзалевского см.: Аринштейн Л. М. К истории высылки Пушкина из Одессы: Легенды и факты // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 286—304.
(обратно)203
Весин С. Очерки истории русской журналистики // Историческая библиотека. 1880. № 3. С. 6—7.
(обратно)204
Там же. № 4. С. 8—9.
(обратно)205
* Воронцова уничтожила письма Пушкина к себе (см.: XIII, 519); случайно сохранилось лишь одно письмо (1834), впервые опубликованное в 1956 г.
(обратно)206
Вестник Европы. 1886. № 11. С. 420—421.
(обратно)207
* Издание было прервано в 1930 г., когда вышел сдвоенный выпуск 38—39.
(обратно)208
* Письмо к О. С. Пушкиной от 10—15 августа 1825 г. (XIII, 208—209; подлинник по-французски).
(обратно)209
Плетнёв П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. T. 1. С. 374.
(обратно)210
Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. СПб., 1847. Т. 2. С. 71—72.
(обратно)211
Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 92; 2-е изд. СПб., 1873. С. 86.
(обратно)212
В другой редакции:
Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец.(II, 317). — Ред. (1929).
(обратно)213
См.: Москвитянин. 1854. № 9. Отд. V. С. 11.
(обратно)214
Пушкин: Статьи и материалы / Под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1925. Вып. 1. С. 50.
(обратно)215
Русский архив. 1866. С. 1477—1478.
(обратно)216
Полностию они напечатаны в «Русской старине» (1879. № 10. С. 292—294).
(обратно)217
При опубликовании «Записок» Вигеля в «Русском вестнике» (1865. Т. 59.) и в отдельном издании 1865 же года весь отрывок, касающийся Пушкина, Раевского и Воронцовой, был выпущен и восстановлен лишь в отдельном издании «Записок» «Русского архива» (М., 1892. Ч. 6. С. 168—171, от слов «Летом…» до «Через несколько дней»); но и в этом издании (с. 172) пропущены слова Вигеля о том, что, посылая Пушкина на саранчу, «сим ударом надеялся гр. Воронцов поразить его гордыню» (по рукоп.).
(обратно)218
Вестник Европы. 1909. № 2. С. 534; ср.: Гершензон М. О. Образы прошлого. М., 1912. С. 37; он же. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 188—189.
(обратно)219
Гершензон М. О. Образы прошлого. С. 33.
(обратно)220
См.: Гершензон М. О. Образы прошлого. С. 49. Возражения Гершензону в статье Д. Н. Соколова «По поводу стихотворения „Пускай увенчанный любовью красоты“» (Пушкин и его современники. СПб., 1913. Вып. 17—18. С. 21—34).
(обратно)221
Речь. 1910. 18 окт.; ср.: Пушкин и его современники. Вып. 16. С. 65—70.
(обратно)222
Напечатан ныне в сб. «Пушкин и его современники» (Л., 1928. Вып. 37. С. 136—143). — Ред. (1929).
(обратно)223
Архив князя Воронцова. М., 1895. Кн. 40. С. 12.
(обратно)224
* Современный шифр писем Воронцова к H. М. Лонгинову: ИРЛИ, № 23630 (1821 г.); № 23633 (1824 г.).
(обратно)225
Пушкинский Дом, архив М. Н. Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова, 1824 г., л. 34.
(обратно)226
Там же. л. 43. Далее Воронцов сообщал, что его «маленькая», слава Богу, поправляется; о внезапной болезни своей маленькой дочери Воронцов извещал Лонгинова в письме из Одессы от 22 апреля 1824 г. (л. 38), а о вторичном заболевании писал из Одессы же 9 мая 1824 г. (л. 46); 4 мая 1824 г. из Кишинёва писал Лонгинову, что, пробыв в Кишинёве пять дней, он собирается «сегодня» назад в Одессу, а 11-го предполагает, отправив перед тем детей в Белую Церковь, сесть на яхту и отплыть в Крым (л. 44); дети уехали 6 июня (л. 54), а сам Воронцов 22 июня писал Лонгинову уже из Юрзуфа.
(обратно)227
См.: Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1866. С. 1474; Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч. 6. С. 119—120; Москвитянин. 1854. № 9. Отд. V. С. 9 и 14—16; Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2. С. 273.
(обратно)228
Пушкинский Дом, архив М. Н. Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова, 1824 г., л. 44—45. Туманского ближе узнал Воронцов именно в это время, так как брал его с собою в поездку к тёще в Белую Церковь (Туманский В. И. Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 262). Вскоре он взял его с собою и в Крым — в июне (Там же. С. 264—265).
(обратно)229
Архив князя Воронцова. Кн. 40. С. 14.
(обратно)230
Остафьевский архив князей Вяземских. М., 1911. Т. 3. С. 57.
(обратно)231
* В цитируемом Модзалевским издании ошибочно: «11 июня»; исправлено по кн.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826 / Сост. М. А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 436; далее — Летопись).
(обратно)232
Там же. Т. 5. Вып. 2. С. 13—14.
(обратно)233
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. Вып. 2. С. 103.
(обратно)234
Там же. Т. 3. С. 57—58.
(обратно)235
Там же. Т. 5. Вып. 1. С. 28—29.
(обратно)236
Там же. Вып. 2. С. 123.
(обратно)237
Гр. Воронцова вернулась в Одессу 13 июля 1824 г. (Там же. С. 135).
(обратно)238
Там же. С. 136—137.
(обратно)239
XIII, 106, 530.
(обратно)240
Позднее она намекала Плетнёву на связь Пушкина с Воронцовой (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. Т. 2. С. 680).
(обратно)241
* Ныне письмо датируется апрелем — первой половиной мая (XIII, 92); также более убедительной считается версия, что адресат письма — В. К. Кюхельбекер (см.: Летопись. С. 413—414, 672—673).
(обратно)242
У Воронцовых только что (17/29 мая 1821 г. в Лондоне) родилась дочь Александра.
(обратно)243
Пушкинский Дом, архив Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова 1821 г., л. 65 об.— 66.
(обратно)244
Там же, письма Воронцова 1824 г., л. 93 об., 97 об., 98 об.
(обратно)245
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 6. С. 168.
(обратно)246
* Подробнее о судьбе Уильяма Хатчинсона см.: Аринштейн Л. М. Одесский собеседник Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1975. Л., 1979. С. 58—70.
(обратно)247
* См. об этом в работе Модзалевского «Пушкин под тайным надзором» (наст. изд. с. 67—129).
(обратно)248
Быв. Архив Госуд. Совета, дела Комиссии Прошений. Журналы Комиссии за январь 1827 г., по арх. кн. № 129 и Всепод. доклады за январь — апрель 1827 г., кн. № 56*.
* Полностью эти документы опубликованы в кн.: Пушкин А. С. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. Т. 2. С. 175. Прошение Н. О. Пушкиной ранее было приведено в статье М. А. Цявловского «Тоска по чужбине у Пушкина» (Голос минувшего. 1916. № 1. С. 44).
(обратно)249
Роман декабриста Каховского. — Былое. 1924. № 26. С. 3—60 (первоначальный вариант; под заглавием «Сто лет тому назад. (Роман декабриста Каховского)»); печатается по отдельному изданию: Л., 1926 (на титульном листе: «Роман декабриста Каховского, казнённого 13 июля 1826 года»).
(обратно)250
* Современный шифр: ИРЛИ, ф. 33, оп. 2, ед. хр. 35—36.
(обратно)251
См.: Русский архив. 1876. Кн. 3. С. 385.
(обратно)252
Павел сильно не благоволил к Салтыкову, — быть может, перенеся и на него нелюбовь свою к его вотчиму, Петру Богдановичу Пассеку, пособнику Екатерины при восшествии её на престол и участнику убийства Петра III.
(обратно)253
В 1815 г. некий Франц Ришард (муж её ?) был смотрителем московского университетского Кабинета редкостей. Другая дочь её, Анна Францевна, была замужем за генералом А. А. Клейнмихелем и была матерью пресловутого графа П. А. Клейнмихеля.
(обратно)254
О его службе здесь, а также любопытную переписку с проф. Броннером и портрет М. А. Салтыкова см. в труде Н. П. Загоскина «История императорского Казанского университета» (Казань, 1902. T. 1.).
(обратно)255
Свербеев Д. Н. Записки. М, 1899. T. 1. С. 358—359.
(обратно)256
Загоскин H. П. История императорского Казанского университета. T. 1. С. 409.
(обратно)257
Там же. С. 410—411.
(обратно)258
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч. 3. С. 59—60.
(обратно)259
Таков же, в общих чертах, был и брат Салтыкова, П. П. Пассек (см. о нём ниже).
(обратно)260
29 октября 1830 г. Дельвиг писал князю П. А. Вяземскому: «Михайла Александрович пишет к нам через день. Он здоров, но воображение его поражено. Нет подле него человека, который бы развлекал его» (Старина и новизна. СПб., 1902. Кн. 5. С. 39).
(обратно)261
В этом звании он был членом совета Московского училища ордена св. Екатерины, обер-директором Московского коммерческого училища и начальствующим в ремесленном учебном заведении и в Ортопедическом институте.
(обратно)262
Русский архив. 1889. Кн. 2. С. 93, 94—95.
(обратно)263
Журнал садоводства. 1838. № 1. С. 125, 129.
(обратно)264
Русский архив. 1870. С. 675; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1890. Т. 4. С. 37.
(обратно)265
Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. С. 80; Чаадаев П. Я. Соч. и письма / Под ред. М. О. Гершензона. М., 1913. T. 1.
(обратно)266
Остафьевский архив князей Вяземских. М., 1911. Т. 3. С. 240.
(обратно)267
Бумаги Жуковского / Под ред. И. А. Бычкова. СПб., 1887. С. 159; Русская старина. 1899. № 5. С. 342, 350.
(обратно)268
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 5; Письма Жуковского к А. И. Тургеневу / Под ред. И. А. Бычкова. М., 1895.
(обратно)269
В 1829 г. Пушкин встретился с Салтыковым в Москве, при посещении своего дяди В. Л. Пушкина (Библиографические записки. 1859. № 10. С. 307.)
(обратно)270
XIV, 147. В 1833 г. Пушкин имел с Салтыковым какие-то денежные неприятные расчёты (см.: XV, 50).
(обратно)271
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. Т. 2. С. 675.
(обратно)272
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 615.
(обратно)273
Греч Н. И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 196.
(обратно)274
Он был первым конференц-секретарём Академии художеств, в истории которой, ныне печатающейся, см. его биографию, мною написанную. Салтыков был, по словам одного французского путешественника, «отъявленный игрок», который, проиграв Пассеку всё своё состояние, поставил на карту жену и проиграл и её (Русская старина. 1878. № 6. С. 331).
(обратно)275
Умер в 1804 г. О нём см.: Гельбиг. Русские избранники // Русская старина. 1886. № 10. С. 16—17; Русский биографический словарь. СПб., 1902. [Т. 13]. С. 359—361 и др.
(обратно)276
Добрынин Г. И. Записки. СПб., 1872. С. 233.
(обратно)277
Там же. С. 293.
(обратно)278
Там же. С. 233.
(обратно)279
Русская старина. 1878. № 6. С. 331.
(обратно)280
Добрынин Г. И. Записки. С. 233.
(обратно)281
Там же. С. 234.
(обратно)282
Там же. С. 271. 21 июля 1796 г. умерла жена П. Б. Пассека — Наталья Исаевна, рожд. баронесса Шафирова; через неё Пассек был в родстве с мужем М. С. Салтыковой, мать которого, Мария Петровна, рожд. также баронесса Шафирова, была тёткою Н. И. Пассек.
(обратно)283
Русский архив. 1863. С. 632 и след., — воспоминания В. В. Пассека, в которых о М. С. Салтыковой рассказано много неблагоприятного.
(обратно)284
Пипенбергом владел он уже в 1797 г. (Старина и новизна. СПб., 1913. Кн. 16. С. 5).
(обратно)285
Список Воинскому Департаменту на 1796 г. С. 223.
(обратно)286
Писарев А. А. Военные письма и замечания. М., 1817. Ч. 2. С. 144.
(обратно)287
Список генералов за 1801 г.; Тударев. Краткая история 5-го Гренадерского Киевского полка. Калуга, 1892. С. 96.
(обратно)288
Писарев А. А. Военные письма и замечания. Ч. 2. С. 112.
(обратно)289
См. ещё: Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 2. С. 75.
(обратно)290
1 декабря 1807 г. Пассек получил орден Владимира 3-й степени, 20 марта 1808 г. — золотую шпагу, алмазами украшенную (Придворный месяцеслов на 1825 г.).
(обратно)291
Вороновский В. М. Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии. СПб., 1912. С. 247 и 256; Сенатский архив. Отечественная война. СПб., 1912.
(обратно)292
11 сентября (Придворный месяцеслов на 1825 г.).
(обратно)293
Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1890. Т. 73. С. 469.
(обратно)294
Она ниже фигурирует в романе Каховского и Салтыковой.
(обратно)295
Русский архив. 1893. Кн. 3. С. 152—153.
(обратно)296
П. X. Граббе, также прикосновенный к декабристам, впоследствии граф.
(обратно)297
Якушкин И. Д. Записки. М., 1905. С. 36. Ср.: Великая реформа. М., 1911. Т. 2. С. 185.
(обратно)298
Письмо Якушкина к Чаадаеву, от 4 марта 1825 г., с упоминанием о Пассеке, до имения которого от Жукова было 60 вёрст; см.: Чаадаев П. Я. Соч. и письма T. 1. С. 360—364.
(обратно)299
Якушкин И. Д. Записки. С. 60—61.
(обратно)300
Якушкин И. Д. Записки. С. 64. Донос Аракчееву на Пассека, от января 1822 г., с указанием на то, что он, имея 1000 душ, большой капитал и наличный хлеб, просит от казны в пособие 500 четвертей единственно оттого, что взял на сей год поставку вина в 10 000 вёдер, см. в кн.: Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование Александра I. СПб., 1883. С. 333.
(обратно)301
В «Родословной книге» Лобанова-Ростовского (Т. 2. С. 75) указано, будто бы он «лишил себя жизни»; справедливость этого указания мы проверить не могли. Погребён он был в Яковлевичах 1 мая 1825 г. священником Н. А. Мурзакевичем, — см. его дневник в брошюре «Н. А. Мурзакевич, историк г. Смоленска» (СПб., 1877. С. 52); ср.: Якушкин И. Д. Записки. С. 100; Русский архив. 1893. Кн. 3. С. 179.
(обратно)302
См.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2. С. 230. № 11; среди детей И. М. Оленина Н. И. Пассек, однако, здесь пропущена, как пропущены и сёстры Ивана Михайловича — Настасья Михайловна Каховская и Екатерина Михайловна, жена Фёдора Ильича Веселовского.
(обратно)303
Русская старина. 1877. № 7. С. 443.
(обратно)304
М., 1913. Т. 3. Табл. 313 и 314. Что эти портреты изображают именно П. П. и Н. И. Пассек, надо заключить потому, что: 1) других представителей этого рода в 1820-х гг. (когда сделаны, судя по костюмам, портреты), кроме названных, не было; 2) единственным кавалером орденов Владимира 3-й ст. и Анны 1-й ст. (с которыми изображён на портрете Пассек) из Пассеков был только П. П. Пассек; 3) под литографированным портретом Пассека (см.: Былое. 1924. № 25. С. 17) сделана надпись рукою П. А. Ефремова; «Член Северного Общества», — а таковым был опять-таки один П. П. Пассек.
(обратно)305
Аллер С. И. Руководство к отыскиванию жилищ по Санкт-Петербургу. СПб., 1824. С. 478.
(обратно)306
Русский архив. 1885. Кн. 1. С. 461. Здесь напечатано стихотворение Дельвига к А. Н. Семёновой (тогда уже, по мужу, Карелиной), написанное при посылке ей в Оренбург «Северных цветов на 1827 г.». А. Н. Карелина была тогда (1885) ещё жива; время смерти её нам неизвестно.
(обратно)307
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. T. 1. С. 274; в архиве Плетнёва в Пушкинском Доме сохранилось лишь одно письмо Софьи Михайловны Боратынской (бывшей Салтыковой-Дельвиг) к Плетнёву*.
* См. примеч к с. 171 [См. конец III-й и начало IV-й главы. — Прим. lenok555].
(обратно)308
Щёголев П. Е. П. Г. Каховский. М., 1919. Как живой встаёт перед нами Каховский и в своих многочисленных показаниях и письмах, писанных в Следственную комиссию о декабристах и ныне полностью опубликованных в изданном Центрархивом I томе серии «Восстание декабристов» (М., 1925). Письма Каховского можно ещё прочесть в книге А. К. Бороздина «Из писем и показаний декабристов» (СПб., 1906. С. 1—32).
(обратно)309
Мы даём текст писем в переводе, отмечая знаком • с обоих концов отдельные русские фразы и куски текста.
(обратно)310
Евгений Иванович Оленин, отставной генерал-майор и георгиевский кавалер (он умер 30 октября 1827 г.). См. ниже.
(обратно)311
Это, несомненно, отец знаменитого композитора М. И. Глинки — Иван Николаевич Глинка, помещик села Новоспасское, в том же Ельнинском уезде, что и пассековское Крашнево.
(обратно)312
Перед тем он на несколько дней ездил в Смоленск, за покупками ко дню именин.
(обратно)313
Быть может — барон Алексей Иванович Черкасов, впоследствии декабрист, — или его брат, барон Пётр Иванович, адъютант генерала Бороздина в 1826 г.
(обратно)314
Рожд. Шереметева.
(обратно)315
Мак-Грегор; см. выше, в предисловии.
(обратно)316
Петровой, считавшейся «воспитанницей» Н. И. Пассек, а на самом деле бывшей побочною сестрой её мужа — П. П. Пассека. Про неё С. М. Салтыкова писала в письме 30 июня: «Тётушка воспитывает у себя бедную молодую девушку, которую зовут Катерина Петровна Петрова; она очень добра… Я много гуляю вместе с нею, и мои восклицания и восторг по поводу каждого красивого вида, — а их здесь миллион, — заставляют её много смеяться…»
(обратно)317
Гусарский офицер Павел Александрович Нащокин, знакомец Пушкина, которого не следует смешивать с другом поэта — П. В. Нащокиным.
(обратно)318
Вероятно, штабс-капитан 2-го Кадетского корпуса Пётр Владимирович Жданович.
(обратно)319
Общественные движения в России. СПб., 1905. T. 1. С. 437.
(обратно)320
Щёголев П. Е. П. Г. Каховский. С. 19—20.
(обратно)321
Отец его, Григорий Алексеевич Каховский, был отставной коллежский асессор, небогатый смоленский помещик (о его имении см. в статье Е. Н. Щепкиной «Помещичье хозяйство декабристов» (Былое. 1925. № 3 (31). С. 4—6, 8, 9); мать декабриста, Настасья Михайловна, была, как мы сказали, из семьи богатых смоленских помещиков Олениных.
(обратно)322
См. в первом показании Каховского — в изд. Центрархива, с. 338.
(обратно)323
* Автор этой статьи — И. Д. Якушкин.
(обратно)324
Полярная звезда на 1824 г., с. 266—271, стихотворение, подписанное именем Кюхельбекера.
(обратно)325
«Я должен тебе так много сказать, так много объяснить, — но вынужден довольствоваться этим скудным посланием, хотя и написанным от всего сердца» (нем.).
(обратно)326
Сестра матери Н. И. Пассек — Варвара Ивановна Повало-Швейковская была замужем за Николаем Даниловичем Римским-Корсаковым.
(обратно)327
О личном знакомстве Пушкина с Каховским до сих пор не было известно.
(обратно)328
*
Амур же, прикорнув на столике к часам, Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится, Чтоб двум любовникам часов досадный бой Не вспоминал того, что скоро возвратится Вулкан домой. (Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 174). (обратно)329
Стих из 2-й части «Кавказского пленника», — слова черкешенки пленнику.
(обратно)330
Из 2-й части «Кавказского пленника».
(обратно)331
В печати известно только одно письмо Каховского — к Рылееву (Русская старина. 1888. № 12. С. 610); поэтому мы приводим в полной точности это и следующие письма Каховского к С. М. Салтыковой.
(обратно)332
Пассеку.
(обратно)333
Т. е. 26 августа.
(обратно)334
Копьеву, приятельницу.
(обратно)335
Михаила Ивановича, известного секретаря Марии Фёдоровны, с сыном его Михаилом Михайловичем и с первою женою его — Надеждой N., а также брата Михаила Ивановича — дипломата Петра Ивановича (арзамасца).
(обратно)336
Из вышеприведённого (с. 172 [Ориентир: ссылка на прим. [314]. — Прим. lenok555]) отрывка письма от 30 июня 1824 г. видно, что прежнего поклонника Салтыковой звали Константином, а здесь он назван по фамилии — Гурьевым. Не был ли это тот лицейский товарищ Пушкина Константин Гурьев, крестник вел. кн. Константина Павловича, который в сентябре 1813 г. за «греческие вкусы» был приговорён к наказанию розгами, но, не пожелав подвергнуться наказанию, был предназначен к исключению, причём только по усиленной просьбе матери разрешено было «возвратить его родителям» (Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым / Под ред. М. А. Цявловского. М., 1925. С. 24, 70) Он потом служил по дипломатической части. [Возврат к примечанию[343]]
(обратно)337
* Из баллады «Алина и Альсим» (1814).
(обратно)338
О том, что Каховский жил, по приезде в Петербург, в январе 1825 г., в трактире «Лондон» и в гостинице «Неаполь», см. в книге П. Е. Щёголева (с. 55 и 61) и в показании Каховского — в изд. Центрархива, с. 372; затем Каховский жил у Сергея Петровича Энгельгардта, в его доме в Коломне (изд. Центрархива, с. 372, и «Алфавит декабристов») под именем С. П. Энгельгардта.
(обратно)339
М. М. Салтыков в это время был в отпуску из полка, стоявшего в Польше.
(обратно)340
Они все служили в Ольвиопольском гусарском полку.
(обратно)341
* Начальные строки стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1816).
(обратно)342
Об А. А. Жемчужникове см. в кн.: Сиверс А. А. Генеалогические разведки. СПб, 1913. Вып. 1. С. 16—17.
(обратно)343
С неким Гурьевым; см. примеч. на с. 202[336].
(обратно)344
См. статью М. Л. Гофмана в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год» (Пг., 1922. С. 78—96).
(обратно)345
Русская старина. 1888. № 12. С. 600. Взаимные отношения Каховского и Рылеева в последнее время перед восстанием и вообще настроение и поведение Каховского теперь ясно видны из «дела» о нём Верховной следственной комиссии, опубликованного полностью в 1-м томе серии Центрархива «Восстание декабристов. Материалы» (М., 1925, с. 333—389), к которому и отсылаем интересующихся личностью этого «неистового» декабриста.
(обратно)346
В «Донесении» были приведены также и слова Рылеева к Каховскому, сказанные на совещании у Рылеева накануне восстания: «„Любезный друг! ты сир на сей земле; должен жертвовать собою для Общества. Убей императора!“ И с сими словами прочие бросились обнимать его. Каховский согласился; хотел 14 числа, надев лейб-гренадерский мундир, идти во дворец или ждать ваше величество на крыльце; но потом отклонил предложение за невозможностью исполнить, которую признали и все другие».
(обратно)347
Об этом свидетельствует И. И. Горбачевский; он пишет, что Каховский, «в то время, когда приготовляли новые петли, ругал беспощадно исполнителя приговора, тут же бывшего генерал-губернатора Петербургского Голенищева-Кутузова. Ругал так, как ни один простолюдин не ругается: „Подлец, мерзавец, у тебя и верёвки крепкой нет! Отдай свой эксельбант палачам, вместо верёвки“ и проч.» («Литература, наука и искусство» — прилож. к газете «День», 1913 г., № 6).
(обратно)348
В конце октября 1826 г.
(обратно)349
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1912. T. 1. С. 51.
(обратно)350
Много рассказывающая в своих «Воспоминаниях о Дельвигах» — муже и жене (Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899; Пушкин и его современники. СПб., 1907. Вып. 5).
(обратно)351
Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 14, 15 и след.
(обратно)352
Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21—22. С. 41—42.
(обратно)353
Северные цветы на 1826 г. Отд. II. С. 32.
(обратно)354
С. 31—32.
(обратно)355
С. 148—156.
(обратно)356
Отд. 2. С. 75.
(обратно)357
«Б. С. М. Д-г» — в № 12. С. 96; перепечатано в «Опытах в стихах Михаила Деларю» (СПб., 1835. С. 91—92); в той же книге находим и стихи к «Лизаньке Дельвиг» (С. 96—97).
(обратно)358
Портрет бар. Е. А. Дельвиг, в молодых летах, — в Пушкинском Доме.
(обратно)359
Барон А. И. Дельвиг в воспоминаниях своих пишет, что вдова предавалась «страшной скорби» после потери мужа (Мои воспоминания. T. 1. С. 117).
(обратно)360
См.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. T. 1. С. 97.
(обратно)361
Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 15. С. 45, 62, 65, 68, 106.
(обратно)362
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. T. 1. С. 148—149.
(обратно)363
См.: Пушкин и его современники. СПб., 1913. Вып. 17—18. С. 169, 188.
(обратно)364
Арнольд Ю. К. Воспоминания. М., 1892. Вып. 2. С. 151—154.
(обратно)365
О нём см. в издании Академии наук: Е. А. Боратынский: Материалы к его биографии / С введением и примечаниями Ю. Верховского. СПб., 1906. С. 43— 47.
(обратно)366
Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 65—70.
(обратно)367
Русский вестник. 1888. № 9; см.: Грот Я. К. Труды. СПб., 1901. Т. 3. С. 189. Средняя дочь С. М. Боратынской — Софья Сергеевна Чичерина, жена кирсановского предводителя дворянства В. Н. Чичерина (брата известного профессора Б. Н. Чичерина и дяди нынешнего народного комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина), умерла лишь в сентябре 1916 г.; две другие дочери умерли в 1902 и 1912 гг. Многочисленные внуки С. М. были недолговечны.
(обратно)368
Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг. — Изд. 1929. С. 125—273. Как говорится в предисловии к Изд. 1929, эта статья, «к сожалению, наименее обработана автором. Те, кто знает, как тщательно отделывал Борис Львович каждую свою работу, прежде чем отдать её в печать, как он добивался максимальной точности выражений, полноты примечаний, отточенности каждой детали, — увидят ясно, как много ещё мог бы он сделать из своего материала. Работа была составлена ещё в ноябре 1925 года, тогда же прочитана в одном из открытых собраний Пушкинского Дома и затем отложена надолго: другие работы, особенно — письма Пушкина, отвлекали от неё исследователя; вместе с тем другая часть того же материала <…> была переработана в отдельную книжку — „Роман декабриста Каховского“ (ГИЗ, 1926). Сравнение этой книжки с предлагаемой ныне работою показывает, насколько ещё далека от завершения в глазах самого исследователя была его статья. Этим объясняется и некоторая шероховатость переводов писем, и отсутствие подробного комментария <…>, и сжатость авторского, связующего текста» (с. 13—14).
(обратно)369
* XIII, 189. Ныне это письмо датируется между 15 и 19 июля; написано оно, очевидно, в Тригорском (см.: Летопись. С. 548). Дельвиг посетил Пушкина в середине апреля 1825 г. (Летопись. С. 522).
(обратно)370
** XIII, 192; письмо от 23 июля.
(обратно)371
О нём см., между прочим, статью Д. Ф. Кобеко «Путешествие Карелина по Каспийскому морю в 1836 г.» (Записки Восточного отделения Русского Археологического общества. Т. 5. С. 79—84), а также книгу В. И. Липского «Г. С. Карелин (1801—1872). Его жизнь и путешествия» (СПб., 1905).
(обратно)372
См. «Роман декабриста Каховского» в наст. изд. и ниже в настоящей работе.
(обратно)373
См.: Былое. 1924. № 26; его портрет на с. 17.
(обратно)374
См. статью «Роман декабриста Каховского».
(обратно)375
* В ИРЛИ хранятся девять писем С. М. Баратынской к Плетнёву за 1839— 1848 гг; в одном из них (без даты; видимо, 1839 г.) она пишет: «Последнее письмо ваше так меня тронуло и так живо возбудило во мне воспоминания моей молодости, с которыми вы почти неразлучны, что я не могла без слёз читать его. Благодарю вас за дружеские уверения, они меня очень утешили» (ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 81, л. 13).
(обратно)376
** В ИРЛИ хранится три письма Плетнёва к Баратынской (ф. 33, оп. 2, ед. хр. 121).
(обратно)377
Письма С. М. Дельвиг к А. Н. Семёновой-Карелиной хранятся в Пушкинском Доме АН СССР, в архиве Боратынских и Дельвигов, находившемся в их тамбовском имении «Мара». Всех писем 127, за 1824—1837 гг. Все они, кроме отдельных фраз, писаны по-французски и даются здесь в переводе, исполненном автором статьи***.
*** Современный шифр: ИРЛИ, ф. 33, оп. 2, ед. хр. 35—36.
(обратно)378
Наст. изд., с. 183 [Ориентир: ссылка на прим.[327]. — Прим. lenok555]. Когда Каховский узнал, что Пушкин выслан из Одессы в деревню, он собрался хлопотать о получении места, которое занимал в Одессе Пушкин при гр. М. С. Воронцове (там же, с. 207 [См. выше ссылки на прим.[339]. — Прим. lenok555]).
(обратно)379
Судя по нижеприводимому стиху, речь идёт об «Евгении Онегине», 2-й его главе. Отрывок поэмы напечатан был в «Северных цветах» на 1825 г. (с. 280—281).
(обратно)380
В подлиннике: «Pour ne pas te faire venir l’eau à la bouche».
(обратно)381
Так, очевидно, в шутку назвал Плетнёв С. М. Салтыкову за её обожание Пушкина.
(обратно)382
Судьба автографа Пушкина, посылаемого А. Н. Семёновой в Оренбург, неизвестна.
(обратно)383
О ней см. ниже.
(обратно)384
О них см. ниже.
(обратно)385
Абрам Сергеевич, впоследствии министр народного просвещения. Есть его стихи на смерть Пушкина*.
* См.: Каллаш В. А. Русские поэты о Пушкине. СПб., 1899. С. 88.
(обратно)386
Абрам Сергеевич.
(обратно)387
Черлицкий — старый учитель музыки С. М. Салтыковой.
(обратно)388
Из письма от 14 декабря 1824 г.
(обратно)389
Екатерининском, где Плетнёв преподавал словесность.
(обратно)390
Это графиня Соллогуб.
(обратно)391
Идиллия Дельвига — «Купальщица» («Северные цветы» на 1825 г. С. 346—357).
(обратно)392
«соединены навеки» (франц.).
(обратно)393
Сестра их, Анна Францевна, была матерью графа П. А. Клейнмихеля. См.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1912. T. 1. С. 96.
(обратно)394
Древняя и новая Россия. 1878. Т. 3. С. 273—274.
(обратно)395
Манзей К. Н. История лейб-гвардии Гусарского полка. СПб., 1859. Т. 3. С. 90.
(обратно)396
Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 15. С. 72; СПб., 1913. Вып. 17—18. С. 164, 167—169, 188, 201.
(обратно)397
Санкт-Петербургские ведомости. 1875. 30 сент. Прибавление, публикация № 4878.
(обратно)398
Пушкин А. С. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. Л., 1926. T. 1. С. 98, 104, 369.
(обратно)399
Русская старина. 1880. № 7. С. 566—567.
(обратно)400
Пушкин и его современники. Вып. 23—24. С. 207.
(обратно)401
Исторический вестник. 1886. № 10. С. 333.
(обратно)402
Из письма от 12 февраля 1825 г.
(обратно)403
Из письма от 21 декабря 1824 г.
(обратно)404
Из письма от 28 января 1825 г.
(обратно)405
Из письма от 28 января 1825 г.
(обратно)406
Из письма от 12 февраля 1825 г.
(обратно)407
Это княгиня М. А. Голицына, рожд. кн. Суворова (см. о ней: Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2. С. 572—573, 628—629, а также в работах М. О. Гершензона и П. Е. Щёголева*).
* Имеются в виду следующие работы: Гершензон М. О. Северная любовь Пушкина // Вестник Европы. 1908. № 1. С. 275—302; Щёголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 14. С. 53—193 (отд. отт.: СПб., 1914); Гершензон М. О. Ответ П. Е. Щёголеву // Там же. С. 194—198.
(обратно)408
«Elle m’a assuré qu’Alexandre n’était pas dutout si mauvais qu’on le dit, que c’est une réputation qu’il ne mérite pas, que c’est un bien bon garçon etc.».
(обратно)409
Он, как известно, вёл наблюдение за Пушкиным во время его михайловской ссылки, по должности опочецкого уездного предводителя дворянства.
(обратно)410
Из письма от 28 февраля 1825 г.
(обратно)411
Из того же письма.
(обратно)412
* В печатном тексте «Послания к NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября» Д. И. Хвостова, впервые опубликованном в «Невском альманахе на 1825 год» (СПб., 1825. С. 34—44), цитирумые строки читаются иначе:
Вода течёт, бежит, как жадный в стадо волк, Ведя с собою чад ожесточённых полк, И с рёвом яростным спеша губить оплоты, По грозным мчит хребтам и лодки и элботы. (обратно)413
Из письма от 11 марта 1825 г.
(обратно)414
Историю убийства Времева см. в статье А. В. Безродного «К биографии композитора Алябьева» (Исторический вестник. 1905. № 4. С. 166—170.
(обратно)415
Из письма от 23 марта 1825 г.
(обратно)416
Ум, который хотят иметь, портит тот, который имеют (франц.).
(обратно)417
Любопытное суждение о Бестужеве-Марлинском и его критических статьях и повестях; в «Полярной звезде» на 1825 г. им помещены: статья «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 г.» и повести «Ревельский турнир» и «Изменник».
(обратно)418
При письме, на листке, переписано стихотворение Guiraud «Ma retraite» («Моя отставка»).
(обратно)419
На том же листке небольшой отрывок из Benjamin Constant: «Charmes de l’amour, qui pourrait vous peindre?» («Чары любви, кто смог бы вас описать?») и т. д.
(обратно)420
П. И. Полетика — один из арзамасцев, известный дипломат.
(обратно)421
Из письма от 30 марта 1825 г.
(обратно)422
Из письма от 21 апреля 1825 г.
(обратно)423
Из письма от 27 апреля 1825 г. Это не стихи Хвостова, а пародии на них арзамасцев: Вяземского, Жуковского и др. (Русский архив. 1866. С. 479—489).
(обратно)424
Из письма от 21 апреля 1825 г.
(обратно)425
Анна Александровна Рахманова, рожд. Лопухина, «коллежская ассесорша», ум. 5 мая 1830 г. (Донской монастырь); её муж — Николай Фёдорович Рахманов (род. 11 июня 1798 г.), служил в лейб-гвардии Гусарском полку (1819—1827), из которого вышел в отставку штабс-ротмистром; овдовев в 1830 г., женился вторично на графине Анне Владимировне Васильевой. Он упоминается в приписываемой Пушкину «Молитве лейб-гусарских офицеров» (Пушкин и его современники. Вып. 17—18. С. 11)*.
* Вопрос о принадлежности Пушкину этого стихотворения до настоящего времени окончательно не решён (см.: Чистова И. С. Пушкин и царскосельские гусары // Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995. С. 335—342).
(обратно)426
Жених А. Н. Семёновой — Г. С. Карелин — также носил очки.
(обратно)427
Письмо от 26 мая 1826 г.
(обратно)428
Стихотворение переписано всё до конца; оно напечатано было в «Новостях литературы» (1825. № 3).
(обратно)429
Письма и записки Дельвига к невесте, написанные, в числе 25, между началом июня и концом октября 1825 г., напечатаны М. Л. Гофманом в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год» (Пг., 1922. С. 78—96).
(обратно)430
Одно из них — интереснейшее письмо от 2 марта 1827 г. — сохранилось до последнего времени среди бумаг С. М. Боратынской, при разборе их было найдено нами и опубликовано в 1923 г. в сборнике «Литературные портфели» (ср.: Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 27).
(обратно)431
Лев Сергеевич Пушкин.
(обратно)432
Из письма от 30 июля 1825 г.
(обратно)433
Из письма от 9 августа 1825 г.
(обратно)434
Из письма от 20 августа 1825 г.
(обратно)435
Полетика.
(обратно)436
Письмо от 16 ноября 1825 г.
(обратно)437
Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846), писатель-поэт, библиотекарь Публичной библиотеки, член Российской академии (1828), академик Академии наук (1845), и первая жена его Александра Антоновна, рожд. Бароцци-ди-Эльса (1793—1836). — Ред. (1929).
(обратно)438
Михаил Михайлович Салтыков влюбился в Луизу Гружевскую, дочь польского помещика в имении которого стояла часть Ольвиопольского полка, в котором он служил, и решил жениться на ней. М. А. Салтыков не соглашался на этот брак, который тем не менее состоялся.
(обратно)439
Из письма от 24 ноября 1825 г.
(обратно)440
Князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797—1858), воспитанник Царскосельского лицея, второго курса 1820 г.; служил во II Отделении собственной е. в. канцелярии, потом в Морском министерстве и был под конец генерал-аудитором флота; известен как автор эпиграмм и шуточных стихотворений. — Ред. (1929).
(обратно)441
Рожд. Раевская, Степанида Александровна (1795—1839), первая его жена.
(обратно)442
Письмо от 13 января 1826 г.
(обратно)443
К своей первой любви (франц.).
(обратно)444
Из письма от 22 января 1826 г.
(обратно)445
Филипповского.
(обратно)446
Из письма от 10 февраля 1826 г.
(обратно)447
В письме от 8 марта С. М. Дельвиг опять досадует, что Карелина ещё не получила Пушкина, и пишет, что Слёнин давно выслал книгу.
(обратно)448
Из письма от 25 марта 1826 г.
(обратно)449
О ней см. в следующем письме и в конце настоящей статьи.
(обратно)450
Из письма от 4 мая 1826 г. Жена Е. А. Боратынского — Анастасия Львовна Энгельгардт (1804—1860).
(обратно)451
Брат Г. С. Карелина — Василий Силич, характеристика которого дана в письмах Софьи Михайловны от 3 и 10 июня 1826 г.
(обратно)452
Из письма от 28 июня 1826 г.
(обратно)453
Из письма от 9 августа 1826 г.
(обратно)454
Несомненно, известная С. Д. Пономарева, у которой собирался кружок писателей; о ней см. статьи бар. Н. В. Дризена в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“» (1894. № 5) и М. Н. Мазаева в журнале «Библиограф» (1892. № 12). Из её альбомов — два в Пушкинском Доме, а третий в музее А. А. Бахрушина в Москве**.
** Ныне известно два альбома С. Д. Пономаревой, один из них хранится в ИРЛИ, другой — в РГАЛИ (см.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750—1840-е годы) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 13).
(обратно)455
Из письма от 16 августа 1826 г.
(обратно)456
Из приписки от 14 сентября на письме от 6 сентября 1826 г.
(обратно)457
См.: XIII, 295; ср.: Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 183.
(обратно)458
* Эту же фразу из несохранившегося письма неустановленного лица приводит и Дельвиг в письме к П. А. Осиповой от 15 сентября 1826 г. (см.: Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 319, 417).
(обратно)459
Из той же приписки от 14 сентября.
(обратно)460
Оно нам неизвестно.
(обратно)461
* Известно ещё одно письмо Дельвига к Г. С. Карелину — от 23 ноября 1826 г. (см.: Дельвиг А. А. Соч. С. 321).
(обратно)462
Из письма от 6 ноября 1826 г.
(обратно)463
В 1827 г. у них едва не вышла дуэль. См.: XIII, 327; Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 33, 239—241.
(обратно)464
Из письма от 6 ноября 1826 г.
(обратно)465
Из письма от 6 декабря 1826 г.
(обратно)466
Из того же письма. Об Иване Ермолаевиче Великопольском (которому Пушкин написал послание и с которым был в переписке) см. «И. Е. Великопольский» в наст. изд., а также в «Письмах» Пушкина, том 2, по указ.
(обратно)467
Из письма от 29 декабря 1826 г.
(обратно)468
Из письма от 25 января 1827 г.
(обратно)469
Из приписки от 31 января на предыдущем письме.
(обратно)470
Из письма от 25 февраля 1827 г.
(обратно)471
Из того же письма.
(обратно)472
* Очевидно, к этому письму было приложено стихотворение А. А. Дельвига «А. Н. Карелиной. При посылке „Северных цветов“ на 1827 год» (см.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 194, 325).
(обратно)473
Из письма от 10 апреля 1827 г.
(обратно)474
Из письма от 18 апреля 1827 г.
(обратно)475
Из письма от 2 мая 1827 г.
(обратно)476
Из письма от 12 мая 1827 г.
(обратно)477
В приписке от 29 мая С. М. Дельвиг писала, что М. А. Салтыков уже уехал из Петербурга — на два года с лишком.
(обратно)478
Из письма от 25 мая 1827 г.
(обратно)479
Из письма от 8 июня 1827 г.
(обратно)480
О герцоге Круа см. ещё в письме кн. П. А. Вяземского к жене из Ревеля от 11 июля 1825 г. (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1909. Т. 5. Вып. 1. С. 56, 138—139) и в его же стихотворении 1844 г. «Ночь в Ревеле».
(обратно)481
* «Танкред» (1813) — опера Дж. Россини.
(обратно)482
Из письма от 1 июля 1827 г.
(обратно)483
Из письма от 17 июля 1827 г.
(обратно)484
Из письма от 16 августа 1827 г. из Ревеля; далее — письмо лишь от 1 октября из Петербурга.
(обратно)485
Из письма от 1 октября 1827 г., — приписка от 13 октября.
(обратно)486
Русский вестник. 1875. № 8. С. 596—597.
(обратно)487
А. Н. Вульф в дневнике своём пишет, что в поездку эту Дельвиг собрался из ревности, — заметив её отношения к Вульфу и к другим ухаживателям (Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 41—43). [Возврат к примечанию[504]]
(обратно)488
Стих из «Полтавы», повторенный в стихотворении «Когда помилует нас Бог…».
(обратно)489
Из письма от 9 февраля 1828 г.
(обратно)490
Это строфы XXVIII—XXX 4-й песни «Евгения Онегина»; от печатного текста сообщённый С. М. Дельвиг отличается несколькими, но незначительными разночтениями.
(обратно)491
Из письма от 9 марта 1828 г. из Харькова.
(обратно)492
Так называла барона Дельвига маленькая крестница Софьи Михайловны — Соня Карелина.
(обратно)493
Приписки нет.
(обратно)494
Из письма от 21 апреля 1828 г. из Харькова.
(обратно)495
Из письма от 4 мая 1828 г. из Харькова.
(обратно)496
Из письма от 6 июня 1828 г. из Харькова. Эпиграмма Дельвига к письму не приложена и нам неизвестна.
(обратно)497
В тульском Некрополе В. И. Чернопятова (Черпопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. М., 1912. Т. 7. С. 49) сказано, что генерал-майор барон Антон Антонович Дельвиг погребён в селе Белине, Чернского уезда, и что он умер 18 (вместо 8!) июля 1828 г., имея от роду 56 лет.
(обратно)498
Письмо это опубликовано В. П. Гаевским в его статье о Дельвиге в «Современнике» (1854. № 9. Отд. III. С. 23).
(обратно)499
Корнильев был знаком с Пушкиным, Боратынским, Погодиным. О нём см.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. T. 1. С. 140—141.
(обратно)500
Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 14, 217.
(обратно)501
О ней см. нашу книжку «Анна Петровна Керн, по материалам Пушкинского Дома», изд. Сабашниковых, М., 1924.
(обратно)502
Об этом см.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. T. 1. С. 74—75.
(обратно)503
См. воспоминания А. П. Керн «Дельвиг и Пушкин» (Пушкин и его современники. Вып. 5); в них много ценных данных для характеристики Дельвига-человека.
(обратно)504
См. «Роман декабриста Каховского» в наст. изд. Знакомство С. М. Дельвиг с Керн и затем — с А. Н. Вульфом началось ещё в 1827 г. (см. выше, с. 295[487]). По приезде её из деревни оно возобновилось с новой силой. В дневнике ухаживавшего за С. М. Дельвиг А. Н. Вульфа читаем под 18 октября 1828 г., как к Дельвигу, в его отсутствие, когда Вульф и Софья Михайловна были наедине, «вдруг явился Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдаёт в „Северные цветы“, и уехал. Мы начали говорить об нём; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его о женщинах за упрёк ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает» (Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 16—17).
(обратно)505
Из письма от 11 февраля 1829 г. из Петербурга.
(обратно)506
моя сердечная подруга перед Господом (нем.).
(обратно)507
Александра Дмитриевна Якимовская умерла 7 марта 1891 г., на 86-м году.
(обратно)508
Из письма от 19 февраля 1829 г. На обороте приписки А. П. Керн находится ещё приписка А. Д. Якимовской.
(обратно)509
Из письма от 26 апреля 1829 г.
(обратно)510
Анна Афиногеновна Орлова, рожд. Елагина (1808—1884).
(обратно)511
Из письма от 2 сентября 1829 г.
(обратно)512
Из письма от 21 ноября 1829 г.
(обратно)513
Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 364.
(обратно)514
«Ассамблея при Петре I» — отрывок из «Арапа Петра Великого», напечатанный в «Литературной газете» (1830. T. 1. № 13. 2 марта. С. 99—100). — Ред. (1929).
(обратно)515
Извлечение из письма С. М. Дельвиг к А. П. Керн от <21 июля> 1830 г. с сообщением о Пушкине см.: Пушкин и его современники. Вып. 5. С. 150.
(обратно)516
Вероятно, это известный в Москве игрок Василий Семёнович Огонь-Догановский, в сети к которому попался однажды и Пушкин (см.: «Пушкин под тайным надзором» в наст. изд.; Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 93, 440—441).
(обратно)517
Матвей Михайлович, дядя Пушкина, муж его родной тётки Елизаветы Львовны.
(обратно)518
Сыну М. М. Салтыкову, единственному брату С. М. Дельвиг.
(обратно)519
Вероятно, Надежде Николаевне Шереметевой, рожд. Тютчевой, матери жены декабриста И. Д. Якушкина. — Ред. (1929).
(обратно)520
Граф Павел Петрович Сухтелен (1788—1833), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, с 21 апреля 1830 по 15 апреля 1833 г. был оренбургским генерал-губернатором; его дочь графиня Ольга Павловна (1816—1891) была замужем за Алексеем Павловичем Бутурлиным, сенатором. — Ред. (1929).
(обратно)521
Из письма от 18 декабря 1830 г.
(обратно)522
«Северные цветы» на 1831 г. вышли в свет 24 декабря 1830 г. — Ред. (1919).
(обратно)523
См. подробнее об обстоятельствах кончины Дельвига в книге «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово» (Л., 1927. С. 77—80, заметка М. Д. Беляева, и 83—88, заметка Б. Л. Модзалевского). — Ред. (1929).
(обратно)524
На обороте адрес: Александре Николаевне Карелиной в Оренбург. Почтовый штемпель: С. Петербург. 4 фев. 1831; запечатано гербовою печатью Дельвига на чёрном сургуче.
(обратно)525
Из письма от 20 апреля <1831 г.>.
(обратно)526
О братьях Дельвига и об участии Пушкина в их судьбе см. заметку Б. Л. Модзалевского в «Письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» (Л., 1927. С. 90—91). — Ред. (1929).
(обратно)527
Об этих ссорах сообщала мужу О. С. Павлищева в 1835 г. (Пушкин и его современники. Вып. 17—18. С. 169, 188).
(обратно)528
Любопытные черты матери поэта Е. А. Боратынского.
(обратно)529
Известный Николай Иванович Кривцов (некогда приятель Пушкина) и его жена, Екатерина Фёдоровна, рожд. Вадковская, жившие в имении Любече, Тамбовской губ. См. кн. М. О. Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья» (М., 1914).
(обратно)530
Поручик Николай Васильевич Чичерин и его жена Екатерина Борисовна, рожд. Хвощинская, родители известного юриста и философа, проф. Московского университета Бориса Николаевича Чичерина (1828—1904). — Ред. (1929).
(обратно)531
Из письма от 13 ноября 1833 г.
(обратно)532
Из письма от 12 июня 1834 г.
(обратно)533
Из письма от 10 апреля 1835 г.
(обратно)534
См. «Роман декабриста Каховского».
(обратно)535
Евгений Онегин, гл. 1-я, строфа XLII.
(обратно)536
Русский архив. 1885. Кн. 1. С. 461.
(обратно)537
И. Е. Великопольский (1797—1868). — Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902. С. 335—445. Печатается по отдельному оттиску: СПб., 1902. Материалы Великопольского, публикуемые в статье, ныне хранятся: ИРЛИ, ф. 37.
(обратно)538
Русская старина. 1899. № 9 и 10; и отдельно.
(обратно)539
Т. 21. № 9. С. 143; извлечение из него — в «Иллюстрированном календаре» на 1869 г. С. 311.
(обратно)540
Московские ведомости. 1868. № 40. С. 3; и перепечатана в «С.-Петербургских ведомостях» (1868. № 54).
(обратно)541
Большая часть их не сохранилась; кое-что из полученных материалов было обнародовано мною в «Русской старине» (1901. № 6, 7 и 8) под заглавием «Из архива И. Е. Великопольского»; там же был помещён и портрет Ивана Ермолаевича.
(обратно)542
Архив Департамента Герольдии Сената: гербовое дело Великопольских 1794 г., с продолж. 1814 и 1817 г. (ныне — РГИА. — Ред.).
(обратно)543
Сообщение Н. И. Великопольского.
(обратно)544
Месяцесловы 1773—1779 гг.; «Пёстрый альбом» И. Е. Великопольского (рукоп.).
(обратно)545
Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским. М., 1793. Ч. 4. С. 127 (здесь она названа Елизаветой); и семейные бумаги Е. И. Великопольского.
(обратно)546
Род. 3 июня 1770 г., ум. 9 апреля 1823 г. в Казани.
(обратно)547
Из них Любовь Ермолаевна (род. 21 декабря 1791 г.) — за Александром Андреевичем Ростовским; Прасковья Ермолаевна (род. 24 декабря 1792 г., ум. 1 октября 1842 г.) была за Гавр. Ив. Осокиным; Надежда Ермолаевна (род. 17 июня 1794 г.) — за Николаем Васильевичем Колбецким и Фавста Ермолаевна (род. 16 мая 1801 г.) — за Иваном Александровичем Нератовым.
(обратно)548
Воспоминания Д. К. Тарасова — в Рук. отдел. Императорской Публичной библиотеки*. Сообщением этого сведения я обязан В. В. Майкову.
* Воспоминания Д. К. Тарасова ранее были (в сокращённом виде) опубликованы в «Русской старине» (1871. № 9, 12; 1872. № 3, 8; отд. отт.: СПб., 1872), о чём ниже упоминает сам Модзалевский (см. с. 376). Более полное издание: Тарасов Д. К. Император Александр I. Последние годы царствования, болезнь, кончина и погребение: По личным воспоминаниям. СПб., 1915.
(обратно)549
Булич H. Н. Из первых лет Казанского университета. Казань, 1887. T. 1. С. 277—279.
(обратно)550
Род. 20 мая 1755 г., ум. в конце 1833 г.
(обратно)551
Василий Алексеевич (род. 4 декабря 1809 г., ум. 1 октября 1834 г.), бывший драгоманом при посольстве в Персии; Николай Алексеевич (род. 8 октября 1808 г.); о них см. мою заметку в «Русской старине» (1901. № 6. С. 634—637); и дочь Варвара Алексеевна (род. 27 декабря 1812 г.), бывшая замужем за известным математиком, ректором Казанского университета Николаем Ивановичем Лобачевским.
(обратно)552
Архив Казанского университета: дело о студенте Великопольском 1812—1814 гг.; копии с документов получены мною от А. И. Михайловского при любезном содействии В. И. Срезневского.
(обратно)553
См.: Рукописный сборник «Мои досуги», с. 40—41.
(обратно)554
Там же. С. 5—38; «Опыты в словесности», тетр. I (рукоп.).
(обратно)555
Впоследствии генерал-адъютант, член Государственного совета (1800—1865).
(обратно)556
Стихи его, между прочим, помещались в «Благонамеренном»; он так же, как и Великопольский, был членом Общества любителей словесности, наук и художеств.
(обратно)557
Сообщено мне из архива общества И. А. Кубасовым.
(обратно)558
Напечатана в «Благонамеренном» (1819. Ч. VI. № 10. С. 213—214).
(обратно)559
Эта комедия была им написана гораздо раньше. Вот что писал Иван Ермолаевич к редактору какого-то журнала в Москве, уже в октябре 1817 г.: «М. Г.! Читая Державина или Дмитриева, кто не позавидует их гению, кто не пожелает быть на их месте и наслаждаться их славою? Но, к несчастию, судьба слишком дорожит такими дарами, а те, которые хотят насильно их у неё похитить и приступом взобраться на Парнасе, —
Оступаются и вниз летят Не с венцами и не с лаврами, Но с ушами (ах!) ослиными!Я также был восхищён при чтении сих бессмертных творений и также воспламенился желанием писать, если не надеясь сравниться с сими великими поэтами, то, по крайней мере, ревнуя чести подражать им. Итак, свободное время, остающееся мне от занятий военной службы, посвятил я на служение Музам. Не знаю, приятны ли им мои жертвы, но молю их подать мне руку, — если не для того, чтобы взвести выше на священную гору, то хотя поддержать и не дать упасть с первого шага, который я осмелился сделать.
Между прочими сочинениями начал я комедию „Стихокрапов“, написал первое явление и, по некоторым причинам, раздумал продолжать. Многие из моих приятелей, которым этот отрывок понравился, советовали мне его напечатать. Я сперва отговаривался, но наконец согласился. Чёрт дёрнул — так и быть!
Общее уважение, которое имеют к издаваемому Вами журналу, возродило во мне желание поместить в нём и мой отрывок. Смею надеяться, что Вы не откажете мне в этой чести.
Признаюсь, я не без страха пускаюсь в первый раз на поприще литературы: мне кажется, что зверовидная критика уже точит лезвие косы своей, готовясь погубить несчастное дитя моего воображения при самом появлении его на свет. С глубочайшим почтением и пр.».
Письмо это, должно быть, осталось не отправленным, а отрывок из «Стихокрапова» был помещён в 1819 г. в № 19 «Благонамеренного» (с. 16—20).
(обратно)560
Благонамеренный. 1819. Ч. VIII. № 20. С. 65—67.
(обратно)561
Благонамеренный. 1820. Ч. XI. № 16. С. 261—263.
(обратно)562
Там же. 1819. Ч. VIII. № 22. С. 209.
(обратно)563
Там же. 1820. Ч. XI. № 14. С. 107—108.
(обратно)564
Там же. № 15. С. 188. Кроме того, в том же журнале за 1819 г. были напечатаны ещё следующие произведения Великопольского: «Восторг» (Ч. VI. № 10. С. 213—214) и «Аполлон на чердаке поэта» — подражание басне Измайлова «Стихотворец и чёрт» (Ч. VIII. № 22. С. 205—206).
(обратно)565
Там же. № 14. С. 111—113.
(обратно)566
Так, он представил в 1821 г. стихотворения (см. ниже, примеч. 2 на с. 346[569]): «Прогулка» (писано в лагере), «К печальной красавице», «Философия счастливого», «Надпись к портрету Кутузова», «Эпиграмма», «К H. Н. Анненкову при подарении ему книги для вписывания его сочинений», «Послание» и «Элегическая песнь». В 1822 г. он представил стихотворения: «Чувства при виде Бородинского поля» (читано 12 января; напечатано в «Благонамеренном», 1822. Ч. XVII. № 3. С. 119—122), в «Собрании новых русских стихотворений, вышедших в свет с 1821 по 1823 г.» (СПб., 1824. Ч. 1. С. 271—273) и в «Славянине» (1827. Ч. I. С. 52—54), «Тоска в разлуке» и «Непонятная грусть»; в 1824 г. был представлен 1-й акт из переведённой им трагедии Вольтера «Заира».
(обратно)567
См.: Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. 24. № 12. С. 315.
(обратно)568
Соревнователь просвещения и благотворения. 1820. Ч. XI. № 8. С. 213.
(обратно)569
В «Благонамеренном» напечатаны следующие произведения Великопольского, кроме названных уже выше: в 1820 г.: «Романсы» (Ч. IX. № 1. С. 44—46); «Роза» (Ч. XI. № 15. С. 192) и «Федулова находка» (С. 196—197); в 1821 г.: «Надпись к портрету Кутузова» (Ч. XIII. № 3. С. 143), «H. Н. А[нненкову] при подарении ему книги для вписывания его сочинений» (С. 146), «К А…….ву (при получении повеления о походе во время беспокойств в Италии)» (№ 4), «Философия счастливого» (№ 5. С. 270—271), «Прогулка; писано в лагере 1820 г.» (№ 6. С. 310— 312) и «К печальной красавице» (Ч. XVI. № 19, 20. С. 11—12); в 1822 г.: «Тоска в разлуке» (Ч. XVIII. С. 513—514); «Непонятная грусть» (С. 514—515); «К вероломной Темире» (Ч. XVII. № 8. С. 325—326), «Триолет (в альбом Е. А. Т…..вой)» (№ 9); «В альбом И. Н. А.» (№ 9) и «Мальчишка и осёл», басня (№ 10. С. 397—398). Наконец, в 1825 г. — «Лошадь с возом», сказка (Ч. XXIX. № 2). [Возврат к примечанию[566]]
(обратно)570
С 9 февраля этого года он имел уже чин подпоручика, см. Формулярный список за 1826 г. в Московском отделении Общего архива Главного штаба (ныне — РГВИА. — Ред.).
(обратно)571
По сообщению Н. И. Чаплиной, это был его товарищ по Семёновскому полку Иван Степанович Зворыкин, выигравший у Ивана Ермолаевича 30 000 рублей.
(обратно)572
Воспоминания Н. И. Чаплиной. Ср.: Дирин П. П. История лейб-гвардии Семёновского полка. СПб., 1883. T. 1. С. 52, приложения; он из подпоручиков Семёновского полка также был переведён в 1820 г. штабс-капитаном в Староингерманландский полк.
(обратно)573
Письмо из Петербурга от 1 октября 1831 г. Анна Михайловна Еремеева (р. 28 января 1795 г., ум. 18 марта 1865 г.), дочь Мих. Ант. Прокоповича-Антонского, была замужем за гвардии поручиком Львом Ивановичем Еремеевым (ум. 1853); её брат, Дмитрий Михайлович Прокопович-Антонский (ум. 1870), впоследствии действительный тайный советник, был также в дружеских отношениях с И. Е. Великопольским.
(обратно)574
Воспоминания Н. И. Чаплиной.
(обратно)575
Это было семейство статского советника Михаила Ивановича Бибикова (ум. в феврале 1827 г.), бывшего с 1800 по 1812 г. псковским вице-губернатором; в 1812 г. по именному указу Александра I он был освобождён от следствия (под коим находился долгое время), во внимание к заслугам зятя его А. С. Фигнера, и с тех пор жил то во Пскове, то в одном из своих имений, которые у него были в Псковском, Холмском и Опочецком уездах Псковской губ. (в последнем уезде ему принадлежали: село Клишковичи и дер. Бараново и Шитиково). Семья его состояла из жены — Маргариты Ивановны, рожд. Назимовой, и дочерей: Софьи Михайловны (род. 17 апреля 1795 г., ум. 27 августа 1864 г.), вышедшей впоследствии за полковника Джонсона; Елизаветы Михайловны, умершей в девичестве, и Настасьи Михайловны, бывшей впоследствии за Григорием Васильевичем Томилиным. Старшая дочь Михаила Ивановича — Ольга Михайловна (ум. в Санкт-Петербурге 15 февраля 1858 г.) также жила с родителями, потеряв в 1813 г. своего мужа, известного партизана А. С. Фигнера.
(обратно)576
См. выше.
(обратно)577
«К подаренному локону» (Северные цветы на 1826 г. С. 116—117) и «Воспоминание (Из Ламартина)» (Северные цветы на 1827 г. С. 307—309).
(обратно)578
«Нереида». Элегия (из сочинений Мильвуа), с. 74—78.
(обратно)579
Пользуемся рукописным сборником под заглавием «Мои новые стихотворения», из коих сохранились тетради с 1 по 16; в них вошли стихотворения с 1821 до 1829 г. включительно.
(обратно)580
Напечатано в сборнике произведений Великопольского «Раскрытый портфель» (СПб., 1859. С. 221—223).
(обратно)581
Как раз в это время И. И. Пущин, по собственным словам, «сбросил конноартиллерийский мундир и преобразился в судьи Уголовного Департамента Московского Надворного Суда» (Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 76).
(обратно)582
По Семёновскому полку. — Б. М.
(обратно)583
Князь Цицианов, сослуживец Великопольского по полку, был знаком с Пушкиным, который подарил ему свой портрет (XIII, 269; см. ниже). Князь Цицианов в 1820 г. был произведён из камер-пажей в прапорщики лейб-гвардии Семёновского полка, но в том же году, вместе с Иваном Ермолаевичем, был переведён в Псковский пехотный полк поручиком (Дирин П. И История лейб-гвардии Семёновского полка. T. 1. С. 177, приложение).
(обратно)584
В «Раскрытом портфеле» (с. 224—225) названа «Обман уединения».
(обратно)585
Напечатано в «Раскрытом портфеле» (с. 226—227).
(обратно)586
Булгарин.
(обратно)587
Орест Михайлович, критик, поэт, переводчик и журналист.
(обратно)588
* Наиболее полную сводку фактов об отношениях Пушкина и Великопольского см.: Зиссерман П. И. Пушкин и Великопольский // Пушкин и его современники. Л., 1930. Вып. 38—39. С. 257—280. Несколько дополнительных данных есть в кн.: Парчевский Г. Ф. Пушкин и карты. [СПб.], 1996. С. 29—62.
(обратно)589
Впрочем, из того факта, что Великопольский ещё в Петербурге был знаком с Дельвигом и Пущиным, можно предположить, что они познакомились и раньше встречи в Пскове.
(обратно)590
В 1830-х гг. имение это Иван Ермолаевич продал Ф. Тыртову, у наследников которого оно состоит во владении и поныне (сообщил Н. И. Великопольский из Великолуцкого уезда).
(обратно)591
В этот день Великопольский как раз был у себя в с. Опимахове и затем в имении своих родственников, в с. Ушицах. Февраль же 1826 г. он провёл во Пскове.
(обратно)592
В сборнике Великопольского «Мои новые стихотворения» есть следующий «Отрывок из письма к Г. П. Назимову из Риги, 1826 г., мая 21-го»:
«Судьба, или, лучше сказать, трактирщик сделали меня соседом Шоберлехнера, ученика Гуммеля. На днях он даёт концерт, в коем жена его, урождённая Даль-Окка (Dall’Occa) будет петь. Фортепиано стоит у самых моих дверей; он и она поминутно приготовляются, а я,
Не шевелясь и не дыша, Сижу, к дверям припавши ухом, И рвётся к ним моя душа, Моим восторженная слухом. К тому же, помнится, была Dall’Occa девушкой мила, А это, в скобках, не пустое! Я не святой, я не потух, И если радуется слух, — Меня мечта волнует вдвое…» (обратно)593
«Мои новые стихотворения»; см. также сборник Великопольского «Раскрытый портфель», где стихотворение это названо просто «Посланием в ответ на полученную записку в стихах», без указания на Пушкина.
(обратно)594
Вариант вместо зачёркнутого: «А вмиг и Пушкина подрежет».
(обратно)595
* П. И. Зиссерман по рукописи исправляет чтение этой строки: «И ногти длинные поэта» (Зиссерман П. И. Пушкин и Великопольский. С. 259).
(обратно)596
См. ниже.
(обратно)597
Чоглоковы были прежние владельцы Чукавина.
(обратно)598
Воспоминания Н. И. Чаплиной.
(обратно)599
До этого он почти всегда подписывал только свои инициалы (И. В.), а иногда — псевдоним «Ивельев», составленный из начальных букв его имени и фамилии (И. Вел.).
(обратно)600
М., 1828.; в типографии Августа Семена, 4°, 24 стр.
(обратно)601
Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров. СПб., 1895. С. 714.
(обратно)602
1828. № 26. 1 марта 1828 г.
(обратно)603
Ч. XIX. № 4. С. 558—560.
(обратно)604
Ч. VII. № 3. С. 394; № 4. С. 478—481.
(обратно)605
Ч. I. № 4. С. 132—134.
(обратно)606
Ч. I. № 4. С. 90—91. Возражая против замечаний критиков, Великопольский в начале 1829 г. написал очень обстоятельный и пространный «Ответ на отзывы журналов о „Сатире на игроков“», оставшийся в рукописи и теперь находящийся у меня. Здесь, между прочим, Великопольский писал в заключении: «Автору приятно при этом случае сказать (если угодно будет поверить ему в том на слово), что этот „Ответ“ был читан А. С. Пушкину, и первым его словом по прочтении было: „Непременно напечатать“. Почему, день за день, оно не было напечатано, автор не может теперь же дать отчёта».
(обратно)607
Булгарин в примечании под ними сказал: «Имени сочинителя сих стихов не подписываем: ex ungue leonem».
(обратно)608
по когтям льва (лат.).
(обратно)609
А. С. Пушкин: Новонайденные его сочинения… / Сост. П. И. Бартенев. М., 1885. Вып. 2. С. 134; в рукописном сборнике «Мои новые стихотворения» под этим ответом стоит дата: 17 марта 1828 г. Москва.
(обратно)610
К сожалению, оно нам неизвестно. — Б. М.
(обратно)611
Вероятно, намёк на неудачные рифмы в 4-й строфе: «кисе» и «тузе».
(обратно)612
XIV, 8—9; Подлинные письма Пушкина к Великопольскому, как сообщила мне Н. И. Чаплина, были проданы сыном её, Николаем Николаевичем, П. И. Бартеневу.
(обратно)613
Отношения их обострились ещё в 1826 г., после проигрыша Великопольского. В рукописном сборнике «Мои новые стихотворения» мы находим следующую эпиграмму, в минуту раздражения написанную Великопольским несомненно на Пушкина:
АРИСТ-ПОЭТ Арист — негодный человек, Не связан ни родством, ни дружбой: Отцом покинут, брошен службой, Провёл без совести свой век; Его исправить — труд напрасен, За то кричит о нём весь свет: Вот он-то истинный поэт, И каждый стих его прекрасен. И точно: верь или не верь, — Не правда ли (сказать меж нами)? На всю поэзию теперь Другими взглянем мы глазами! Критинген, 1 сентября 1826 г.Варианты: к 1-му стиху — «Мытарин — скверный человек» и к 4-му — «Шумит, бунтует целый век».
В конце упомянутого выше «Ответа на отзывы журналов о „Сатире на игроков“» Великопольский, вспоминая обо всём этом эпизоде, говорит следующее: «В заключение могу ли позволить себе сказать слово о „Послании“ ко мне, напечатанном в 30-м нумере „Северной пчелы“ прошлого (1828) года? Любезный сочинитель, которого блистательное в словесности нашей имя слишком хорошо узнаётся без всякой надобности для того в его подписи, доставил мне прекрасными своими стихами истинное удовольствие. Признаюсь, что сначала я не так это принял, чему главною причиною было, собственно, не „Послание“, а недобрая, присоединённая к нему выноска („ех ungue leonem“) издателя газеты, дававшая обращённым ко мне стихам вид не приятельской шутки, а сатирической насмешки. Теперь, пообдумав и порассудив, а главное — перечитав стихи с хладнокровием, я очень рад, что автор „Послания“ не согласился на напечатание ответных моих станцов (как сам уведомил меня о том), слишком наскоро мною написанных и посланных издателю газеты на другой же день получения листка его в Москве».
(обратно)614
Рондо Лизы из «Сюрприза» («В шестнадцать лет…»), с нотами О. О. Геништы, напечатано было тогда же в «Радуге», альманахе П. Арапова и Д. Новикова (М., 1830, прилож. С. 8, с подписью И. В.).
(обратно)615
1830. Ч. 31. № 1. С. 507—509.
(обратно)616
Это насмешка над «Московским заведением искусственных минеральных вод», открытым в Москве летом 1828 г. и бывшим одно время в большой моде среди высшего класса москвичей (см.: Московский вестник. 1828. Ч. 9. С. 167—186 и 415—419).
(обратно)617
Больше не появлялось.
(обратно)618
В этот промежуток времени Великопольский напечатал, насколько нам известно, только пьеску «Старик (Романс)» — в альманахе «Альциона» на 1832 г., с. 65 (с подписью Ивельев).
(обратно)619
Род. в 1786 г., ум. 10 августа 1833 г., погребена в с. Чукавине. Она была дочь профессора и также бывшего ректора Московского университета X. А. Чеботарева и жены его — Софии Ивановны Вилькинс; последняя приходилась родственницей Н. И. Новикову (сообщение Н. И. Чаплиной).
(обратно)620
Род. 23 августа 1815 г., ум. в Чукавине 7 апреля 1897 г.
(обратно)621
См.: XIV, 295.
(обратно)622
Чеботарев (1784—1833), брат Софьи Харитоновны Мудровой.
(обратно)623
Дмитрий Клементьевич (род. в 1792 г., ум. в 1866 г.), бывший в это время лейб-хирургом и гражданским генерал-штаб-лекарем; автор «Воспоминаний», напечатанных в «Русской старине» 1871 и 1872 гг. Фамилия его вырезана из письма.
(обратно)624
Прокоповича-Антонского, брата А. М. Еремеевой, служившего в это время начальником отделения в Особой канцелярии при главноначальствовавшем над Почтовым департаментом кн. А. Н. Голицыне.
(обратно)625
Это был старинный приятель Ивана Ермолаевича.
(обратно)626
Прокопович-Антонской, рожд. Даргомыжской, жены Николая Михайловича Прокоповича-Антонского, дочери писательницы Марьи Борисовны и сестры известного композитора.
(обратно)627
Даргомыжская (ум. 7 ноября 1851 г., 64 лет), детская писательница, жена действительного статского советника Сергея Николаевича Даргомыжского (род. 9 сентября 1798 г., ум. 2 апреля 1864 г.), мать композитора.
(обратно)628
Прокоповича-Антонского, брата А. М. Еремеевой.
(обратно)629
Эраст Сергеевич Даргомыжский; вот что писала 25 января 1832 г. А. М. Еремеева в письме к Ивану Ермолаевичу: «Брата Николая с Людмилой встретит горе в Петербурге: Людмила оставила брата своего Эраста совершенно здоровым, — и более уже с ним не увидится; воображаю её горесть, когда она узнает о кончине его!» О нём говорит И. И. Козлов в стихотворении своём «Жалоба» (1832):
…Давно ли — жизнь семьи родной — Являлся юноша меж нами С высокой, пылкою душой, С одушевлёнными струнами, — И вдруг от нас сокрылся он! Умолк напев, мечтанью милой, Лишь веет в полночь дивный стон Над тихою его могилой… (обратно)630
Знаменитый впоследствии композитор Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869).
(обратно)631
* «Севильский цирюльник» (1816) — опера Дж. Россини.
(обратно)632
Статский советник Михаил Антонович Прокопович-Антонский, бывший обер-секретарь Общего собрания Московских департаментов Сената (род. 8 ноября 1760 г., ум. 29 мая 1844 г.).
(обратно)633
Бывший адъюнкт Московского университета по кафедре математики в 1805—1810 гг., писатель.
(обратно)634
Богатейшей библиотеки покойного М. Я. Мудрова. Часть её была перевезена в Чукавино, но, кажется, там не сохранилась.
(обратно)635
Страхов (1792—1856), доктор медицины, ординарный профессор ветеринарии в Московском университете; он был женат на одной из семи воспитанниц М. Я. и С. X. Мудровых — Варваре.
(обратно)636
А. X. Чеботарева.
(обратно)637
Род. в 1776 г., ум. в 1842 г.; в 1810-х гг. он был масоном и уже тогда знал М. Я. Мудрова.
(обратно)638
Рожд. Аксаковой, сестры С. Т. Аксакова; со всем семейством их были хорошо знакомы Мудровы и Великопольские. Вот что писала Софье Харитоновне Ольга Семёновна Аксакова 3 ноября 1831 г.: «С истинным удовольствием получила извещение Ваше, сердечно радуюсь о помолвке любезнейшей Софии Матфеевны, тем более, что мы лично знакомы с Иваном Ермолаевичем; надеюсь скоро сама поздравить вас. С истинным почтением честь имею быть, Милостивая Государыня, Вам покорнейшая ко услугам Ольга Аксакова.
Сергей Тимофеевич, свидетельствуя Вам своё истинное почтение, искренно радуется и поздравляет Вас».
(обратно)639
T. е. М. Я. Мудров.
(обратно)640
М. Н. Мусин-Пушкин, двоюродный брат Ивана Ермолаевича, сын родной тётки его — Евдокии Сергеевны, рожд. княжны Болховской (род. 7 июня 1771, ум. 5 января 1843 г.), тогда попечитель Казанского, а впоследствии С.-Петербургского учебного округа; умер в 1862 г. в чине действительного тайного советника и в звании сенатора.
(обратно)641
Ник. Ив. Лобачевский, женатый, как сказано было выше, на единоутробной сестре Ивана Ермолаевича — Варваре Алексеевне Моисеевой. Брат её, Николай Алексеевич Моисеев, питомец Казанского университета, в 1827—1832 гг. был лектором французского языка в том же университете.
(обратно)642
Пётр Иванович Страхов (1757—1813), профессор Московского университета.
(обратно)643
X. А. Чеботарева.
(обратно)644
Быть может, графиня Анна Петровна, в 1814 г. генерал-майорша.
(обратно)645
В замужестве Кологривова (род. 28 декабря 1788 г., ум. 25 марта 1876 г.).
(обратно)646
Одно из весьма немногих уцелевших его писем.
(обратно)647
Из села Петровского, в 73 верстах от Москвы, 29 февраля 1832 г.
(обратно)648
Имение Ивана Ермолаевича в Зубцовском уезде, богатое своим мачтовым лесом.
(обратно)649
Вероятно, Горчаков, женатый на Марье Александровне Лихачевой, сестре Семёна Александровича.
(обратно)650
Екатерина Семёновна, дочь Семёна Александровича Лихачева (ум. 28 мая 1821 г.) и жены его Прасковьи Ивановны Осокиной (свойственницы Великопольского).
(обратно)651
Известный сельский хозяин, гвардии полковник (потом ст. советник) Дмитрий Потапович Шелехов, писатель по вопросам агрономии, проживавший в сельце Фролове, Зубцовского уезда, Тверской губ. и там умерший 16 мая 1854 г.; у него было заведено, вместо рутинного трёхпольного, плодопеременное хозяйство с травосеянием и сеянием картофеля. Шелехов принимал к себе бесплатно учеников на курс с 20 апреля по 15 октября (см.: Московские ведомости. 1830. № 24. С. 1156; 1833. № 16. С. 722—723).
(обратно)652
Аксаков С. Т. Полн. собр. соч. СПб., 1886. Т. 3. С. 328; его же «История моего знакомства с Гоголем» (Русский архив. 1890. № 8. С. 10—11).
* Гоголь в этот момент находился в Петербурге; читал комедию С. Т. Аксаков.
(обратно)653
Панаев И. И. Литературные воспоминания. СПб., 1888. С. 158.
(обратно)654
Там же. С. 161—164.
(обратно)655
За Софьей Матвеевной Великопольский взял: сельцо Ефимьяново и дер. Галузину в Корчевском и дер. Заречье в Калязинском уезде Тверской губ., каменный дом в Афанасьевском переулке, деревянный на Пресненских прудах, денег и драгоценных вещей более чем на 200 000 рублей.
(обратно)656
С Погодиным Великопольский познакомился ещё в 1834 г. (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 239—240).
(обратно)657
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 5. С. 159; см. также «Историю моего знакомства с Гоголем» С. Т. Аксакова в «Русском архиве» (1890. № 8. С. 13—14, 24).
(обратно)658
Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 296. К сожалению, письма Белинского к Великопольскому, о которых есть упоминание в переписке Ивана Ермолаевича с женою, кажется, погибли.
(обратно)659
Там же. С. 161.
(обратно)660
Как сказано в посвящении трагедии «Моей жене».
(обратно)661
По теории и истории театра, музыке, физике и истории и т. д.
(обратно)662
Белинский В. Г. Систематическое собр. соч. СПб., 1899. Вып. 5. С. 4.
(обратно)663
1837. T. XXI. Отд. VI. С. 31—32.
(обратно)664
1837. T. XXII. Отд. VI. С. 18—20.
(обратно)665
* «Урок матушкам» — пьеса М. Н. Загоскина (пост. 1836, опубл. 1840).
(обратно)666
Действительно, этот курьёзный «Способ нотной постановки театральных представлений» (с. XV—XXIII), придуманный Великопольским по образцу хореографических знаков и нот, вызывает невольную улыбку при мысли о том труде, который он потратил на разработку этого никому не нужного сложного способа, делающего к тому же из актёра какую-то машину.
(обратно)667
Этого у Великопольского нет. — Б. М.
(обратно)668
См. эпиграмму Великопольского на Н. Ф. Щербину, напечатанную мною в «Русской старине» (1901. № 6. С. 629).
(обратно)669
1837. Ч. 186. С. 364.
(обратно)670
Там же. С. 455—460.
(обратно)671
Великопольский сравнивает слова своего Василия (д. 2-е, явл. 6-е):
Право, Господам житьё: вот возле Два шага платок, нет: «Васька! Дай сюда!» А Васька будто И не человек! и т. д. —с известными словами Осипа: «Нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя!» (дразнит): «Эй, Осип! Ступай, посмотри комнату!» Общего, конечно, в этих двух монологах ничего нет.
(обратно)672
Характеристики действующих лиц в драмах Великопольского в самом деле иногда до смешного излишне подробны и часто даже не доказываются их поступками в пьесе.
(обратно)673
Эту-то мысль, по нашему мнению, Великопольский и доказывает вполне убедительно, а критик только передёргивает его слова. То же убеждение Иван Ермолаевич проводил и в жизни. Вот что писал он своей жене по случаю какого-то происшедшего между ними недоразумения: «Порассуди хорошенько, вспомни моё слово, успокойся и утвердись в полном ко мне доверии, с которым, автор „Владимира“ говорит, неразлучна и любовь, потому что доверие неразлучно с уважением. Ошибка не должна ещё разрушать уважения, тем более, когда автор ошибки сознается в своём произведении. Автор „Владимира“ и автор ошибки может ещё быть один и тот же человек».
(обратно)674
Вот, например, что писала она Ивану Ермолаевичу (по поводу его драмы «Любовь и честь») из Чукавина в Петербург 22 сентября 1840 г.: «Тебе предстоит великое дело: ты скажешь им, что такое драма; ты им покажешь её во всей простоте, во всей строгости, во всём изяществе. Знаешь ли, какое на меня действие имеет чтение твоих драм? Я в эти минуты не живу только жизнью действующих лиц, но я вхожу в какой-то необъятный мир, где я вижу не один разыгрывающийся случай, как на бедной картинке, в бедной рамке, но где меня со всех сторон окружает общая жизнь и в этой общей жизни я заинтересовываюсь некоторыми лицами: жизнь идёт, драма идёт — и вместе с тем подвигаются происшествия заинтересовывающих лиц. Для твоих драм нет никакой сработанной рамы ни подзолоченной, ни подточенной…»
(обратно)675
По сообщённой мне И. А. Кубасовым выдержке из не изданного ещё письма А. В. Кольцова к Белинскому (из Москвы от 10 января 1841 г.) видно, что под «Олегом» следует здесь разуметь драматическую пародию в стихах К. С. Аксакова «Олег под Константинополем», написанную ещё в 1830-х гг. Пьеса эта была издана лишь в 1858 г. тем же лицом, как и «Раскрытый портфель» Великопольского, напечатанный вторым выпуском в серии предпринятых «изданий любителя» (то есть Я. В. Писарева).
(обратно)676
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 5. С. 324.
(обратно)677
Вторую он предполагал посвятить «талантам Александры Михайловны и Василия Андреевича Каратыгиных», а первую — «высокому русскому комику Михаилу Семёновичу Щепкину», которому в ней была предназначена роль Майева («Пёстрый альбом», ч. I, рукопись).
(обратно)678
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. T. 1. С. 244.
(обратно)679
1841. Т. 15. Отд. VII. С. 11—12.
(обратно)680
Свои теоретические взгляды на драму Великопольский высказал, между прочим, в брошюре «Опыт оправдания пьесы „Память Бородинской битвы“» (СПб., 1848), о которой сказано будет ниже.
(обратно)681
Действие 3-е, вид VII.
(обратно)682
См. выше, в рецензии Белинского.
(обратно)683
1841. 26 апр. С. 179.
(обратно)684
1841. Ч. 15. Гл. IV. С. 209—211.
(обратно)685
Обилием их действительно поражают произведения Великопольского: во «Владимире Влонском» их — 60 человек, в «Любви и чести» — 105 человек, в «Янетерском» — 57 человек, не считая статистов; пьесы, оставшиеся ненапечатанными, также переполнены действующими лицами, и к каждому из них Великопольский приурочивает то или иное из записанных им наблюдений, заметок, выписок и т. п.
(обратно)686
В «Современнике» (1841. Т. 23. С. 23—24) был помещён следующий отзыв о драме Великопольского, принадлежащий Плетнёву (см.: Плетнёв П. А. Соч. и переписка. СПб., 1882. Т. 2. С. 322): «Автор увлёкся мыслию совершенно новою: вместо обыкновенных пружин, которыми движутся драматические лица, вместо страстей огненных или запутанной интриги, он употребил магнетическое стремление. Есть ли истина в его соображении? Конечно, трудно это опровергнуть, потому что существование силы животного магнетизма не подвержено сомнению. Но в искусстве, которое должно быть основано на ощущениях ясных и всем понятных, едва ли можно употребить с успехом побуждения тёмные и безотчётные. Впрочем, всякое покушение расширить круг искусства замечательно и не должно быть пренебрегаемо, особенно если в нём выражается полное сознание автора. Мы желали бы только в этой драме видеть более простоты действия и более естественного движения сцен». В 1848 г. барон Е. Ф. Розен, разбирая в «Сыне отечества» (Кн. 10. Отд. VI. С. 9—15) «Опыт оправдания пьесы „Память Бородинской битвы“» Великопольского и говоря об отличающем все произведения его «отсутствии в них движения драматического и единства его», выразился об уничтоженном «Янетерском», что эта драма «поразила его гениальностью создания, смелостью художественных приёмов, обширностью своего круга действий». Так разнообразны были мнения современной Великопольскому критики о его произведениях.
(обратно)687
Перед напечатанием её Иван Ермолаевич читал её в кружке своих знакомых в Петербурге, в «Отеле Демута». «На этом чтении, — рассказывает свидетель его И. И. Панаев, — присутствовал, между прочими, и С. Т. Аксаков, находившийся в то время в Петербурге. Перед чтением слушателям дан был роскошный обед… Чтение началось в 7 часов и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и от времени до времени вздрагивали. С лица С. Т. Аксакова, сидевшего против самого автора, лился пот градом; он беспрестанно вытирал свой лоб и с некоторым ожесточением опирался о спинку стула, который трещал при этом напоре. Когда чтение кончилось и Сергей Тимофеевич встал со стула, — стул совсем развалился…» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 161—162.
(обратно)688
«Я не Терской».
(обратно)689
Они сохранились в бумагах Великопольского.
(обратно)690
Вероятно, разумеется переведённая В. А. Каратыгиным драма А. Дюма того же названия, представленная на петербургской сцене в 1832 г.
(обратно)691
Мы уже видели выше взгляд Корсакова на произведения Великопольского.
(обратно)692
С ней в связи находится Глуминцев.
(обратно)693
Не будучи в состоянии собственноручно отмстить Глуминцеву за разрушение его семейного очага, Пётр, знающий тайну происхождения Янетерского, открывает ему её и с чувством дьявольского злорадства любуется впечатлением, какое производят на него слова Стешневой, из которых Янетерской узнает, что убитый им Глуминцев был его отцом.
(обратно)694
Подписка Юнгмейстером дана была 20 февраля, а 24-го числа Великопольский поручился в том, что все экземпляры трагедии, розданные как им, так и Юнгмейстером, будут возвращены и, вместе с остальными, у него находящимися, представлены в Цензурный комитет к уничтожению, без всякого предоставления себе права требовать за то какого-нибудь вознаграждения.
(обратно)695
В имеющемся у меня экземпляре «Янетерского» с. 43—44 и 45—46 действительно перепечатаны на более толстой бумаге и вклеены (см. выше, в письме Ольдекопа); но и на них даже самый щепетильный человек не найдёт ничего предосудительного.
(обратно)696
* В тексте очевидная опечатка — А. И. Нератов.
(обратно)697
Из уцелевших экземпляров один находится в Императорской публичной библиотеке, а другой, оставленный у автора с разрешения III Отделения, в настоящее время передан мне Н. И. Чаплиной. По этому экземпляру видно, что трагедия была написана в 1838 г. и что Иван Ермолаевич, после её запрещения, снова переделал её, но уже более не печатал, хотя и хлопотал о том в 1864 г.
(обратно)698
Вот что записал А. В. Никитенко в своём дневнике под 5 марта 1841 г.: «Некто Великопольский, псевдоним Ивельев, написал драму „Янетерской“. Она плоха и, сверх того, безнравственна и наполнена сценами и выражениями, которые у нас не допускаются в печати. По непонятному недоразумению, она, однако, была пропущена цензором Ольдекопом. Лишь только драма вышла из печати и попала в руки министру, он немедленно отрешил от должности цензора и велел повсюду отобрать экземпляры её и сжечь. Сегодня в 11 час. утра состоялось это аутодафе, при котором велено было присутствовать мне и Куторге. Вот, однако, два хорошие поступка: Великопольский, узнав о несчастии, постигшем, по его милости, цензора, предложил последнему 3000 рублей, чтобы тому было на что жить, пока он найдёт себе другое место. Ольдекоп отказался» (Никитенко А. В. Записки и дневник (1826—1877). СПб., 1893. T. 1. С. 413). О предложении Ольдекопу жалованья рассказывает также И. И. Панаев (Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 161).
(обратно)699
В «Пёстром альбоме» действительно большое количество страниц занято выписками из разных сочинений, касающихся Аттилы и его времени.
(обратно)700
Барсуков H. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 5. С. 270—272.
(обратно)701
Впрочем, в 1842 г., в 12-й книжке «Москвитянина», он напечатал, под псевдонимом Ивельева, отдельную сцену: «Фантаст, или Сила воображения» (с. 280—291, отд. оттиск — М., 1842. 14 с.), о которой нельзя сказать ничего нового сравнительно с тем, что уже было говорено о других пьесах нашего автора.
(обратно)702
Передаём словами P. М. Зотова, поместившего о пьесе отчёт в «Северной пчеле» (1848. № 101. 7 мая).
(обратно)703
Опыт оправдания пьесы «Память Бородинской битвы». С. 6.
(обратно)704
1848. № 5; это был, вероятно, сам издатель «Пантеона», Ф. А. Кони.
(обратно)705
1848. № 34. 26 авг.
(обратно)706
№ 35 и 36.
(обратно)707
Знакомство их, сначала заочное, состоялось в июне 1848 г. через посредство Н. И. Куликова, передавшего Великопольскому желание Зотова познакомиться подробнее с его литературною деятельностью, о которой Куликов был высокого мнения. Следствием ознакомления Зотова с произведениями Ивана Ермолаевича (изданными и неизданными) и явилась его лестная заметка о Великопольском в № 34 «Литературной газеты».
(обратно)708
Зотов так и не собрался этого сделать, но благорасположение его к нашему писателю сохранилось до самой смерти последнего. Об участии Зотова в Посреднической комиссии по делам Великопольского см. ниже и в «Русской старине» (1901. № 7. С. 172).
(обратно)709
Статью эту очень сочувственно встретил барон Е. Ф. Розен, поместившей о ней в «Сыне отечества» 1848 г. (кн. 10, отд. VI, с. 9—15) восторженный отзыв, равно как и о самой пьесе; P. М. Зотов возражал на «Опыт оправдания» и критиковал спектакль 26 августа в статье, помещённой в «Северной пчеле» 1848 г. от 3 сент.
(обратно)710
См.: Вольф А. И. Хроника петербургских театров. СПб., 1877. Ч. 2. С. 141, 145—146.
(обратно)711
«Я не могу, — говорит в одном месте Владимиров, — в формах человеческого лица примириться с этим уродливым возвышением между глазами и ртом, с этим угловатым, чихающим наростом. Он представляет осязанию самую отвратительную выпуклость. Древние называли её вместилищем злобы, но, впрочем, признавали её самою честною частью лица, потому что она краснеет, когда человек объестся или обопьётся». «О, как ты ошибаешься, — возражает ему Тизо. — Для зрения это совсем не так: есть носики удивительно прелестные» и т. д.
(обратно)712
По распределению ролей на одном из рукописных экземпляров «Мира слепых» видно, что Великопольский намерен был разыграть её (а может быть, и разыграл) на домашней сцене при помощи актёров-любителей.
(обратно)713
К сожалению, не все они ясны для нас, так как сделаны были Аксаковым к первоначальной редакции пьесы, до нас не дошедшей.
(обратно)714
Аксаков С. Т. Биография М. Н. Загоскина. М., 1853 (оттиск из «Москвитянина»).
(обратно)715
То есть напечатанные пред словами действующих лиц пояснительно-дополнительные замечания, долженствующие дать указания актёру и читателю; см., например, ниже, примеч. 5-е[717].
(обратно)716
Офицер, тип фата.
(обратно)717
Так, вероятно, прежде был назван Прибрежный. [Возврат к примечанию[715]]
(обратно)718
Это действительно смешная сцена. После произнесения Владимировым сочинённой им «Песни вечерней звезды» «Прибрежная, — как объяснено „прописью“, — подвигнутая восторгом Тизо, сняла с Мильтонова бюста венок и надела на Владимирова. Владимиров ощупал венок и задрожал. Варинька, сложив благоговейно ладони, с восторгом на него смотрит». Великопольский, однако, не согласился исключить эту сцену.
(обратно)719
Он просит Тизо сыграть на фортепианах какие-нибудь танцы.
(обратно)720
В ней, между прочим, среди высокопарных, напыщенных фраз, встречаются, например, такие стихи:
Лишь слепца Без венца Ты пустил для тяжкой доли! Как полип, Он прилип Без очей к земной юдоли! (обратно)721
Владимиров подозревает, что Тизо увлёкся Варенькой и, в ревности, вызывает его на дуэль.
(обратно)722
Одно из действующих лиц.
(обратно)723
Ёж говорит отцу, что видел сестру ночью в комнате Владимирова (она туда зашла в лунатизме).
(обратно)724
Действительно, Великопольский сначала заставляет его говорить высокими, напыщенными словами, а потом вкладывает в его уста самые грубые ругательства и ставит в такие положения, которые вызывают в читателе только смех.
(обратно)725
К Вареньке.
(обратно)726
Архив Конференции Императорской Академии наук, д. № 374, л. 158 (ныне Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. — Ред.).
(обратно)727
«Русское чувство», предисловие, с. 5.
(обратно)728
Это неверно: подобные пьесы бывали и гораздо раньше; так, в 1821 г. Н. И. Хмельницкий и Н. В. Всеволожский написали водевиль «Актёры между собою», в котором вывели актёров Троепольских, Попова и Шумского; затем кн. А. А. Шаховской написал комедию «Ф. Г. Волков» (1827); в 1841 г. был разыгран водевиль Д. Т. Ленского «Мочалов в провинции»; в 1847 г. была дана на сцене комедия «Ал. Сем. Яковлев», а в 1807 г. была поставлена в Петербурге переведённая Д. И. Языковым комедия «Влюблённый Шекспир».
(обратно)729
«Русское чувство», предисловие, с. 6. Пьеса эта, по выходе её в свет, была придирчиво раскритикована в «Северной пчеле» (1854. № 73 и 79) Булгариным, которому Великопольский ответил пространною антикритикой, помещённой в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1854. № 117).
(обратно)730
Этот «Любитель», издавший в 1858 г. драматическую пародию К. С. Аксакова «Олег под Константинополем» (см. выше), был петербургский 3-й гильдии купец Яков Васильевич Писарев, имевший свою типографию и книжный магазин (в 1861 г. перешедший к Лермонтову и Ко, владельцу известной библиотеки для чтения). Это видно из подлинного, находящегося у нас, условия с ним И. Е. Великопольского касательно издания «Раскрытого портфеля». Писарев издавал газету «Русский мир», редактировавшуюся В. Я. Стоюниным.
(обратно)731
Пьеса написана была в 1828 г.
(обратно)732
Издатель в предисловии поместил от себя «Пояснительную статью о славянском баснословии, к напечатанной в этой книге первой части литературного представления „Чудо Перуна“».
(обратно)733
С. II—III. «Раскрытый портфель» был, в числе некоторых других книг, назначен, как премия, для подписчиков «Русского мира», издававшегося Я. В. Писаревым (см.: Русский мир. 1860. № 33. С. 132).
(обратно)734
1859. № 5. Библиография. С. 68—74.
(обратно)735
1859. № 75. Отд. III. С. 120—126*.
* Автор рецензии — Н. К. Михайловский (см.: Боград В. Э. Журнал «Современник». 1847—1866: Указатель содержания. М.; Л., 1959. С. 359).
(обратно)736
Раскрытый портфель. С. 157—217. В рукописи пьеса названа «Мартынов и Жулева. Драматическая фантазия-ералаж».
(обратно)737
Между I и II актом проходит десять лет.
(обратно)738
Проходит ещё два года.
(обратно)739
Они выставлены Великопольским как memento mori.
(обратно)740
Единственный экземпляр её в Императорской публичной библиотеке вместо 88 имеет только 16 страниц, и то из середины.
(обратно)741
При изложении всего этого дела мы пользуемся: 1) архивом официальных бумаг и записок по предприятию Великопольского, сообщённым нам Н. И. Чаплиной, и 2) многочисленным рядом статей, объявлений, брошюр и т. п., касающихся этого предприятия.
Прим. к стр. 422. * Далее после слов «из них назовем некоторые» Модзалевский даёт следующий список (выделен в примечания по техническим причинам): «О предприятии учредившегося в Санкт-Петербурге Товарищества для распространения в России простой и выгодной обделки прядильных растений. Статья из „Трудов Императорского Вольного Экономического Общества“, № 4, 1845» (СПб., 1845. 36 с. [Рец.: Отечественные записки. 1845. Т. 42. Отд. VI. С. 16—18]); «Письмо учредителя товарищества для распространения в России простой и выгодной обделки прядильных растений к редактору „Отечественных записок“» (Отечественные записки. 1845. Т. 42. Отд. VIII. С. 109—116: ответ Великопольского на предыдущий разбор) и «Ответ учредителя товарищества… на примечания, помещённые к его письму, напечатанному в 9-й книжке „Отечественных Записок“» (Отечественные записки. Т. 43. Отд. VI. С. 41—46); Коммерческая газета. 1845. № 110, 111; Московские ведомости. 1845. № 111, 115—118; 1846. № 12, 13 (отзывы о его способе сравнительно со способом мещанина Николая Игнатьева); «Рассмотрение статьи проф. Усова о мяльно-плющильном способе обработки льна и пеньки Лихачева и Канаева» — статья Великопольского в «Трудах Императорского Вольного Экономического Общества» (1847. Ч. 2. Отд. 2. С. 151—185); и его же статья «О химической вымочке пеньки и льна по способу г. Биссона и Праделя» (Там же. 1846. Ч. 2. Отд. 2. С. 194—208); Санкт-Петербургские ведомости. 1848. № 9; 1849. № 49 (объявл.); «Отзывы о принадлежащем… Великопольскому способе простой и выгодной обделки волокна прядильных растений, изданные по поручению Императорского Вольного Экономического Общества» (СПб., 1849. 63 с. с табл.); «Обзор хода предприятия… Великопольского и вывод прибыли, по расчёту на каждую мужескую ревизскую душу, доставляемой принадлежащим ему способом обделки волокна прядильных растений; представлений Комиссии, бывшей для того в 1855 году от Императорского Вольного Экономического Общества, составленное по официальным документам» (СПб., 1856. 55 с.); Сенатские объявления. 1859. № 44; «Объяснение… Великопольского по случаю происшедшей с 1848 г. остановки по его предприятию и объявленной его несостоятельности (сентябрь 1859 г.)» — отд. лист. СПб., 1859 и Санкт-Петербургские ведомости (1859. № 217); Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 80; 1861. № 5 и 121; Московские ведомости. 1861. № 20; Месяцеслов на 1862 г.: «О Высочайше утверждённом предприятии… Великопольского…» и отд. оттиски (СПб., 1861. 8 с.); «О Высочайше утверждённом предприятии Великопольского, соединённом, по Высочайшему соизволению, с лотерейным розыгрышем премий. Отзыв учредителя с кратким повторением правил и расчётов, к особому сведению публики» (СПб., 1862, f°); «О лотерее г. Великопольского» (СПб., 1862. 24 с.); «Правила и наставления для агентов и комиссионеров Высочайше утверждённого предприятия Великопольского, соединённого, по Высочайшему соизволению, с лотерейным розыгрышем премий, для продажи лотерейных свидетельств и рассрочных квитанций, если не заключено особого договора. Составлено учредителем Великопольским, согласно с объявленными с дозволения правительства основаниями» (СПб., 1862); Московские ведомости. 1862. № 59, 157, 230; Санкт-Петербургские ведомости. 1862. № 42, 69, 103, 150, 154, 222, 228; Современное слово. 1862. № 94; День. 1862. № 38; Иллюстрированный листок. 1862. № 36, 40, 44, 45, 47; 1863. № 51, 57 (№ 1862 года изданы отд. отт. под загл. «Дело Великопольского», СПб., 1862, с двумя прибавлениями из № 1863 года); Иллюстрированная газета. 1863. № 4, 5; Биржевые ведомости. 1863. № 149 (фельетон); Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции. 1863. № 155, 156; Санкт-Петербургские ведомости. 1863. № 94 (Договор, заключённый Великопольским с Советом церкви Св. Петра в Петергофе); Голос. 1864. № 46 (письмо Великопольского), 85 и 86 (ответ его); «Окончательное оправдание Великопольского» (СПб., 1863. 30 с.); «Объявление от посреднической Комиссии над имением… Великопольского» (отт. в 4 стр. из «Тверских Губернских ведомостей», 1866, № 24); «Объявление от Великопольского об окончании дела о его предприятии» (отт. из «Тверских Губернских ведомостей», 1867, № 68); Санкт-Петербургские ведомости. 1867. № 106 (о его деле); Народный голос. 1867. № 85; Москва (И. С. Аксакова). 1867. № 103, 150; Русский (Погодина). 1867. № 14; Московские ведомости. 1867. № 96; Петербургский листок. 1867. № 15; Голос. 1867. № 131, 159; «Две печатные записки по делу его, слушавшемуся в Сенате в 1864 и 1867 гг.»; «Извещение от Великопольского о положении его дела по Высочайше утверждённому сельскохозяйственному его предприятию» (f°. СПб., 1867; дозв. ценз. 30-го октября 1867 г.) и др.
(обратно)742
Все эти мнения были Великопольским собраны и изданы в особой брошюре: «Отзывы о принадлежащем отставному майору Ивану Ермолаевичу Великопольскому способе простой и выгодной обделки волокна прядильных растений, изданные по поручению Императорского Вольного Экономического Общества» (СПб., 1849. 63 с. + таблица).
(обратно)743
В 1845 г. Великопольский был избран в члены его (см.: Ходнев А. И. История Императорского Вольного экономического общества. СПб., 1865. С. 184; Труды Императорского Вольного экономического общества за 1846 г. Ч. 1. С. 26), равно как и в члены Императорского Московского общества сельского хозяйства (см.: Маслов С. А. Историческое обозрение Московского общества сельского хозяйства. М., 1846. С. 259).
(обратно)744
Членами правления делами предприятия Великопольского были: генерал-майор Николай Алексеевич Аммосов (известный изобретатель аммосовских печей, ум. в 1868), инженер-подполковник Мих. Андр. Агамонов (ум. 1867) и коллежский советник Влад. Раф. Зотов (литератор); см.: Русская старина. 1901. № 6. С. 627—628; № 7. С. 172.
(обратно)745
Хотя были голоса и против лотереи: ср., например, брошюру И. Григоровича «Играть в лотерею или нет? или вернейший способ приобресть себе выигрыш» (М., 1862).
(обратно)746
Это и было исполнено.
(обратно)747
Припомним, что в это время он лишился и своих «душ».
(обратно)748
Цензурою дозволено 20 ноября 1867 г. Оно было напечатано в долг.
(обратно)749
Сверх этих 27 басен и сказок, за недозволением цензурою трёх из 30-ти, предварительно объявленных в тексте № 103 газеты «Москва», две уже дозволены, а третья будет добавлена новая.
(обратно)750
Жена его, Софья Матвеевна, в это время уже страдала душевным недугом, в котором и кончила жизнь; с ней жила дочь её — Надежда Ивановна, здравствующая и поныне, тогда уже вдова подполковника Николая Андреевича Чаплина (ум. в 1866 г.).
(обратно)751
Новое время. 1897. 25 апр.
(обратно)752
Погодин тогда только что продал своё известное «древлехранилище».
(обратно)753
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 10. С. 374.
(обратно)754
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 10. С. 374—375.
(обратно)755
Петру Ларионовичу, женатому на одной из воспитанниц М. Я. Мудрова.
(обратно)756
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 10. С. 375—376.
(обратно)757
См.: Сборник решений Правительствующего Сената. СПб., 1864. T. 1: Решения первых трёх Департаментов и Департамента Герольдии (1835—1864 гг.). С. 897—899.
(обратно)758
Этот портрет он получил в 1830-х гг. от «одного доктора», которому он достался от бедной пациентки. Описание портрета со снимком с него было помещено в № 23 «Иллюстрации» за 1858 г.; в 1864 г., ввиду наступавшего 300-летнего юбилея дня рождения Шекспира, Иван Ермолаевич написал статью в «Голос» (№ 75), рассчитывая на то, что известие о портрете дойдёт до Шекспировского общества, которое пожелает приобрести портрет за приличную сумму. Но общество, по отправленному Великопольским описанию и снимку с портрета, усомнилось тогда в его подлинности.
(обратно)759
Подробности см. в статье моей «Из архива И. Е. Великопольского» в «Русской старине» (1901. № 6. С. 629—634).
(обратно)760
Там же. С. 628—629.
(обратно)761
См. выше.
(обратно)762
Пользуемся случаем, чтобы выразить глубокоуважаемому Анатолию Фёдоровичу нашу искреннюю признательность за сообщение этого интересного документа и своих воспоминаний об И. Е. Великопольском.
(обратно)763
Ф. А. Кони высоко ставил Ивана Ермолаевича как человека, но не вводил его в заблуждение, когда дело касалось его произведений, (см., например, выше — отзыв в «Пантеоне» о «Памяти Бородинской битвы»).
(обратно)764
Русский вестник. 1863. № 2; ср.: Майков А. Н. Полн. собр. соч. Изд. 7-е. СПб., 1901. Т. 4. С. 367—428.
(обратно)765
Не знаем, какое сочинение имеет здесь в виду Иван Ермолаевич; некоторые он издавал и без имени, и даже без псевдонима, почему они и остались нам неизвестными.
(обратно)766
Работы П. В. Анненкова о Пушкине. — Изд. 1929. С. 275—396. Здесь в предисловии об этой статье говорится, что «Борис Львович много и с увлечением работал над нею в последнее время, доведя своё исследование до почти полной отделки; однако приложенные к нему материалы не были вполне обработаны, а лишь переписаны и систематизированы (что, само по себе, представляло немалые трудности) и снабжены кое-где краткими комментариями <…>. Нет сомнения, что сам Борис Львович ещё много проработал бы над ними и дал бы к ним подробные примечания…» (с. 12).
(обратно)767
* Имеется в виду кн.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1862 гг. / Вступ. статья и примеч. М. А. Цявловского. М., 1925. Частично эти записи перепечатывались в сборниках «Пушкин в воспоминаниях современников». Пушкиноведческие работы Бартенева собраны в кн.: Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. статья и примеч. А. М. Гордина. М., 1992. В этом же издании перепечатана и упоминаемая ниже статья Бартенева «Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии».
(обратно)768
О работах Бартенева по Пушкину см. в названном издании «Рассказов». С. 7—10.
(обратно)769
См. ниже, в переписке И. В. Анненкова с П. В. Анненковым.
(обратно)770
См. письмо Погодина к Плетнёву от 17 декабря 1851 г. (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. Т. 3. С. 757). Из письма М. Н. Каткова к Анненкову от 3 ноября 1854 г. видно, что между Бартеневым и Анненковым было своего рода соперничество в работе (П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. T. 1. С. 491—492.
(обратно)771
См.: Русская старина. 1884. № 2. С. 416; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и учёных. СПб., 1889. T. 1. С. 602—604.
(обратно)772
Цензурная помета этого 1-го тома (как и 2-го) — 22 октября 1854 г. (помета под предисловием 2-го тома — 1 сентября 1853 г.); том 7 (дополнительный) вышел в 1857 г.
(обратно)773
«Что совершенно устарело и что сохраняет свою ценность в пушкинских работах Анненкова?» — одна из частных тем предлагаемой «пушкинской студией» Н. К. Пиксанова общей темы: «П. В. Анненков как пушкинист» (Пушкинская студия. Пг., 1922. С. 83).
(обратно)774
А. Я. Головачева-Панаева ошибается, говоря, что «по общему мнению» издание Анненкова вышло плохое (Панаева А. Я. Воспоминания. СПб., 1890. С. 249).
(обратно)775
Плетнёв П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 418; там же, на с. 409, — вопрос Вяземского Плетнёву в письме от 19 ноября 1852 г.: «Что слышно о новом издании Пушкина?»
(обратно)776
Лонгинов М. Н. Соч. М., 1915. T. 1. С. 289.
(обратно)777
Там же. С. 290. О материалах по сочинениям Пушкина, собиравшихся Лонгиновым в виде дополнений к изданию Анненкова в 1855—1856 гг., при помощи обращений к друзьям и знакомым Пушкина, см. там же, с. 574—576.
(обратно)778
См.: Вестник Европы. 1881. Кн. 1; перепечатана в книге «П. В. Анненков и его друзья» (т. 1).
(обратно)779
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь… T. 1. С. 598.
(обратно)780
Современник. 1854. Т. 48. Отд. V. С. 119.
(обратно)781
Пушкинский Дом, архив А. П. Араповой, рожд. Ланской, неизданные письма H. Н. Ланской к мужу за 1849 г.*
* ИРЛИ, № 25565.
(обратно)782
Это, вероятно, Михаил Максимович Попов, известный чиновник III Отделения, с которым Пушкину не раз приходилось иметь дело при сношениях с Бенкендорфом, фон Фоком и Дубельтом, автор статьи о Пушкине, опубликованной впоследствии в «Русской старине»**.
** См. примеч. 2 на стр. 69[92].
(обратно)783
Исторический вестник. 1887. № 8. С. 471.
(обратно)784
Русская старина. 1892. № 1. С. 70. Впоследствии И. В. Анненков назначен был (в 1852 г.) исполняющим должность вице-директора инспекторского департамента военного министерства, 17 апреля 1855 г. произведён в генерал-майоры и назначен Александром II в свиту; с 15 марта 1862 по 17 апреля 1866 г. занимал должность петербургского обер-полицеймейстера, и с 9 июня 1867 г. — петербургского коменданта; назначен генерал-адъютантом и произведён в генералы от кавалерии.
(обратно)785
Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне // Былое. 1922. № 18. С. 10.
(обратно)786
Дела III Отделения о Пушкине. СПб., 1906. С. 216. Этих не бывших в печати стихотворений Опека предполагала прибавить лишь три: «На кончину Кутузова», «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…» и «Когда б не смутное волненье…», причём последнее, «как совершенно пустое стихотворение», Николаем I разрешено к печати не было. (Автор первого из стихотворений — Алексей М. Пушкин. — Ред., 1929).
(обратно)787
Там же. С. 216, 219.
(обратно)788
Там же. С. 220—221.
(обратно)789
Он в это время был генерал-майором свиты е. в. (с 3 апреля 1849 г.) и состоял в запасных войсках; перед тем был (с 25 июня 1834 г.) флигель-адъютантом, а затем (с 28 мая 1849 г.) вторым помощником московского коменданта; впоследствии, 29 декабря 1854 г., был назначен нижегородским губернатором, но 10 сентября 1856 г. был уволен от должности, а 12 октября и вовсе от службы и умер 7 декабря 1869 г.
(обратно)790
Санкт-Петербургские ведомости. 1851. 16 мая.; в числе уехавших в Штеттин на пароходе «Прусский орёл» значится жена генерал-адъютанта Ланская с дочерьми и сестрой (Александрою Николаевною Гончаровой).
(обратно)791
Былое. 1922. № 18. С. 12.
(обратно)792
Там же. С. 16.
(обратно)793
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. T. 11. С. 311.
(обратно)794
Л. Н. Майков утверждает, что Павлищев записал для Анненкова рассказы своей жены, сестры Пушкина, но запись эта никогда не появлялась в печати и даже не уцелела в бумагах Анненкова (см.: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 3)*.
* Впервые опубликована: Летописи ГЛМ. М., 1936. Вып. 1. С. 451—457; см.: Пушкин в воспоминаниях. T. 1. С. 29—39.
(обратно)795
Об этих трёх записках упоминалось и в объявлениях об издании 1855 г., напечатанных в разных периодических изданиях и в «Месяцеслове на 1855 г.»; ср.: П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 384.
(обратно)796
Майков Л. Н. Пушкин. С. 320. Записка Катенина ныне принадлежит П. Е. Щёголеву и готовится им к печати**.
** «Воспоминания о Пушкине» П. А. Катенина впервые были опубликованы Ю. Г. Оксманом в «Литературном наследстве» (М., 1934. Т. 16—18. С. 619—656).
(обратно)797
Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым / Под ред. М. А. Цявловского. М., 1925. С. 28, 79—80.
(обратно)798
С. 322; подлинник записки — в Пушкинском Доме, архив Анненкова, № 5752**.
** ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, ед. хр. 46.
(обратно)799
См. например, с. 216 и др. Помимо указанных материалов, Анненков изучал также и дела Опеки над детьми и имуществом Пушкина (см.: Модзалевский Б. Л. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина // Пушкин и его современники. СПб., 1910. Вып. 13. С. 91; примеч. 1).
(обратно)800
* Плетнёв П. А. Александр Сергеевич Пушкин // Современник. 1838. Т. 10. С. 23—49.
(обратно)801
Также не решался сделать это и С. А. Соболевский, о чём прямо заявлял Лонгинову в 1855 г. (Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. 31—32. С. 38.
(обратно)802
Майков Л. Н. Пушкин. С. 321.
(обратно)803
Былое. 1922. № 18. С. 17.
(обратно)804
К этому времени, по-видимому, следует отнести рассказ А. Я. Головачевой-Панаевой, которая к Анненкову относится весьма неблагосклонно и старается всё дело его издания свести к желанию Анненкова нажить на нём деньги (см.: Панаева А. Я. Воспоминания / Под ред. К. И. Чуковского. Л., 1927. С. 295—301). К рассказу её следует отнестись с полным недоверием.
(обратно)805
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. Т. 3. С. 757.
(обратно)806
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. T. 11. С. 315.
(обратно)807
Ср. в заметке А. А. Пушкина «По поводу статьи <П. Н. Полевого> „Как были проданы сочинения Пушкина Исакову“» (Исторический вестник. 1887. №4. С. 240).
(обратно)808
Никитенко А. В. Записки и дневник. СПб., 1905. T. 1. С. 405. В «Русской старине» (1890. № 3. С. 643), и в изд. Лемке Анненков, названный Никитенкой без инициалов имени и отечества, раскрыт как Павел Васильевич, между тем как Никитенко имеет в виду (по всей вероятности) Ивана Васильевича.
(обратно)809
Анненков, вероятно, тогда же изучал и бумаги Опеки над детьми и имуществом Пушкина (см.: Модзалевский Б. Л. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина. С. 91; примеч. 1).
(обратно)810
См. ниже, письмо И. В. Анненкова к Павлу Васильевичу в Чирьково от 26 августа 1852 г.
(обратно)811
Издание это, по первоначальным предположениям, было задумано в двух сериях, с рисунками П. П. Соколова (см.: Соколов П. П. Воспоминания // Исторический вестник. 1910. № 10. С. 57).
(обратно)812
Об этом сообщал Тургенев Некрасову в письме своём от 28 октября 1852 г. (Русская мысль. 1902. Кн. 1. С. 117).
(обратно)813
Неизданное письмо в Рукописном отделе Пушкинского Дома*.
* Далее в целях экономии места при цитировании писем Анненкова к Тургеневу и Тургенева к Анненкову аналогичные отсылки сняты; письма Анненкова за 1854—1855 гг. ныне хранятся: ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 7 (фрагментарные публикации учтены в кн.: Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1818—1858) / Сост. H. С. Никитина. СПб., 1995); письма Тургенева опубликованы в его Полном собрании сочинений и писем. В настоящее время готовится к изданию том «Литературного наследства», целиком посвящённый переписке Тургенева с Анненковым.
(обратно)814
без предварительной подготовки (лат.).
(обратно)815
Наша старина. 1914. № 8. С. 755.
(обратно)816
Ср.: Анненков П. В. Литературные проекты А. С. Пушкина // П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 484—485.
(обратно)817
Плетнёв П. А. Соч. и переписка. Т. 3. С. 409.
(обратно)818
Пушкинский Дом, архив Плетнёва, письма П. И. Бартенева*.
* ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 47.
(обратно)819
Записка бар. М. А. Корфа опубликована впервые Л. Н. Майковым в «Русской старине» (1899. № 8 и 9) с обширным комментарием, изобличающим Корфа в чудовищном пристрастии. Оригинал записки Корфа находится в бумагах Майкова в Рукописном отделении Библиотеки Академии наук.
(обратно)820
Воспоминания А. Ф. Вельтмана о Пушкине, полученные от него Анненковым, опубликованы были в полном виде лишь Л. Н. Майковым в «Русском вестнике» (1893. № 12); перепечатаны в его сборнике «Пушкин». Воспоминания В. И. Даля о Пушкине Анненков получил в 1853 г.
(обратно)821
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 240—241.
(обратно)822
* Переписка Тургенева с Г. Ф. Чорли неизвестна.
(обратно)823
Ср.: Майков Л. Н. Пушкин. С. 320—321.
(обратно)824
Наша старина. 1914. № 9—10. С. 846.
(обратно)825
Наша старина. 1914. № 9—10. С. 847—848.
(обратно)826
Пушкинский Дом, архив Плетнёва*.
* ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 18. На письме помета Плетнёва: «П<олучено> 3 апр<еля> 1853. О<твечено> 6 апр<еля> 1853».
(обратно)827
Это была купленная Тургеневым у вдовы Белинского библиотека критика, впоследствии перевезённая в Спасское-Лутовиново*. О ней упоминает Тургенев в письме к Анненкову от 1 октября 1854 г. (Былое. 1925. № 1. С. 83).
* Описание этой библиотеки см.: Литературное наследство. М., 1948. Т. 55. С. 431—572.
(обратно)828
Дела III отделения об А. С. Пушкине. СПб., 1906. С. 222. 1 сентября 1853 г. помечено предисловие, или объяснение Анненкова, напечатанное при II томе Сочинений и излагающее программу издания.
(обратно)829
Это единственное указание на содействие вдовы Пушкина; ниже, из записей Анненкова, видно ближайшим образом то немногое, что сообщила она биографу поэта.
(обратно)830
Дела III отделения об А. С. Пушкине. С. 222—223.
(обратно)831
Дела III отделения об А. С. Пушкине. С. 223, 225, 227—228; П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 394.
(обратно)832
Вестник Европы. 1881. № 1; П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 393—423. Ср. ещё в статье Ю. Г. Оксмана «Легенда о стихах Ленского» (Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 37. С. 64 и след.).
(обратно)833
С исключением только мест, замеченных г. попечителем С.-Петербургского учебного округа, т. е., собственно, цензором Фрейгангом.
(обратно)834
Дела III Отделения об А. С. Пушкине. С. 231.
(обратно)835
Там же. С. 232—239.
(обратно)836
Былое. 1925. № 1 (29). С. 83.
(обратно)837
Дело III отделения об А. С. Пушкине. С. 241.
(обратно)838
Пыпин А. Н. Некрасов. СПб., 1905. С. 125; Тургенев отвечал: «Поздравь от меня Анненкова с благополучным окончанием первой и важнейшей половины его дела» (Русская мысль. 1902. Кн. 1. С. 120).
(обратно)839
Там же. С. 126—127.
(обратно)840
О его участии в деле Анненкова см.: Панаева А. Я. Воспоминания. С. 296— 299, и ниже, в письмах И. В. Анненкова.
(обратно)841
На 3-м и 4-м томах это разрешение помечено 1 ноября.
(обратно)842
Том 1-й печатался в Военной типографии, а тома 2—4-й в типографии Главного штаба по военно-учебным заведениям: в этом сказались личные связи И. В. Анненкова, служившего в 1854 г. и. д. вице-директора Инспекторского департамента Военного министерства; тома 5-й и 6-й — в типографии Эдуарда Праца.
(обратно)843
«Месяцеслов» на 1855 г., объявления. С. VII—VIII; объявление разрешено к печати цензором Фрейгангом 23 октября 1853 г.
(обратно)844
См. его, между прочим, в книге «П. В. Анненков и его друзья» (т. 1, с. 383—385).
(обратно)845
Печатаем его по подлиннику, находящемуся в нашем собрании*.
* ИРЛИ, ф. 244, оп. 20, ед. хр. 87.
(обратно)846
Мы видели, что опеке Анненков уплатил 5000 руб. — следовательно, типографские расходы и бумага стоили Анненкову 15 000 руб., т. е. по 3 руб. на каждый из 5000 экземпляров. Продажная цена экземпляра, по подписке, была 12 руб.; следовательно, продажа всех экземпляров должна была дать 60 000 руб., вычитая 20 000 руб. расходов, — 40 000 тыс. чистого дохода (Следует заметить, что 5000 экз. — тираж, предположенный Анненковым; действительный тираж нам неизвестен, но скорее меньше, чем больше 5000 экз. — Ред. 1929).
(обратно)847
Последняя часть литературного отдела «Московских ведомостей» от 4 ноября 1854 г. (с. 552).
(обратно)848
Пушкинский Дом, архив «Русской старины», № 585.
(обратно)849
Пушкинский Дом, архив «Русской старины», № 585.
(обратно)850
Пушкинский Дом, архив Павлищевых, письма О. С. Павлищевой к мужу, № 4, 1854—1855.
(обратно)851
Этот беспечный дьявол Бартенев наделал хлопот; что за медный лоб! Это неслыханно!!! Я пишу Вам сегодня, чтобы сказать, что вчера я ответила на его любезности через Соболевского, которому я также написала несколько строк, чтобы ввести его в курс дела, послав ему и Ваше письмо, касающееся Бартенева. Моё послание к нему было отправлено не будучи запечатанным. Я просила Соболевского прочитать ему письмо вслух, в присутствии остальных, и если он сочтёт это необходимым, даже опубликовать в «Московских ведомостях» (франц.).
(обратно)852
Приведено письмо Бартенева (от 30 октября), выдержки из которого мы уже поместили выше, с. 459 [См. ниже ссылки на прим. [845]. — Прим. lenok555], по копии.
(обратно)853
Я поспешила послать ему это письмо, в котором не думала исправлять ни стиль, ни ошибки, которые, вероятно, туда вкрались, Леон уже уехал в университет, — всё же я прошу Соболевского сделать это, если он решится опубликовать его в «Московских ведомостях»; однако я не считаю, что он возьмёт на себя этот труд (франц.).
(обратно)854
Пушкинский Дом, архив «Русской старины», № 585.
(обратно)855
* «Однажды, гуляя с матерью, он [Пушкин] отстал и уселся посереди улицы; заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеётся, он привстал, говоря: „Ну, нечего скалить зубы“» (Пушкин в воспоминаниях. T. 1. С. 30).
(обратно)856
** Артемий Иванович Воронцов (1748—1813), граф, дальний родственник Пушкина.
(обратно)857
Современник. 1838. № 9. — Б. М.
(обратно)858
*** Имеется в виду статья Л. С. Пушкина «Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 года» (Москвитянин. 1853. Ч. 3. № 10).
(обратно)859
Пушкинский Дом, архив «Русской старины», № 585. На письме помета рукою Н. И. Павлищева о получении: «19 (31) Декабря 1854».
(обратно)860
Пушкинский Дом, архив Павлищевых, письма О. С. Павлищевой к мужу, тетрадь 4, 1854—1855 гг.*
* ИРЛИ, № 30890.
(обратно)861
Бартенев, как известно, был хром на одну ногу и ходил на костыле.
(обратно)862
Соболевский написал мне, что он настаивает, чтобы я дала ему копию статьи, касающейся его [Пушкина] детства, лишь для того, чтобы передать её Бартеневу; он, само собой разумеется, принимает сторону последнего, — как я могла это сделать? У Соболевского уже была копия, и только чтобы отвязаться от хромого дьявола, я вновь послала его и Соболевскому (франц.).
(обратно)863
Было ранее написано: «…тогда как Ольга Сергеевна ему не сообщала её и не могла сообщить, по нижеследующей причине, неизвестной, вероятно, и г. Бартеневу».
(обратно)864
Пушкинский Дом, архив «Русской старины», № 585.
(обратно)865
Пушкинский Дом, архив Павлищевых, письма О. С. Павлищевой, тетрадь № 4, 1854—1855.
(обратно)866
В том тексте, который приведён выше, по рукописи Павлищева.
(обратно)867
он говорит: «Ваш муж настоял на публикации в „Москвитянине“ совершенно неуместного и несправедливого высказывания о Бартеневе — благодарю вас обоих за то, что вы в вашем возрасте не умеете вежливо обращаться со старыми друзьями!!! <…> особенно со мной» (франц.).
(обратно)868
Современник. 1854. Т. 48. Отд. 5. С. 119—121. Об объявлении этом см. выше.
(обратно)869
Плетнёв П. А. Соч. и переписка. Т. 3. С. 418.
(обратно)870
П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 635.
(обратно)871
Гутьяр H. М. Хронологическая канва для биографии Тургенева // Сборник русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1910. Т. 87. № 2.
(обратно)872
П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 493.
(обратно)873
Московские ведомости. 1855. № 42.
(обратно)874
Аксакова В. С. Дневник / Ред. и примеч. кн. Н. В. Голицына и П. Е. Щёголева. СПб., 1913.
(обратно)875
Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М. К. Лемке. Пг., 1919. Т. 8. С. 268; ср.: Там же. С. 232, 279, 281, 292, 301.
(обратно)876
Намёк на цензурные хитрости Анненкова.
(обратно)877
Это первый биограф из тех, кого я знаю, который посмел сказать подобное о своём герое (франц.).
(обратно)878
Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. 31—32. С. 37—39.
(обратно)879
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 14. С. 170.
(обратно)880
Барсуков H. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 14. С. 170—171.
(обратно)881
По черновому письму, находящемуся в нашем собрании*.
* ИРЛИ, ф. 244, оп. 20, ед. хр. 87.
(обратно)882
Майков Л. Н. Пушкин. С. 56—57.
(обратно)883
Обед пришёлся накануне смерти Николая I.
(обратно)884
Книга эта в 1907 г. хранилась в библиотеке Анненкова — в селе Чирькове (см.: Исторический вестник. 1907. № 8. С. 512)**.
** Ныне эта книга находится в собрании ГЛМ.
(обратно)885
Современник. 1855. Т. 49. Отд. III. С. 31—32*.
* Автор цитируемой статьи — Н. Г. Чернышевский (см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 449—476).
(обратно)886
Там же. Т. 50. Отд. III. С. 1.
(обратно)887
Отечественные записки. 1855. Т. 100. Отд. III. С. 41.
(обратно)888
Библиотека для чтения. 1855. Т. 130. № 3. Отд. VI. С. 41; подпись: Д.
(обратно)889
Там же. № 5. Отд. VI. С. 6.
(обратно)890
Библиотека для чтения. 1855. Т. 131. Отд. VI. С. 11—14.
(обратно)891
Библиотека для чтения. 1855. Т. 131. Отд. VI. С. 14.
(обратно)892
Майков Л. Н. Пушкин. С. 318—319.
(обратно)893
См. выше, с. 439 [См. выше ссылки на прим. [776]. — Прим. lenok555].
(обратно)894
Атеней. 1858. Ч. 1. С. 83. Курсив наш. — Б. М.
(обратно)895
Библиотека для чтения. 1858. № 2. С. 45.
(обратно)896
Библиографические записки. 1858. № 10. С. 307.
(обратно)897
Ср. ещё такие же выпады Ефремова против Анненкова в «Русской старине» (1880. № 6. С. 320—328).
(обратно)898
Перепечатана в книге «П. В. Анненков и его друзья» (т. 1, с. 424—447); см. о нападках Ефремова и об этой статье в письмах Анненкова к Стасюлевичу (М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1912. Т. 3. С. 387—389, 392, 394, 395).
(обратно)899
Русская старина. 1884. № 2. С. 416.
(обратно)900
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь… T. 1. С. 602
(обратно)901
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь… T. 1. С. 604.
(обратно)902
П. В. Анненков и его друзья. T. 1. С. 397.
(обратно)903
Вестник Европы. 1882. № 3. С. 303; ср.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 4—5.
(обратно)904
Новый энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона. Т. 2. Стб. 918—919.
(обратно)905
Томашевский Б. В. Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С. 20—21.
(обратно)906
Намёк на либеральные веяния начала царствования Александра II.
(обратно)907
Барсуков H. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 14. С. 171.
(обратно)908
* Он написал лишь замечания на книгу Анненкова, но, видимо, так и не передал их ему (впервые опубл.: Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 348—356).
(обратно)909
Майков Л. Н. Пушкин. С. 386—387.
(обратно)910
15-ю группу составляют выдержки из переписки братьев И. В., Ф. В. и П. В. Анненковых, относящиеся к изданию Пушкина.
(обратно)911
* У Анненкова ошибочно — Молостов.
(обратно)912
* Неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Потопление» (1796):
Из-за облак месяц красный Встал и смотрится в реке, Сквозь туман и мрак ужасный Путник едет в челноке. Блеск луны пред ним сверкает, Он гребёт сквозь волн и тьму… (Державин Г. Р. Соч. Л., 1987. С. 215) (обратно)913
Читай: Гартинг.
(обратно)914
Пётр Львович; сын его, Владимир Петрович, — с 1856 г. граф Орлов-Давыдов (1809—1882). — Ред. (1929).
(обратно)915
Софья Львовна, рожд. Давыдова, сестра Раевского по матери. — Ред. (1929).
(обратно)916
В «Московском Некрополе» находим майора Алексея Гавриловича Носова, умершего 13 июня 1844 г.
(обратно)917
Т. е. стих «Нет, не черкешенка она…».
(обратно)918
Т. е. стих. 1818 г. «Выздоровление».
(обратно)919
Т. е. стих. 1816 г. «К Наталье».
(обратно)920
Т. е. графиня Стройновская.
(обратно)921
Т. е. с гр. Д. Ф. Фикельмон. Это упоминание как будто подтверждает справедливость рассказа, записанного П. И. Бартеневым и послужившего основанием для статей М. А. Цявловского; ср.: Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. М., 1925.
(обратно)922
См. в Альб. Онегина, с. 13.
(обратно)923
Не матери, а сестры Ульяны, которая была шесть лет классной дамой в этом институте.
(обратно)924
См. его в сообщении М. А. Цявловского (Голос минувшего. 1920—1921. С. 120—121).
(обратно)925
Ср.: Библиографические записки. 1859. № 10.
(обратно)926
В подлиннике подчёркнуто карандашом, неизвестно чьей рукой (Примеч. П. В. Анненкова.)
(обратно)927
Две черты, сделанные в подлиннике тоже карандашом. (Примеч. П. В. Анненкова.)
(обратно)928
По отпуску напечатано в «Русской старине» (1908. № 10. С. 116).
(обратно)929
Всеволод Иванович Всеволодов (1790—1863). — Ред. (1929).
(обратно)930
Читай: Борис.
(обратно)931
Пушкин в Александровскую эпоху. С. 320.
(обратно)932
Теперь это донесение Бошняка известно по статье А. А. Шилова в «Былом» 1918 г., № 22; ср. «Пушкин под тайным надзором», в наст. изд. с. 79—84 [Ориентир: ссылка на прим. [118]. — Прим. lenok555].
(обратно)933
Отсюда до конца абзаца текст перечёркнут двумя чертами поперёк.
(обратно)934
* Далее опущены разделы X—XII, в которых Анненков пересказывает содержание писем Пушкина к жене.
(обратно)935
** У Анненкова трижды ошибочно — Кавелин.
(обратно)936
Читай: брат (т. е. С. И. Кривцов).
(обратно)937
Это неверно: талисман перешёл к Жуковскому — и одно из писем последнего (в Пушкинском Доме), от октября (?) 1837 г., запечатано перстнем Пушкина.
(обратно)938
* Это неверно: Вельяшеву звали Екатерина Васильевна; Netty — прозвище Анны Ивановны Вульф, дочери И. И. Вульфа.
(обратно)939
** Те же события В. А. Соллогуб описал в своих воспоминаниях (см.: Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 335—352).
(обратно)940
Пропуск в рукописи Анненкова.
(обратно)941
Экземпляр Виельгорского, который переслал его гр. Бенкендорфу, ныне в Пушкинском Доме.
(обратно)942
Пропуск в рукописи Анненкова.
(обратно)943
Петра Петровича Ланского, второго мужа H. Н. Пушкиной; генерал-майор и генерал-адъютант, он в 1852 г. был командиром лейб-гвардии Конного полка, в котором Иван Васильевич Анненков 7-й, флигель-адъютант, числился старшим полковником, исправляя в то же время должность вице-директора Инспекторского департамента военного министерства.
(обратно)944
Так здесь и далее Анненков называет по недоразумению С. С. Дудышкина.
(обратно)945
Этих образчиков, к сожалению, при письме не сохранилось.
(обратно)946
Далее — рукою Ф. В. Анненкова.
(обратно)947
Флигель-адъютант граф Николай Алексеевич Орлов, младший полковник лейб-гвардии Конного полка (где в то время И. В. Анненков был старшим полковником).
(обратно)948
Ивана Васильевича Анненкова.
(обратно)949
Библиотека А. С. Пушкина. — Эта работа — предисловие к книге: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографичекое описание // Пушкин и его современники. СПб., 1910. Вып. 9—10; отдельное издание: СПб., 1910. Печатается по репринтному воспроизведению: М., 1988. В приложении к этому изданию напечатана статья Л. С. Сидякова «Библиотека Пушкина и её описание», подробно рассказывающая о судьбе библиотеки, истории её приобретения и работы Модзалевского над её описанием. В тексте статьи сделаны небольшие купюры: сняты отсылки на номера описи библиотеки и характеристика принципов её описания.
(обратно)950
О предсмертном прощании Пушкина со своей библиотекой свидетельствует и княгиня Е. Н. Мещерская, рожд. Карамзина, в письме своём к А. О. Смирновой (Смирнова А. О. Записки. СПб., 1897. Ч. 2 С. 88*); А. Аммосов (Аммосов А. Н. Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. СПб., 1863. С. 38**) говорит, что Пушкин умер со словами: «Прощайте, прощайте», обведя при этом глазами шкафы своей библиотеки. План квартиры Пушкина, начерченный Жуковским, с указанием, где и как была расположена в его кабинете библиотека, имеется в Музее А. Ф. Онегина в Париже. При разборе библиотеки, после смерти Пушкина, присутствовал И. П. Сахаров (Русский архив. 1873. Кн. 2. С. 955).
* «Записки» А. О. Смирновой были фальсифицированы её дочерью О. Н. Смирновой (подробнее см.: Житомирская С. В. К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россетт // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979. Т. 9. С. 329—344); в подлинных мемуарах Смирновой (изд.: Смирнова-Россетт А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989) указываемого письма нет. О смерти Пушкина Мещерская писала к своей золовке М. И. Мещерской, однако в этом письме о прощании Пушкина со своей библиотекой не упоминается (см.: Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 388—390).
** Брошюра А. Н. Аммосова представляет собой запись устных рассказов К. К. Данзаса. «Рассказы Константина Карловича, — писал в предисловии Аммосов, — тотчас по окончании наших бесед, старались мы записывать по возможности слово в слово и сделанные нами заметки прочитывать потом ему» (цит. по: Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 513).
(обратно)951
О библииотеке Пушкина-отца подробнее см.: Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 25.
(обратно)952
Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 13; Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 4 (Воспоминания Л. С. Пушкина о брате).
(обратно)953
Селезнев И. Исторический очерк Императорского Александровского Лицея. СПб., 1861. С. 71—77.
(обратно)954
Пущин И. И. Записки о Пушкине. СПб., 1907. С. 10. Позднее H. М. Смирнов говорил про Пушкина, что «он читал очень много и, одарённый необыкновенною памятью, сохранил все сокровища, собранные им в книгах» (Русский архив. 1881. Кн. 2. С. 224).
(обратно)955
Русский архив. 1866. С. 1261.
(обратно)956
Ср.: Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. С. 238—241; XIII, passim.
(обратно)957
См., например, письмо его к П. А. Осиповой 29 июля 1825 г. (XIII, 196); в 1835 г., 29 сентября, Пушкин писал жене (XVI, 52), что «вечером ездит в Тригорское, роется в старых книгах да орехи грызёт». Каталог тригорской библиотеки см. в статье моей «Поездка в с. Тригорское в 1902 г.» (Пушкин и его современники. СПб., 1903. T. 1. С. 19—52). На одной из книг её — «Lettres angloises, ou histoire de Miss Clarisse Harlowe» Ричардсона — находится нарисованный Пушкиным женский портрет в профиль (Там же. С. 11, 26—27).
(обратно)958
Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. С. 117.
(обратно)959
«Библиотека его уже росла по часам. Каждую почту присылали ему книги из Петербурга. Надо заметить, что Пушкин читал почти всегда с пером в руках: страницы русских альманахов и разных других брошюр были покрыты его заметками, теперь, к сожалению, не существующими» (Анненков П. В. А. С. Пушкин: Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873. С. 160).
(обратно)960
Перелистать и пересмотреть все 3—4 тысячи книг пушкинской библиотеки оказалось делом далеко не лёгким, и относиться к нему механически было нельзя; от книжной пыли серьёзно разболелись глаза, и требовалось большое напряжение внимания, чтобы не пропустить чего-либо существенного; для исполнения работы потребовалось очень много времени: «досужий» человек выполнил бы эту задачу, конечно, скорее…
(обратно)961
Журнал Министерства народного просвещения. 1859. Т. 103; перепечатка — в книге В. П. Острогорского «Пушкинский уголок» (М., 1899. С. 82—83).
(обратно)962
Майков Л. Н. Пушкин. С. 176—177. Л. Н. делает такое примечание к этому месту: «Bibliothèque des villes et de campagne» — беллетристический журнал прошлого века; из помещённой в нём повести «Histoire de Berolde de Savoie» Пушкин сделал извлечение, сохранившееся в его бумагах (Русская старина. 1884. Т. 42. С. 353), и предполагал написать на этот сюжет драму. — «Журнал Петра I», без сомнения, «Подённая записка» его, изданная князем М. М. Щербатовым в 3-х частях в 1770—1772 гг. Однако в тригорской библиотеке есть книга, точно соответствующая заглавию, сообщённому Вульфом (см.: Модзалевский Б. Л. Поездка в село Тригорское в 1902 г. С. 25, № 57): «Bibliothèque de campagne, ou amusemens de l’esprit et du coeur», Amsterdam. 1758—1779. Часть I и 1-й отдел II «Журнала, или Подённой записки Блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго с 1698 г.» оказались в собственной библиотеке поэта, равно как сочинения Альфиери и Монтескьё.
(обратно)963
XIV, 9. Это знаменитая «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers» Дидро, д’Аламбера и др. Вышла в 35 томах в 1751—1780 гг. В библиотеке Пушкина её теперь нет.
(обратно)964
Грот Я. К. Труды. СПб, 1903. Т. 5. С. 16. Счёт Л. Диксона за проданные Пушкину несколько книг см.: Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 8. В первой половине 1830-х гг. встретил Пушкина с Соболевским в магазине Смирдина И. И. Панаев (см. его рассказ об этой встрече в «Литературнных воспоминаниях», — СПб., 1888. С. 40—41).
(обратно)965
XIV, 158. Позднейшие счёты Беллизара за доставленные Пушкину книги см.: Пушкин и его современники. СПб., 1910. Вып. 13.
(обратно)966
Несколько книг из библиотеки Загряжских (отец тёщи поэта, Н. И. Гончаровой, был Иван Александрович Загряжский) сохранились среди пушкинских книг.
(обратно)967
XV, 74. Об отсылке книг в Петербург см. письмо Н. И. Гончаровой к Пушкину от 4 ноября 1833 г.
(обратно)968
XVI, 49. «Essays de Montaigne» сохранились в библиотеке Пушкина.
(обратно)969
Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 444; см. также с. 438.
(обратно)970
Смирнова А. О. Записки. Ч. 1. С. 185**.
** В подлинных записках А. О. Смирновой (см. примеч. к с. 155) об этом факте не упоминается. Об интересе Пушкина к Данте см., к примеру: Розанов М. И. Пушкин и Данте // Пушкин и его современники. Вып. 37. С. 11—41; Благой Д. Д. Il gran’ padre (Пушкин и Данте) // Благой Д. Д. Душа в заветной лире. М., 1977. С. 104—162.
(обратно)971
* 1829 год представляется более вероятным (см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. С. 299).
(обратно)972
Между прочим, Обер нашёл в этом сундуке сочинение «Voyage de Chappe d’Auteroche en Russie et à la Tobolsk en Sibérie pour observer le passage de Vénus sous le disque de Soleil», 1765 г., с надписью, свидетельствовавшею, что книга эта была кем-то поднесена маршалу Мортье в 1812 г. в Москве, где и осталась после бегства французов и попала к Пушкину; атлас к этому сочинению, также принадлежавший Мортье, случайно оказался у Обера, и он, по возвращении Пушкина в Москву, подарил его поэту, а у него взял себе на память книгу Успенского «Опыт повествования о русских древностях» (Булгаков Ф. Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 341). Сочинение Шаппа, изд. 1769 г., сохранилось в библиотеке Пушкина, — но перешло в неё из бибиотеки Загряжского.
(обратно)973
Русская старина. 1900. № 1. С. 7.
(обратно)974
Библиотека для чтения. 1855. № 4. Отд. III. С. 73; при печатании статьи этой в Собрании сочинений Дружинина (СПб., 1865. Т. 7. С. 55) приводимые далее слова почему-то опущены. Указанием на статью «Библиотеки для чтения» мы обязаны любезности Н. О. Лернера*.
* В тексте дважды ошибочно — «Отечественные записки».
(обратно)975
См. статью Л. Н. Майкова «Пушкин о Батюшкове» в кн: Майков Л. Н. Пушкин. С. 284—317; ср. также его статью «Князь Вяземский и Пушкин об Озерове» (Старина и новизна. СПб., 1897. Кн. 1. С. 305—323), написанную на основании замечаний Пушкина, сделанных на экземпляре статьи князя П. А. Вяземского о В. А. Озерове*.
* Заметки Пушкина на полях книг см.: XII, 213—285.
(обратно)976
Мы слышали, например, что некоторое время, уже по выходе H. Н. Пушкиной за П. П. Ланского, библиотека помещалась в подвалах казарм лейб-гвардии Конного полка (которым Ланской командовал в 1844—1853 гг.), потом была перевезена в с. Ивановское, вскоре проданное, и опять вывезена в другое имение; но около двадцати лет тому назад А. А. Пушкин вновь приобрел Ивановское, — и книги вновь водворились там и пробыли до перевоза в Петербург в 1900 г.
(обратно)977
См.: Новое время. 1900. № 8838; Россия. 1900. № 518; St.-Petersburg Zeitung. 1900. № 279; Исторический вестник. 1900. Т. 82. С. 1173—1174.
(обратно)978
В настоящей работе не имелось в виду дать перечень всех книг, несомненно принадлежавших Пушкину, — что можно установить и по его сочинениям, и по переписке, и по различным монографиям, посвящённым тому или другому вопросу творчества поэта.
(обратно)979
Как иначе объяснить, что в библиотеке вовсе нет сочинений самого поэта, если не считать цензурного экземпляра 4-й части его «Стихотворений», изд. 1835 г.?
(обратно)980
По этому поводу см.: Лернер Н. О. Библиотека Пушкина // Биржевые ведомости. 1906. № 9281. 9 мая.
(обратно)981
Пушкин — ходатай за Мицкевича. — Ирида. 1918. № 1. 3 июня. С. 2—3; перепечатано: Пушкин и его современники. Пг., 1923. Вып. 36. С. 26—33; печатается по отдельному оттиску: Пг., 1923.
(обратно)982
Даём текст черновика, находившегося в собрании покойного великого князя Константина Константиновича, завещанном им в Пушкинский Дом при Российской Академии наук.
(обратно)983
См.: Вержбовский Ф. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг. // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1898. Т. 66. № 5. С. 41 и сл.; и записанный П. И. Бартеневым рассказ о Мицкевиче (Русский архив. 1898. № 7. С. 480; с опечаткой в годе).
(обратно)984
* [Данное примечание отсутствует. — Прим. lenok555]
(обратно)985
Пушкин A. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1909. Т. 3. С. 344.
(обратно)986
См.: Погодин А. Л. Адам Мицкевич. М., 1912. Т. 2. С. 72—75.
(обратно)987
В действительности Мицкевич был кандидатом и магистром философии Виленского университета, а затем — преподавателем в Ковенском уездном училище.
(обратно)988
См. об этом, между прочим: Вержбовский Ф. К истории тайных обществ и кружков среди литовско-польской молодёжи 1819—1823 г. // Варшавские университетские известия. 1897. № 8—9; он же. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг. С. 5, 22—20 и др.
(обратно)989
Т. е. указа 1822 г. о закрытии масонских и других тайных обществ.
(обратно)990
Граф И. О. Витт управлял в 1824 г. одесским Ришельевским лицеем, в который Мицкевич тогда изъявил желание служить (см.: Вержбовский Ф. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг.).
(обратно)991
Мицкевич вместе с товарищем своим Малевским возбуждали ходатайство об отпуске их на родину, «для устройства семейственных дел», ещё в августе 1826 г., но тогда не получили на это разрешения (см.: Вержбовский Ф. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг. С. 65—68).
(обратно)992
* Ныне цитируемый текст атрибутируется Ф. В. Булгарину (см.: Булгарин. С. 274).
(обратно)993
Это выражение взято Фоком прямо из записки Пушкина.
(обратно)994
Это неверно: Мицкевич желал перейти на службу в Коллегию иностранных дел (Вержбовский Ф. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг. С. 92 и сл.).
(обратно)995
На этой записке нет никаких помет; между тем на двух других, одновременно посланных, есть карандашные пометы Николая I, свидетельствующие о том, что они были читаны императором.
(обратно)996
См.: Д<убровин> Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин и А. Мицкевич // Русская старина. 1908. № 11. С. 338—351, по делам Архива бывшего III Отделения; Былое. 1906. Апр. С. 38—41.
(обратно)997
Пушкин А. С. Соч. Т. 6. С. 466.
(обратно)998
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 183 и табл. при с. 264.
(обратно)999
Отношениям Пушкина и Мицкевича посвящено немалое число статей и заметок; см.: Чижиков Л. А. Адам Мицкевич (Библиографический указатель русской о нём литературы) // Известия Отделения русского языка и словесности. 1915. Т. 20. Кн. 2. С. 125—151, Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 6. С. 466—467; Погодин А. Л. Адам Мицкевич. Т. 2. С. 21—24*.
* Из последующих работ по данной теме см.: Цявловский М. А. Пушкин и Мицкевич // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 157—206; Измайлов Н. В. Мицкевич в стихах Пушкина // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 125—173.
(обратно)1000
Пушкин и Лажечников. — Анатолий Фёдорович Кони. 1844—1924: Юбилейный сборник. Л., 1925. С. 103—135; перепечатано: Изд. 1929. С. 95—123. Печатается по последнему изданию с изменением заглавия, которое в обеих публикациях было: «Из галлереи современников и знакомцев Пушкина. (Пушкин и Лажечников)».
(обратно)1001
По свидетельству П. А. Плетнёва (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. T. 1. С. 495), Пушкин, незадолго до смерти, на прогулке, сказал, что выше всего в человеке он ставит качество благоволения ко всем. О доброжелательстве Пушкина, как основном мотиве его творчества и личного характера, см. особый этюд Н. Ф. Сумцова в «Журнале для всех» (1899. № 5. С. 549—556).
(обратно)1002
См., например, отношение к князю В. Ф. Одоевскому (1831) — Русская старина. 1904. № 4. С. 206. Пушкин «бесился», что мало обращали внимания на новую повесть Одоевского «Последний квартет Бетховена», и находил, что автор в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную, — а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века.
(обратно)1003
«И теперь, после того, как прошло 30 лет с того времени, как я читал романы Вальтер-Скотта, — писал в 1853 г. Лажечников Ф. А. Кони, — все лица его резко выступают перед вами; это ваши родные, ваши друзья, которых черты вы никогда не забудете» (Русский архив. 1912. Кн. 3. С. 142).
(обратно)1004
Лишний повод к такому напоминанию даёт нам то обстоятельство, что Лажечников был крёстным отцом нашего недавнего юбиляра Анатолия Фёдоровича Кони, который посвятил воспоминанию о Лажечникове несколько весьма тепло написанных страниц 1-й части 3-го тома своей книги «На жизненном пути» (Ревель; Берлин, 1922. С. 235—244). Одиннадцать писем Лажечникова к отцу А. Ф. Кони — Фёдору Алексеевичу Кони, за 1841—1867 гг., опубликованы в «Русском архиве» (1912. Кн. 3. С. 141—151); в последнем из них, от 30 октября 1867 г., Лажечников с большим сочувствием говорил о своём крестнике: «Молодой человек многообещающий. Он дал мне слово нас навещать; умная беседа его и для меня, старого, будет очень приятна» и т. д.
(обратно)1005
Они напечатаны были впервые в «Русском вестнике» (1856. T. 1. № 4. С. 603—622), а затем перепечатывались в Собраниях сочинений Лажечникова (СПб., 1858. Т. 7; СПб.; М, 1884. Т. 7, СПб.; М., 1899. T. 1).
(обратно)1006
Следует исправить утверждение Лажечникова: к зиме 1819/20 г. поэма «Руслан и Людмила» совсем ещё не была знакома читателям: лишь осенью 1820 г. появились из неё три отрывка в журналах, вся же поэма вышла в свет уже после ссылки поэта на юг, — а именно в конце июля — начале августа 1820 г.
(обратно)1007
В воспоминаниях своих Лажечников скрыл имя Денисевича под буквами NN, — но назвал его полностью в письме своём к Пушкину от 13 декабря 1831 г.
(обратно)1008
Что до меня, то я служил великому человеку (франц.)
(обратно)1009
Напомним ещё раз, что Лажечников ошибается насчёт хронологии событий: «Руслан и Людмила» вышла в свет уже после высылки Пушкина из Петербурга, так что речь может идти о встрече с Пушкиным не в конце 1819 г., а лишь весною 1820 г., после появления в журналах трёх отрывков поэмы; кое-что из неё Лажечников мог знать, конечно, и из рукописных копий, которые могли ходить по городу и раньше появления поэмы в печати.
(обратно)1010
Об этой встрече с Пушкиным Лажечников упоминает даже в своей краткой автобиографии (Известия книжных магазинов М. О. Вольфа. 1899. № 9—10. С. 183): такое значение он придавал этому эпизоду.
(обратно)1011
О генезисе интереса к историческому роману у Лажечникова см. в статье о нём С. А. Венгерова при издании сочинений Лажечникова (СПб.; М., 1899. T. 1. С. XLVI и след.)
(обратно)1012
См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 56. Ныне этот экземпляр, как и вся библиотека поэта, находится в Пушкинском Доме Академии наук СССР.
(обратно)1013
Лажечников был очень мал ростом.
(обратно)1014
Подробности см. в статьях: Ауслендер С. А. Арап Петра Великого // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910. Т. 4. С. 104—112; Гофман М. Л. Капитанская дочка // Там же. С. 353—378; Лернер Н. Проза Пушкина. Пг. 1923. С. 29—52. О русской исторической повести типа Вальтера Скотта литература указана в книге Н. К. Пиксанова «Два века русской литературы» (М., 1923. С. 78).
(обратно)1015
XIV, 187, 220—221; XV, 29, 177.
(обратно)1016
В альманахе М. А. Максимовича «Денница» на 1834 г. был помещён отрывок из «Ледяного дома», содержавший яркий эпизод «Ледяная статуя» (с. 129—152); другой отрывок («Язык») появился в «Телескопе» (1834. № 16).
(обратно)1017
Рассказ о побоях, нанесённых Волынским Тредьяковскому, Пушкин внёс ещё в свои «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанные в «Северных цветах» Дельвига на 1828 год.
(обратно)1018
О Волынском см. очерк Д. А. Корсакова в его книге «Из жизни русских деятелей XVIII века» (Казань, 1891).
(обратно)1019
«Говорю это единственно из любви к моему отечеству и преданности моим царям» (осторожная оговорка Лажечникова).
(обратно)1020
Критику которого он «не ставил ни во что».
(обратно)1021
Действие «Последнего Новика» развивается на фоне событий, относящихся к завоеванию Лифляндии при Петре Великом.
(обратно)1022
Лажечников не ошибся: это было 1 мая 1836 г.; в этот день поэт видался с князем Козловским, секундантом графа В. А. Соллогуба, с которым должен был драться на дуэли. См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина: По новым данным. Пб., 1922. С. 10, 77*.
* Ныне эта записка датируется 20 (?) мая 1836 г. (см.: Пушкин А. С. Письма последних лет. 1834—1837. С. 141; обоснование датировки — с. 311—312).
(обратно)1023
К тому времени Пушкин познакомился и со вторым романом Лажечникова, — «Ледяным домом», изданным в 1835 г.
(обратно)1024
За месяц до смерти Пушкин вспомнил Лажечникова в письме к H. М. Коншину, который хлопотал тогда о получении места директора училищ в Твери. «Заняв место Лажечникова, — писал ему Пушкин, — не займётесь ли вы, по примеру вашего предшественника, и романами? а куда бы хорошо!» (XVI, 202).
(обратно)1025
Перепечатана: Лонгинов М. Н. Соч. М., 1915. T. 1. С. 491—498.
(обратно)1026
Письмо (неизд.) в Пушкинском Доме, от 10 сентября 1858 г.*
* Письма Лажечникова к Лонгинову хранятся: ИРЛИ, № 23198.
(обратно)1027
Письмо это писано из с. Кривякина, под Коломной.
(обратно)1028
В архиве Лонгинова, ныне находящемся в Пушкинском Доме, этих писем Пушкина к Лажечникову не находится, и куда они попали, нам не известно…
(обратно)1029
Атеней. 1858. Ч. 5. № 41. С. 364—378.
(обратно)1030
* Комедия Михаила Ивановича Веревкина (1732—1795) «Точь в точь» (М., 1785) имеет подзаголовок: «сочинена в Синбирске (а не в Сибири. — Ред.) в 1774».
(обратно)1031
Прошу располагать ими, как вам угодно.
(обратно)1032
Рылеева, из его известной «Думы»: «Волынский». О некоторой идеализации образа Волынского поэтами и писателями, — в том числе и Лажечниковым («одним из наиболее уважаемых людей в России») под влиянием «Думы» Рылеева — пишет в своих «Mémoires» известный князь П. В. Долгоруков (Geneve, 1867. T. 1. Р. 433). — Б. М.
(обратно)1033
Вот слова Екатерины II о деле Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел… Волынский был… добрый и усердный патриот… Смертную казнь терпел, был невинен». — Б. М.
(обратно)1034
Неоконченный исторический роман Лажечникова (из жизни графа Я. В. Брюса), начало которого было напечатано в «Отечественных записках» (1840. № 6).— Б. М.
(обратно)1035
Роман был начат в форме писем. — Б. М.
(обратно)1036
Уж не Доимочный ли Приказ свидетельствует о попечении народном?
(обратно)1037
Право исторического романиста на отступления от хронологии и от строгого соответствия данным истории всех деталей произведений Лажечников отстаивал и в печати. «Исторический романист, — писал он в прологе к своему „Басурману“ (Соч. СПб., 1858. Т. 5), — должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии её. Его дело не быть рабом чисел; он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя её, которых взялся изобразить», и т. д.
(обратно)1038
См. его «Записки» (Русский архив. 1910. Кн. 2. С. 368).
(обратно)1039
Панаев И. И. Литературные воспоминания. СПб, 1888. С. 275. Ср. с подобным отзывом Н. В. Станкевича (Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. М., 1914. С. 335).
(обратно)1040
Исторический вестник. 1892. № 11. С. 327; Погодин, однако, готов был ставить прозу Лажечникова (и Загоскина) рядом с прозою Карамзина и Гоголя (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Т. 6. С. 182, 184), а чуткий Н. В. Станкевич считал (1835), что Лажечников — «лучший романист после Гоголя» (Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. С. 335).
(обратно)1041
Белинский в «Литературных мечтаниях» писал (1834), что Лажечников «по справедливости признан первым русским романистом».
(обратно)1042
Пушкин и Ефим Петрович Люценко. — Русская старина. 1898. № 4. С. 73—88; печатается по отдельному оттиску: СПб., 1898. Это — пятая по счёту работа исследователя и самая ранняя из вошедших в настоящий сборник. О Люценко и общении его с Пушкиным см. также: В. В[ацуро]. Люценко // Пушкин А. С. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969. С. 424; Лямина Е. Э., Панов С. И. Люценко // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 440—441.
(обратно)1043
Молва. 1836. № 2. С. 58—64.
(обратно)1044
Переписку их по этому поводу см.: XVI, 79—82.
(обратно)1045
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым. СПб., 1896. Т. 2. С. 580, 583.
(обратно)1046
Т. 55. № 4. С. 114. Литературные и журнальные заметки.
(обратно)1047
Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 415—416.
(обратно)1048
Т. 20. Документы, известия и заметки. С. 39—40.
(обратно)1049
Сборник 2-го отделения императорской Академии наук. СПб., 1867. Т. 5. Вып. 1. С. 269.
(обратно)1050
См.: К. М. Wieland’s sämmtliche Werke. Wien, 1811. Bd 18. S. 81.
(обратно)1051
На русский язык переведён Михаилом Чулковым (М., 1787). Что касается других русских переводов из Виланда, во множестве изданных у вас в конце прошлого и начале нынешнего столетия, то все они, по выражению Карамзина, «не могут нравиться тем, которые знают оригинал» (Карамин H. М. Письма русского путешественника. СПб., 1884. T. 1. С. 140).
(обратно)1052
Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 24. № 17946.
(обратно)1053
Чеславский В. Первая земледельческая школа в России // Сельское хозяйство и лесоводство. 1870. Ч. 105. Сентябрь. С. 1—18.
(обратно)1054
Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887. С. 235.
(обратно)1055
Месяцеслов с росписью чиновных особ на 1814 год. С. 693.
(обратно)1056
Вместе с Люценко погребены: его жена Аграфена Ларионовна, ум. 30 ноября 1826 г.; сын его, статский советник Ефим Ефимович Люценко, нумизмат, ум. 18 мая 1888 г., на 78-м году (о нём см.: Ярославские губернские ведомости. 1866. № 3. С. 30); и дочь Анна Ефимовна Люценко, ум. 21 марта 1891 г. на 84-м году. Заметим кстати, в разъяснение сомнений «Земляка из-под Глухова», что Александр Ефимович Люценко, археолог, бывший с 1854 г. директором Керченского музея древностей и умерший 28 января 1884 г. в чине действительного статского советника, был действительно старшим сыном Е. П. и родился в 1807 г. (Дело архива Департамента герольдии).
(обратно)1057
См.: Неустроев А. Н. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных. СПб., 1874. С. XLIX, и автобиографическая записка в материалах митрополита Евгения.
(обратно)1058
Заметим, что «С. Люценко», помещённый у Неустроева на той же XLIX стр., есть тот же Ефим Петрович.
(обратно)1059
Кроме того, в «Журнале для милых» (1804. № 6, 8 и 9) был помещён, с подписью «Евф. Люценко», «перевод с французского языка» повести «Несчастный Ma—в». А между тем это есть не что иное, как дословная перепечатка рассказа А. И. Клушина, помещённого под тем же заглавием сначала в «Санкт-Петербургском Меркурии» (1793. С. 138—226), а затем изданного отдельно в 1802 г. под названием «Вертеровы чувствования, или Несчастный М. Оригинальный анекдот» (см. нашу статью о Клушине: Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. [8]: Ибак—Ключарев. С. 750—751).
(обратно)1060
Автобиографическая записка в материалах митрополита Евгения. В Публичной библиотеке этой оды нет. Вероятно, это перепечатка из «Прохладных часов» (1793. Ч. II. С. 430): «Стихи доктору Д. С. Самойлову за подарок книг». Кроме того, Г. Н. Геннади (Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и XIX столетиях. Берлин, 1880. Т. 2. С. 423) предполагает, что Люценке принадлежит «Ода на прибытие его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Константина Павловича в Черноморские училища, октября 1800», подписанная: «Черноморских училищ учитель словесностей Луценко». Но мы видели, что Е. П. служил в то время в Школе земледелия.
(обратно)1061
T. е. Н. П. Осипова, изданную вместе с тем же А. Котельницким в 1791 г.
(обратно)1062
Этого перевода не указано ни у Сопикова, ни у Смирдина.
(обратно)1063
Ранее, в 1802 г., Люценко поместил перевод с французского языка сочинения того же графа Финдлетера «Замечание о умножении плодородия земли» в «Трудах Вольного экономического общества» (Ч. 54. С. 272—278).
(обратно)1064
Сын отечества. 1818. Ч. 43. С. 266.
(обратно)1065
Там же.
(обратно)1066
Пыпин А. Н. Российское библейское общество // Вестник Европы. 1868. № 9. С 251.
(обратно)1067
Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. 24. С. 294.
(обратно)1068
Извлечения из них обязательно сообщены нам Л. Н. Майковым.
(обратно)1069
«Чеслав», как видно из автобиографии Люценко, написан был ещё в 1806 г.; содержанием его служит историческое предание из времён Святослава. «Чеслав» был напечатан в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1818. № 2. С. 226—246) и вышел отдельной книжкой в С.-Петербурге в том же году.
(обратно)1070
Напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1819. Ч. 7. С. 68—74).
(обратно)1071
Напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1818. Ч. 3. С. 59—87).
(обратно)1072
Напечатано было в «Приятном и полезном препровождении времени» (1795. Ч. 8. С. 244—250).
(обратно)1073
Труды Вольного экономического общества. 1808.
(обратно)
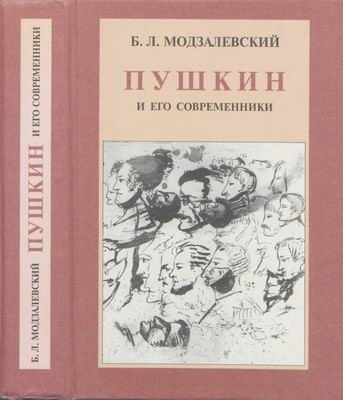


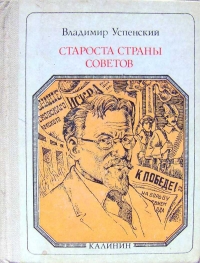

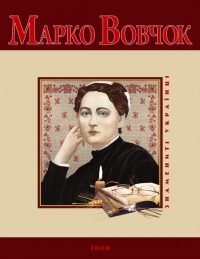
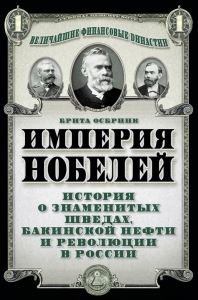

Комментарии к книге «Пушкин и его современники», Борис Львович Модзалевский
Всего 0 комментариев