Борис Соколов Истребленные маршалы
ВАСИЛИЙ БЛЮХЕР МАРШАЛ-СОЛДАТ
Василий Константинович Блюхер, один из первых пяти советских маршалов, стал также и первым кавалером первого советского ордена — Красного Знамени. В энциклопедиях он числится героем Гражданской войны. Две другие его кампании, на КВЖД в 1929 году и у озера Хасан в 38-м, а также трехлетнее пребывание в Китае в качестве военного советника при гоминьдановском правительстве, вспоминают гораздо реже. Споры вызывает и происхождение его фамилии. В годы Гражданской войны из-за нее ходили слухи, будто Блюхер — это бывший немецкий или австрийский офицер, попавший в плен и перешедший на сторону красных. Когда эти слухи доходили до Василия Константиновича, он только посмеивался: «Хотел ведь сменить фамилию, да теперь нельзя: от знаменитого немецкого рода Блюхеров, оказывается, происхожу… С фамилией Блюхер мне неудобно-то плохо воевать». А вот насчет того, хорошо ли воевал второй в истории полководец с фамилией Блюхер, существуют разные мнения. При жизни одного из пяти «красных маршалов» превозносили до небес как подлинного мастера военного искусства. Позднее появились и иные оценки.
По сравнению с некоторыми другими советскими полководцами, репрессированными в 30-е годы, например, Тухачевским и Якиром, Василий Константинович не считался выдающимся стратегом и не оставил никаких трудов в области военной теории и истории, ограничившись несколькими мемуарными статьями. Один из маршалов Великой Отечественной войны, Иван Степанович Конев, ранее служивший под началом Блюхера на Дальнем Востоке, в беседе с писателем Константином Симоновым так отозвался о командарме Особой Дальневосточной: «Блюхер был к тридцать седьмому году человеком с прошлым, но без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от Гражданской войны и принадлежал к той категории, которую представляли собой к началу войны Ворошилов, Буденный и некоторые другие бывшие конармейцы, жившие несовременными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не лучше Ворошилова или Буденного. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как хасанские события, Блюхер провалил. А кроме того, последнее время он вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился».
Давайте посмотрим, прав ли был Иван Степанович. Для этого нам надо проследить весь жизненный путь Блюхера, от маленькой ярославской деревеньки до мрачной лефортовской камеры.
Василий Константинович родился 19 ноября/1 декабря 1890 года. Долгое время считалось, что он появился на свет в 1889-м. Однако потом нашли метрическую запись с подлинной датой. Выяснилось, что когда 14-летний Василий отправился в Питер на заработки, то приписал себе год, чтобы легче было устроиться на завод. Родина будущего маршала — деревня Барщинка Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Там было всего шестнадцать дворов. На песчаных почвах при низкой агрокультуре урожаи были плохие, поэтому крестьяне подавались в крупные города, в том числе и в столицу.
Фамилия Блюхер, согласно семейным преданиям, появилась у ярославских крестьян следующим образом. Прадед Василия Константиновича Лаврентий воевал с Наполеоном. И воевал хорошо: вернулся домой весь в крестах. Местный помещик Никтополин Кожин внимательно следил за военными событиями. В газетах мелькало имя знаменитого пруссака фельдмаршала Гебхард Лебрехт фон Блюхера, победителя Наполеона при Ватерлоо. Его лубочные портреты даже на базарах продавались. Помните у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо»: «Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет»? Это как раз про того, первого Блюхера. Когда помещик увидел своего крестьянина, у которого наград на груди было лишь немного поменьше, чем у прусского полководца, то восхищенно воскликнул: «Вот сам Блюхер идет!» И не знал, конечно, что правнук того, к кому отныне накрепко пристало прозвище Блюхер, тоже дослужится до маршальского звания.
Отец Василия, Константин Петрович Блюхер, по рассказам односельчан, был мужик угрюмый, неразговорчивый. Мать, Анна Васильевна, урожденная Медведева, была женщиной доброй и покладистой. Жили бедно. Будущий полководец окончил церковно-приходскую школу и подался в столицу. Начинал мальчиком-услужающим в петербургском мануфактурном магазине купца Клочкова. Потом стал учеником слесаря на франко-бельгийском заводе Берга, затем, уже слесарем, сменил несколько мест работы, пока в 1907 году не устроился на Мытищинский вагоностроительный завод, тот самый, что теперь выпускает поезда метро. Здесь в феврале 1910 года за призыв к забастовке его арестовали. Московский окружной суд приговорил Блюхера к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы. Отбыв наказание в Бутырской тюрьме, Василий Константинович решил заняться самообразованием и поступил на вечерние подготовительные курсы народного университета Шанявского. А днем работал слесарем в мастерских Московско-Казанской железной дороги. Отсюда Блюхера в августе 1914 года призвали в армию. Сначала он служил в 93-м пехотном запасном батальоне, расквартированном в Кремле, но уже осенью отправился на Юго-Западный фронт, где стал рядовым 3-й роты 19-го Костромского полка 5-й пехотной дивизии 8-й армии генерала А.А. Брусилова. 27 ноября 1914 года в составе команды разведчиков Василий Блюхер принял боевое крещение. В Первую мировую войну он воевал храбро, но недолго. 8 января 1915 года под Тернополем на подступах к неприятельским окопам разведчики были обстреляны шрапнелью. Блюхера тяжело ранило. У него было раздроблено левое бедро, повреждены оба предплечья, много пуль и осколков застряло в спине. Потом он никогда не спал на спине — болели старые раны. Больше года Василий Константинович провел в госпиталях, перенес несколько операций. В результате левая нога стала на полтора сантиметра короче правой. За мужество и в связи с тяжелым ранением Блюхера наградили Георгиевской медалью, а потом уволили из армии. В марте 1916 года рядовой Блюхер врачебной комиссией Главного Московского военного госпиталя был переведен «в первобытное состояние с пенсией первого разряда». Выйдя из госпиталя, Василий Константинович навестил родных, а потом устроился слесарем на Сормовский судостроительный завод, но долго там не задержался и перешел на механический завод Остермана в Казани. Там он сблизился с большевиками и в июне 1916 года вступил в их партию. После Февральской революции в мае 1917-го поступил добровольцем в стоявший в Самаре 102-й запасной пехотный полк для ведения там тайной антивоенной агитации.
Среди солдат, отнюдь не рвавшихся на фронт, Василий Константинович пользовался популярностью. Его избрали членом полкового комитета и депутатом городского Совета солдатских депутатов. После Октябрьской революции почти весь полк поддержал большевиков. В Самаре они власть взяли практически без сопротивления. А вот атаман Оренбургского казачьего войска А.И. Дутов власти Ленина не признал. Против казаков двинулись советские войска из разных губерний, в том числе и из Самары. С Самарским отрядом против Дутова отправился и Блюхер. Василий Константинович позднее вспоминал, как его вызвал председатель губернского военно-революционного комитета В.В. Куйбышев и сообщил о назначении комиссаром (фактически — командиром) войск, направляемых для деблокады Челябинска. Валерьян Владимирович якобы так обрисовал сложившуюся ситуацию: «Мы только что получили задание Центрального Комитета от товарища Ленина и остановили свой выбор на Вас. Поручение чрезвычайно ответственное. Дутов, захватив Оренбург, отрезал Среднюю Азию от центра, сейчас дутовские отряды окружили Челябинск и создают угрозу движению продовольственных поездов на запад, к Москве и Петрограду. А это значит, что революцию хотят задушить голодом. Центральный Комитет приказал принять меры к ликвидации челябинской пробки. Туда посылаются отряды и из других городов. Нам приказано выделить не менее пятисот человек с артиллерией и провести эту чрезвычайно важную операцию».
Блюхер, по его словам, сначала засомневался. Ведь он раньше никогда не руководил не то что батальоном, даже отделением. Но Куйбышев успокоил: справитесь, мол, для большевика ничего невозможного нет.
Отряд, подкрепленный восьмиорудийной батареей, благополучно прошел в Челябинск, вокруг которого в действительности никакого кольца не было: казачьи отряды были слишком малочисленны. С приходом отряда Блюхера большевистский Совет ликвидировал эсеро-меньшевистское Челябинское учредительное собрание и взял всю власть в городе. В середине декабря 1917 года Блюхер стал главой местного военно-революционного комитета, а 8 марта 1918 года возглавил Челябинский Совет.
В январе 1918 года против Дутова было сосредоточено около 3,5 тыс. советских войск во главе с большевиком мичманом С.Д. Павловым. Ранее отряд Павлова прославился тем, что в Могилеве поднял на штыки последнего начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала Н.Н. Духонина. Теперь же мичман руководил наступлением красных от Бузулука на Оренбург. Одновременно город атаковали красногвардейские отряды, пришедшие из Ташкента. 18/31 января Дутов оставил Оренбург и ушел в Верхнеуральск с отрядом в 300 человек. Другой отряд казаков численностью до 600 человек откатился к Уральску. Блюхер тем временем был назначен начальником штаба Красной гвардии Челябинского района, а 8 марта 1918 года его избрали председателем Челябинского Совета. Тогда же, весной 18-го, казачьи отряды активизировали свои действия. В конце марта Василий Константинович возглавил объединенный штаб отрядов, действовавших против Дутова. 25 марта красные заняли Верхнеуральск, а в середине апреля атаман оренбургского казачества, распустив большую часть своих войск (около 2000 человек), с отрядом в несколько сот офицеров и казаков ушел в Тургайские степи. Его преследовал отряд Блюхера. 23 апреля между ними произошло столкновение у поселка Бриевны, но атаману удалось сохранить своих людей и оторваться от преследования.
О тех боях сохранилась зарисовка и из белого стана. Товарищ председателя Войскового круга оренбургских казаков полковник Гавриил Васильевич Енборисов на склоне лет в Харбине вспоминал бой, происшедший 1-го апреля у Касселя, под Верхнеураль-с ком, когда был разбит один из советских отрядов: «Красные со всех сторон сбегались в одну кучу к лесочку, от каменоломен шагов 700–800, и образовали на снегу громадное черное пятно в диаметре шагов 100–150, и я, чтобы не дать противнику исправить свою ошибку, сию же минуту использовал взятые 4 пулемета и 2 своих по этой толпе. Они снова бросились бежать: крик, шум, скрип саней — все это усиливало панику, а также и удачная наша стрельба не дала им оправиться, так что и сам Блюхер едва спасся, спрятавшись в навозной куче на хуторе близ горы «Имамоевой»».
Тут же Енборисов дает совершенно легендарную биографию Блюхера: «Кстати, нужно сказать, что из себя представляет «знаменитый» большевистский главком Блюхер. Это дезертир из австрийской армии, еврей по происхождению, который военно-полевым судом был приговорен к смертной казни через повешение, но суд смягчил наказание, заменив пожизненным заключением в каторжной тюрьме, от которой он спасся бегством. Имя его стало известно с того момента, когда после бегства появился он в пределах Оренбургской губернии в 1918 году.
Блюхер долго болтался в районе г. Верхнеуральска, Троицка, Белорецких заводов, выполняя мелкие поручения, пока не снюхался с Кашириным и пока большевики не узнали его как уголовника, а им стаж каторжанина необходим, ибо порядочный человек к большевикам не пойдет».
Полагаю, читатели от души посмеялись над этим «антижитием» красного полководца. Неизвестно, кстати сказать, действительно ли участвовал Блюхер в том бою под Касселем, но даже если и участвовал, то в навозной куче наверняка не прятался. Эта история была выдумана для поддержания духа казаков, которым тогда приходилось с боями покидать родные места. Не так, мол, страшен красный черт, как его малюют. Что же касается утверждения, что только непорядочные люди могут присоединиться к большевикам, к Блюхеру могут быть предъявлены какие-то претензии и как к командиру, и как к человеку. Можно вспомнить, например, его роль в осуждении Тухачевского и последующих репрессиях в Красной Армии. Но тут было малодушие, а не непорядочность. В непорядочности же Василий Константинович как будто замечен не был.
Сам Блюхер о книге Г.В. Енборисова слышал, но прочесть ее так и не удосужился. Уже после Гражданской войны на встрече с писателями он утверждал: «Один из командиров Верхнеуральского казачьего отряда бывший казачий офицер Енборисов, хорошо посвященный в наши планы, перебежал к белым. После Гражданской войны он бежал за границу и написал возмутительную книгу о нашем отряде». Здесь Василий Константинович явно спутал полковника Енборисова с его сыном Николаем, о котором речь впереди. Можно предположить, что до Блюхера дошли слухи и о «навозной куче», и о «беглом австрийском каторжнике», что и вызвало его гнев!
В начале мая под Оренбургом вспыхнуло большое восстание казаков, недовольных земельной политикой Советской власти. Повстанцы во главе с есаулом Лукиным взяли город, но удержать его не смогли и отошли в степи. На помощь советским войскам под Оренбургом двинулся Сводный Уральский отряд Блюхера в 2000 человек. Вскоре к нему присоединился двигавшийся с Западного фронта отряд Г.В. Зиновьева, будущего командующего Туркестанской армии, и несколько более мелких отрядов. Войска Блюхера нанесли ряд поражений казакам и 23 мая соединились с Оренбургским гарнизоном. В первой половине июня к ним присоединились сформированный в Белорецко-Верхнеуральском районе отряд братьев Кашириных и уфимский отряд М.В. Калмыкова. Однако начавшийся 25 мая мятеж чехословацкого корпуса резко изменил военнополитическую ситуацию. Уже 27 мая чехи захватили Челябинск. Из Тургайских степей вернулся Дутов с отрядом в 600 бойцов и возглавил повстанцев, вновь осадивших Оренбург. Отряды Блюхера и Кашириных отступили к Верхнеуральску, орские красногвардейцы — к Орску, а отряд Зиновьева вернулся в Ташкент. Как отмечает Н.Е. Какурин, «пространственность театра, малая его насыщенность войсками противника позволили им благополучно выйти из зоны, охваченной восстанием и занятой чехословаками, и достигнуть своих целей». Блюхер предложил всей южноуральской группировке красных, насчитывавшей около 10,5 тыс. штыков и сабель, выходить на соединение с главными силами Красной Армии в направлении на Екатеринбург через рабочие районы Урала. Братья Каширины, чей отряд был наиболее многочисленным и состоял преимущественно из оренбургских казаков, хотели двигаться к Екатеринбургу по казачьим областям — через Верхнеуральск и Троицк. Большинство командиров их поддержало, однако в дальнейшем стало ясно, что этот план оказался ошибочным. Основная масса казаков была настроена враждебно по отношению к красным, а многие бойцы каширинского отряда разошлись по домам. Блюхер согласился идти к Верхнеуральску, чтобы не дробить силы. Но взять город не удалось. Пришлось отступить к Белорецку. В этих боях 26 июля был тяжело ранен Николай Каширин, бывший офицер, избранный главкомом объединенных отрядов. Руководство перешло к его брату Ивану. Его первым заместителем стал Блюхер. Но такое положение сохранялось всего неделю. 2 августа в Белорецке командиры собрались на совещание. Один из участников, Иван Недолин (Маркелов), оставил нам его описание: «Василия Константиновича Блюхера все привыкли видеть в его неизменной потертой кожанке, в солдатской фуражке, пыльных сапогах. Среднего роста, крепкий, шатен. Подбородок в щетине редко освежаемой бритвой бороды. Серые внимательные глаза временами — в этом убедились все — отливали сталью. Челюсти и подбородок выдавали твердую, решительную натуру… Неразлучный маузер в деревянном чехле, бинокль, полевая сумка-довершали скромный наряд главкома партизан.
Иван Каширин, любимец казачьей бедноты, популярный своей удалью, находчивостью. Высокий и стройный, он держался с подкупающей простотой и красочностью. Синие казачьи офицерские брюки, высокие хромовые сапоги. Иван Дмитриевич носил летом в жару простую рубаху-косоворотку или гимнастерку. На ней эффектно выделялся серебряный пояс, кривая казачья шашка — тоже в серебре. Наган. Каширин отпустил рыжеватую бородку, а голову часто брил. Ему было меньше тридцати, с виду это был душа-кавалерист, рубака и весельчак.
Рядом с Иваном скромно выглядел старший Каширин, Николай. Среднего роста, брюнет, темноглазый, с задумчивым, строгим лицом, в обычном костюме казачьего офицера. Николай еще не оправился от ран, ходил, опираясь на костыль или на гусарскую в металлических ножнах шашку. Николай твердый большевик, скромный, решительный, настойчивый.
Из других командиров отрядов наиболее популярным был Николай Томин, командир Троицкой бригады, бывший казачий урядник. Высокий, плотный, с русой бородкой, в старенькой кожанке, с неизменной плеткой в руке, с револьвером у пояса, биноклем на груди. Томин был недавно ранен в руку и весь поход проделал с рукой на перевязи. Деятельный, спокойный и бесстрашный, он всегда был впереди передовых частей фронта. Неизвестно было, когда он отдыхал, так привыкли его видеть всегда бодрствующим».
А вот портрет тех же братьев Кашириных, увиденных с другой стороны линии фронта, глазами уже знакомого нам Гавриила Васильевича Енборисова: «Я уверен, что Каширины, особенно Иван, — люди совсем не идейные, а просто они привыкли смотреть на своего отца — атамана станицы — в течение 27 лет как на человека, занимающего должность и Божественного происхождения, и они, как наследники его должности, должны быть тоже атаманы, тоже власть, а большевикам это все равно, ибо идейного из них нет ни одного — только грабь награбленное. Если бы жиды прогнали Кашириных, то они всю эту идею стащили бы в кабинет с надписью «00». Раз человек из ярого монархиста легко перелетел в революционеры, то еще легче они способны вернуться обратно, как и вообще все перелеты — трусишки-шкурники идут за шкуру».
Блюхер, безусловно, был более идейным, чем братья Каширины. Все-таки большевик с дореволюционным стажем, да и рабочий по профессии. Трудно представить его во главе полка или дивизии у белых. Хотя, что любопытно, полки и дивизии из рабочих были как раз самыми боеспособными войсками в армии Колчака. Командовавший одной из таких дивизий, Ижевской, генерал Викторин Михайлович Молчанов, будущий противник Блюхера на Дальнем Востоке, на закате своей долгой жизни (а прожил он без малого 89 лет) вспоминал: «Если на юге России были корниловцы, марковцы, дроздовцы, то там не было таких частей, как ижевцы, воткинцы, михайловцы, состоявшие исключительно из рабочих».
А с Кашириными Блюхер сумел найти общий язык. Старший из братьев потом разделил судьбу Василия Константиновича. В августе 1937 года был арестован командарм 2-го ранга Николай Дмитриевич Каширин, еще в июне вместе с Блюхером судивший Тухачевского. 14 июня 1938 года его расстреляли. Младшего, Ивана, тоже командарма, лишь ранняя смерть спасла от почти неизбежных репрессий. Оба Каширина ведь были людьми своенравными, независимыми, да еще и казачьими офицерами в прошлом.
План Николая Каширина полностью провалился. Не только казачья беднота не присоединилась к красным. но и в ночь на 2-е августа ряд командиров Верхнеуральского отряда из числа офицеров — Николай Енборисов, сын Гавриила Васильевича. Каюков и другие. с частью казаков перешли к белым.
Жизнь Енборисова-младшего окончилась трагически. Его отец писал в мемуарах: «Не могу умолчать и о том. что старший мой сын Николай, довольно лихой офицер, участник германской войны, получивший много контузий, ранений и по излечении всегда возвращавшийся в бой, получивший очень много наград, ярый противник Советов, неожиданно сделался Андреем Тарасовичем Бульбой, т. е. послушался бабы (жены) и не исполнил благословения своего отца, ушел к Советам; и после того, как блудный сын было вернулся, отец его, человек грешный, не удостоился быть библейским отцом — не созывал гостей и не задавал пира, ибо, когда Родину ведут на эшафот. Библией заниматься не приходится; в результате сын похоронен в поселке Арсинском по христианскому обряду. Здесь была еще громадная ошибка со стороны казаков Спасской станицы, но называть их пока несвоевременно». Николай Гаврилович Енборисов, как отмечалось в сообщении начальника штаба 2-й дивизии Уральского корпуса белых, был «уничтожен до опроса» и никаких сведений сообщить не смог. Казаки явно поторопились.
Братья Каширины признали свою ошибку. Теперь был принят план Василия Константиновича — идти через рабочие районы. Соответственно, ему и было вручено главное командование. Надо учесть, что в ту пору все командиры были выборные и непросто было понравиться партизанской вольнице и одновременно сохранять дисциплину и твердо осуществлять намеченные оперативные решения. Блюхеру это удалось.
Пройдя с боями более тысячи километров, бойцы Сводного Уральского отряда Кашириных и Блюхера 12 сентября 1918 года соединились в районе деревни Тюйное Озеро с частями 3-й советской армии. Если считать путь от Оренбурга, то он составил около 1,5 тыс. километров. Несмотря на потери, численность Сводного Уральского отряда почти не уменьшилась, поскольку он постоянно пополнялся рабочими с уральских заводов. Блюхером заинтересовался Ленин. По его просьбе член Уральского обкома компартии А.П. Спунде прислал председателю Совнаркома краткие сведения о Василии Константиновиче: «Участвовал почти все время в ликвидации дутовщины. Последний раз ушел из Челябинска против Дутова в начале мая при следующих обстоятельствах. В это время он лежал в лазарете, так как открылась рана, полученная на войне против немцев еще во время Керенского. В 8 часов утра были получены сведения о Дутове, к 10 утра Блюхер был уже в штабе для организации выступления. Был отрезан где-то в районе Оренбурга чехами. Сейчас, пробывши около 4 месяцев в тылу у чехов (на самом деле отряду Блюхера больше пришлось сражаться не с чехами, а с оренбургскими казаками и Народной армией Комуча. — Б.С.), вышел к нам где-то около Бирска, увеличив значительно свои войска. При этом он не воспользовался ближайшей дорогой на Ташкент, а выбрал гораздо более трудную — на Урал, идя наперерез Самаро-Златоустовской железной дороге. Питался все время чешскими патронами и снарядами.
Товарищи, проведшие с ним последнюю дутовскую кампанию, утверждают, что буквально во всех случаях его стратегические планы на поверку оказывались абсолютно удачными. Уральский областной комитет РКП (и, конечно, Советов тоже) настаивает на том, чтобы Блюхер с его отрядами был отмечен высшей наградой, которая у нас существует, ибо это небывалый у нас случай».
И 30 сентября 1918 года, когда ВЦИК учредил первый советский орден Красного Знамени, Блюхеру было решено вручить этот орден за номером 1. «Переход войск тов. Блюхера в невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в Швейцарии», — отмечалось на заседании ВЦИК. 14 октября ордена Красного Знамени был удостоен Н.Д. Каширин, а позднее ордена, именное оружие, серебряные часы и портсигары получили многие бойцы и командиры Сводного Уральского отряда.
Видно, был у Василия Константиновича талант военного организатора и командира, раз ему беспрекословно подчинялись те же братья Каширины — офицеры, имевшие значительно больший, чем он, опыт в годы Первой мировой войны.
Войско Блюхера слили с остатками 4-й Уральской дивизии, только что разбитой белыми под Красноуфимском. Василий Константинович стал начальником дивизии, Н.Д. Каширин — его помощником, И.Д. Каширин и Н.Д. Томин — командирами бригад. 4-я дивизия 2 октября освободила Красноуфимск. В дальнейшем она прикрывала направление на Курган. Здесь 9 октября началось новое наступление Сибирской армии генерала Р. Гайды. В разгар боев у Блюхера открылись старые раны, и он вынужден был лечь в госпиталь. Накануне его отъезда в 4-ю дивизию были влиты остатки разбитой белыми соседней 3-й Уральской дивизии, и дивизия, начальником которой остался Василий Константинович, была переименована в 30-ю стрелковую. Ее боевой путь потом отразился в популярной военной песне 20-х годов:
От голубых Уральских гор К боям Чонгарской переправы Прошла 30-я вперед В пламени и славе.Блюхер вернулся в дивизию в декабре 1918 года, когда белые развернули мощное наступление на Пермь. После тяжелых боев, в ходе которых был полностью уничтожен приданный 30-й дивизии 1-й Кронштадтский полк, советские войска вынуждены были отступить и 25 декабря оставить Пермь. В отличие от соседней 29-й дивизии, потерявшей при отходе из города все обозы и артиллерию, 30-я дивизия отступила в полном порядке. Поэтому Блюхеру удалось воспрепятствовать дальнейшему продвижению 1-го Сибирского корпуса генерала А.Н. Пепеляева к Павловскому и Очерскому заводам и контрударом отбросить противника. После этого успеха Василия Константиновича сделали помощником командующего 3-й армии. Фронт между тем стабилизировался в районе Глазова. Общая неудача действий 3-й армии в боях за Пермь была обусловлена тем, что резерв пополнений из уральских рабочих был уже исчерпан, а мобилизованные крестьяне Вятской и Пермской губерний не горели желанием проливать кровь за диктатуру пролетариата. Один из полков 29-й дивизии перешел к белым, открыв им дорогу на Пермь.
В марте 1919 года войска Колчака начали новое наступление на Вятском направлении и оттеснили 3-ю армию за Глазов. Главный удар пришелся, однако, не по 3-й, а по 2-й и 5-й армиям. Красное командование на случай неприятельского прорыва решило создать Вятский — укрепленный район, начальником которого 3 апреля был назначен Блюхер. Однако когда летом строительство укреплений было завершено, нужда в них уже отпала. Красная Армия к тому времени перешла в контрнаступление по всему Восточному фронту и освободила Кунгур и Пермь. Блюхеру было поручено сформировать новую, 51-ю дивизию, с которой он и двинулся в глубь Сибири добивать Колчака. 20 августа 1919 года дивизия форсировала Тобол, потом — Иртыш и заняла Тобольск. Однако в сентябре белые перешли в свое последнее наступление на Восточном фронте и оттеснили за Тобол части соседней 5-й армии, которой командовал Тухачевский. 51-я дивизия попала в трудное положение. Ей пришлось оставить Тобольск. Войска Блюхера оказались в полуокружении. Однако Василий Константинович собрал ударный отряд человек в 200 и атаковал наступающих с тыла. Противник дрогнул и отступил, а блюхеровцам удалось удержать плацдарм на восточном берегу Тобола. Красные подтянули резервы и перешли в наступление. 14 октября 5-я армия вновь форсировала Тобол, а 11 ноября дивизия Блюхера вошла в колчаковскую столицу Омск. Организованное сопротивление белых на Восточном фронте почти прекратилось. Остатки колчаковских войск ушли в Забайкалье под защиту японцев и казачьей армии атамана Семенова.
Блюхер со своей дивизией оставался в Восточной Сибири до лета 1920 года. В августе ее перебросили под Каховку для борьбы с Врангелем. 51-я дивизия отразила все атаки на Каховский плацдарм 2-го армейского корпуса белых, которым сначала командовал Я.А. Слащов, а потом В. К. Витковский. К этому времени относятся опубликованные в 1951 году в нью-йоркском «Новом журнале» воспоминания о Блюхере Дмитрия Варецкого, бывшего работника штаба Каховской группы войск, которой командовал Р.П. Эйдеман. Варенному потом довелось изведать ГУЛаг, а после Второй мировой войны в числе перемещенных лиц он осел на Западе. Так что особой симпатии к советскому строю у мемуариста не было, но о Блюхере он написал с явной симпатией, не сомневаясь, что маршал погиб в сталинских застенках (хотя в 1951 году об этом еще нигде не сообщалось).
Вот каким Варецкий увидел Василия Константиновича: «Выше среднего роста, широкоплечий, мускулистый. Военная форма сидела на нем, как влитая, и он казался почти щеголем». Ездил же тогда Блюхер на новеньком «паккарде». Варецкому запомнилась «чашка чая» у Эйдемана, на которую собрались все командиры дивизий и штабные работники: «Пили каховское красное вино, подогретое в хозяйском эмалированном ведре вместе с аптекарским спиртом, выписанным для санитарной части для нужд штабного околотка. Единственные в своем роде каховские арбузы и дыни служили закуской.
Общая беседа, подогретая «пуншем», как называли питье из ведра, протекала оживленно и интересно. Трудно сейчас восстановить в памяти все то, о чем говорили. Сравнивали боевые качества китайского и русского солдата (словно предчувствовал Василий Константинович, что ему придется впоследствии иметь дело с китайцами. — Б. С.), обсуждали промышленные перспективы Сибири, спорили о течениях в поэзии, цитировали Маяковского, строили розовые планы будущего, вспоминали московские кабачки и дореволюционную богему и даже пели. Словом, это была скорее студенческая вечеринка, чем «чашка чая» солидных начальников дивизий, распорядителей судеб сотен (скорее — десятков. — Б. С.) тысяч людей».
По утверждению Варецкого, Блюхер участвовал в беседе на равных, часто подкрепляя свои суждения «ссылками на авторитетные источники, касалось ли дело достоинств поэзии Маяковского, работы Государственной Думы последнего созыва, украинского фольклора или особенностей формы полков гвардейской кавалерии». При этом мнения Василия Константиновича «были всегда серьезны, точны и свидетельствовали о знании вопроса. Собеседники Блюхера не возражали, не спорили с ним — они сразу же превращались только в слушателей».
Замечу тут, что существует и иное свидетельство об уровне эрудиции бывшего слесаря, ставшего полководцем. Марк Исаакович Казанин, работавший вместе с Блюхером в Китае в 1925–1927 годах, а ранее учившийся вместе с его первой женой Галиной Александровной Кольчугиной в русской гимназии в Харбине, рассказывает, что Блюхер не терпел, когда собеседники вольно или невольно обнажали пробелы в его образовании. Его адъютант Мазурин «первое время иногда указывал Блюхеру на грамматические недочеты; Блюхер менялся в лице и терял самообладание. Тот, кто хотя бы по нечаянности затрагивал слабые места Блюхера — пробелы в систематическом образовании, его самолюбие, его гордость, — в каком-то смысле ставил себя выше его, а это было явным абсурдом». Однажды Казанин прочел Блюхеру в английской газете, что иностранные колонии в Китае — это Ганза XX века. «Какая еще Ганза?» — недовольно буркнул Блюхер. Марку Исааковичу, чтобы не дай Бог не задеть самолюбие командующего, пришлось сделать вид, что в газете далее следует пояснение: Ганза — это заключенный в средние века торговый союз приморских немецких городов. Казанин также, как и Варецкий. подтвердил, что Блюхер отличался «несколько подчеркнутой щеголеватостью, которая могла бы показаться излишней тому, кто не знал, что за ней скрывается мужественный и простой человек». Чувствуется, что Василию Константиновичу очень хотелось выделяться среди окружающих, быть центром внимания, заставить себя слушать. Насчет же эрудиции, очевидно, правы и Казанин, и Варецкий. Блюхер неплохо разбирался в военном деле, знал и о перипетиях думской борьбы, за которой наверняка следил по газетам. Можно предположить, что Маяковский был одним из любимых поэтов начальника 51-й дивизии, и будущий маршал с удовольствием цитировал его стихи. Зато с русской грамотностью и всемирной историей Василий Константинович был не очень в ладах и сердился, когда ему на это невольно указывали.
Но вернемся в Северную Таврию. В октябре 20-го превосходящие силы красного Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе нанесли поражение Русской армии барона Врангеля и оттеснили ее за крымские перешейки. Две бригады блюхеровской дивизии пошли в обход неприятельских укреплений через Сиваш на Литовский полуостров, две другие штурмовали в лоб Турецкий вал. Потери были очень большие. Строго говоря, в лобовой атаке перекопских укреплений большой нужды не было. Советская группировка на Литовском полуострове все равно угрожала им с тыла, а достаточных сил для ее ликвидации Врангель не имел, даже если бы снял все войска с Турецкого вала. Ведь даже по данным советского историка Н.Е. Какурина преимущество Красной Армии в тот момент было подавляющим: 133 591 штык и сабля и около 600 орудий против 19 610 штыков, сабель и 180 орудий. К тому же Врангель после отступления в Крым думал уже в первую очередь об эвакуации за море и не собирался оборонять перешейки до последнего человека. В этих условиях целесообразнее было бы только демонстрировать подготовку к штурму Турецкого вала и ограничиться артиллерийским обстрелом позиций белых, максимально усилив в то же время группировку, переправившуюся через Сиваш. Однако Фрунзе решил, что для облегчения успеха войск, действовавших на Литовском полуострове, необходим полномасштабный штурм Турецкого вала, и Блюхер должен был продолжать безрезультатные атаки. В итоге врангелевцы, опасаясь быть отрезанными от портов двумя дивизиями, наступавшими с Литовского полуострова, в ночь с 8-го на 9-е ноября сами оставили Турецкий вал и отошли к Юшуньским позициям. К утру 10 ноября вновь соединившиеся под единым командованием четыре бригады 51-й дивизии начали преодолевать эти позиции. В этот день уже началась эвакуация Русской армии, поэтому оставшиеся у Юшуни арьергарды получили приказ постепенно отходить, сдерживая продвижение красных артиллерийским огнем и контратаками немногочисленных кавалерийских частей. 11 ноября 51-я дивизия заняла станцию Юшунь. Противник прекратил контратаки против советских дивизий, наступавших со стороны Литовского полуострова и начал стремительно отходить к портам посадки. Красные части были сильно утомлены и не смогли организовать преследование. 12 ноября командование разрешило им устроить дневку, что позволило белым значительно оторваться от преследователей. Врангель, в отличие от Деникина в Новороссийске, благополучно вывез из Крыма свои главные силы и большое число гражданских беженцев — всего около 146 тыс. человек, из которых примерно 83 тыс. военных.
В рапорте по итогам боев за Перекоп Блюхер писал: «Задача, поставленная перед дивизией — пробить дорогу в Крым, — выполнена. 11 ноября в 12 часов занята станция Ишунь (другое название — Юшунь. — Б. С.), впереди Крым, укреплений больше нет, лучшие силы Врангеля разгромлены окончательно: корниловцы, дроз-довцы, марковцы, гвардейцы, второй армейский корпус представляют из себя жалкие остатки и панически бегут. Армия, представлявшая гордость Врангеля, разбита и уничтожена. Пали неприступный Турецкий вал и четыре линии Ишуньских позиций. Полуодетые, голодные, уставшие, участвовавшие беспрерывно во всех боях красноармейцы и командиры разгромили йе только превосходившую в живой силе армию (читатель, надеюсь, оценит весь юмор этого пассажа, если вспомнит, что войск у Фрунзе было почти всемеро больше, чем у Врангеля. — Б.С.), но и разбили ее за десятками рядов проволочных заграждений (десятков рядов колючей проволоки, опять же, не было. — Б. С.) и бесчисленными рядами окопов». Фрунзе, в свою очередь, 12 ноября докладывал Ленину: «Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава. Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 тысяч человек. Армии фронта свой долг перед Республикой выполнили. Последнее гнездо российской контрреволюции разорено». Немалые потери в этих боях понесли и белые. В одной только Дроздовской дивизии было около 700 убитых и раненых, а остатки одного из батальонов перешли на сторону красных. Командир дивизии генерал А.В. Туркул вспоминал последнюю контратаку дроздовцев: «В последний раз, как молния, врезались дроздовцы в груды большевиков. Контратака была так стремительна, что противник, уже чуявший наш разгром, знавший о своей победе под ударом дроздовской молнии приостановился, закачался и вдруг покатился назад. Цепи красных, сшибаясь, накатываясь друг на друга, отхлынули под нашей атакой, когда мы, белогвардейцы, в нашем последнем бою, как и в первом, винтовки на ремне, с погасшими папиросами в зубах, молча шли во весь рост на пулеметы. Дроздовский полк в последней атаке под Перекопом опрокинул красных, взял до полутора тысячи пленных. Только корниловцы, бывшие на левом фланге атакующего полка, могли помочь ему. На фронте, кроме жестоко потрепанной Кубанской дивизии, не было конницы, чтобы поддержать атаку. В тыл 1-у полку ворвался броневик, за ним пехота. Под перекрестным огнем, расстреливаемый со всех сторон, 1-й Дроздовский полк должен был отойти».
Толпы красных волной захлестнули немногочисленных защитников белого Крыма. 15 ноября бойцы 51-й дивизии вместе частями 1-й Конной армии вошли в Севастополь, откуда за сутки до этого отошли последние суда белых.
Блюхер за взятие Крыма получил еще один орден Красного Знамени, а Реввоенсовет 1-й Конной армии преподнес «красному вождю и победителю на Перекопе и Ишуне» золотые часы. В последующие месяцы 51-й дивизии совместно с армией Ворошилова и Буденного пришлось бороться со вчерашним союзником — батькой Махно. Летом 1921 года произошла вторая встреча Василия Константиновича с Варецким. Последний вспоминал, что «Блюхер в крестьянской среде чувствовал себя как дома», поражая селян знанием агрономических тонкостей. «А дозвольте спросить, вы по какой части будете, по земельной?» — поинтересовался один из стариков. «По земельной, папаша, — улыбнулся Блюхер, обнаруживший вдруг прекрасное знание местного украинского наречия. — Землю вашу освобождаем от Махно, от непорядков всяких, чтоб никто не мешал вам спокойно работать на земле. Понял?»
Однажды Блюхер с Варецким оказались в донской станице, и с казаками Василий Константинович тоже быстро нашел общий язык и даже пел вместе с ними песни. Потом он говорил Варецкому: «А хороши песни у казаков. Только поют они не так, старики пели лучше». Видно, доводилось Василию Константиновичу прежде, до революции, побывать и на Дону.
На Украине, когда они остановились в доме священника, Блюхер даже подружился с батюшкой и обещал прислать ему красок (священник занимался живописью). Характерен отзыв Блюхера, запечатленный Варецким: «Хороший, талантливый старик. Жалко, что священник». Сам Василий Константинович в Бога не верил, но готов был признать, что и среди священнослужителей попадаются порядочные люди.
Варецкий так суммировал свои впечатления о легендарном красном полководце: «В памяти остался образ интеллигентного, образованного человека и авторитетного командира. Ничего я не мог сказать о нем как о коммунисте; однако у меня осталось впечатление, что к социальной логике даже того времени он относился критически. Несомненно, портили общее впечатление его сухость и та подчеркнутая корректность, которые, точно барьер, отделяли Блюхера от его собеседников. Но Блюхер, вто же время, был совсем другим, находясь в окружении крестьян, красноармейцев и посторонних, не связанных с ним службой людей».
Хотя Василию Константиновичу до революции пришлось трудиться в основном рабочим, но свои крестьянские корни он не забывал и с крестьянином всегда находил общий язык. Труднее было с образованной публикой, перед которой Блюхер не хотел обнаружить пробелы в собственных познаниях. Вот и старался держаться сухо и корректно, не углубляясь в чуждые для себя отвлеченные материи.
Блюхеру не пришлось довести до конца борьбу с Махно. Василия Константиновича отозвали на Дальний Восток, где после происшедшего 26 мая 1920 года во Владивостоке белогвардейского переворота серьезно осложнилось положение просоветской Дальневосточной республики. 24 июля Блюхер был уже в Чите, где стал военным министром и главнокомандующим Народно-Революционной Армии ДВР. Эта армия находилась в удручающем состоянии. В рапорте Ленину и Троцкому Блюхер описал его следующим образом: «Нищенство, проституция, воровство, грабежи, шпионаж и др. Позорные явления стали нередким элементом армейского быта. Военспец, спекулирующий на барахолке последними вещами и не посещающий по этой причине занятия, ответственные работники, нанимающиеся к ремесленникам в подмастерья и к торговцам в ночные сторожа, жены военнослужащих, побирающиеся по городу «Христа ради», бойцы, да одни ли только бойцы, с оружием в руках вламывающиеся в квартиры жителей с целью грабежа; штабники — от голода хворающие, падающие в обморок, ворующие и продающие все, что попадается под руку, от карандаша до пишущей машинки и секретного документа, организованные банды, угоняющие у крестьян скот под флагом конфискации белогвардейского имущества, — все это стало тяжелым фактом повседневности, характеризующим ту грань, до которой докатились материальная необеспеченность армии и то разложение, которое вызвано ненормальными условиями жизни».
Замечу, что в рапорте Василий Константинович вряд ли сильно преувеличил. Один из руководителей ДВР П.П. Постышев в послевоенных мемуарах писал о том же — например, в связи с разграблением народоармейцами Шмаковекого монастыря: «Обходя части, мы заметили какие-то огни, подойдя, мы увидели пьяные фигуры красногвардейцев. Одни были одеты в поповские ризы, другие — еще в какие-то хламиды; все были пьяны, балаганили, горели большие церковные свечи и при их огне играли в карты. Всюду водка, бочонки с медом, бороды у пьяных стариков-бородачей торчали гвоздем, потому что, хватаясь за бороды перепачканными медом руками, они склеивали их. Нас встретили насмешками и бранью. Пришлось послать дисциплинированную часть, разогнать их и переарестовать, а окончательно разложившихся — расстрелять. Было жутко».
Нарисованная Блюхером апокалиптическая картина побудила Владимира Ильича и Льва Давидовича поднапрячься и выделить ДВР полтора миллиона рублей золотом. На эти средства главком смог реорганизовать Народно-Революционную Армию. Кое-кого при этом пришлось расстрелять. Тем временем отряды так называемых «белоповстанцев» под командованием бывшего командира Ижевской дивизии генерала В.М. Молчанова 18 декабря 1921 года заняли Хабаровск. Они действовали будто бы независимо от Приамурского правительства братьев Меркуловых, а в действительности — по тайной договоренности с властями Владивостока. Планы Приамурского правительства и генерала Молчанова были достаточно амбициозны. Депутат владивостокского Народного собрания бывший военный министр Омской директории генерал В.Г. Болдырев вспоминал: «В связи с одержанными боевыми успехами и присоединением Камчатского края ждали резонанса этих успехов на Амуре и в Забайкалье. Более же горячие головы, как и всегда в подобных случаях, мечтали не только о Сибири, которая считалась охваченной волнением, но и о Москве!»
Мечтам, естественно, не суждено было сбыться. НРА удалось остановить дальнейшее продвижение белых у станции Ин на левом берегу Амура. Блюхер стал готовить контрнаступление. 11 января 1922 года части НРА атаковали позиции белых у станции Волочаевка в 50 километрах от Хабаровска. Но уже на следующий день наступление захлебнулось. Блюхер подтянул свежие силы и 10 февраля возобновил атаки. 12-го числа волочаевские укрепления пали. А были они нешуточные: несколько рядов колючей проволоки, пулеметные гнезда, хорошо оборудованные артиллерийские позиции. Молчанов имел 3,5 тыс. штыков, 11 орудий, 99 пулеметов, 3 бронепоезда, у Блюхера — в 2–3 раза больше пехоты и артиллерии. Василию Константиновичу помог опыт в штурме крымских укреплений. Недаром Волочаевку впоследствии стали называть «вторым Перекопом».
Блюхер навсегда запомнил волочаевские бои: «В снегу, на морозе, полуголодные, после 5 дней под открытым небом, залегли наши цепи перед искусно построенными заграждениями противника у Волочаевки и, движимые единым желанием победить или умереть, — победили. И то, что, по мнению противника, казалось недоступным для нас, — было достигнуто нашими революционными рядами, несмотря на холод, голод и крайне невыгодные для нас условия местности».
Василий Константинович благоразумно не стал раскрывать, так сказать, военно-экономическую подоплеку «чуда у Волочаевки». Зато о нем рассказал близкий к братьям Меркуловым журналист и писатель Всеволод Никанорович Иванов: «Авантюристические владивостокские купцы вооружали каппелевские части, пришедшие с Волги. Вооружения было много во Владивостоке и хранилось оно в складах. Склады эти японское «союзное» командование взяло под свою охрану и тем наложило хитрую лапу на снабжение приморских несоциалистических сил боеприпасами. Снабжение Волжской армии на Тихом океане происходило так: в темные ночи к складам подавались скрыто китайские шаланды, в которых сидела команда из отборных людей во главе с Н.Д. Меркуловым, платила деньги, кому следует, в соответственной валюте, склады раскрывались, и рабочая команда во главе с членом Приамурского правительства Н.Д. Меркуловым таскала бешено ящики с патронами в шаланды. Мне рассказывали, был случай, когда такую деликатную ночную погрузку пришлось проводить в тайфун, и волнение было такое, что «члену правительства» пришлось привязывать себя веревкой поперек пуза к стоящему суденышку.
Так эта тоненькая пуповина снабжения боеприпасами была оборвана в ту пору, когда шли бои под оледеневшей Волочаевкой. Волжская армия на Тихом океане оказалась остановлена рукой японского офицера, отказавшегося принять какое-то количество золотых иен.
«Вооруженные силы», вдруг ставшие безоружными, волей японского командования, под влиянием разного рода международных конференций — Вашингтонской, Дайренской, Чаньчунской — теряли значение, медленно отходили за договоренные между ДВР и Японией линии, сосредоточивались в Спасске».
Планам генерала Молчанова, мечтавшего весной от Волочаевки начать поход в глубь России, японцы не симпатизировали. Они прекрасно понимали, что 10-тысячному белому войску, сосредоточившемуся в Приморье, не одолеть 5-миллионную Красную Армию, коль скоро это не удалось куда более многочисленным ратям Колчака и Деникина. К оккупации же всего русского Дальнего Востока, а тем более Сибири, Япония в тот момент была не готова как из-за недостатка собственных ресурсов, так и, главным образом, из-за противодействия другой великой тихоокеанской державы — Соединенных Штатов Америки. Экспедиция к Хабаровску имела одну цель — сделать ДВР и стоявшую за «буфером» Москву более уступчивыми к японским требованиям насчет концессий на Дальнем Востоке. Когда цель была достигнута, японские офицеры во Владивостоке внезапно вспомнили о самурайском кодексе чести «бусидо» и наотрез отказались за любые взятки отворять двери складов Приамурскому правительству.
Когда белоповстанцы откатывались от Волочаевки и Хабаровска, Блюхер 23 февраля 1922 года обратился с письмом к генералу Молчанову: «Мне хотелось бы знать, какое же количество жертв, какое же число русских трупов необходимо еще, чтобы убедить Вас в бесполезности и бесплодности Вашей последней попытки бороться с силою революционного русского народа, на пепле хозяйственной разрухи воздвигающего свою новую государственность? Какое число русских мучеников приказано Вам бросить к подножию японского и другого чужеземного капитала? Сколько русских страдальческих костей необходимо, чтобы устроить мостовую для более удобного проезда интервентских автомобилей по русскому Дальнему Востоку?..
Среди ваших рядов во время боев под Волочаевкой и Казакевичево я заметил много дельных людей, необходимых в настоящую минуту для государственной работы в России и Дальневосточной республике. Не губите их в угоду чужеземному золоту, и грядущая история нашей страны скажет Вам за это спасибо».
Главком НРА предлагал Викторину Михайловичу и его офицерам перейти на сторону Советской власти, обещая им высокие военные посты. Молчанов письмо проигнорировал и предпочел отвести свои отряды под защиту японских войск. Тем самым он, несомненно, спас себя и своих подчиненных от гибели, если не немедленно, то уж в 37–38 годах — наверняка. Генерал Молчанов умер в 75-м в Сан-Франциско в возрасте 88 лет. Маршал Блюхер был забит насмерть в подвалах Лефортова.
Василию Константиновичу не довелось носить лавры освободителя Владивостока. Из-за конфликта с членом Военного Совета НРА И.М. Погодиным и начальником штаба армии В.К. Токаревским Блюхер в июле 1922 года был отозван с Дальнего Востока. Как водится, у волочаевской победы, которая предопределила и последующее падение столицы белого Приморья, сразу объявилось много отцов, и они не смогли поделить лавры между собой. Поводом для конфликта стало недовольство Блюхера тем, что Вячеслав Константинович иной раз направлял бумаги на подпись сначала Ивану Михайловичу, и только потом — командующему. Москва решила склоку прекратить, заменив Блюхера И.П.Уборевичем. Иерониму Петровичу и довелось вступить в оставленный японцами и белыми Владивосток в октябре 1922 года. Блюхеру же впоследствии выпала сомнительная честь судить Уборевича в июне 1937 года.
Никаких претензий к Василию Константиновичу в связи с его деятельностью на Дальнем Востоке предъявлено не было. Наоборот, его назначили командиром 1-го стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в районе Петрограда. Это было куда солиднее, чем военный министр опереточной Дальневосточной республики и командующий армии, боевая мощь которой не превышала полнокровной дивизии.
В северной столице Блюхер пробыл два года, а в 1924-м его направили главным военным советником в Китай к главе гоминьдановского правительства Сунь Ятсену в Гуаньчжоу. К тому времени Блюхер уже женился на Галине Павловне Кольчугиной, с которой познакомился на Дальнем Востоке. У них было двое детей — дочь Зоя и сын Всеволод. Когда встал вопрос, на какую фамилию выписывать Блюхеру заграничный паспорт, Василий Константинович взял псевдоним по имени жены — Галин, а имя и отчество — по именам детей — Зой Всеволодович. Когда ему возразили, что имени Зой нет, будущий маршал парировал: «А что, имена только те, что в святцах?»
В китайской Национально-Революционной армии Блюхер ввел институт комиссаров и стал одним из основных разработчиков плана знаменитого Северного похода, в ходе которого гоминьдановские войска под командованием маршала Чан Кайши в 1926–1927 годах из провинции Гуандун двинулись на север страны, громя армии местных губернаторов-дудзюннов. Очень точно охарактеризовал дудзюннов уже знакомый нам Вс. Н. Иванов, более 20 лет проживший в Китае: «В то революционное время моего пребывания в Пекине (в 1920 году. — Б. С.) Китай в своем государственном устройстве вступил в эпоху «дудзюнната», т. е. «маршалов», что-то вроде наших военных генерал-губернаторов, только с тем отличием, что у нас генерал-губернаторы были из дворян, людьми отличного светского образования, опорой царя. В Китае того времени уже исчезла организация военных сил на основании маньчжурских кланов, племен по «знаменам», любой китаец мог стать «дудзюнном»-губернатором, захватить власть в провинции с населением от 25 до 80 миллионов человек, не имея никакого образования, будучи неграмотным, пользуясь лишь крылатым колесом военного счастья.
Ни грамоты, ни знаний не требовалось для этих молодцов из «феев», т. е. людей с крепким здоровьем, шекспировскими характерами, четким пристальным умом, решительной хваткой и китайской сверхмерной хитростью. Это были люди, «сами себя сделавшие», хорошо подобранные коллективы удальцов, хунхузов, «феев», «у-сань», начинавших карьеру в горах и лесах. Они боролись, голодали, ставили карту на сильных, выдвигались среди сильных и брали власть над деревнями, городами, уездами, провинциями, развивая свои отношения в основном не на терроре, не на силе, а на дипломатии, сотрудничестве, взаимной выгоде. А когда один такой оказывался благодаря счастливой удаче во главе провинции с населением от 25 до 80 миллионов человек, он уже выходил на международную арену.
Китайская революция прежде всего «открыла двери» в Китай, и такие китайские удальцы стали пользоваться успехом у иностранных политиков — ведь возможности заработать в Китае были грандиозны. В открытую дверь Китая полезли Япония, Америка, Англия с бесконечным количеством хитроумных комбинаций в запасе. Ставка была невелика: немного старомодного оружия, а приз — Китай — огромен.
Среди многочисленных маршалов-удальцов закипела бесконечная жестокая борьба. За что они боролись между собой? За единство Китая. Это был род состязательного экзамена огромной трехчетвертьмиллиардной нации культурного, по-своему воспитанного народа, где к правлению должен был прийти самый талантливый, самый сильный, непобедимый даже при ничтожнейшем шансе».
К этому надо добавить, что СССР тоже ринулся в Китай и имел там своих удальцов — маршала Фэн Юй-сяна с его Национальными армиями на севере и Чан Кайши на юге. Последний от других дудзюннов отличался только уровнем образования — как-никак окончил японскую военную академию. Кстати, в этом отношении он и Блюхера существенно превосходил. После смерти Сунь Ятсена Чан Кайши стал наиболее влиятельным лидером революционной партии гоминьдан, поскольку располагал реальной военной силой.
Первое время китайский маршал и советский советник, которому еще только предстояло стать маршалом, жили душа в душу. Адъютант и секретарь Блюхера в Китае Мазурин рассказывал Казанину, как во время Северного похода сопровождал Василия Константиновича и Чан Кайши, летавших вместе на одном самолете над фронтом, вместе разрабатывавших планы и проводивших операции. Однако после успешного завершения похода китайский маршал начал тяготиться союзом с китайскими же коммунистами, с которыми не собирался делить плоды победы. Он, тем не менее, хотел сохранить дружеские отношения с СССР, нуждаясь в финансовой и экономической помощи. Один из китайских генералов — сподвижников Чан Кайши откровенно говорил советским советникам: «Мы против Коммунистической партии Китая, но мы уважаем и приветствуем вашу партию, ваше правительство и вашу армию». Губернаторы отдельных провинций видели в советском присутствии определенную стабилизирующую силу. По признанию Казанина, «Блюхер все же нередко играл роль арбитра между китайскими военными кликами, и мы покровительствовали той или иной более честной и надежной группировке». Чан Кайши, напротив, хотел ограничить роль Блюхера чисто военными вопросами, чтобы самому решать, кто из китайских генералов «более честен». В апреле 1927 года маршал официально порвал с коммунистами, произведя аресты коммунистов в Шанхае. Накануне на банкете он декларировал разрыв с Компартией. Советские советники демонстративно ушли с банкета, но еще несколько месяцев оставались в Китае, пока в Москве делали выбор между Чан Кайши и коммунистами. Тем временем левое крыло гоминьдана, контролировавшее правительство в Ухани, которое в Кремле думали сделать альтернативой Чан Кайши, в июле поддержало действия маршала. После этого Блюхер и другие советские советники покинули Китай, а в Москве санкционировали восстание верных коммунистам воинских частей в Наньчане. Оно началось 1 августа 1927 года, через пять дней после отзыва из армии гоминьдана советских специалистов, но в октябре было подавлено. Василий Константинович выехал из Шанхая на родину 11 августа 1927 года.
В воспоминаниях Казанина сохранился портрет Блюхера периода Северного похода, данный со слов Мазурина: «После похода у него открылись все восемнадцать ран. Ты знаешь, что это был за поход. Сквозь убийственную жару и болезни. Все изнемогали, раздевались, обмахивались чем попало, а он сидел на носу, прямой как струна, в наглухо застегнутом кителе, в ремнях и при оружии, не позволяя себе расстегнуть ни одной пуговицы». Таким же, застегнутым на все пуговицы, запомнил генерала Галина и сам Марк Исаакович: «Перед вами стоял и с вами общался красивый, привлекательный, очень простой и в то же время очень сильный и очень сдержанный человек Открытый взор серых глаз под темными густыми бровями, неизменная подтянутость, корректность и достоинство».
Василий Константинович и в Китае заботился о солдатах, не отличая в этом отношении русских от китайцев. Однажды Казанин рассказал ему о речи Чан Кайши в Наньчане, где тот заявил, что «Северный поход обошелся в восемнадцать тысяч долларов (советское вооружение поступало бесплатно. — Б. С.) и тридцать тысяч убитых». В это время вошел адъютант Блюхера Гмира и, услышав последние слова про тридцать тысяч убитых, уточнил: «А по сведениям, полученным от наших, погибло не 30, а 50 тысяч кобылки».
От злости у Василия Константиновича глаза из серых стали почти белыми, и он возмущенно сказал: «Гмира, я тебя второй раз предупреждаю: не употребляй, как попугай, это слово. Где ты его подхватил? От старых офицеров в училище?» Адъютант виновато потупил голову. Блюхер продолжал, едва не задыхаясь от ярости: «Не смей пользоваться этим выражением. Еще раз скажешь, и, нужен ты мне или не нужен, я тебя отчислю. Солдат не кобылка; солдат — это начало и конец».
В другой раз Блюхер поинтересовался у Казанина, кто командует высадившимися в Шанхае английскими войсками. «В газетах говорят о командире экспедиционного корпуса генерале Дункане и начальнике штаба полковнике Горте (позднее, в 1940 году, прославившемся успешной эвакуацией британской армии из Дюнкерка. — Б. С.), преимущественно о втором», — доложил начальник информационного бюро при главном военном советнике.
— Почему о втором? — насторожился Василий Константинович.
— Да так, — заметил Казанин, — романтический офицер, имеет орден Виктории за храбрость. Пишут, что за всю мировую войну только 32 человека награждены этим орденом. Много раз ранен.
— А это хорошо, — неожиданно засмеялся Блюхер, — значит, зря соваться никуда не будет. Знаете, ведь после первой раны пыл остывает на пятьдесят процентов, после второй — еще на пятьдесят, и так далее».
Опыт Первой мировой войны, где Василий Константинович был тяжело ранен, научил его зря не рисковать солдатскими жизнями.
Вот и о китайских солдатах Блюхер говорил Каза-нину со знанием дела. Марк Исаакович как-то выразил свое удивление: «Мне часто приходится видеть армейские части, когда езжу в Учан, и меня поражает, какие все солдаты молоденькие, почти дети, и они кажутся мне слабыми».
— А кого вы думали увидеть? — осведомился Блюхер.
— Я ждал, что увижу, так сказать, бородачей, пожилых крестьян, батраков, рабочих, измученных работой у помещика или на заводе и восставших, — признался Казанин, еще находившийся в плену стереотипов советской пропаганды, ориентировавшейся на классическую марксистскую схему.
Блюхер отнесся к этой тираде несколько иронически, обнаружив тонкое знание крестьянской психологии: — Не обязательно. В армии есть и те, кого вы ждете, но помните: у взрослого крестьянина семья, ребятишки, голодные рты — ему нельзя уйти, да он, может быть, и надежду потерял. Вот он и старается изо дня в день, чтобы перебиться, там достать, тут доделать. Он мелочен, он погряз в хозяйстве. А вот рядом его сын или младший братишка, в нем горят гнев и нетерпение, он хочет мстить (интересно, за что? — Б. С.). И он идет партизанить. Такой паренек не совсем ясно представляет себе аграрный вопрос, может быть, он даже не хочет земли. Он просто стремится к светлой жизни, ищет выхода. Солдат живет мечтой.
— Так-то так, — согласился Казанин, — но только все они маленькие какие-то.
— Не все маленькие, — возразил Блюхер. И добавил полушутливо: — А большой на войне чем лучше? Только что попасть в него легче».
Ни Василий Константинович, ни Марк Исаакович не стали уточнять, что влекло молодых китайцев в революционные, равно как и в контрреволюционные, армии преимущественно одно обстоятельство: возможность поживиться за счет ближнего. В этом они принципиально не отличались от своих предводителей. Младшие братья и сыновья, не имевшие собственного надела, до революции шли искать «светлую жизнь» в банды разбойников-хунхузов. После же начала Гражданской войны в Китае они пополнили ряды армий различных дудзюннов, часто переходя от одного к другому, порой целыми дивизиями. Земля солдат интересовала мало, зато привлекали жалованье (если платили) и возможность безнаказанно поживиться за счет мирного населения.
В Китае Блюхер встретил свою вторую жену, с которой и вернулся в Россию. Галина Александровна Кольчугина была школьной подругой харбинца Казанина, и он оставил нам ее портрет: «У нее было все то же юное лицо, живые, лукавые карие глаза и та же легкая, умная, дразнящая манера разговора. Галина выросла в Харбине и там же получила среднее образование. Она знала английский язык и была неизменной спутницей Блюхера в Китае. Конечно, она просила меня прийти к ним (когда в последние месяцы пребывания Василия Константиновича в Китае все вместе Жили в Ханькоу. — Б. С.) и вспомнить старую дружбу, но я, конечно, не пошел. Мне, молодому человеку и рядовому работнику, казалось неуместным становиться на короткую ногу с прославленным героем Гражданской войны («Ведь я червяк в сравненьи с ним! В сравненьи с ним, с лицбм таким — с его сиятельством самим!» — если вспомнить Пьера Беранже в переводе Василия Курочкина. — Б. С,) только потому, что он женился на моей школьной подруге. Галина была умным и думающим человеком со своим мнением». Фактически она выполняла функции личной секретарши мужа во время его китайской командировки.
По возвращении из Китая Блюхер был назначен помощником командующего Украинского военного округа. Служить ему в этой должности пришлось два года. Летом 1929-го Василия Константиновича вновь вызвали на Дальний Восток. Здесь нарастала напряженность в советско-китайских отношениях в связи с судьбой Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), с 1924 года находившейся формально в совместном советско-китайском управлении. Однако к 1929 году, благодаря политике руководства дороги, китайских чиновников на КВЖД практически не осталось и контроль над ней оказался целиком в советских руках. Правительство Чан Кайши, годом раньше, после убийства японской разведкой супердудзюнна северных провинций маршала Чжан Цзолина, смогло установить контроль над севером страны. 10 июля 1929 года оно попыталось водворить на КВЖД китайских представителей под охраной войск. Москва решила продемонстрировать, кто в Харбине хозяин. 6 августа 1929 года появилось постановление Реввоенсовета о создании Особой Дальневосточной армии, в которую вошли все силы Красной Армии, расположенные на Дальнем Востоке. Во главе ОДВ был поставлен Блюхер как человек, не только хорошо знающий театр военных действий, но и совсем недавно руководивший действиями войск Чан Кайши. 16 августа Москва разорвала дипломатические отношения с Нанкином. 18 августа передовые отряды ОДВ вторглись в Маньчжурию. Задним числом, 2 января 1930 года, «Правда» дала такое пропагандистское обоснование происшедшего: «ОКДВА с величайшей сдержанностью отвечала на удары и провокации, не выходя из рамок необходимой самообороны. Когда же выяснилось, что эти налеты и нападения являются подготовкой к серьезным наступательным операциям против СССР, наша армия нанесла молниеносный ответный удар, который заставил противника в панике бросить свои противосоветские опорные базы».
Боевые действия, развертывавшиеся только на китайской территории, продолжались до 20 ноября. Среднемесячная численность участвовавших в конфликте соединений Особой Дальневосточной составила около 18,5 тыс. человек, что примерно соответствовало штатной укомплектованности одной стрелковой дивизии. В октябре бои вела одна стрелковая дивизия, поддержанная Дальневосточной (Амурской) флотилией, в ноябре — три другие дивизии и кавбригада. Численность китайских войск была примерно втрое больше, но они располагали значительно меньшим количеством орудий и пулеметов, имели устаревшие винтовки и вовсе не имели авиации, тогда как с советской стороны действовало несколько авиаотрядов. Плохо вооруженные и скверно организованные китайские войска были разбиты наголову. Это было столкновение феодальной азиатской армии с более или менее современной европейской армией. К тому же противостояли армии Блюхера главным образом бывшие солдаты Чжан Цзолина, деморализованные после гибели своего вождя и не горевшие особым желанием сражаться за Чан Кайши.
Соответствующим было и соотношение потерь. Например, только в районе станций Маньчжурия и Чжалайнор советские войска захватили 8 300 пленных, потеряв убитыми и ранеными всего 123 человека. Была также полностью потоплена китайская Сунгарийская флотилия. Общие советские потери, по официальным данным, составили 143 убитых, 4 пропавших без вести и 665 раненых. Китайцы только убитыми потеряли более тысячи человек.
22 декабря 1929 года в Хабаровске был подписан советско-китайский протокол, восстанавливающий то положение на КВЖД, которое существовало до 10 июля 1929 года. Дипломатические же отношения между СССР и Китаем были восстановлены лишь три года спустя, 22 декабря 1932 года, когда после японской оккупации Маньчжурии Чан Кайши нуждался в советской поддержке и готов был забыть советскую агрессию 29-го года.
За победу в советско-китайском конфликте Блюхер в мае 1930 года был награжден орденом Красной Звезды под номером 1. Особая Дальневосточная армия стала Краснознаменной. Всего же на посту командующего ОКДВА Василий Константинович пробыл девять лет — почти до самого ареста. О деятельности Блюхера на Дальнем Востоке вспоминает адмирал Н.Г. Кузнецов, в конце 30-х годов командовавший Тихоокеанским флотом. Со ссылкой на своего друга Григория Михайловича Штерна, одно время служившего в центральном аппарате военного ведомства, а позднее начальником штаба Особой Дальневосточной, Николай Герасимович процитировал наркома обороны Ворошилова: «Когда маршал Блюхер на востоке, там можно иметь войск на один корпус меньше». Климент Ефремович явно благоволил Василию Константиновичу. Крестьянская родословная и пролетарское прошлое делали Блюхера очень удобным героем для пропагандистского мифа. Награды и звания так и сыпались на него. В 1931 году Василий Константинович награжден орденом Ленина, в 1934-м на XVII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК, а в 1935-м — удостоен звания Маршала Советского Союза. Любовь наркома к командующему ОКДВА кончилась только в августе 38-го, после хасанских событий.
Вместе с Блюхером в Хабаровске служил П.А. Ротмистров. Павел Алексеевич вспоминал: «Исключительное внимание В.К. Блюхер уделял повышению военнотехнических знаний командиров и политработников, уровня их личной огневой подготовки, считая, что только командиры и политработники, в совершенстве владеющие оружием, могут успешно обучать бойцов. Сам он отлично стрелял из всех видов оружия, умел даже готовить данные для стрельбы артиллерии с открытых и закрытых позиций. Василий Константинович часто и, как правило, внезапно появлялся на стрельбищах, лично проверяя результаты стрельбы командного и политического состава.
Делал это он по-своему. Узнав, какое упражнение по Курсу стрельб отрабатывается, просил оружие и вместе со всеми выходил на огневой рубеж. После двух-трех пробных выстрелов командарм вел огонь по-снайперски. И горький конфуз испытывал тот, кто рядом с ним стрелял плохо. Блюхер обычно лишь спрашивал фамилию командира и укоризненно говорил: «Как же вы, дорогой товарищ, можете обучать своих подчиненных, если сами так скверно стреляете?» Тот, конечно, сгорал от стыда. Зная, что командующий обладает превосходной памятью и в следующий раз обязательно спросит о нем, оплошавший в стрельбе настойчиво совершенствовал свою огневую подготовку».
Чувствуется, что Василию Константиновичу ближе всего была индивидуальная подготовка бойцов и командиров и вопросы тактики. Для полноценного осмысления оперативных и стратегических проблем и решения организационных вопросов в масштабах отдельной армии (фактически — фронта) ему не хватало общего и военного образования. Ни одной работы по военной теории или истории из-под пера Василия Константиновича так и не вышло. Да и насчет издававшихся им приказов трудно сказать, когда их авторами является он сам, а когда — начальники штабов.
В вопросах обучения Блюхер придерживался вполне мифологических взглядов, будучи уверен, в частности, что плохо стреляющий командир не может научить хорошо стрелять своих подчиненных. Между тем имеется достаточно примеров обратного свойства. Вот С. Г. Пушкарев в «Воспоминаниях историка» рассказывает, как в Гражданскую войну в Добровольческой армии на пулеметных курсах в качестве инструктора он так обучил стрельбе из пулемета 10 своих учеников, что они лучше всех выполнили зачетные стрельбы, тогда как сам Сергей Германович стрелял хуже всех других инструкторов и даже попросил освободить его от стрельб вместе с инструкторами, чтобы не оконфузиться перед учениками.
Блюхер видел, что колхозники трудятся ни шатко ни валко, но преодоление продовольственного кризиса видел отнюдь не на пути роспуска колхозов, а скорее на пути возрождения аракчеевских военных поселений. Вот что сообщает Ротмистров: «Нехорошо получается, — говорил Василий Константинович, — земли у нас много, земля плодородная, а сами себя снабдить хлебом и кормами для скота не можем. Все тащим из центральных районов страны, забиваем железную дорогу невыгодными, излишними перевозками».
Блюхер выдвинул идею продовольственного обеспечения армии силами ее самой. Его поддержали Военный совет ОКДВА и крайком партии, одобрили замысел в Москве. 17 марта 1932 года (как раз тогда, когда начался массовый голод на Украине и Северном Кавказе. — Б.С.) Политбюро ЦК ВКП(б) постановило сформировать в составе ОКДВА особый колхозный корпус (ОКК), с тем чтобы «укрепить безопасность советских дальневосточных границ, освоить богатейшие целинные и залежные земли, обеспечить население Дальнего Востока и армию продовольствием, значительно сократить ввоз хлеба и мяса из Сибири на Дальний Восток, развить экономику Дальнего Востока».
Командиром ОКК, насчитывавшего 60 тыс. человек, Блюхер назначил своего соратника по Уральскому рейду М.В. Калмыкова. На практике красноармейцы-колхозники и хозяйство вели не слишком эффективно, и боевой подготовкой занимались спустя рукава — на нее в период страды просто времени не оставалось. Зато на бумаге все выглядело солидно: Особая Дальневосточная обеспечила себя продовольствием и приобрела мощную дополнительную силу в три стрелковых и одну кавалерийскую дивизии. Правда, самообеспеченности армии мясом и фуражом удалось достичь только в 1935 году, а картофель, овощи и хлеб все равно приходилось ввозить извне.
Когда писатель Константин Симонов спросил маршала И.С. Конева, служившего на Дальнем Востоке сразу после ареста Блюхера, какого он мнения о Василии Константиновиче, Иван Степанович заявил, что Блюхер «был к тридцать седьмому году человеком с прошлым, но без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от Гражданской войны и принадлежал к той категории, которую представляли собой к началу войны Ворошилов, Буденный и некоторые другие бывшие конармейцы, жившие несовременными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не лучше Ворошилова или Буденного. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как хасанские события, Блюхер провалил».
Пожалуй, с мнением Конева можно согласиться. Добавлю только, что в боевой обстановке Василию Константиновичу практически не приходилось командовать больше, чем дивизией. Опыт главного военного советника в Китае и командующего ОДА в боях у КВЖД относился к борьбе с очень слабым противником, не идущим ни в какое сравнение ни с японской, ни с германской армией.
На Дальнем Востоке Блюхер женился в третий раз. В 1930 году он расстался с Галиной Кольчугиной. Будущая третья жена, Глафира Лукинична Безверхова, появилась на горизонте командующего ОКДВА два года спустя. В 1932 году обрусевшие украинцы жили в Хабаровске по соседству с Блюхером. Домашнее имя Глафиры было Графа. Вот с этого имени и началось знакомство с будущим маршалом. Однажды во дворе подружка окликнула ее: «Графа!» Мимо как раз проходил Василий Константинович, который удивленно спросил: «А почему Графа?» Глафира объяснила. Блюхер нахмурился: «Не нравится мне это имя, что-то в нем из прошлого». Очевидно, у Василия Константиновича возникла неприятная ассоциация с графским титулом, однако на Глафиру он своего раздражения не перенес. Потом встретились на субботнике по уборке двора и улицы. Блюхер участвовал в нем наравне с другими жильцами. Тогда он Глафире понравился. Много лет спустя вдова Блюхера рассказывала писателю Владимиру Карпову об этой встрече на субботнике: «Он был в штатском (не в мундире же метлой махать! Хотя в советское время и такое бывало! Мой зять, бывший офицер военной разведки, рассказывал мне, как в советском посольстве в Египте в 60-е годы устроили субботник, во время которого полковники из аппарата военного атташе в полной форме бодро махали метлами, а египтяне показывали пальцами и смеялись. — Б.С.), общительный, не воспринимался большим начальником». Видно, Глафира запала в душу Василию Константиновичу, и вскоре он прислал ей пригласительный билет на спектакль в Дом Красной Армии. Глафира Лукинична вспоминала в беседе с Владимиром Карповым: «Потом пошли короткие, вроде бы ни к чему не обязывающие встречи. Затем он стал писать мне записки, а я ему отвечала. Я стала брать у него книги из библиотеки, мы подолгу разговаривали. В общем, я поняла, что все уже довольно серьезно и чувства и у меня к нему, и у него ко мне разгораются. Однажды он очень серьезно сказал: «Нам надо поговорить, — подумал и, как бы размышляя, добавил: — Я знаю, дорого заплачу я за свою любовь. Но я уже больше ничего с собой сделать не могу. Я-то выдержу, но выдержат ли твои молодые плечи? Ведь у нас разница в возрасте двадцать пять лет!»
Я была в полной растерянности. В счастливой растерянности. Не знала, как ответить, и не нашла ничего лучшего, как прочитать строки из стихотворения.
На следующий день Василий Константинович пришел к нам домой. Родители уже замечали и выражали недовольство моим поведением. Отец от этого знакомства не ожидал ничего хорошего (как в воду глядел, словно предчувствуя, что связь с прославленным полководцем приведет дочку прямиком в ГУЛаг. — Б. С.): разница в годах, разница в положении казались ему просто несовместимыми (да и у жениха это все-таки третий брак. — Б.С.). И вдруг Василий Константинович сам приходит. Мама засуетилась, стала накрывать на стол.
Василий Константинович поговорил с моими родителями очень хорошо, как говорится, тепло, и сделал официальное предложение. Так мы стали мужем и женой. В 1933 году у нас родилась дочка, мы назвали ее Вайра (опять Блюхер оказался не в ладах со святцами. — Б. С.). Потом сын Василий. Василий Константинович очень любил детей. С нами жили их еще двое. Сева — от второй жены и приемная дочка Нина (ее Блюхер взял в 1921 году в Чите, куда привезли сирот из голодающего Поволжья; Нина в 1937 году переехала к своей сестре, что спасло ее от последующих репрессий. — Б.С.)».
Драматический поворот в судьбе Василия Константиновича наступил в 1937 году. Глафира Лукинична вспоминала: «В конце мая 1937 года Василия Константиновича неожиданно вызвали в Москву, я поехала с ним. Мы остановились в гостинице «Метрополь». Тогда шли многочисленные аресты, многие из знакомых Блюхера были уже арестованы. Время было такое тяжелое, мрачное, было непонятно, что происходит, не верилось, что все арестованные — враги и шпионы. Вскоре после нашего приезда Василий Константинович поехал навестить начальника Главного политического управления Красной Армии Гамарника. Он болел. Блюхер был с ним в добрых отношениях, решил его навестить. А может быть, хотел узнать о том, что же, собственно, происходит.
Возвратился муж от Яна Борисовича хмурый, неразговорчивый. На другой день он опять поехал к Гамарнику, это уже было 31 мая. Вернулся он буквально в подавленном состоянии. Я думаю, Гамарник сказал ему о том, что намечается процесс и кого там будут судить.
И вот 1 июня Василий Константинович брился в туалете, а я взяла свежие газеты и, как только раскрыла, сразу же увидела сообщение, которое меня потрясло, и я закричала: «Василий! Ян Борисович застрелился!» Василий как-то очень спокойно ко мне обернулся и сказал:
— Ты думай, прежде чем говорить.
— Как думай! Вот, смотри, смотри, что написано в газете.
Василий посмотрел газету и ничего мне не сказал, а только ходил туда-сюда по комнате и сосредоточенно о чем-то думал».
О визите Блюхера вспоминала и дочь Гамарника Виктория: «30-го к отцу приехал Блюхер — они хорошо знали друг друга по Дальнему Востоку, — и они о чем-то долго говорили с отцом. Матери отец сказал потом, что ему предлагают стать членом суда над Тухачевским. «Но как я могу! — воскликнул он. — Я ведь знаю, что они не враги. Блюхер сказал, что, если откажусь, меня могут арестовать. 31-го вновь ненадолго заехал Блюхер. Затем пришли какие-то люди и опечатали сейф отца. Ему сказали, что он отстранен от должности, а его заместители Овсепян и Булин арестованы. Отцу приказали быть дома. Как только люди из НКВД ушли, в его комнате мы услышали выстрел. Когда мы с мамой вбежали, все было кончено».
Из рассказа Виктории Яновны как будто следует, что Блюхер приходил к Гамарнику совсем не для того, чтобы посоветоваться, и тем более не для того, чтобы узнать подробности дела Тухачевского. Похоже, что Ворошилов выбрал Василия Константиновича на роль своеобразного парламентера, призванного передать Яну Борисовичу ультиматум: или будешь судить участников «военно-фашистского заговора», или окажешься вместе с ними на скамье подсудимых. Вероятно, это было неслучайно. Есть основания подозревать, что былая дружба между Гамарником и Блюхером в последние годы дала трещину и Ян Борисович оказался причастен к попытке Тухачевского и его товарищей убрать Блюхера с Дальнего Востока.
Гамарник застрелился после того, как ему предложили быть членом суда над Тухачевским и его товарищами, суда с предрешенным смертным приговором. Начальник ГлавПУРа понимал, что отказ сделает его еще одним подсудимым на предстоящем процессе, и предпочел уйти из жизни добровольно, не запятнав себя ни участием в неправедном судилище, ни позором унизительных покаяний и расстрела у глухой стены в лубянском или лефортовском подземелье. Блюхеру же пришлось испить чашу унижений почти до самого дна.
С 1 по 4 июня 1937 года Василий Константинович присутствует на заседании Главного Военного Совета, где обсуждается вопрос о военно-фашистском заговоре в Красной Армии и назначаются члены Специального Судебного Присутствия для суда над заговорщиками. 2 июня с речью выступил Сталин. Он утверждал, что Тухачевский и его соратники собирались сместить Блюхера с поста командующего Особой Дальневосточной армии: «Они сообщают (своим германским хозяевам. — Б. С.), что у нас такие-то командные посты заняты, мы сами занимаем большие командные посты — я, Тухачевский, а вон, Уборевич, а здесь Якир. Требуют — а вот насчет Японии, Дальнего Востока как? И вот начинается кампания, очень серьезная кампания. Хотят Блюхера снять. И там же есть кандидатура. Ну, уж, конечно, Тухачевский. Если не он, так кого же. Почему снять? Агитацию ведет Гамарник, ведет Арониггам. Так они ловко ведут, что подняли почти все окружение Блюхера против него. Более того, они убедили руководящий состав военного центра, что надо снять. Почему, спрашивается, объясните, в чем дело? Вот он выпивает. Ну, хорошо. Ну, еще что? Вот он рано утром не встает, не ходит по войскам. Еще что? Устарел, новых методов работы не понимает. Ну, сегодня не понимает, завтра поймет, опыт старого бойца не пропадает. Посмотрите, ЦК встает перед фактом всякой гадости, которую говорят о Блюхере. Путна бомбардирует, Аронштам бомбардирует, нас в Москве бомбардирует Гамарник. Наконец, созываем совещание. Когда он приезжает, видимся с ним. Мужик как мужик, неплохой. Мы его не знаем, в чем тут дело? Даем ему произнести речь — великолепно. Проверяем его и таким порядком. Люди с мест сигнализировали, созываем совещание в зале ЦК.
Он, конечно, разумнее, опытнее, чем любой Тухачевский, чем любой Уборевич, который является паникером, и чем любой Якир, который в военном деле ничем не отличается. Была маленькая группа. Возьмем Котовского, он никогда ни армией, ни фронтом не командовал. Если люди не знают своего дела, мы их обругаем — подите к черту, у нас не монастырь. Поставьте людей на командные должности, которые не пьют и воевать не умеют, — нехорошо. Есть люди с 10-летним командующим опытом, действительно, из них сыплется песок, но их не снимают, наоборот, держат. Мы тогда Гамарника ругали, а Тухачевский его поддерживал. Это единственный случай сговоренности. Должно быть, немцы донесли, приняли все меры. Хотели поставить другого, но не выходит».
И сегодня нельзя с уверенностью сказать, что в этой довольно нескладной сталинской речи — правда, а что — ложь. Насчет доносов Гамарника на Блюхера Иосиф Виссарионович, возможно, присочинил. Ведь вдова маршала утверждала, что Ян Борисович и Василий Константинович были в хороших отношениях. Но, с другой стороны, дочь Гамарника настаивает на том, что именно Блюхер передал ее отцу ворошиловский ультиматум. Василий Константинович, в конце концов, мог и не посвящать жену в свои служебные дрязги, мог не рассказывать, что они с Гамарником поссорились. А вот с тем, что маршал, подобно Котовскому, никогда не командовал ни армией, ни фронтом, можно согласиться. И насчет блюхеровского пьянства слухи, вероятно, были не беспочвенны. Просто Сталин до поры до времени не считал это настолько существенным недостатком, чтобы снимать из-за этого с должности командующего ОКДВА. Вот и Конев в цитировавшемся выше разговоре с Симоновым утверждал, что Блюхер «последнее время вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился». Это суждение Ивана Степановича Константин Симонов в 70-е годы прокомментировал следующим образом: «Этот момент мне не кажется убедительным, потому что в той обстановке, которая создалась к тридцать восьмому году — ко времени хасанских событий, когда Блюхер чувствовал себя уже человеком с головой, положенной под топор, — трудно судить его за неудачное проведение операции. Это уже в значительной мере было результатом создавшейся атмосферы, а не только его руководства, хотя, может быть, оно и было неудачным, тут спорить не приходится. Да и опущенность, моральное состояние, пьянство — все это могло быть в значительной мере последствиями обстановки, создавшейся в армии и, в частности на Дальнем Востоке, вокруг самого Блюхера». Судя по выступлению Сталина, о пьянстве Блюхера было широко известно и в 37-м, причем еще до ареста Тухачевского и его товарищей. И до сих пор остается загадкой, предопределил ли уже тогда Иосиф Виссарионович судьбу Блюхера или все-таки основной причиной его опалы и ареста стал провал на Хасане.
На Военном Совете 1–4 июня Блюхер резко осудил участников военно-фашистского заговора и на суде послушно изобличал подсудимых в измене Родины. На заседании Военного Совета Василий Константинович выразил готовность разобраться с вредителями у себя на Дальнем Востоке: «Нам сейчас, вернувшись в войска, придется начать с того, что собрать небольшой актив, потому что в войсках говорят и больше, и меньше, и не так, как нужно. Словом, нужно войскам рассказать, в чем тут дело».
— То есть пересчитать, кто арестован? — иронически заметил Сталин.
— Нет, не совсем так, — смутился Блюхер».
И Иосиф Виссарионович объяснил, что именно надо рассказывать подчиненным о «заговоре Тухачевского»:
— Я бы на Вашем месте, будучи командующим ОКДВА, поступил бы так: собрал бы более высший состав и им подробно доложил. А потом и я, в моем присутствии, собрал бы командный состав пониже и объяснил бы более коротко, но достаточно вразумительно, чтобы они поняли, что враг затесался в нашу армию, он хотел подорвать нашу мощь, что это наемные люди наших врагов — японцев и немцев. Мы очищаем нашу армию от них; не бойтесь, расшибем в лепешку всех, кто на дороге стоит. Верхним сказал бы шире».
«Неплохой мужик» Блюхер так рьяно взялся искоренять «врагов народа» в Особой Дальневосточной, что к началу конфликта у озера Хасан многие командные должности оказались вакантны. Замещать же их новыми людьми маршал боялся: вдруг они завтра тоже сделаются «наемными людьми» японцев? Размах репрессий на Дальнем Востоке, осуществлявшихся под руководством начальника местного НКВД Г.С. Люшкова, достигли рекордного размаха. Тем временем на Дальнем Востоке сгущались тучи. Сталину необходимо было продемонстрировать своему народу и окружающему миру, что, несмотря на репрессии, Красная Армия полностью сохранила боеспособность и может, если потребуется, дать по зубам проклятым империалистам. 8 июня 1938 года Главный Военный Совет РККА принял постановление о создании на базе Особой Дальневосточной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта, что ясно указывало на приближение военной грозы. 13 июня сбежал в Маньчжурию Люшков, незадолго до этого вызванный в Москву. Генрих Самойлович опасался, что по возвращении в столицу будет арестован и разделит участь «старой чекистской гвардии» бывшего наркома Г.Г. Ягоды, постепенно уничтожавшейся людьми его преемника Н.И. Ежова. Возможно также, что, зная о предстоящих хасанских событиях и будучи осведомлен, через Особые отделы ОКДВА, о слабой боеспособности советских войск, Люшков не без основания предполагал, что станет одним из «козлов отпущения» за неудачу.
Она вскоре разразилась в районе озера Хасан, где сходились границы СССР, Кореи и созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-Го. Неудача у Хасана стоила командующему Дальневосточного фронта Маршалу Советского Союза Василию Константиновичу Блюхеру не только высокого поста, но и головы.
По японской версии, опубликованной в августе 1938 года в издававшемся Охранным бюро МВД Японии бюллетене «Гайдзи гэппо», события развивались следующим образом: «Инцидент у высоты Чангуфэнь (японское название Заозерной. — Б.С.) начался 12 июля 1938 года, когда несколько десятков советских солдат перешли советско-маньчжурскую границу и, противозаконно заняв высоту Чангуфэнь, начали возводить на ней укрепления. 14 июля представители властей Маньчжоу-Го, а 15 июля — правительство Японии выразили протест в связи с действиями советской стороны. В ответ СССР продолжал наращивать численность своего контингента в районе высоты. В результате контрмер, предпринятых императорской армией, а также переговоров между японским послом в СССР Сигэмицу и советским наркомом иностранных дел Литвиновым, проходивших 4,7 и 10 августа, было заключено соглашение о перемирии, а затем, 11–13 августа, — соглашение о демаркации границы в этом районе, благодаря чему данный инцидент был окончательно урегулирован».
Советская версия того, из-за чего произошли бои у озера Хасан, естественно, иная. Согласно ей, 15 июля 1938 года в районе Заозерной нарушил границу японский жандарм Сякуни Мацусима. Выстрелом из винтовки нарушитель был убит. В него стрелял начальник инженерной службы Посьетского отряда В. Виневитин. Японцы утверждали, что труп лежал на маньчжурской стороне границы, и, следовательно, виноваты в инциденте русские. Последующее расследование, проведенное по инициативе Блюхера, показало, что убийство действительно произошло на территории Маньчжоу-Го. Но началось все несколькими днями раньше. В первых числах июля советские пограничники скрытно заняли позиции на вершине Заозерной и стали рыть там окопы и возводить проволочные заграждения. Граница же проходила по гребню сопки. 12 июля японцы обнаружили советские укрепления, а 15-го послали туда отряд жандармов, один из которых и был убит. В тот же день временный поверенный в делах Японии в Москве Ниси потребовал от советской стороны вернуть пограничников на прежние позиции. В ответ заместитель наркома иностранных дел Б. Стомоняков заявил, что ни один советский солдат границы не нарушал. Через четыре дня состоялся резкий обмен мнениями между послом М. Сигэмицу и наркомом М. Литвиновым. По инициативе японского командования границу перешли десятки местных жителей с письмами, где просили русских уйти с маньчжурской земли. Интересно, что советская сторона бои у озера Хасан непосредственно увязывала с бегством бывшего шефа Дальневосточного НКВД. В стенгазете советского посольства в Токио с характерным названием «Высота Заозерная — исконно русская земля», содержание которой стало известно японскому агенту, утверждалось, что пресса Японии в связи с «делом Люшкова» раздула истерическую и лживую пропагандистскую кампанию, и Советский Союз вынужден был укрепить свои дальневосточные границы. Но это была всего лишь пропагандистская уловка, правда, не для широкой публики, а для дипломатов и военных. На самом деле, как мы помним, Дальневосточный фронт был сформирован за месяц до первых выстрелов на Заозерной.
Тем временем в дело вмешался Блюхер, пославший на Заозерную собственную комиссию. В секретном приказе наркома обороны Ворошилова, изданном 31 августа 1938 года и посвященном итогам хасанских боев, с возмущением говорилось: «Руководство командующего Дальневосточного Краснознаменного фронта маршала Блюхера в период боевых действий у озера Хасан было совершенно неудовлетворительным и граничило с сознательным пораженчеством. Все его поведение за время, предшествовавшее боевым действиям и во время самих боев, явилось сочетанием двуличия, недисциплинированности и саботирования вооруженного отпора японским войскам, захватившим часть нашей территории. Заранее зная о готовящейся японской провокации (точнее, советской. — Б.С.) и о решениях правительства по этому поводу, объявленных тов. Литвиновым послу Сигэмицу, получив еще 22 июля директиву наркома обороны о приведении всего фронта в боевую готовность, тов. Блюхер ограничился отдачей соответствующих приказов и ничего не сделал для проверки подготовки войск для отпора врагу и не принял действительных мер для поддержки пограничников полевыми войсками. Вместо этого он совершенно неожиданно 24 июля подверг сомнению законность действий наших пограничников у озера Хасан. Втайне от члена Военного Совета тов. Мазепова, своего начальника штаба тов. Штерна, зам. наркома обороны тов. Мехлиса и заместителя наркома внутренних дел тов. Фриновского, находившихся в это время в Хабаровске (все они далеко не случайно прибыли еще до начала боев. — Б. С.), тов. Блюхер послал комиссию на высоту Заозерная и без участия начальника погранучастка произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила «нарушение» нашими пограничниками маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, «установила» нашу «виновность» в возникновении конфликта на озере Хасан. Ввиду этого тов. Блюхер шлет телеграмму наркому обороны об этом мнимом нарушении нами маньчжурской границы и требует немедленного ареста начальника погранучастка и других «виновников в провоцировании конфликта» с японцами. Эта телеграмма была отправлена тов. Блюхером также втайне от перечисленных выше товарищей. Даже после указания от правительства о прекращении возни со всякими комиссиями и расследованиями и о точном выполнении решений Советского правительства и приказов наркома обороны тов. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооруженного отпора японцам».
25 июля, на следующий день после прибытия блю-херовской комиссии, начальник войск Дальневосточного пограничного округа Соколов отчитал своего подчиненного, начальника Посьетского пограничного отряда Гребенника: «Где сказано, что надо допускать на линию границы командный состав, не имеющий отношения к охране границы? Почему не выполняете приказ о недопуске на границу без разрешения?.. Вы не выполняете приказ, а начальник штаба армии фиксирует один окоп за линией границы, там же проволочные заграждения. Почему расходится с Вашей схемой, подписанной Алексеевым (начальником штаба Посьетского погранотряда. — Б. С.)?
— Оборудование высоты проходило ночью, — неуверенно оправдывался Гребенник.
— Почему не сходятся Ваши донесения со схемой, правда это или нет? — не унимался Соколов.
— После проверки теодолитом оказались небольшие погрешности, — признал начальник Посьетского погранотряда. — Сейчас эта ошибка исправляется.
— А 4-метровая пограничная полоса учтена? — допытывался шеф пограничников Дальнего Востока.
— Учтена, — заверил Гребенник.
— Значит, окоп и проволока находятся за 4-метровой пограничной полосой на сопредельной стороне, — уточнил Соколов.
— Окоп трудно определить, — объяснял командир погранотряда. — По приборам, якобы часть окопа вышла на несколько сантиметров вперед, а проволочный спотыкач находится рядом перед окопом, на высоте травы. Повторяем, эту ошибку сейчас исправляем».
Если перевести этот уклончивый диалог на обычный русский язык, станет ясно, что фактически нарушение границы со стороны советских пограничников имело место, но они предпочитали называть это ошибкой, связанной с несовершенством геодезических приборов. И Кузьму Евдокимовича Гребенника вроде бы можно понять. Совсем недавно на его участке ушел в Маньчжурию Люшков, а тут еще посланная Блюхером комиссия обвиняет беднягу в «провоцировании конфликта с японцами» и сам грозный дальневосточный маршал требует его ареста. Вряд ли, конечно, Кузьма Евдокимович послал бойцов на гребень Заозерной по своей инициативе. И роковой выстрел в японского жандарма, думается, был совсем не случайным. Но что именно его в случае чего сделают главным и единственным виновником инцидента, начальник Посьетского погранотряда понимал очень хорошо. Однако Сталин решил идти до конца и показать японцам силу Красной Армии.
Беда была в том, что красноармейцы воевать не очень-то умели. В итоговом приказе Ворошилова об этом говорилось вполне откровенно: «Виновниками в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней Дальневосточного Краснознаменного фронта и в первую очередь командующий Дальневосточным Краснознаменным фронтом маршал Блюхер. Вместо того чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации вредительства и боевой подготовки Дальневосточного Краснознаменного фронта и правдиво информировать партию и Главный Военный Совет о недочетах в жизни войск фронта, тов. Блюхер систематически из года в год прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его состоянии. В таком же духе им был сделан многочасовой доклад на заседании Главного Военного Совета 28–31 мая 1938 года, в котором он скрыл истинное состояние войск Дальневосточного фронта и утверждал, что войска фронта хорошо подготовлены и во всех отношениях боеспособны.
Сидевшие рядом с Блюхером многочисленные враги народа умело скрывались за его спиной, ведя свою преступную работу по дезорганизации и разложению войск Дальневосточного Краснознаменного фронта. Но и после разоблачения и изъятия из армии изменников и шпионов тов. Блюхер не сумел или не захотел по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов народа. Под флагом особой бдительности он оставил вопреки указаниям Главного Военного Совета и наркома незамещенными сотни должностей начальников частей и соединений, лишая таким образом войсковые части руководителей, оставляя штабы без работников, способных к выполнению своих задач. Такое положение тов. Блюхер объяснял отсутствием людей (что не отвечает правде) и тем самым культивировал огульное недоверие ко всем командно-начальствующим кадрам Дальневосточного Краснознаменного фронта».
Насчет боевой подготовки все в ворошиловском приказе было правдой. Один из участников боев у озера Хасан С. Шаронов вспоминал: «До хасанских событий я служил в 120-м стрелковом полку 40-й стрелковой дивизии. Боевой подготовкой занимались мало. В 1937–1938 годах многих командиров забрали. Командование дивизии обезглавили полностью: арестовали комдива Васнецова, комиссара Руденко, начштаба Шталя, начальника артиллерии, начмеда и его жену, офицера-медика. В полку — та же картина. Мы, рядовые бойцы, порой не знали, кому верить. Тянулись только к политруку Матвееву, настоящему большевику, еще красногвардейской закалки. Его тоже забирали, а потом вернули. Мы спрашивали у него, когда же будем боевые гранаты метать, все деревянными да деревянными? Ему такие вопросы можно было задавать, мы знали. А Матвеев отвечал: «Вам гранату метнуть, а для государства это в корову обойдется». Он задумывался и добавлял: «Да еще повоюете». Воевать, как мы знаем, пришлось очень скоро.
Тем временем 28 июля, в самый канун начала полномасштабных боев, Мехлис телеграфировал Сталину: «Уволил двести пятнадцать политработников, значительная часть из них арестована. Но очистка политаппарата, в особенности низовых звеньев, мною далеко не закончена. Думаю, что уехать из Хабаровска, не разобравшись хотя бы вчерне с комсоставом, мне нельзя. Позиция Блюхера в связи с инцидентом у высоты Заозерной более чем странная, льющая воду на мельницу японцев. Блюхер ведет себя по инциденту на высоте Заозерной крайне двойственно. Такую же двойственную позицию он занимает по ряду других важных вопросов. Порой трудно отличить, когда перед тобой выступает командующий или человек в маске». Заканчивать «разборки» с комсоставом и с «человеком в маске» Льву Захаровичу пришлось уже после хасанских боев.
Как же развивались события на советско-маньчжурской границе? 29 июля японцы атаковали соседнюю с Заозерной высоту Безымянная на советской территории, убив пятерых пограничников. Подошедшая рота Красной Армии заставила их отступить. 31 июля японские войска заняли Заозерную и Безымянную, вытеснив оттуда советские пограничные посты. Атаки частей Особой Дальневосточной армии на захваченные японцами высоты начались только 2 августа, когда противник уже успел окопаться и оборудовать огневые позиции. В промедлении обвинили Блюхера, все еще надеявшегося на мирное урегулирование инцидента. 1 августа 1938 года состоялся неприятный разговор по прямому проводу Сталина, Молотова и Ворошилова с Блюхером. Сталин возмущался: «Скажите-ка, Блюхер, почему приказ наркома обороны о бомбардировке авиацией всей нашей территории, занятой японцами, включая высоту Заозерную, не выполняется?»
«Докладываю, — отвечал Блюхер. — Авиация готова к вылету. Задерживается вылет по неблагоприятной метеорологической обстановке. Сию минуту Рычагову (командующему ВВС Дальневосточного фронта. — Б. С.) приказал, не считаясь ни с чем, поднять авиацию в воздух и атаковать. Авиация сейчас поднимается в воздух, но боюсь, что в этой бомбардировке мы, видимо, неизбежно заденем как свои части, так и корейские поселки».
Сталина не волновали ни возможные потери красноармейцев от действий собственной авиации, ни, тем более, жертвы среди каких-то там корейцев, которых с советской стороны границы тот же Люшков совсем недавно, как потенциальных японских шпионов, благополучно депортировал в Среднюю Азию. И он спросил угрожающе: «Скажите, т. Блюхер, честно: есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту; а если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля. Мне непонятна ваша боязнь задеть бомбежкой корейское население, а также боязнь, что авиация не сможет выполнить своего долга ввиду тумана. Кто это вам запретил в условиях военной стычки с японцами не задевать корейское население?.. Что значит какая-то облачность для большевистской авиации, если она хочет действительно отстоять честь своей Родины. Жду ответа».
Блюхеру ничего не оставалось, как, скрепя сердце, отрапортовать: «Авиации приказано подняться, и первая группа поднимется в воздух в одиннадцать двадцать — истребители. Рычагов обещает в 14 часов иметь авиацию атакующей. Я и Мазепов вылетим через полтора часа, а если Бряндинский полетит раньше, вместе вылетим в Ворошилов. Ваши указания принимаем к исполнению и выполним их с большевистской точностью».
Черт с ним, с туманом. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики! И не беда, что несколько самолетов могут разбиться, а бомбы лягут на головы красноармейцев. Лишь бы выполнить сталинский приказ, иначе уж точно маршалу головы не сносить.
Начатое 2 августа советское наступление захлебнулось. Артиллерист С. Шаронов вспоминал: «К началу боев я служил командиром орудия противотанковой батареи. Мы были приданы 7-й роте 3-го батальона 120-го стрелкового палка. Правда, пушки по прямому назначению не использовались — японцы танков не применяли. Наша дивизия наступала с юга в направлении сопок Пулеметной и Заозерной в узком коридоре (в некоторых местах ширина его не превышала 200 метров) между озером и границей. Большая сложность была в том, что стрелять через границу и переходить ее категорически запрещалось. Плотность в этом коридоре была страшной, бойцы шли вал за валом. Я это со своей позиции хорошо видел. Очень много там полегло. Из нашей роты, например, в живых осталось 17 человек».
О том же говорит капитан Стороженко, командир батальона, атаковавшего Заозерную с юга: «Перед нами лежало пространство в 150 метров, сплошь оплетенное проволокой и находящееся под перекрестным огнем. В таком же положении находились наши части, наступавшие через северный подступ на Безымянную-Мы могли бы значительно быстрее расправиться с зарвавшимся врагом, если бы нарушили границу и овладели окопами, обходя их по маньчжурской территории (в районе Хасана сходились границы трех стран — СССР, Маньчжурии и Кореи. — Б. С). Но наши части точно исполняли приказ командования и действовали в пределах своей территории».
Сталин хотел продемонстрировать миру силу Красной Армии и рассчитывал на быструю и бескровную победу, отнюдь не собираясь затевать полномасштабную войну с Японией. Поэтому Красной Армии было приказано за пределами Заозерной границу не переходить. Но мини-блицкриг не удался. Японцы, чувствуя себя победителями, предложили урегулировать спор миром и вернуться к позициям, которые стороны занимали на утро 11-го июля. Эти предложения 4 августа Сигэмицу передал Литвинову. Однако советский нарком заявил: «Под восстановлением положения я имел в виду положение, существовавшее до 29 июля, т. е. до той даты, когда японские войска перешли границу и начали занимать высоты Безымянная и Заозерная».
На следующий день Ворошилов направил Блюхеру и его начальнику штаба Григорию Михайловичу Штерну директиву, где разрешил при атаке на Заозерную использовать обход с флангов через линию государственной границы. Руководство операции теперь поручалось Штерну. Уже после того, как бои закончились, Григорий Михайлович, чтобы оправдать большие потери, писал в «Правде»: «Возможность вообще какого бы то ни было маневра для частей Красной Армии полностью отсутствовала. Атаковать можно было только прямо в лоб японским позициям». О разрешении вторгнуться для обхода неприятельских позиций на маньчжурскую территорию он, естественно, умолчал. В советское время это обстоятельство составляло строжайшую государственную тайну.
Вот как характеризуется новое наступление Красной Армии в «Кратком описании хасанских событий», составленном штабом пограничных и внутренних войск Дальневосточного пограничного округа: «Поскольку был положительно решен вопрос о вторжении на территорию противника, правый фланг наступающих частей 32-й стрелковой дивизии захватывал высоту Черная, а левый фланг 40-й стрелковой дивизии — Хомоку (последняя — на маньчжурской территории. — Б.С.). В связи с плохой погодой вылет авиации задержался, и наступление пехоты фактически началось около 17 часов. Около полуночи подразделения 118-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии вышли на южную часть гребня высоты Заозерная и водрузили на ней красный флаг. Противнику удалось в этот день удержать за собой северную часть гребня высоты Заозерная и гребень высоты Безымянная». В действительности, как доказывает сохранившаяся в архиве схема, флаг был водружен на вершине Заозерной, а на несколько десятков метров ниже, на южном склоне сопки. Ни одной из высот советским войскам до заключения перемирия взять так и не удалось, хотя атаки продолжались еще и 7-го, и 8-го числа. После окончания боев лейтенант 95-го стрелкового полка Куликов сообщил комиссии Наркомата обороны: «8 августа подразделения 95 СП переходили в атаку на обороняющегося противника на высотах Черная и Безымянная, но таковые взяты нашими подразделениями не были. Высоты заняты после перемирия, т. е. 11 или 12 августа ночью. До момента перемирия высоты Черная и Безымянная были заняты японскими войсками». Также и на находившихся на советской территории высотах Пулеметная и Богомольная японцы оставались вплоть до 15 августа.
И насчет Заозерной с военными вышел конфуз. Комиссар 118-го стрелкового полка Н. Бондаренко свидетельствовал: «Я при занятии высоты Заозерной передал радисту, чтобы он спустился вниз и передал или по радио, или же по телефонной связи в штаб 40-й дивизии, что высота Заозерная занята частями нашей дивизии, Было ли передано это радистом в штаб дивизии, я не знаю».
Комиссар сомневался зря. Ложная информация была передана и пошла гулять по инстанциям вплоть до самой Москвы. 8 августа «Известия» опубликовали сообщение штаба 1-й (Приморской) армии: «Советские части очистили нашу территорию от остатков японских войск, заняв прочно наши пограничные пункты». Через два дня появилось столь же фантастическое коммюнике: «9 августа японские войска вновь предприняли ряд атак на высоту Заозерную, занимаемую нашими войсками. Японские войска были отброшены с большими для них потерями». Но военных опровергали чекисты в секретных рапортах. 14 августа лейтенант госбезопасности Чуличков докладывал: «Фактически высота Заозерная была взята не полностью, а только юго-восточные скаты, гребень северной части высоты и северо-восточные скаты ее находились в руках японцев. Японцы находились на северной части гребня Заозерной с 6 августа по 13 августа и занимали командные точки высоты…» А на следующий день коллега Чуличкова Альтгаузен сообщил Фриновскому: «Вчера, 14 августа, Штерну передан текст Вашей телеграммы т. Ежову по вопросу дезинформации штакором о занятии высот Заозерная и Безымянная. Уже в начале приема текста телеграммы Штерн вызвал меня на телеграф и обрушился на меня вплоть до оскорблений. Затем он доложил т. Ворошилову, что я все время относился недоброжелательно к действиям корпуса (атаковавшие сопки Безымянная и Заозерная 40-я и 32-я стрелковые дивизии и 2-я механизированная бригада были объединены в 39-й стрелковый корпус, в командование которым вступил Штерн. — Б.С.) и поставил вопрос об освобождении (подателя телеграммы от должности. — Б.С.)».
Выводы чекистов были полностью подтверждены совместной советско-японской комиссией, побывавшей на Заозерной утром 12-го, на следующий день после заключения перемирия. Входившие в состав комиссии военные и дипломаты констатировали, что «ввиду особого создавшегося положения в северной части гребня высоты Заозерная, которое выражается в чрезмерном сближении — до пяти метров — частей обеих сторон», необходимо прийти к следующему соглашению: «С 20 часов 12 августа как главные силы японской армии, так и главные силы Красной Армии в северной части гребня высоты Заозерная отвести назад на расстояние не ближе 80 метров от гребня». Фактически стороны вернулись к положению на 11 августа, оставив гребень сопки в качестве своеобразной нейтральной зоны. Японцы без всяких споров очистили советские сопки Безымянную и Пулеметную, на удержание которых за собой и не претендовали.
Советские потери, по официальным данным, опубликованным только в 1993 году, составили 792 человека убитыми и 2752 ранеными, японские, соответственно, — 525 и 913, т. е. в 2—Зраза меньше. В приказе Ворошилова по итогам хасанских боев справедливо отмечалось: «Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздерганы и небоеспособны; снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты, связь)». О том же говорили и на совещании командного и политического состава Посьетского погранотряда, причем применительно не только к пограничникам, но и к полевым войскам Красной Армии. Согласно записям присутствовавшего на совещании бригадного комиссара К.Ф. Телегина, основными причинами неудач стало то, что войска «растянулись по фронту, а во время боя сгруппировались на необорудованных позициях. Связь только телефонная, после потери ее много израсходовали живой силы. Не было увязки между подразделениями, даже стреляли по своим танкам. Военком 40-й стрелковой дивизии боялся взять на себя ответственность за мобилизацию плавъединиц для подброски грузов на фронт («а если сорву путину?»). Округ прислал фанаты Ф-1, а пользоваться ими не могли. Вначале полевые части работали без кода. Полевые части от Новой деревни до Заозерной побросали ранцы, пулеметы. Пренебрегали штыковым боем. Боевой подготовкой не занимались, потому что превратились в хозяйственных командиров (вот где аукнулся изобретенный Блюхером «колхозный корпус». — Б.С.). Сено, дрова, овощи заготавливаем, строительство ведем, белье стираем».
Любопытно, что хасанских событий не пережил и их формальный виновник — начальник инженерной службы Посьетского погранотряда Василий Веневитин. 8 августа 1938 года его по ошибке застрелил красноармеец-часовой из-за неразберихи с паролями: то ли Веневитин назвал старый пароль, то ли солдату забыли сообщить новый. Так ли уж случайна была эта смерть? Не постарались ли люди Фриновского убрать нежелательного свидетеля, который мог когда-нибудь рассказать, кто же именно приказал ему стрелять в японских жандармов?
Люшков, находясь в Токио, очень точно предсказал арест Блюхера еще до событий у озера Хасан. Генрих Самойлович утверждал: «Группа изменников находилась в штабе Дальневосточной армии и включала таких близких Блюхеру людей, как Ян Покус, Гулин, Васнецов, Кропачев и др. Они пытались вовлечь Блюхера в политически опасные разговоры. Блюхер без нашего разрешения показывал им признания арестованных заговорщиков. После своего ареста Гулин говорил мне, что после отзыва Покуса в Москву Блюхер, выпивая вместе с ним, Гулиным, ругал НКВД за проводимые аресты, а также ругал Ворошилова, Лазаря Кагановича и др. Блюхер признался Гулину, что до устранения Рыкова он был связан с ним и часто получал от того письма, что «правые» хотят видеть его, Блюхера, во главе Красной Армии». Я считаю, что это довольно показательный факт для выяснения истинных чувств Блюхера. Вообще, Блюхер очень любит власть. Его не удовлетворяет уже та роль, которую он играет на Дальнем Востоке, он хочет большего. Он считает себя выше Ворошилова. Политически сомнительно, что он удовлетворен общей ситуацией, хотя и весьма осторожен. В армии он более популярен, чем Ворошилов. Блюхеру не нравятся военные комиссары и военные советы, которые ограничивают его право отдавать приказы».
На XVIII съезде партии в марте 1939 года Сталин коснулся хасанских боев: «О чем говорят, например, события у озера Хасан, как не о том, что очищение советских организаций от шпионов, убийц, вредителей является вернейшим средством их укрепления?» Тут Иосиф Виссарионович явно использовал первоначальную заготовку, сделанную еще до начала конфликта. Он-то рассчитывал, что, быстро разгромив японцев на Заозерной и Безымянной, Красная Армия продемонстрирует всему миру, что репрессии 37—38-го годов не ослабили, а укрепили ее мощь. Получилось же все с точностью до наоборот. В мире начали догадываться, что советские вооруженные силы совсем не так могучи и непобедимы, как это представляет пропаганда. Внутри страны, конечно, газеты и радио смогли представить поражение у Хасана победой, но Сталину все равно пришлось умолчать на съезде о том, что после «успешного разгрома японских захватчиков» командующий Дальневосточной армии был арестован и забит до смерти на следствии. За границей же сразу обратили внимание, что после хасанских боев имя Блюхера исчезло со страниц газет.
Как же произошло падение командующего ОКДВА? Еще в начале июля, в связи с предстоящими событиями, на Дальний Восток прибыли Фриновский и Мехлис. После окончания столкновений у Хасана им пришлось проводить «разбор полетов». 16 августа Фриновский телеграфировал Ежову: «Сообщаю, что, несмотря на неоднократные попытки 13. VIII. 38 г. поговорить с фигурантом (Блюхер теперь обозначался этим специфическим полицейским термином, что означало: он уже взят чекистами в разработку как подозреваемый в совершении политического преступления. — Б.С.) по телефону, это не удалось. Он находился на квартире, никого не принимал и на телефонные звонки не отвечал. 14. VIII. с. г. мне удалось все-таки вызвать фигуранта к телефону и спросить его о здоровье. Тут же условились с ним встретиться вечером.
В 2 часа фигурант по телефону попросил меня заехать к нему домой, с тем чтобы поговорить по вопросу о сведениях, полученных от разведотдела фронта о сосредоточении японцами в Маньчжурии и Корее новых частей. Приехав к нему, застал у него заместителя командующего Филатова, начальника разведотдела и начальника 1-го отдела фронта. Фигурант нервничал, от него сильно попахивало, видимо, после выпивки.
После официального разговора, оставшись наедине, говорил с фигурантом на тему о его болезни, сказал, что сейчас болеть не время, что отсутствие его на работе вредно отражается на всех вопросах, связанных с выполнением приказа наркома о приведении частей войск фронта в боеспособность. Разговор вел в максимально товарищеских тонах, стараясь вызвать фигуранта на откровенность. Он мне жаловался на свое исключительно подавленное состояние, повышенную нервозность, потерю сна».
В своем письменном докладе Фриновский пришел к неутешительному выводу, который для Блюхера был равносилен суровому приговору: «Дальневосточный театр в оперативном и мобилизационном отношении к большой войне полностью не готов, а войска этого театра в силу ряда причин находятся в состоянии пониженной боеспособности. Моральное разложение, отрыв от армии, преступная бездеятельность и внутреннее политическое сочувствие правым командующего фронтом Блюхера. Состояние, в котором сейчас находится Дальневосточный фронт, не дает сколько-нибудь относительных гарантий того, что он будет способен выполнить задачу войны на Дальнем Востоке. Требуется принятие самых энергичных и решительных мер для приведения фронта в боеспособное состояние. Необходимо решить вопрос о замене командующего фронтом». В конце августа этот вопрос был решен: Блюхера сняли с должности и оставили в распоряжении наркома обороны. Но я немного забежал вперед.
Во время разговора 14 августа Блюхер пообещал Фриновскому с 15-го числа приступить к работе. Но как раз в этот день последовал его вызов в Москву. От командующего потребовали захватить с собой материалы, связанные с хасанскими событиями. Об этом неприятном известии Василию Константиновичу сообщил Фриновский и попросил его отдать соответствующие распоряжения. Блюхер разволновался: «Мне некому давать распоряжения. Я чувствую себя отстраненным от дел, и вряд ли мои бывшие заместители выполнят их».
Михаил Петрович постарался успокоить фигуранта: «Вас никто не отстранял от должности. Поэтому надо спокойно готовиться к отъезду в Москву и собирать необходимые документы».
Блюхер, однако, продолжал нервничать: «Скажите мне, чем вызван столь неожиданный вызов в Москву?» Фриновский ответил, что не знает, слегка покривив душой. Михаил Петрович наверняка догадывался, что Блюхер вскоре станет клиентом его с Ежовым ведомства. Василий Константинович тем временем продолжал теряться в догадках: «Вероятно, дело в той дезинформации, которая имела место в донесениях в Москву, особенно об отводе 40-й дивизии и приостановке наступления до подхода подкреплений». Фриновский не стал разубеждать его.
Сын Блюхера Всеволод 21 ноября 1963 года в письме своей школьной подруге Людмиле Александровне Расковой рассказал, как провел Василий Константинович последние дни на Дальнем Востоке: «После событий на озере Хасан отец возвратился в Хабаровск в очень тяжелом состоянии. Несмотря на то что японцев он разбил (на самом деле скорее японцы разбили двинутые против них советские части. — Б.С.), он чувствовал и понимал, что какая-то непонятная чудовищная машина клеветы сработала. Он собрал нас: меня, жену, детей и Павла, своего брата — летчика-истребителя и, откровенно побеседовав, сказал, что ожидает ареста и хотел бы увести от этой беды нас. Так, мне он предложил поехать в Ленинград к моей родной матери и к Зое — сестре. Мог ли он тогда предполагать, что станет со всеми!..»
18 августа Блюхер отбыл в Москву, где 31-го числа был снят с должности на заседании Главного Военного Совета. 1 сентября он прислал телеграмму: «Хабаровск больше не вернусь. Срочно собирайтесь всей семьей в Москву. Со здоровьем очень плохо. Привет Павлу. Вася». Фраза о здоровье намекала не только о болезненном состоянии маршала, но и о шаткости его положения. Василий Константинович давал понять, что угроза ареста остается вполне реальной.
Дело приближалось к развязке. Глафира Лукинична вспоминала: «15 или 16 сентября мы приехали к нему. Он рассказывал: «Было Политбюро, был Главный Хозяин. Тон задавал нарком. Подвергли несправедливой критике за Хасан. Когда дали слово оправдаться, я отказался: «Зачем?»
Тогда же у него состоялся разговор со Сталиным в присутствии Поскребышева. Речь зашла о какой-то карте, с содержанием которой Василий Константинович не соглашался. Тогда Сталин сказал Поскребышеву: «Пусть поправки внесет Блюхер». Муж понял это правильно. Как отвлекающий маневр хищника, собирающегося наброситься на жертву. Одновременно всячески усыпляли его бдительность, старались развеять даже малейшие подозрения. Это был их метод. Почему Ворошилов, высказывавший в последнее время явную неприязнь к мужу, тем не менее настойчиво предлагал, чтобы мы всей семьей заняли его персональную дачу на юге «Бочаров ручей» (ныне это резиденция российского Президента. — Б. С.)? Пока, мол, ты, Василий Константинович, отдохнешь и наберешься сил, мы тут подыщем тебе должность, которая бы соответствовала бы твоему маршальскому званию.
Пришлось подчиниться. Там, под Сочи, Блюхер был уже окончательно прозревшим и весь ушел в себя.
Утром 22 октября он зашел к детям, поиграл с маленьким Василином (после ареста отца и матери младенца отдали в детдом, где его следы затерялись. — Б. С). Я, видя, как плохо он выглядит, предложила ему прилечь снова, а сама принялась кормить малыша. Вдруг громко стукнула входная дверь, и я увидела, как четверо верзил в темных костюмах ворвались в дом, направившись прямо в комнату, где отдыхал муж. Наш личный охранник Лемешко хотел преградить мне дорогу. Но я так посмотрела на него, что он отступил. Когда вбежала в комнату, Василий Константинович уже сидел на постели, а ищейки из НКВД остервенело трясли его одежду. Увидев меня, двое схватили за руки и вывели.
Все произошло очень быстро. Меня усадили в одну машину, потом вывели и затолкали в другую Василия Константиновича — он был уже в рубашке и бриджах. Вместе с ним схватили его младшего брата Павла, который в то время отдыхал вместе с нами. Сразу же наш «кортеж» отправился в сторону вокзала. Там в тупике уже стоял приготовленный для нас вагон, где мы были размещены по разным купе. Это были последние мгновения, когда я видела Василия Константиновича. Все двое суток, что мы ехали до Москвы, с нас не спускали глаз, и я слышала только тяжелый кашель мужа. Как их выводили из вагона на московском вокзале, не видела. А меня сразу увезли на Лубянку». В 1956 году, когда решался вопрос о реабилитации Блюхера, ей сообщили в Комитете Партийного Контроля, что в Москве Василия Константиновича увезли в Лефортовскую тюрьму, славившуюся своими мастерами заплечных дел. Именно там, а также в Сухановской спецпорьме НКВД и проходили в основном пытки и избиения подследственных, которых истязаниями заставляли признаться в самых страшных преступлениях.
Писателю Владимиру Карпову Глафира Лукинична о последних днях Блюхера рассказала несколько подробнее: «Когда он вернулся из района боев, был очень мрачен (и было с чего. — Б.С.). Настроение у него было подавленное. Иногда говорил: «Все предали, все продали». В каких-то своих размышлениях имел в виду продолжавшиеся тогда аресты и поведение Мехлиса. Он мне рассказывал, что Мехлис вмешивался в его распоряжения, давал команды, которые могли повредить боевым действиям, а он отменял эти команды, чем еще больше обострил свои отношения с Мехлисом.
Из района боевых действий Василий Константинович прибыл 12 августа. После того как в Москве состоялся разговор с японским послом о прекращении боевых действий, Блюхера вызвали в Москву. Он не знал, зачем его туда вызвали. Поехал поездом. Вскоре я получила от него телеграмму, в которой он писал, чтобы я с детьми немедленно выезжала в Москву и взяла с собой только самое необходимое. Я быстро собралась, дети только первого сентября пошли в школу, пришлось прервать их учебу. И вот все мы — Сева, Нина, Вайра, маленький Василин с нянечкой, я и брат Василия Павел. Он был командиром эскадрильи, капитан-летчик, и его жена Лида. Все мы вместе выехали в Москву. Ехали долго, дорога дальняя, трудная. Приезжаем в Москву, нас никто на вокзале не встречает. Мы в недоумении стояли на платформе. Но вскоре появился порученец маршала, он просто опоздал.
Нас повезли в гостиницу «Метрополь». Там было приготовлено два номера, в одном я с Василием Константиновичем разместилась, а в другом поселили всех детей. Когда я вошла к мужу в номер, он сказал: «Прости, я хотел встретить, но так мне плохо, я не смог поехать, понимаешь, обстановка такая».
Из дальнейших разговоров я узнала, что всюду его обливают грязью, что, видно, его судьба решена, потому что в Наркомате обороны сослуживцы избегают с ним встречи или делают вид, что его не видят. В общем, воронье боится, и кое-кто даже клюет, — усмехнулся. Он рассказал о заседании Политбюро, на котором Ворошилов и Мехлис обливали его грязью. «В общем, на Дальний Восток мы уже не вернемся. Дали слово и мне. Прямо как последнее слово подсудимому. Но я понимал, что это уже ни к чему, и отказался, все было ясно, нечего уже говорить, бесполезно».
На этом заседании (подозреваю, что за давностью лет Глафира Лукинична немного напутала, и в действительности все происходило не на Политбюро, а на Главном Военном Совете. — Б.С.) Сталин, когда зашел разговор о строящейся железной дороге, спросил у Блюхера: «А как вы думаете? Согласны ли вы с таким ее начертанием?»
Блюхер всегда был честным, остался честным и в том случае, сказал, что в стратегическом отношении такое начертание дороги неправильное, и, по его мнению, должны быть внесены вот такие-то изменения.
Сталин тут же сказал Поскребышеву: «Поправьте, как предлагает товарищ Блюхер».
Теперь, после всего случившегося, абсолютно ясно, что сценарий был разработан давно, все, что произошло дальше, подтверждает наличие этого сценария.
После всего происшедшего вдруг Ворошилов предлагает Василию Константиновичу поехать отдыхать в Сочи всей семьей, на его дачу. Он сам не едет, а вот нам предлагает, чтобы мы там отдохнули, немножко успокоились после всех неприятных разговоров. Мы поехали туда. Беспокойство, конечно, нас не покидало. Какая-то загадочность была в этом приглашении. И еще больше насторожил такой эпизод при нашем отъезде. У Блюхера был порученец Иустин Максимович Крысько. Он помогал нам дома собраться, упаковать вещи, отправить багаж. А вот когда мы поехали на вокзал и сели в вагон, он почему-то не появился. А должен был ехать с нами. Сначала было думали — опоздал. Но он не приехал и в Сочи. Побуждаемая каким-то внутренним подозрением, я дала телеграмму его жене и просила ответить не на наш адрес, а на главпочтамт, до востребования, в Сочи, на мою девичью фамилию — Безверхова. И вот получаю от нее телеграмму всего из двух слов: «Крысько арестован». Блюхер сказал; «Чтоб не мешал».
В общем, мы жили на даче, чувствуя себя обреченными, не зная только, когда и как произойдет окончательный удар, но неотвратимость его мы ощущали. Жили на даче одиноко, никто к нам не ходил, мы ни к кому не ходили. Был с нами постоянно только охранник, его фамилия Лемешко, он все время вроде бы охранял нас, на самом деле следил, чтобы никто из нас никуда не ушел. На даче Ворошилова был роскошный бильярд. Играя на этом бильярде, Василий Константинович однажды остановился, раскинул руки и, показывая на роскошь, которая нас окружала, сказал: «Это же изощренное издевательство».
Однажды ночью он мне сказал: «Если со мной что-нибудь случится, тебя не тронут». Наивный был.
22 октября я возилась на кухне, кормила детей. Вдруг стремительно ворвалисв-в дом четверо здоровых, в штатском. Бегом Пронеслись по коридорам. И прямо в комнату Василия Константиновича, в его спальню. Дверь им открыл Лемешко. Он же встал в двери кухни, не выпуская меня из нее. Но я все видела. Василий Константинович сидел на кровати в нижней рубахе, а эти, пришедшие, делали обыск. Потом я видела, как повели мужа. Он был без гимнастерки, в нижней рубахе, в брюках, сапогах. Потом, тут же, вернулись и за мною. Когда меня вывели, я вижу, что впереди стоит машина и в ней находится муж, во вторую посадили меня. И тут же в третью машину привели брата Василия Константиновича Павла. Всего было пять машин (сотрудники НКВД казенный бензин не жалели. — Б. С). Детей оставили. Все это проделывали молча, никто не сказал ни слова. Привезли нас на вокзал, посадили в разные купе. Я Василия Константиновича с тех пор больше не видела. В Москве на машинах сразу отправили на Лубянку. Я попала в одиночку № 66 и в ней просидела семь месяцев».
После смещения с поста командующего Блюхер всерьез опасался ареста со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Почему же он хотя бы не последовал примеру Гамарника и не застрелился? Думаю, тут играли роль два фактора. С одной стороны, Василий Константинович не хотел самоубийством травмировать находившихся вместе с ним жену и детей. С другой стороны, в душе маршала еще теплилась надежда, что все обойдется, политических обвинений ему предъявлять не будут, а подыщут почетную, хоть и малозначительную должность в Наркомате обороны. Потому, может, не отсоветовал брату отдыхать вместе на ворошиловской даче. Василий Константинович не был до конца уверен, что обречен.
Пока Блюхер дожидался в Москве приезда семьи, машина уже работала. 10 сентября 1938 года показания на Василия Константиновича дал арестованный еще 7 июля заместитель наркома обороны командарм 1-го ранга Иван Федорович Федько. К тому времени следователи уже сломали командарма. В июле 38-го начальник Особого отдела НКВД Федоров писал Фриновскому: «Позавчера я провел с Федько очные ставки, на которых арестованные Егоров, Урицкий, Хорошилов, Погребной, Смирнов П.А. и Белов изобличали Федько, но он от всего отказывался. Я ему дал указанные выше очные ставки, отправил в Лефортово, набил морду, посадил в карцер. В своих сегодняшних показаниях он называет Мерецкова, Жильцова и еще нескольких человек. Держался возмутительно. А сегодня заявил, что он благодарит следствие за то, что его научили говорить правду». К тому моменту, когда потребовались показания на Блюхера, Иван Федорович уже очень хорошо научился «говорить правду». После ареста Василия Константиновича им с Федько 28 октября 1938 года устроили очную ставку, на которой командарм заученно повторил: «Преступные антисоветские связи с Блюхером я установил в ноябре месяце 1935 года, когда работал Военный Совет». Василий Константинович, к которому еще не успели применить мер физического воздействия, возмущенно заявил: «Как Вам не стыдно, Федько. Все, что сказал Федько, я категорически отрицаю».
В тот же день прошла очная ставка Блюхера с арестованным бывшим членом Военного Совета ОКДВА Г.Д. Хаханьяном, давшим показания о заговорщической деятельности Василия Константиновича. Блюхер опять все отрицал. Очные ставки и допрос Блюхера проводил сам Берия. Лаврентию Павловичу, только что назначенному заместителем Ежова, в скором времени предстояло сменить «стального наркома», одним из пунктов обвинений против которого должна была стать фальсификация уголовных дел и «перегибы» в борьбе с «врагами народа». Если бы Сталин все-таки решил устроить над Ежовым показательный процесс, то Блюхер представлялся идеальной кандидатурой в качестве одного из подсудимых: Василия Константиновича можно было обвинить в огульном избиении кадров ОКДВА.
Почти сразу же после ареста и еще до первых очных ставок Блюхера стали жестоко избивать. Маршал, сам отправивший на смерть Тухачевского, Якира и прочих, прекрасно понимал, что признание вины все равно не спасет от смертной казни. И чекисты сразу принялись за физическую обработку арестованного, не надеясь, что он добровольно признается в мнимых преступлениях.
Соседом Блюхера по лубянской камере совсем не случайно оказался бывший начальник Управления НКВД по Свердловской области Д.М. Дмитриев. После ареста в рамках исподволь начавшейся кампании по постепенной замене людей Ежова людьми Берии он выполнял малопочтенную роль «наседки» и уговаривал маршала во всем сознаться в призрачной надежде спасти собственную жизнь (разговоры в камере записывались на магнитофон). 26 октября Василий Константинович рассказывал Дмитриеву: «Физическое воздействие. Как будто ничего не болит, а фактически все болит. Вчера я разговаривал с Берия, очевидно, дальше будет разговор с Народным комиссаром».
«— С Ежовым?» — переспросил Дмитриев.
«— Да», — подтвердил Блюхер. И застонал: — «Ой, не могу двигаться, чувство разбитости».
«— Вы еще одну ночь покричите, и будет все замечательно», — то ли проявляя участие, то ли издеваясь, заметил чекист.
В тот же день дежурный предупредил Василия Константиновича: «— Приготовьтесь к отъезду, через час вы поедете в Лефортово». (Значит, Г.Л. Безверхова ошиблась, когда утверждала, что мужа прямо с вокзала повезли в Лефортово; сначала маршала доставили на Лубянку, а с лефортовской мясорубкой он познакомился только три дня спустя. — Б. С.).
«— С чего начинать?» — поинтересовался Блюхер.
«— Вам товарищ Берия сказал, что от вас требуется, или поедете в Лефортово через час», — пригрозил дежурный. — «Вам объявлено? Да?»
«— Объявлено», — тоскливо произнес маршал. — «Ну вот я сижу и думаю. Что же выдумать? Не находишь даже».
Дмитриев участливо разъяснил Блюхеру: «— Вопрос решен раньше. Решение было тогда, когда вас арестовали. Что было для того, чтобы вас арестовать? Большое количество показаний. Раз это было — нечего отрицать. Сейчас надо найти смягчающую обстановку. А вы ее утяжеляете тем, что идете в Лефортово».
«— Я же не шпионил», — оправдывался Блюхер, но у опытного чекиста подобный детский лепет вызвал лишь улыбку.
Дмитриев прекрасно знал, как из подследственных делают шпионов, самому не раз приходилось этим заниматься: «— Раз люди говорят, значит, есть основания».
«— Я же не шпион», — доказывал Блюхер.
«— Вы не стройте из себя невиновного», — продолжал убеждать Дмитриев. — «Можно прийти и сказать, что я подтверждаю и заявляю, что это верно. Разрешите мне завтра утром все рассказать. И все. Если вы решили, то надо теперь все это сделать».
«— Меня никто не вербовал», — робко возразил Василий Константинович.
Такая мелочь не смутила бывшего шефа Свердловского НКВД. Он успокоил маршала — следователь поможет: «Как вас вербовали, когда завербовали, на какой почве завербовали. Вот это и есть прямая установка».
«— Я могу сейчас сказать, что я был виноват», — начал колебаться Блюхер.
«— Не виноват, а состоял в организации», — поправил Дмитриев, знавший, что начальство любит конкретность.
«— Не входил я в состав организации», — взорвался Блюхер. — «Нет, я не могу сказать».
«— Вы лучше подумайте, что вы скажете Берия, чтобы это не было пустозвонством», — гнул свою линию Дмитриев. — «Кто с вами на эту тему говорил? Кто вам сказал и кому вы дали согласие?»
Блюхер попытался вспомнить что-нибудь конкретное: «— Вот это письмо-предложение, я на него не ответил. Копию письма я передал Дерибасу» (начальнику Управления НКВД по Хабаровскому краю, арестованному летом 37-го; как можно понять, речь идет либо о письме кого-то из тех, кого Сталин и Ежов причисляли к никогда не существовавшему «правотроцкистскому блоку» Бухарина, Ягоды, Рыкова и др., либо о письме каких-то японских представителей. — Б.С.).
Дмитриев объяснил: «— Дерибас донес. Вы должны сказать».
«— Что я буду говорить?» — в отчаянии обратился к сокамернику Василий Константинович.
«— Какой вы чудак, ей-богу», — сочувственно улыбнулся Дмитриев. — «Вы знаете (фамилия заключенного в магнитофонной записи не была расшифрована. — Б.С.). Три месяца сидел в Бутырках, ничего не говорил. Когда ему дали Лефортово — сразу сказал».
«— Что я скажу?» — потерянно повторил Блюхер.
«— Вы меня послушайте», — не обращая внимания на возражения собеседника, уверенно продолжал бывший чекист, — «я вас считаю японским шпионом, тем более что у вас такой провал. Я вам скажу больше, факт доказан, что вы шпион. Что, вам нужно обязательно пройти камеру Лефортовской тюрьмы? Вы хоть думайте».
Но Василий Константинович «правильно думать» не захотел и продолжал «строить из себя невиновного». Его отправили в Лефортово. «Физическое воздействие» на Лубянке должно было показаться оздоровительными процедурами по сравнению с лефортовскими пытками.
И. Русаковская, сидевшая в одной камере со второй женой маршала Г.П. Кольчугиной, рассказывала комиссии ЦК КПСС: «Из бесед с Кольчугиной-Блюхер выяснилось, что причиной ее подавленного настроения была очная ставка с бывшим маршалом Блюхером (звания Василия Константиновича никто не лишал, но определение это очень точно: «бывший маршал» (для лефортовских палачей Василий Константинович был уже человек конченый. — Б.С.), который, по словам Кольчугиной-Блюхер, был до неузнаваемости избит и, находясь почти в невменяемом состоянии, в присутствии ее наговаривал на себя чудовищные вещи. Я помню, что Кольчугина-Блюхер, с ужасом говоря о жутком, растерзанном виде, который имел Блюхер на очной ставке, бросила фразу: «Вы понимаете, он выглядел так, как будто побывал под танком».
Бывший начальник санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм в 1956 году сообщила КГБ, что оказывала медицинскую помощь подследственному Блюхеру. Лицо несчастного было в кровоподтеках, под глазом был большой синяк, а склера глаза была наполнена кровью — так силен был удар.
Бывший начальник Лефортовской тюрьмы Зимин сообщил в 1957 году, что сам видел, как «Берия избивал Блюхера, причем он не только избивал его руками, но с ним приехали какие-то специальные люди с резиновыми дубинками, и они, подбадриваемые Берией, истязали Блюхера, причем он сильно кричал: «Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают?!». Берия же, в свою очередь, кричал: «Говори, как ты продал Восток!».
О том же сообщил в ЦК КПСС бывший заместитель Зимина Харьковец, утверждавший, что на его глазах Берия вместе с Кобуловым избивали Блюхера резиновыми дубинками. Правда, насчет Кобулова Харьковец, похоже, присочинил. Старший из братьев Кобуловых, Богдан, в те дни, когда шло следствие по делу Блюхера, работал заместителем наркома внутренних дел Грузии, младший, Амаяк, — первым заместителем наркома внутренних дел Украины. Сомнительно, чтобы Лаврентий Павлович специально стал бы выписывать в Москву одного из Кобуловых, чтобы тот поколотил резиновой дубинкой непокорного маршала. Но что Василия Константиновича били, и крепко били, сомневаться не приходится.
Один из бывших следователей НКВД 12 ноября 1955 года на допросе показал, что когда 5-го или 6-го ноября 38-го года первый раз увидел маршала, то «сразу же обратил внимание на то, что Блюхер накануне был сильно избит, ибо все лицо у него представляло сплошной синяк и было распухшим. Вспоминаю, что, посмотрев на Блюхера и видя, что все лицо у него в синяках, Иванов тогда сказал мне, что, видно, Блюхеру здорово попало».
«Танковые» методы допросов дали, наконец, эффект. Блюхер признался в связях с «правыми». В период с 6 по 9 ноября он написал письменные показания о том, что готовил военный заговор. А вот в шпионаже в пользу Японии признаться не успел: умер 9 ноября 1938 года, не выдержав побоев. Официальный диагноз констатировал смерть в результате закупорки легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Стал ли роковой тромб следствием непрерывных истязаний или просто маскировал другой, более откровенный диагноз: смерть от сотрясения мозга или от пролома черепа, например?
Сталину сообщили о смерти Блюхера. Иосиф Виссарионович распорядился тело кремировать. Бывший сотрудник НКВД Головлев сообщил в 1963 году комиссии ЦК КПСС: «В нашем присутствии Берия позвонил Сталину, который предложил ему приехать в Кремль. По возвращении от Сталина Берия пригласил к себе Меркулова, Миронова, Иванова и меня, где он нам сказал, что Сталин предложил отвезти Блюхера в Бутырскую тюрьму для медосвидетельствования и сжечь в крематории». Вождь не использовал для посмертной реабилитации маршала даже последовавшее через две недели после его гибели смещение Ежова (арестовали Николая Ивановича только в апреле 39-го, а расстреляли 4 февраля 1940 года). Реабилитировали Блюхера лишь 18 лет спустя, 12 марта 1956 года, постановлением Военной коллегии Верховного Суда СССР «за отсутствием в его действиях состава преступления». Реабилитировали и двух первых его жен, приговоренных к расстрелу, реабилитировали и третью, отправленную в ГУЛаг. Невиновен оказался и брат Василия Константиновича Павел, расстрелянный в 39-м году. Следствие считало, что именно на самолете брата маршал собирался бежать в Японию (вероятно, на воображение чекистов сильно повлиял недавний побег их коллеги Люшкова).
Так почему же Сталин расправился с Блюхером? Действительно ли подозревал его в связях с оппозиционерами? Опасался, что не сегодня, так завтра маршал может стать во главе заговора? Или, может быть, испытывал к Василию Константиновичу какую-то личную неприязнь? Последнее, скажу сразу, представляется совершенно невероятным. Ведь Сталин и Блюхер впервые встретились в более или менее узком кругу лишь незадолго до 37-го года, когда на Военном Совете разбирали сигналы о недостатках в Особой Дальневосточной армии. И между процессом Тухачевского и боями у Хасана маршал и генсек как будто вообще не встречались. И чем мог вызвать подозрение Василий Константинович, ревностно искоренявший крамолу на Дальнем Востоке?
Думаю, что главной причиной опалы и смерти Блюхера стала все же неудача у Хасана. Как мы убедились, войска Дальневосточного фронта воевали не слишком здорово. Выяснилось, что воины-дальневосточники плохо обучены действиям в составе подразделений. Хромала и индивидуальная подготовка бойцов и командиров. Не на высоте оказалось взаимодействие пехоты с артиллерией и авиацией. Сам Блюхер проявил нерешительность и фактически устранился от командования. Сталину стало ясно, что маршал на роль главнокомандующего на Дальнем Востоке не годится. Что же делать? Можно было, конечно, отправить Блюхера в фактическую отставку, выдумав ему какую-нибудь почетную, но не имеющую серьезного значения должность в центральном аппарате Наркомата обороны. Подобным образом Сталин в конце концов поступил с Буденным после неудач Семена Михайловича на фронте, назначив его на опереточную, в сущности, должность, командующего кавалерией Красной Армии. Также и Ворошилов, показавший себя никудышным главой военного ведомства и бездарным полководцем, не только остался членом Политбюро, но и получил номинальную должность начальника Центрального штаба партизанского движения. Вот и Блюхера можно было бы послать руководить будущими партизанами. Но Ворошилов и Буденный были лично близкие и преданные Сталину люди, неразрывно связанные с Первой Конной — самой мифологизированной советской пропагандой армии Гражданской войны. Без самой крайней необходимости избавляться от этих маршалов Иосифу Виссарионовичу было не резон. Другое дело — Блюхер. С ним Сталин и знаком-то почти не был. Если назначить его на должность-синекуру, глядишь, затаит обиду, что им, заслуженным героем Гражданской войны, награжденным орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды, пренебрегли. А если, не дай Бог, случится какой-нибудь кризис, как бы не попытался Василий Константинович взять реванш за отставку! Незаменимых людей у нас нет, а толку от Блюхера все равно уже не будет. Проще и надежней его расстрелять.
Из первых пяти советских маршалов Блюхер по своей психологии, уровню образования и отношению к военному делу был гораздо ближе Ворошилову и Буденному, чем Тухачевскому и Егорову. Он почти не интересовался военной теорией, был мало знаком с новыми родами войск, особенно с танковыми и моторизованными соединениями. Василий Константинович практически не вышел из круга представлений Гражданской войны, и, как ни парадоксально, именно эта военная отсталость и погубила его.
МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ САМЫЙ МОЛОДОЙ И САМЫЙ ОБРАЗОВАННЫЙ МАРШАЛ
Михаил Николаевич Тухачевский из пяти маршалов, в разное время казненных Сталиным (шестого прикончили наследники Иосифа Виссарионовича), был, бесспорно, самым выдающимся. Он родился 4/16 февраля 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в обедневшей помещичьей семье. Имение это — 200 десятин заложенной-перезаложенной не слишком плодородной земли. Тухачевские были из сильно обедневших дворян, с трудом сводивших концы с концами. Мать Тухачевского, Мавра Петровна Милохова (другой вариант написания фамилии — Милехова), сама была из крестьян села Княжино. Отец ее от бедности вынужден был отдать одну из пяти дочерей в услужение помещице-вдове Софье Валентиновне Тухачевской. В Мавру влюбился сын вдовы, Николай Николаевич, к тому времени — единственный оставшийся в живых мужчина в древнем роду. От брака дворянина и крестьянки родился будущий маршал. Николай Николаевич был добрым, но непрактичным человеком. Дочери Екатерина и Ольга утверждают, что отец «был передовых для своего времени воззрений, свободным от дворянской спеси». Что свободным от сословных предрассудков — сомневаться не приходится, поскольку женился на бедной крестьянке. Женился по большой любви.
Фамилия Тухачевских уникальна. Все ее носители были представителями одного дворянского рода, имеющего общего родоначальника с графами Толстыми еще в XIII веке. Эта фамилия происходит от тюркского слова Шгасу, означающего «знаменосец, вестник или рассыльный».
В 1898 году Александровское было продано за долги, и Тухачевские перебрались во владение матери Николая Николаевича близ села Вражское Чембарского уезда Пензенской губернии. Михаил поступил в пензенскую гимназию. Гимназический товарищ Тухачевского В. Студенский вспоминал: «…Наибольший интерес для нас представляла французская борьба. Как раз в эти годы в цирке начались выступления борцов, и мы, гимназисты, подражая им и называя себя именем того или иного борца, устраивали свои чемпионаты по борьбе. Миша выступал под именем Поддубного и равных себе по силе среди нас не имел. Да и ростом он значительно превосходил каждого из нас. Кроме борьбы, мы нередко занимались и поднятием тяжестей. Миша, которому тогда было около 14 лет, легко проделывал упражнения с пудовой гирей. В гимназии, используя силу Миши, мы, его товарищи, часто устраивали такое развлечение: по несколько человек навешивались на него, и он таскал нас по классу, стараясь не сбросить». Другой одноклассник, В. Г. Украинский, подтверждает, что Тухачевский выделялся среди товарищей крепким телосложением и большой физической силой, а «по своему характеру он был тверд в решениях, держался просто, охотно делился со всеми приобретенными знаниями и пользовался среди товарищей авторитетом. Следует, однако, отметить, что он мало общался с гимназистами из аристократического и духовного общества. Ребята из простых семей, близкие к нему, ценили и уважали его… Миша любил гимнастику, был сильным… Он мог, одновременно упираясь в парту, сразу передвинуть несколько парт на некоторое расстояние. Часто боролся, и небезуспешно, с гимназистами из старших классов. Вместе с тем Миша Тухачевский препятствовал тому, чтобы споры между его однокашниками заканчивались дракой или расправой над кем-нибудь. Он всегда заступался за слабых. И эти гуманные качества старался привить другим».
Во Вражском жили только летом, а зимой — в Пензе, где учились дети. По воспоминаниям соседей и друзей, во Вражском Тухачевские уже едва сводили концы с концами, постоянно испытывая острую нехватку денег. В 1-й пензенской гимназии Михаил пробыл с 1904 по 1909 год. В гимназических журналах сохранились нелестные для будущего полководца записи: «Несмотря на свои способности, учился плохо»; «Прилежание — 3»; «Внимание — 2»; «За год пропустил 127 уроков»; «Имел 3 взыскания за разговоры в классах». И так далее, и так далее. Как вспоминал одноклассник Тухачевского Сергей Степанович Островский, по уровню развития Михаил значительно превосходил подавляющее большинство сверстников и учиться в гимназии ему было просто скучно. Хотя отдельные предметы любил и знал их очень хорошо. Так, по-французски и по-немецки Тухачевский говорил настолько свободно, что впоследствии вызывал удивление у французских и немецких военных и политиков. Увлекался астрономией. Вместе с братом Николаем Михаил оборудовал во Вражском метеостанцию, а вечерами любил смотреть в подзорную трубу на звездное небо. Зато самые серьезные проблемы возникли с законом Божьим. На педсовете священник жаловался: «Тухачевский Михаил не занимается законом Божьим». По свидетельству В.Г. Украинского, будущий маршал «не верил в Христа и на уроках закона Божьего допускал некоторые вольности в отношении к преподавателям. За это его несколько раз наказывали и даже удаляли из класса».
В 1909 году Тухачевские переехали в Москву. Михаил два года проучился в 10-й московской гимназии, а затем уговорил отца разрешить ему попытать счастье на воинском поприще. 16 августа 1911 года Тухачевский приступил к занятиям в последнем, 7-м классе 1-го Московского императрицы Екатерины II кадетского корпуса.
Год выпуска будущего полководца, 1912-й, был годом 100-летия Отечественной войны 1812 года. Соответственно и темой выпускного сочинения у кадет стала «Отечественная война и ее герои». Им устроили экскурсию на Бородинское поле, да не простую, а в условиях, приближенных к боевым: с разведкой, марш-броском, с полевыми кухнями… Тухачевский все экзамены сдал на «отлично» и 1 июня 1912 года получил заветный аттестат. Его имя было занесено на мраморную доску. Еще в корпусе Михаил составил словарь пословиц и поговорок, относящихся к военному делу: «Смелый приступ — половина победы», «Бой отвагу любит», «Крепка рать воеводой», «Умей быть солдатом, чтобы быть генералом». Юный кадет мечтал стать генералом.
К 1912 году относится знакомство Тухачевского с большевиком Н.Н. Кулябко, вскоре переросшее в большую дружбу. Николай Николаевич окончил Гнесинское музыкальное училище и стал учиться в Консерватории у профессора Н.С. Жиляева, благодаря которому стал вхож в дом Тухачевских, неравнодушных к музыке. Сам Михаил играл на рояле и на скрипке, а впоследствии увлекся изготовлением скрипок и даже написал специальное пособие «Справка о грунтах и лаках для скрипок». Позднее он признавался одному из сослуживцев: «Нет ничего прекраснее музыки. Это моя вторая страсть, после военного дела».
И в кадетском корпусе, и в юнкерском училище Тухачевский оставался убежденным атеистом, хотя, наученный горьким опытом в пензенской гимназии, не выказывал публично своего неверия. Известный музыковед, друг и биограф композитора и пианиста Сергея Танеева Леонид Сабанеев, вхожий в семейство Тухачевских, свидетельствовал: Михаил был юношей «весьма самонадеянным, чувствовавшим себя рожденным для великих дел», причем порой «это у него носило характер мальчишества: он снимался в позах Наполеона, усваивал себе надменное выражение лица. По-видимому, он был лишен каких бы то ни было принципов, — тут в нем было нечто от «достоевщины», скорее от «ставрогинщины». Он, видимо, готовился в сверхчеловеки». Здесь под отсутствием принципов недружественно настроенный к Тухачевскому Сабанеев, несомненно, имеет в виду отсутствие религиозно-нравственных, христианских принципов.
12 июля 1914 года Михаил Тухачевский закончил Александровское военное училище первым по успеваемости и дисциплине. Его произвели в подпоручики и, по правилам, предоставили свободный выбор места службы. Тухачевский, как завещал дед-генерал, предпочел лейб-гвардии Семеновский полк. По словам дяди Тухачевского, полковника М.Н. Балкашина, племянник собирался продолжить военное образование: «Он был очень способен и честолюбив, намеревался сделать военную карьеру, мечтал поступить в Академию Генерального штаба». А там, глядишь, — прямая дорога в генералы, если, чем черт не шутит, не в фельдмаршалы. Пока же свежеиспеченный подпоручик, получив 300 рублей казенных денег на экипировку — для Тухачевских сумма немалая, — отправился во Вражское в отпуск. Но отпуск пришлось прервать до срока: была объявлена мобилизация и война. Тухачевский вынужден был спешно догонять свой полк, выступивший в район Варшавы. Молодого подпоручика назначили младшим офицером (по-нынешнему — заместителем командира) 7-й роты 2-го батальона. Ротой командовал опытный воин капитан Веселаго, добровольцем участвовавший еще в русско-японской войне. Вскоре полк перебросили в район Ивангорода и Люблина против австро-венгерских войск. 2 сентября 1914 года рота Веселаго и Тухачевского под фольварком Викмундово у местечка Кржешов с боем форсировала реку Сан по подожженному австрийцами мосту, а потом благополучно вернулась на восточный берег с трофеями и пленными. Командир роты за этот подвиг получил орден Св. Георгия 4-й степени, младший офицер — орден Св. Владимира 4-й степени с мечами. Потом последовали другие бои с австрийцами и пришедшими им на помощь немецкими частями. Тухачевский отличился еще несколько раз. Его товарищ по полку А.А. Типольт, командовавший взводом в 6-й роте того же 2-го батальона, вспоминал случай, происшедший в конце сентября или начале октября 1914 года: «Полк занимал позиции неподалеку от Кракова, по правому берегу Вислы. Немцы укрепились на господствующем левом берегу. Перед нашим батальоном посредине Вислы находился небольшой песчаный островок. Офицеры нередко говорили о том, что вот, дескать, не худо бы попасть на островок и оттуда высмотреть, как построена вражеская оборона, много ли сил у немцев… Не худо, да как это сделать? Миша Тухачевский молча слушал такие разговоры и упорно о чем-то думал. И вот однажды он раздобыл маленькую рыбачью лодчонку, борта которой едва возвышались над водой, вечером лег в нее, оттолкнулся от берега и тихо поплыл. В полном одиночестве он провел на островке всю ночь, часть утра и благополучно вернулся на наш берег, доставив те самые сведения, о которых так мечтали в полку».
19 февраля 1915 года Семеновский полк занимал позиции в лесу перед селением Высокие Дужи, расположенном на дороге между городами Ломжа и Кольно. Днем немцы атаковали окопы семеновцев после мощной артподготовки, но захватить их не смогли. Тогда ночью они предприняли внезапную атаку, прорвались в стыке двух рот и окружили 7-ю роту. В рукопашном бою она была уничтожена почти полностью. Тухачевскому повезло больше, чем командиру роты, которого неприятельские солдаты подняли на штыки. В момент атаки Михаил Николаевич спал в неглубоком окопчике. Проснувшись, пытался организовать сопротивление своей роты, отстреливался от нападавших из револьвера, но был быстро сбит с ног, оглушен и очутился в плену. Приказом по полку от 27 февраля 1915 года Тухачевский вместе с Веселаго были объявлены погибшими. Лишь несколько месяцев спустя семья получила через Красный Крест письмо из Германии от Михаила. Мать и сестры несказанно обрадовались его «воскрешению».
В письмах сестрам Тухачевский советовал перечитывать «Слово о полку Игореве», намекая, что, подобно герою древней поэмы, готовится к бегству из плена. Но отнюдь не голод толкал Михаила Николаевича, как и многих других пленных офицеров, к побегу. Он хотел продолжать воевать, верил в победу над Германией и ее союзниками, горел желанием показать свое воинское мастерство, найти на полях сражений свой Тулон.
Двоюродной сестре своей второй жены, писавшей под псевдонимом Лидия Норд, много лет спустя Тухачевский признавался: «Войне я очень обрадовался… Мечтал о больших подвигах, а попал в плен. Но еще до плена я уже получил орден Владимира с мечами. В душе я очень гордился этим, но старательно скрывал свое чувство от других. И был уверен, что заслужу и Георгиевский крест».
Пять раз пытался Тухачевский бежать из плена. Четыре попытки окончились неудачей. Свояченице Михаил Николаевич позднее говорил: «Сидевший со мной в плену в Ингольштадте, куда меня привезли после четвертого побега, французский офицер, когда я снова начал строить планы побега, сказал: «Вы, наверное, маньяк, неужели вам не довольно неудачных попыток…» Но неудачи первых побегов меня не обескуражили, и я готовился к новому. Немцев я ненавидел, как ненавидит дрессировщиков пойманный в клетку зверь. Рассуждения моих товарищей по плену, иностранных офицеров о причинах неудач русско-японской кампании и наших поражений в эту войну меня приводили в бешенство. Устав обдумывать план побега, я отдыхал тем, что мысленно реорганизовывал нашу армию, создавал другую, которая должна была поставить на колени Германию. И дать почувствовать всему миру мощь России. Я составлял планы боевых операций и вел армии в бой… Может, тогда я был на грани помешательства…» Позднее Тухачевскому довелось воплотить мечту в жизнь — создать новую массовую армию, оснащенную самой передовой техникой.
Тем временем в России назревала революция. Тухачевский ее предчувствовал. Незадолго до февраля 1917 года он поделился с французским офицером Фер-ваком своими мыслями о будущем российской монархии: «Вот вчера мы, русские офицеры, пили за здоровье русского императора. А быть может, этот обед был поминальным. Наш император — недалекий человек… И многим офицерам надоел нынешний режим… Однако и конституционный режим на западный манер был бы концом России. России нужна твердая, сильная власть…»
Видя слабость пришедшего на смену царю демократического Временного правительства, Михаил Николаевич однажды сказал Ферваку: «Если Ленин окажется способным избавить Россию от хлама старых предрассудков и поможет ей стать независимой, свободной и сильной державой, я пойду за ним». А в другой раз еще более определенно заявил: «Я выбираю марксизм!»
В конце концов Тухачевскому представился удобный случай бежать из плена. На основе международного соглашения пленным разрешили прогулки в городе, при условии, что они дадут письменное обязательство не пытаться бежать во время прогулок. Находившийся вместе с Тухачевским в Инголыптадтском лагере А. В. Благодатов (впоследствии — генерал-лейтенант Советской Армии) следующим образом описывает обстоятельства последнего, удачного побега: «Тухачевский и его товарищ капитан Генерального штаба Чернявский сумели как-то устроить, что на их документах расписались другие. И в один из дней они оба бежали. Шестеро суток скитались беглецы по лесам и полям, скрываясь от погони. А на седьмые наткнулись на жандармов. Однако выносливый и физически крепкий Тухачевский удрал от преследователей… Через некоторое время ему удалось перейти швейцарскую границу и таким образом вернуться на Родину. А капитан Чернявский был водворен обратно в лагерь.
Мы долго ничего не знали о судьбе Михаила Николаевича и очень волновались за него. Примерно через месяц после побега в одной из швейцарских газет прочитали, что на берегу Женевского озера обнаружен труп русского, умершего, по-видимому, от истощения. Почему-то все решили, что это Тухачевский. В лагере состоялась панихида. За отсутствием русского попа ее отслужил французский кюре».
Так Тухачевского похоронили во второй раз. А он между тем держал путь в Париж, оттуда — в Лондон, а далее — морем до Скандинавии и поездом — до Петрограда. У Тухачевского очень рано подверглось эрозии понятие чести. Из Ингольштадта он бежал, нарушив слово офицера, — комедия с подменой подписей дела не меняет, да, может, и сам эпизод с чужими подписями придуман, чтобы хоть чуть-чуть облагородить совсем не благородный поступок будущего маршала. Ведь Тухачевский не мог не понимать, что его побег вызовет ужесточение режима и ухудшение положения других пленных. Его менее счастливого товарища Чернявского, прежде чем вернуть в лагерь, жандармы изрядно помяли в отместку за подлость.
5/18 сентября Тухачевскому удалось перейти германо-швейцарскую границу. Потом он перебрался из Швейцарии во Францию. 29 сентября (12 октября)
1917 года истощенный голодными скитаниями, но не потерявший присутствия духа подпоручик явился к русскому военному агенту (по сегодняшней терминологии — военному атташе) в Париже генералу графу А.А. Игнатьеву. Этим днем датировано письмо Игнатьева в Лондон военному агенту генералу Н.С. Ермолову: «По просьбе бежавшего из германского плена гвардии Семеновского полка подпоручика Тухачевского мною было приказано выдать ему деньги в размере, необходимом для поездки до Лондона. Прошу также не отказать помочь ему в дальнейшем следовании». Уже 16 октября Тухачевский оказался в Петрограде, где явился для продолжения службы в запасной батальон Семеновского полка. И тут же получил отпуск домой для поправки здоровья. Во Вражском его застало известие об Октябрьской революции.
Тухачевский вернулся в столицу 20 ноября. Солдаты избрали молодого и решительного подпоручика командиром роты. Тухачевский, похоже, к тому времени окончательно стал на сторону победителей — большевиков. Старая армия была мертва, Тухачевский это хорошо видел. Все надежды на возрождение вооруженных сил России подпоручик-семеновец теперь связывал с партией Ленина.
Из Петрограда Тухачевский опять вернулся во Вражское, где помогал матери и сестрам по хозяйству, в частности заготовил достаточно дров, чтобы семья могла пережить суровую зиму.
В Москву Тухачевский прибыл в начале марта 1918 года, практически одновременно с переехавшим сюда из Петрограда, находившегося под угрозой возобновившегося наступления немцев, Советским правительством. Близкий друг Тухачевского Н.Н. Кулябко утверждал: «Мы встретились вновь лишь в марте 1918 года. Он уже успел поработать в Военном отделе ВЦИКа. А меня IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов избрал членом ВЦИК. После переезда правительства из Петрограда в Москву я был назначен военным комиссаром штаба обороны Москвы, потом стал заместителем председателя Всероссийского бюро военных комиссаров. В эти дни как раз и возобновились наши дружеские связи с Михаилом Николаевичем». Кулябко подчеркивает, что на службу в Военный отдел ВЦИКа Тухачевский поступил еще до их встречи, а не после. Может быть, у молодого подпоручика был еще какой-то покровитель среди старых членов партии. Лидия Норд утверждает, что был — не кто иной как вождь самарских большевиков Валерьян Владимирович Куйбышев: «Судьба столкнула Тухачевского с Николаем Владимировичем Куйбышевым (братом Валерьяна, капитаном царской армии, впоследствии ставшим комкором в Красной Армии и расстрелянным в 1938 году, в рамках чистки, начатой делом Тухачевского. — Б.С.) в 1918 году на вокзале в Москве. И эта случайная встреча определила дальнейшую судьбу маршала. Н.В. Куйбышев затащил его к себе и познакомил с братом. Старший Куйбышев, угадав и оценив незаурядную натуру Тухачевского, три дня уговаривал его примкнуть к большевикам. Он свел его со старшими офицерами, уже перешедшими к красным, и, когда Тухачевский был завербован, В.В. Куйбышев использовал все свое влияние в партии, чтобы выдвинуть молодого подпоручика на ответственный военный пост. Он сам поручился за Тухачевского и нашел для него еще других поручителей». Очень может быть, что именно куйбышевская рекомендация открыла Тухачевскому двери Военного отдела ВЦИК, занимавшегося формированием только-только создававшейся Красной Армии.
Вскоре, 5 апреля 1918 года, Тухачевский стал членом РКП(б). Здесь не обошлось без содействия Куляб-ко, а возможно, и Куйбышева. Кулябко вспоминал: «Я видел, что он уже твердо стоит на позициях большевиков, слышал его восторженные отзывы о Владимире Ильиче и потому предложил ему вступить в ряды коммунистической партии. Михаил Николаевич Тухачевский был глубоко взволнован этим предложением. Он очень серьезно обдумал его и согласился.
Вместе мы отправились в Хамовнический райком партии, который помещался тогда, кажется, на Арбате. Я дал М.Н. Тухачевскому устную рекомендацию и подтвердил ее письменно. Делал это без малейших колебаний, твердо веря, что, став коммунистом, Михаил Николаевич принесет еще большую пользу Советской власти, которая очень нуждалась в преданных военных специалистах».
Возобновившееся в феврале немецкое наступление и уже начавшаяся на окраинах Гражданская война требовали скорейшего возрождения регулярной армии. Тут как раз подвернулась оказия, о которой пишет Кулябко: «Во Всероссийском бюро военных комиссаров подбирались тогда кадры для так называемой Западной завесы (группировки войск, призванной защитить Центр России от возможного германского вторжения. — Б. С.). По моему предложению М.Н. Тухачевский был назначен военкомом Московского района Западной завесы. А когда на Волге вспыхнул мятеж белочехов, я имел случай доложить о Тухачевском В.И. Ленину. Владимир Ильич очень заинтересовался им и попросил привести «поручика-коммуниста».
Сам Николай Николаевич при разговоре Тухачевского с Лениным не присутствовал, но со слов друга передал содержание состоявшейся беседы с вождем: «Владимир Ильич сразу задал ему два вопроса: при каких обстоятельствах он бежал из немецкого плена и как смотрит на строительство новой социалистической армии? Тухачевский ответил, что не мог оставаться в плену, когда в России развернулись революционные события, и затем стал подробно излагать свои мысли о том, как соединить разрозненные красногвардейские отряды в настоящую регулярную армию».
Михаил Николаевич произвел на Ленина благоприятное впечатление. Его бросили на борьбу с мятежным чехословацким корпусом, чье восстание в Поволжье, на Урале и в Сибири началось 25 мая 1918 года. 19 июня Тухачевский направился в Казань со следующим мандатом: «Предъявитель сего военный комиссар Московского района Михаил Николаевич Тухачевский командирован в распоряжение главкома Восточного фронта Муравьева для использования работ исключительной важности по организации и формированию Красной Армии в высшие войсковые соединения и командования ими». 27 июня Тухачевский прибыл на станцию Инза, чтобы вступить в должность командующего 1-й Революционной армией. Эту армию еще только предстояло сформировать из разрозненных отрядов.
Уже в начале июля молодому командарму удалось сформировать первые регулярные дивизии — Пензенскую, Инзенскую и Симбирскую, впоследствии получившие номера, соответственно, 20-й, 15-й и 24-й. Все они, и особенно 24-я Железная во главе с ГД. Гаем, прославились на фронтах Гражданской войны как наиболее стойкие и боеспособные соединения. Для укомплектования войск командным составом Тухачевский и глава симбирских коммунистов И.М. Варейкис впервые издали приказ о мобилизации офицеров. Он был опубликован 4 июля 1918 года. Позднее Тухачевский отстаивал свой приоритет не только в деле привлечения военных специалистов, но и в организации репрессий, без которых невозможно строить армию в военное время: «…Впервые в 1-й армии были введены армейский и дивизионные военно-революционные трибуналы. Учреждение трибуналов окончательно закрепило утверждение дисциплины».
Очень скоро войска Тухачевского достигли первых успехов. 8 июля 1918 года он телеграфировал Кулябко в Москву, желая поделиться с другом радостью победы: «Тщательно подготовленная операция Первой армии закончилась блестяще. Чехословаки разбиты. Сызрань взята с бою». Однако наступление не получило развития из-за последовавших драматических событий, в ходе которых Тухачевский едва не погиб. Против Москвы поднял мятеж главнокомандующий Восточного фронта левый эсер и бывший подполковник М.А. Муравьев. Это стало ответом на подавление выступления его товарищей по партии в Москве 6 июля. Вот как охарактеризовал Муравьева Тухачевский в мемуарной статье «Первая армия в 1918 году»: «Муравьев отличался бешеным честолюбием, замечательной личной храбростью и умением наэлектризовывать солдатские массы… Мысль «сделаться Наполеоном» преследовала его, и это определенно сквозило во всех его манерах, разговорах и поступках. Обстановку он не умел оценить. Его задачи бывали совершенно нежизненны. Управлять он не умел. Вмешивался в мелочи, командовал даже ротами. Перед красноармейцами он заискивал. Чтобы снискать к себе их любовь, он им безнаказанно разрешал грабить, применял самую бесстыдную демагогию и проч. Был чрезвычайно жесток. В общем, способности Муравьева во много раз уступали масштабу его притязаний. Это был себялюбивый авантюрист, и ничего больше».
Не вышло из Муравьева Наполеона. Прав Тухачевский: Михаил Артемьевич оказался никудышным предводителем мятежа (удавшийся мятеж, как известно, зовут революцией), не сумел правильно оценить обстановку и даже грамотно провести пропаганду среди своих солдат. 11 июля, прибыв в Симбирск на встречу с Тухачевским, Муравьев предложил командарму Первой прекратить борьбу с чехами и Народной армией Ком-уча, поддержать объявление войны Германии, и если Совнарком не одобрит эти действия, то, соединившись с чехословацким корпусом, идти походом на Москву для свержения власти Ленина и создания потом нового фронта против немцев. Тухачевский отказался и немедленно был арестован пришедшими с Муравьевым красноармейцами. Главком заявил командарму: «Я поднимаю знамя восстания, заключаю мир с чехословаками и объявляю войну Германии». Потом Муравьев отправился занимать Симбирский Совет. Войска, которые поддержали главкома, не знали, что он изменил Советской власти, и думали, что Муравьев действует по согласованию с Москвой. Когда обман раскрылся, песенка бравого подполковника была спета. После ухода Муравьева солдаты собирались без промедления и лишних церемоний «вывести в расход» Тухачевского. О своем спасении он рассказывает так: «…Красноармейцы хотели меня тотчас же расстрелять, но были крайне удивлены, когда на вопрос некоторых, за что я арестован, я им ответил: «За то, что большевик». Они были сильно огорошены и отвечали: «Да ведь мы тоже большевики». Началась беседа. Услышав о левоэсеровском восстании в Москве и получив объяснение измены Муравьева, оставшиеся красноармейцы тотчас же избрали делегацию и отправили ее в броневой дивизион для обсуждения вопроса». Тухачевского освободили. Тем временем Варейкис сосредоточил в здании губисполкома преданный большевикам латышский отряд и пригласил Муравьева на переговоры. Главком явился с вооруженной свитой, но засады не заметил. Когда переговоры зашли в тупик, Муравьев с угрожающими словами «Тогда я иначе с вами поговорю!» ринулся к двери в коридор, где осталась его охрана. И увидел, что свита уже разоружена и вокруг стоят латыши с примкнутыми штыками. С криком «Предательство!» Михаил Артемьевич успел еще выхватить маузер и трижды выстрелить, ранив двоих, прежде чем был убит. После смерти Муравьева до прибытия нового главнокомандующего фронта И.И. Вацетиса Тухачевский временно командовал Восточным фронтом. Советские войска, пораженные изменой популярного среди красноармейцев Муравьева, оказались на время деморализованы. В панике, почти без сопротивления, они оставили Бугульму, Мелекесс, Симбирск, а в начале августа — и Казань, где в руки чехов и Народной армии попала основная часть эвакуированного сюда российского золотого запаса. Комиссары, равно как и многие большевистски настроенные рядовые бойцы, стали подозревать в предательстве чуть ли не всех бывших офицеров. Не избежал подозрений и Тухачевский, хотя, казалось бы, его поведение во время, как говорил сам Михаил Николаевич, «шутовского восстания Муравьева» никаких поводов для сомнений в его верности Советской власти не давало. Член Реввоенсовета фронта П.А. Кобозев даже распорядился об аресте Тухачевского, но этому воспротивились Варейкис и член Реввоенсовета 1-й армии В.В. Куйбышев. Конфликт удалось уладить без вмешательства Москвы.
Энергия и распорядительность Тухачевского, его готовность применять жесткие меры для водворения в своих частях революционного порядка были удостоены похвалы самого Троцкого. Он ставил в пример другим командармам «славное имя товарища Тухачевского».
Вскоре советские войска перешли в контрнаступление. Симбирская операция была первой крупной операцией, разработанной и успешно осуществленной Тухачевским. В очерке «Первая армия в 1918 году» он подробно описал ее ход. Сначала должны были быть разбиты группировки белых южнее (в районе станции Кузоватово) и севернее Симбирска, у села Большое Батырево, а потом быстрой атакой планировалось захватить город и железнодорожный мост через Волгу, чтобы без промедления переправиться на левый берег. На Кузоватово наступала Инзенская дивизия и Витебский полк Симбирской дивизии, на Большое Батыре-во — алатырская группа Симбирской дивизии.
Тухачевский описал первый свой крупный успех со свойственным молодости восторгом: «25 августа начинается стремительное выполнение поставленной задачи. Противник сбит и ошеломлен. 27 августа Инзенская дивизия выходит на линию восточнее деревень Русская Темрязань — Поливанов — Акшоут. Витебский полк, атаковав противника с тыла, вышел того же числа к юго-западу от деревни Баевка. Разбитый противник, стремительно ускользая из мешка, бежал к юго-востоку от станции Кузоватово…
Первоначально я предполагал нанести удар на Симбирск двумя дивизиями: Инзенской и Симбирской, но затруднения в организации связи и тыла заставили все предназначенные для атаки Симбирска силы передать начдиву Симбирской Гаю.
В основу плана операции была положена идея концентрического наступления. Инзенской дивизии была поставлена задача активной обороны занимаемых рубежей. Инзенской дивизии на фронте также была поставлена оборонительная задача. Зато кавалерии левого фланга ставилась задача занять селение Тереньга и прервать телеграфное сообщение Сызрань — Симбирск…
Силы ударной Симбирской группы тов. Гая достигали примерно 8 тыс. штыков. Противник небольшими силами занимал передовые линии и имел довольно значительные силы в районе Симбирска (что было выяснено после взятия последнего). С этими резервами, как выяснилось после, белогвардейцы лишь немногим уступали в численности, при составлении же плана наши силы представлялись значительно превосходящими силы противника.
Приказом по армии за номером 7 начало наступления было назначено на утро 9 сентября и взятие Симбирска было рассчитано на третий день наступления… В основу этих расчетов было положено: во-первых, превосходство наших сил, во-вторых, выгодность обхода при намеченном концентрическом движении и, в-третьих, быстрота движения и внезапность. На линии расположения противника наши части уже достигали полного взаимодействия, широко обходили расположение противника и тем предрешали быстрое его поражение.
Все эти расчеты полностью оправдались на деле. К вечеру первого же дня белогвардейские войска охватила паника. В центре они оказывали ожесточенное сопротивление, но бесконечный обход их флангов совершенно расстроил последние, и отступление приняло беспорядочный характер. На подступах к Симбирску они попробовали укрепиться и оказать последнее сопротивление, но дружным натиском наших воодушевленных войск они были быстро разбиты и опрокинуты за Свиягу, а далее — за Волгу.
Таким образом, основательно подготовленная операция одним ударом решила чрезвычайно важную задачу. Сильная симбирская группа противника была разбита, им была перерезана Волга, а стало быть, и наилучший путь отступления для белогвардейцев из-под Казани, павшей почти одновременно с Симбирском… Нами были захвачены колоссальные военные трофеи. Железнодорожный мост через Волгу был захвачен в полной исправности».
Во время операции по захвату Симбирска Тухачевский проявил черты своего собственного полководческого стиля. Здесь и суворовское «быстрота и натиск» (позднее, в Москве, Михаил Николаевич, собрав богатейшую библиотеку, специальный раздел посвятил редким книгам о жизни и войнах Суворова). Здесь и стремление достичь успеха с минимальными потерями для своих войск. Здесь и обыкновение в решающем пункте фронта вводить в дело почти все наличные силы, практически не оставляя резервов и отодвигая на второй план заботу о флангах. Данная тактика базировалась на твердой вере в превосходство собственных войск над войсками противника как в моральном отношении, так и по уровню боевой подготовки. Когда дело в действительности обстояло подобным образом, Тухачевскому сопутствовала удача.
Успехи на Восточном фронте облегчались для красных тем, что почти все чехословацкие войска уже были выведены из боя. Командование корпуса исповедовало почти что ленинский принцип: всякая русская контрреволюция только тогда чего-нибудь стоит, если она умеет себя защищать. Братья-славяне не собирались таскать каштаны из огня для собравшихся в Самаре депутатов разогнанного большевиками Всероссийского Учредительного собрания, образовавших Директорию. Народная же армия Комуча была еще слаба, даже формироваться начала позже, чем Красная Армия, и только-только училась по-настоящему воевать.
Войскам Тухачевского выпала судьба освободить от белых не только родной город Ленина Симбирск, которому скоро суждено было стать Ульяновском, но и столицу Директории Самару, взятую 8 октября концентрическим ударом. Вскоре Народная армия оставила и Уфу. Антисоветские силы на Востоке находились в состоянии глубочайшего кризиса. Но Тухачевскому в тот раз не довелось стать освободителем Урала и Сибири. Его перебросили на Южный фронт против казачьей армии атамана П.Н. Краснова. Она уже потерпела поражение под Царицыном, и командование Красной Армии рассчитывало в первую очередь добить Донскую армию, а затем разгромить Добровольческую армию генерала Деникина. 15 декабря 1918 года Ленин требует от Реввоенсовета Республики: «…Ничего на запад, немного на восток, все (почти) на юг». А вот после казавшегося близким и реальным разгрома донцов и добровольцев открывалась возможность быстрого продвижения в области, оставляемые капитулировавшими в Компьене немцами, и надежда принести на красноармейских штыках мировую революцию в Западную Европу.
На Южный фронт Михаил Николаевич прибыл в начале января 1919 года. Он недолго оставался помощником командующего фронтом, предпочтя возглавить одну из. армий — 8-ю, где сражалась теперь 15-я Инзенская дивизия, ранее — одна из лучших в 1-й армии. К тому времени разложившиеся под влиянием царицынской неудачи и советской агитации войска Краснова беспорядочно отступали, многие казачьи полки, поверив обещаниям, что Советы их трогать не будут, расходились по домам. Однако занимавшие территорию Донской области войска Красной Армии и отряды ЧК начали проводить бесчеловечную директиву о «расказачивании», санкционированную Лениным и Свердловым 24 января 1919 года. Она предусматривала не только юридическую, но едва ли не поголовную физическую ликвидацию казачьего сословия. Член Реввоенсовета 8-й армии И.Э. Якир, ставший одним из ближайших друзей Тухачевского и разделивший его горькую участь, в развитие директивы ЦК издал приказ, предусматривающий «расстрел на месте всех имеющих оружие» (а среди казаков был вооружен практически каждый), и «процентное уничтожение мужского населения». Новый командующий 8-й армии предпринял некоторые шаги по ограничению масштаба репрессий и реквизиций (хлеб у казаков отбирали подчистую), справедливо опасаясь массового восстания людей, с детства учившихся воевать. Так, Тухачевский смягчил приказ Реввоенсовета Южного фронта от 15 февраля 1919 года о конфискации у казаков лошадей и повозок, потребовав возложить всю тяжесть этой гибельной для казачьих хозяйств меры «исключительно на кулацкую и богатую часть населения». Но его власти как командующего армии для существенного изменения политики в Донской области явно было недостаточно.
Армия Тухачевского наступала вдоль Дона. Части Краснова оказывали лишь слабое сопротивление. Казаки тысячами сдавались в плен. Однако с конца января 1919 года в Донецкий бассейн вступили войска Добровольческой армии и продвижение Южного фронта замедлилось. С середины февраля, после отставки Краснова и прихода на пост атамана деникинского ставленника генерала А.П. Богаевского, приток частей Добровольческой армии на Дон резко возрастает. Командующий Южного фронта В.М. Гиттис направил 8-ю армию на юго-восток, в глубь Донской области. Тухачевский же самовольно повернул свои войска на Миллерово, чтобы наступать на Ростов по кратчайшему пути — через Донбасс — и нанести поражение добровольческим дивизиям. Он учитывал, что пролетарское население каменноугольного бассейна куда больше сочувствует Красной Армии, чем озлобленные расказачиванием казаки. Тухачевский, казалось бы, идет на прямое нарушение воинской дисциплины. Однако случай этот не так прост, как может показаться. Дело в том, что сам командующий фронта Гиттис своими приказаниями нарушил директиву главкома Вацетиса, предусматривавшую маневр части сил фронта от Царицына в направлении на Донбасс. Гиттис исходил из сложившейся после поражения казаков под Царицыном обстановки в группировке советских войск и трудности переброски новых сил на миллерово-ростовское направление, так как противник при отступлении основательно разрушил железнодорожные пути. Но его решение оказалось ошибочным.
8-я армия, взаимодействуя с двигавшейся на Ростов группой И.С. Кожевникова, достигла определенных успехов. Однако сил для решительной победы не хватило. Командующий фронта, по настоятельному требованию главкома, согласившегося с предложениями командарма 8-й, пытался сделать то, чем не стал заниматься в январе: перегруппировать войска походным порядком для нанесения удара на Донбасс. Но истощение конского состава и эпидемия тифа значительно замедлили маневр. Время было бесповоротно упущено. Армия Тухачевского смогла в марте оттеснить добровольческие части на правый берег Северского Донца в районе Калитвенская — Глубокая — Красновка — Луганская. Но тем временем начался ледоход, река вскрылась, и дальнейшее наступление через широко разлившийся Донец стало на долгое время невозможным. Кроме того, в начале марта на Верхнем Дону вспыхнуло казачье восстание, отвлекавшее все больше сил красных.
Тухачевский, как и Вацетис, считал Гиттиса главным виновником того, что не удалось добить Донскую армию и полностью занять Область Войска Донского и Донбасс. 23 марта 1919 года (именно этот день ранее главком называл в качестве крайнего срока для разгрома противника) Михаил Николаевич по его просьбе, мотивированной невозможностью сработаться с Гитти-сом, получил новое назначение. Тухачевского возвратили на Восточный фронт, где вновь сложилась критическая обстановка.
18 ноября 1918 года правительство Директории, обосновавшееся в Омске, было свергнуто отрядами офицеров и казаков, приведшими к власти бывшего командующего Черноморского флота адмирала А.В. Колчака. Адмирал провозгласил себя «Верховным правителем России» и фактически установил в Сибири и на Урале военную диктатуру. Колчаку удалось на какое-то время объединить разрозненные войска нескольких областных правительств на Востоке России, сформировать более или менее боеспособную армию, снабженную всем необходимым Англией и Францией из оставшихся после Первой мировой войны запасов. Адмирал бросил ее в наступление на советский Восточный фронт, рассчитывая выйти к Волге, а потом предпринять решающий поход на Москву. 4 марта Сибирская армия под командованием чешского генерала Р. Гайды, решившего попытать счастья с русским белым движением, перешла в наступление к реке Каме, отбросив части 2-й и 3-й армий красных. А 6 марта в атаку пошла Западная армия генерала М.В. Ханжина, опрокинувшая вдвое уступавшую ей по численности 5-ю советскую армию. Белые заняли Уфу, Бугульму, Бугуруслан, Белебей… До Волги им оставалось не более 100 километров. 5-я армия была разбита и откатывалась без серьезного сопротивления на 20–25 километров в сутки. Центр Восточного фронта был прорван. Советскому командованию требовалось срочно усилить 5-ю армию, чтобы добиться перелома. Сюда направлялись дивизии как из соседних армий, так и с других фронтов, а также новые формирования из внутренних губерний. 5-я армия должна была превратиться в самую сильную на Восточном фронте. Во главе ее и был поставлен в начале апреля Тухачевский.
Командующий Восточного фронта С.С. Каменев разработал план контрудара во фланг армии Ханжина войсками Южной группы М.В. Фрунзе, состоявшей из трех армий: 1-й, 4-й и Туркестанской. Еще одна армия, 5-я, до 11 мая находилась во временном подчинении Фрунзе. Тогда и завязалось личное знакомство Тухачевского с Фрунзе, быстро переросшее в дружбу.
28 апреля Южная группа начала контрнаступление во фланг и тыл Западной армии. 5-я армия атаковала противника фронтально в общем направлении на Бугуруслан и Бугульму. В ходе последующего наступления потерпел поражение левофланговый 6-й Уральский корпус белых, и Ханжин вынужден был приостановить стремительный марш к Волге. Отразив контрудар противника, введшего в дело только что сформированный и плохо обученный Волжский корпус Каппеля, 27-я стрелковая дивизия 5-й армии 13 мая заняла Бугульму. Войска Ханжина, хотя и избежали окружения, но понесли тяжелые потери и утратили боевой дух. Однако колчаковский наштаверх ДА. Лебедев и командующий Сибирской армии не осознали всей серьезности положения. Сибирцы продолжали ставшее уже бессмысленным наступление на Вятку в тщетной надежде, что красные перебросят против войск Гайды часть сил, громивших Западную армию.
Тем временем в командовании советского Восточного фронта произошли перемены. Вместо С.С. Каменева 5 мая был назначен бывший генерал АА. Самой-до, ранее возглавлявший 6-ю Отдельную армию на архангельском направлении. Это назначение стало следствием начавшегося противостояния Троцкого с членом Реввоенсовета Восточного фронта С.И. Гусевым, поддерживавшим Каменева. Этот конфликт обострился со второй половины мая, когда выявился разгром Западной армии белых. Каменев и Гусев настаивали на продолжении генерального наступления с целью добить Колчака, не давая ему передышки — иначе за зиму колчаковцы оправятся и к весне 1920 года опять будут представлять собой грозного противника. Но главком Вацетис и Троцкий считали, что основные силы надо перебросить на юг против действовавшего все более успешно Деникина, а на востоке ограничиться активной обороной на рубеже реки Белой после предполагавшегося взятия Уфы. Эти споры, происходившие не только в рамках военного ведомства, но и в ЦК партии, окончились только в июле, когда Каменев занял место Вацетиса, арестованного по неподтвердившемуся обвинению в бонапартистских наклонностях.
В 1935 году в статье в «Красной Звезде» Тухачевский так изложил ход событий: «Начавшись 25 апреля (войска Тухачевского атаковали белых на три дня раньше главных сил Южной группы, чтобы привлечь к себе резервы Западной армии и облегчить ее фланговый обход. — Б. С.), наступление Южной группы развивалось очень успешно. Правый фланг 5-й армии к 1 мая вышел в район станции Заглядино… В это время Трон-кий нашел нужным вмешаться вдела Восточного фронта. Командвост тов. С.С. Каменев был освобожден от должности, и на его место был назначен тов. А.А. Самойло. Это обстоятельство совершенно испортило блестящее начало нашего контрнаступления и позволило белым упорядочить свое отступление. 5-я армия была изъята из подчинения тов. Фрунзе и перешла в непосредственное подчинение тов. Самойло. 11 мая тов. Самойло нацеливает 5-ю армию на север, к устью реки Вятки, 14 мая сворачивает ее на Белебей, 17 мая опять направляет ее на север, а 19 мая на северо-восток. Вместо преследования — топтание на месте.
Начались протесты против такого командования. 21 мая командарм-5 направил командвосту телеграмму, в которой говорилось: «Начиная с 10 сего мая, вероятно, ввиду многих неизвестных мне обстоятельств вами были отданы пять задач для 5-й армии, каждый раз отменяющие одна другую… Эти отмены приказов совершенно измотали дивизии, и части совершенно перепутались, связь нарушилась и проч.»
В заключение командарм просил командвоста соблюдать статью 19 Полевого устава, издания 1918 года, в которой говорится, что прежде чем отдать приказ, надо подумать.
«Большие неприятности перенес и тов. Фрунзе, которому тов. Самойло неожиданно 18 мая запретил преследовать белых. Тов. Фрунзе дал решительный отпор, и тов. Самойло отменил свой приказ, разрешив занять Уфу. Тов. Фрунзе успешно провел операцию по занятию города Уфы».
С точки зрения воинской субординации, поведение Тухачевского было недопустимо, несмотря на то что по существу он был прав. Однако в годы Гражданской войны подобные пререкания нижестоящих начальников с вышестоящими и неисполнение приказов было довольно-таки распространено и у красных, и у белых. Например, почти одновременно со ссорой Тухачевского и Самойло, в конце мая, по другую сторону фронта командующий Сибирской армии генерал Гайда потребовал от Колчака отставки наштаверха Лебедева, а на прямой вопрос, намерен ли он, Гайда, впредь исполнять приказы Верховного Главнокомандующего, ответил: «Да, но поскольку они не будут мешать моим, как командующего Сибирской армии, оперативным распоряжениям». Взбунтовавшегося командарма пригрозили арестовать, но в конце концов оставили в прежней должности, заручившись только обещанием исполнять все приказы, а не только те, которые понравятся. Очень многие приказы и в Красной Армии, и в белых армиях так и исполнялись: «постольку-поскольку». Грешил этим и Тухачевский, но не менее часто сам страдал от подобной практики со стороны подчиненных или соседей. К тому же связь работала плохо, и приказы и донесения об обстановке часто не доходили до соответствующих штабов.
Надо отметить, что стратегические решения Тухачевского не всегда были продуманны и взвешенны. Троцкий, например, высоко ценя Михаила Николаевича как «талантливого, но склонного к излишней стремительности полководца», в 1937 году признавал: «Ему не хватало способности оценить военную обстановку со всех сторон. В его стратегии всегда был явственный элемент авантюризма».
Златоустовская операция, открывшая Красной Армии путь через Уральский хребет, была проведена с точки зрения канонов военного искусства почти образцово (притом что просто «образцовых», без «почти», в природе не существует — в планы полководцев всегда вмешивается случай или неучтенные обстоятельства). Местность, где предстояло действовать 5-й армии, была труднодоступна для больших масс войск — лесистые горные кряжи, пересекавшиеся долинами рек Ай и Юрюзань, узким дефиле железной дороги и трактом Бирск — Златоуст (ранее этим трактом шел Ханжин в своем безумном наступлении к Волге). Главный удар Тухачевский наносил на крайнем левом фланге, от которого и отходил упомянутый тракт. Здесь он сосредоточил ударную группу из 15 стрелковых полков 26-й и 27-й дивизий с сильной артиллерией. А правее ее смело оставил незанятый войсками 90-километровый промежуток против практически недоступного хребта Кара-Тау. Белые, в свою очередь, и Бирский тракт, и Златоустовскую железную дорогу прикрыли двумя примерно одинаковыми по численности группировками. На тракте стоял сильно потрепанный Уральский корпус с полутора пехотными и тремя слабыми кавалерийскими дивизиями. Железную дорогу держали две пехотные дивизии того же корпуса и кавбригада. В тылу, в пяти переходах от линии фронта, располагались две пехотные дивизии Уфимского корпуса Каппеля и Ижевская бригада — самая боеспособная во всей колчаковской армии, сформированная из восставших против большевиков рабочих ижевских заводов. Пехотная дивизия белых тогда уже значительно уступала по численности личного состава стрелковой дивизии красных.
В ночь с 23 на 24 июня 26-я дивизия форсировала реку Уфу у селения Айдос и овладела выходом из дефиле реки Юрюзань. Через сутки Уфу преодолели и главные силы 27-й дивизии, наступая по Бирскому тракту, а одна из ее бригад, двигаясь вдоль железной дороги, 29 июня заняла Аша-Балашовский завод. 26-я дивизия двигалась по долине Юрюзани. Временами идти приходилось по руслу реки. Бойцы порой вынуждены были на себе перетаскивать орудия через горные перевалы. У селения Дуван 27-я дивизия разбила части Уральского корпуса и 1 июля вышла на Уфимское плоскогорье, по которому открывался путь к Златоусту — важному узлу дорог. С его захватом войска Колчака уже не смогли бы долго удерживать Урал. От Златоуста открывался путь в Западную Сибирь. Однако 26-я дивизия, не встречавшая сопротивления, вышла на плоскогорье на двое суток раньше 27-й и внезапно атаковала располагавшуюся на отдыхе 12-ю дивизию противника. Части последней сконцентрировались в районе селения Насибаш, где смогли Зиюля окружить три полка 26-й дивизии. Последним, однако, удалось прорваться и соединиться со своим резервным полком. 4-я белая дивизия позднее вступила во встречный бой с только что преодолевшей горные проходы 27-й дивизией, в котором потерпела поражение. 6 июля 26-я дивизия овладела Насибашем. Однако основным силам корпуса Каппеля и Уральского корпуса удалось избежать окружения из-за того, что бои задержали продвижение обходных колонн 5-й армии. 10 июля Тухачевский начал атаку на Златоуст силами 27-й дивизии по кратчайшему пути, тогда как 26-я должна была прижать белых к горам. 13 июля город пал.
После потери Златоуста Западная армия Ханжина откатилась к Челябинску. Падение этого города грозило прервать связь основных сил Колчака с войсками, действовавшими на юге, в районах Оренбурга и Уральска, под руководством генерала Г.А. Белова. Поэтому белые пытались Челябинск отстоять. 5-ю армию хотели заманить в ловушку, сперва сдав город, а потом окружив в нем дивизии Тухачевского. Но этот план требовал сложных маневров и хорошей подготовки бойцов и командиров. Колчаковские войска, состоявшие большей частью из мобилизованных крестьян и пленных красноармейцев, для масштабных перегруппировок и глубоких охватов уже не годились. Военный министр Будберг крайне скептически оценивал шансы на успех задуманного. 25 июля он так прокомментировал план Челябинской операции: «…Узнал, что задумана чрезвычайно сложная операция окружения Челябинской группы красных, требующая испытанных и надежных войск лучшего старого кадрового типа; операция сложна и искусственна даже для старых войск, так как требует идеального исполнения, и малейшая где-нибудь неустойка все рвет и может привести к полному краху. Такие операции можно проводить только на карте или на больших показных маневрах.
Состояние войск, их неспособность к маневру, их неспособность выдерживать прорывы и обходы заставляют считать, что для этой операции 95 % за то, что она кончится полной катастрофой. По грубой схеме, показанной мне в Ставке, некоторым дивизиям придется вести бой на два и на три фронта, т. е. дана такая задача, которой современные наши войска выполнить не в состоянии, ибо не выдерживают флангового огня и даже признаков нахождения неприятеля в тылу и на флангах. Несомненно, это безумная ставка Лебедева для спасения своей пошатнувшейся карьеры и для доказательства своей военной гениальности…»
А на следующий день барон-пессимист разузнал «кое-какие подробности сумбурной операции, рожденной мудрыми головами Лебедева и Сахарова; оказалось, что они задумали повторить Мамаево побоище, с заманиванием красных в ловушку при помощи добровольного очищения Челябинского узла; считают, что красные бросятся на эту приманку, после чего их там захлопнут при помощи очень сложного маневра, в котором главная роль отведена совершенно сырым в боевом отношении дивизиям Омского округа и конным частям.
С бумажной, теоретической точки зрения, все это очень красиво и заманчиво, так что немудрено, что ничего не понимающий в сухопутном деле адмирал согласился на эту операцию; но с точки зрения реального выполнения и оценки средств выполнения, операция совершенно безумная и возможная только при условии, что красные представляют стадо баранов и спасуют при первом же обнаружении нашего гениального плана; а так как на сие нет никаких надежд и так как мы замахиваемся совершенно негодными для исполнения средствами, то у меня, по крайней мере, весь шанс на успех заключается в авоське и заступничестве Николая Чудотворца».
При отходе белых из Челябинска там вспыхнуло восстание рабочих, в результате чего колчаковские арьергарды были сильно потрепаны. После того как 5-я армия 24 июля вошла в город, на ее флангах перешли в наступление группы генералов Войцеховского и Кап-пеля, насчитывавшие, соответственно, 16 и 10 тысяч штыков и сабель. Однако бывшие красноармейцы, преобладавшие у Каппеля, вскоре просто отказались идти в наступление, и генерал предпочел оставить их в обороне, опасаясь измены. Тухачевский же существенно пополнил свою армию за счет челябинских рабочих. 29 июля его войска перешли в наступление и отбросили белых дальше на восток.
7 августа 1919 года командующего 5-й армии наградили орденом Красного Знамени, как отмечалось в приказе Реввоенсовета, «за нижеследующие отличия: доблестные войска 5-й армии под искусным водительством командарма т. Тухачевского после упорнейших боев, разбив живую силу врага, перешли через Урал. Бугуруслан, Бугульма, Бирск и Златоуст пали под нашими ударами благодаря смелым, полным риска, широким маневрам армии, задуманным т. Тухачевским. 24 июля геройскими частями 3-й бригады 27-й стрелковой дивизии взят Челябинск. Огромный успех, достигнутый армией, является результатом, главным образом, талантливо созданного тов. Тухачевским плана операции, который твердо проведен им в жизнь». Тогда рискованность маневров безоговорочно ставилась командующему в заслугу. Никто не думал, что через год на Польском фронте такого рода маневр приведет советские армии к полной катастрофе.
Остановиться войска «верховного правителя» России смогли только на рубеже реки Тобол. Здесь 5-й армии была поручена главная задача: форсировав реку, овладеть Петропавловском и, разгромив противостоявшую ей 3-ю армию белых под командованием генерала К. В. Сахарова, идти на колчаковскую столицу Омск. 20 августа бойцы Тухачевского форсировали Тобол и вышли на дальние подступы к Петропавловску, пройдя за короткий срок до 180 километров. Действовать приходилось в казачьих районах, где население в большинстве было настроено к большевикам враждебно. Поэтому Тухачевскому пришлось создать Троицкий и Кокчетавский укрепленные районы для защиты флангов армии от казачьих партизанских отрядов. Командарм вел наступление в двух направлениях — вдоль тракта Звериноголовская — Петропавловск, где наносился главный удар, и по железной дороге Курган — Петропавловск, рассчитывая охватить противника и принудить его к быстрому отходу. Командующий Восточного фронта В.А. Ольдерроге, бывший генерал, настаивал на ином решении — концентрации всех сил армии в направлении железной дороги, где была сосредоточена основная группировка белых. Кроме того, он учитывал, что тракт проходил по казачьим районам, где можно было ожидать особо сильного сопротивления. Тухачевский, как обычно, поступил по-своему, продолжая действовать основными силами армии в направлении Звериноголовская — Петропавловск. Позднее, в 1935 году, в опубликованной в «Красной Звезде» статье «На Восточном фронте» он не пожалел черных красок для бывшего комфронта, арестованного еще в начале 30-х в рамках чистки Красной Армии от бывших царских офицеров и потому не удостоенного теперь удостоверяющего благонадежность обращения «товарищ»: «Трудно понять, где выискивал Троцкий таких людей! Человек никому не известный, в лучшем случае бездарный, Ольдерроге сделал все от него зависящее, чтобы наше неотступное преследование Колчака сорвалось». Да, умел Михаил Николаевич тонко намекнуть, что его оппонент — быть может, саботажник и скрытый враг Советской власти!
Ольдерроге настаивал на возвращении к своему плану и соответствующей перегруппировке войск. Как вспоминал Тухачевский, «произошла крепкая телеграфная перепалка, но Ольдерроге категорически настоял на перегруппировке. Белые учли эту ошибку. Уже на подступах к Петропавловску они перешли в контрнаступление, сковали части 5-й армии с фронта, а на правый фланг и тыл двинули с юга две пехотные дивизии» — вновь сформированный Сибирский казачий конный корпус сибирского атамана генерала П.П. Иванова-Ринова (в середине 20-х в эмиграции в Китае он перешел на сторону большевиков) и конную группу генерала Доможирова. Корпус сибирских казаков разбил одну из бригад 26-й стрелковой дивизии, опрокинул войска Тухачевского и погнал их назад, к Тоболу. «Никому не известный, в лучшем случае бездарный» Ольдерроге спас легендарных «пятоармейцев» от разгрома, подкрепив армию Тухачевского дивизией из фронтового резерва и бросив против левого фланга ударной группы белых соединения 3-й армии, также форсировавшей Тобол. Благодаря этому 5-я армия отошла за реку без больших потерь и удержала плацдарм на правом берегу. 14 октября пополненная за счет мобилизации рабочих Челябинска и других уральских городов и вновь сформированной кавалерийской дивизии 5-я армия перешла в наступление и 29 октября овладела Петропавловском. Противник в беспорядке отступал к Омску. Здесь опять возник конфликт между Ольдерроге и Тухачевским. Командарм-5 хотел бросить кавалерийскую дивизию на перехват путей отхода белых от Омска, но командующий фронта настоял, чтобы она была направлена для обеспечения правого фланга армии со стороны Кокчетава. Трудно сказать, кто же из них в действительности был прав. С одной стороны, фланговая угроза оказалась значительно преувеличенной: казаки отступили от Кокчетава на Акмолинск. С другой стороны, как признавал сам Тухачевский, в ходе операции действия кавалерийской дивизии «не носили характера достаточной решительности», вследствие чего она «не достигла всех тех результатов, которых… могла достигнуть». Так что вряд ли этой дивизии удалось бы предотвратить отход из Омска основных колчаковских сил. Скорее ей грозило бы поражение. Во всяком случае, на исход операции отсутствие кавдивизии в тылу омской группировки не оказало существенного влияния. 14 ноября 1919 года столица «верховного правителя» России пала под ударами 3-й и 5-й советских армий. На пути от Петропавловска до Омска было взято 45 тыс. пленных, в самом Омске было захвачено еще 16 тысяч раненых и больных тифом колчаковских солдат и офицеров.
За победу над Колчаком 5-я армия была награждена орденом Красного Знамени и Почетным Красным знаменем ВЦИК. А ее командующий 17 декабря 1919 года удостоился высшей в то время награды — Почетного Революционного оружия, представлявшего собой позолоченную шашку с вмонтированным в ножны орденом Красного Знамени. Такое отличие было пожаловано Тухачевскому «за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела, проявленные им при победоносном шествии доблестной Красной Армии на восток, завершившемся взятием города Омска».
18 декабря 1919 года Тухачевского принял Ленин, попросивший его составить доклад об опыте использования военных специалистов в 5-й армии. Командарм не заставил себя ждать и уже на следующий день направил текст доклада заместителю председателя Реввоенсовета Э.М. Склянскому. Тухачевский особо подчеркивал роль тех бывших царских офицеров, что уже успели стать членами партии. Он довольно низко оценивал дореволюционный офицерский корпус в целом: «У нас принято считать, что генералы и офицеры старой армии являются в полном смысле слова не только специалистами, но и знатоками военного дела… На самом деле русский офицерский корпус старой армии никогда не обладал ни тем ни другим качеством. В своей большей части он состоял из лиц, получивших ограниченное военное образование, совершенно забитых и лишенных всякой инициативы». Указав на реформу военной школы после русско-японской войны, Тухачевский оговорился, что ее результаты стали сказываться лишь к 1908–1910 годам. Поэтому «хорошо подготовленный командный состав, знакомый основательно с современной военной наукой и проникнутый духом смелого ведения войны, имеется лишь среди молодого офицерства… Значительная его часть, как наиболее активная, погибла в империалистической войне. Большая часть из оставшихся в живых офицеров, наиболее активная часть, дезертировала после демобилизации и развала царской армии к Каледину, единственному в то время очагу контрреволюции. Этим и объясняется обилие у Деникина хороших начальников. Среди старого офицерства способные начальники являются исключением».
Тухачевский убеждал Склянского, Троцкого и Ленина в необходимости установления единоначалия путем выдвижения на командные посты военкомов и командиров-коммунистов из числа младших офицеров и унтер-офицеров: «Среди военкомов и младшего комсостава есть много достойных быть командирами на ответственных постах. Надо только дать широкий простор для продвижения и широко назначать военкомов на командные должности, давая некоторым из них краткую теоретическую подготовку. Во всяком случае, все военкомы из бывших офицеров или унтер-офицеров должны быть сразу обращены в командный состав. Нужно только бросить лозунг о переходе к коммунистическому командному составу (в главной массе), и этот командный состав появится, так как он уже имеется налицо в скрытом виде… В 5-й армии уже давно выдвинут этот лозунг, и командный состав в ней весь коммунистический, а боевая действительность доказывает и превосходство его над генералами и старыми офицерами».
Молодой командарм сетовал: «Очень часто у нас на ответственные должности назначения, делаются не из числа младших, отличившихся начальников, а из числа тыловых работников, старых военспецов. Этот порядок очень тяжел для фронта. Начинают проводиться стратегические и тактические приемы, не соответствующие обстановке, младшие революционные начальники не считают этих начальников авторитетами, и, в общем, дело не клеится». И настаивал: «Необходимо дать широкий простор в продвижении молодому нарождающемуся революционному командному составу, наиболее способному и необходимому для Красной Армии».
Доклад Тухачевского отражал все усиливающийся конфликт поколений в Красной Армии. Командарм считал себя самым способным из «нарождающихся молодых революционных начальников» и отстаивал их приоритет при назначении на высшие командные должности. При этом он сознательно преувеличивал роль «активных» младших офицеров в армии Деникина. Ведь на самом деле все высшие командные должности в Вооруженных силах Юга России занимали генералы или, в лучшем случае, полковники, как командиры конных корпусов К. К. Мамонтов и А. Г. Шкуро. Наоборот, победа красных над войсками адмирала Колчака была во многом облегчена тем обстоятельством, что здесь у белых было не так много генералов и старших офицеров на высших командных должностях. Например, начальник штаба «верховного правителя» срочно произведенный в генералы Д.А. Лебедев до Февральской революции был всего лишь капитаном. Такие же кадровые генералы, как командующий войсками Директории В. Г. Болдырев и военный министр барон А.П. Будберг, были при Колчаке либо принуждены к эмиграции, либо отстранены от активной роли в руководстве войсками и планировании операций. В Красной Армии же многими фронтами и армиями руководили (в качестве командующих, их помощников и начальников штабов) бывшие царские генералы, полковники и подполковники. Должность главнокомандующего занимали полковники И.И. Вацетис и С.С. Каменев, а начальниками штаба при них состояли генералы П.П. Лебедев и М.Д. Бонч-Бруевич. Потом, после окончания Гражданской войны, генералов и полковников, следуя рекомендациям Тухачевского, и не только его, тихо удалили на преподавательскую работу, а в 1930 году в рамках чекистской операции «Весна» большинство оставшихся в живых арестовали по обвинению в мнимом монархическом заговоре, а кое-кого даже расстреляли. Правда, большинство арестованных в течение года выпустили на свободу, но уж дожившие до 37-го счастливчики, умершие в своей постели, исчислялись буквально единицами. Однако отказываться от услуг кадровых офицеров-некоммунистов было еще слишком рано. Троцкий и Ленин это прекрасно понимали и совету Тухачевского не последовали. И от комиссаров в армии отказываться не торопились. Председатель Реввоенсовета резонно заметил, что многие командиры могут вступить в партию из чисто конъюнктурных соображений — избавиться от комиссарской опеки, — и на таких большевики не смогут вполне положиться. Отмена же комиссарства для тех военачальников, кто, подобно Тухачевскому, вступил в партию в самом начале революции или даже до 1917 года, создало бы разнобой в структуре управления войсками и поставило бы в крайне двусмысленное положение тех командиров, при которых комиссаров сохранили.
24 декабря 1919 года в Академии Красного Генерального Штаба Тухачевский прочел программную лекцию «Стратегия национальная и классовая», где постарался применить марксистское учение к сфере военного искусства и условиям ведения войны. Он привел в качестве примера разговор с генштабистом: «Я помню, как весной прошлого года один из наших видных военных руководителей, старый офицер генерального штаба, говорил про старый офицерский корпус: «Мы не способны вести вашу войну (характерно противопоставление подпоручика-коммуниста старшим офицерам царской армии по принципу «мы» — «вы». — Б. С.). Мы подготовлены к ведению войны европейской, к вождению массовых армий, но мы не приспособлены к той войне, которая ведется вами, например, на Украине». Тухачевский же, «не отрицая вечных основ стратегии», отстаивал некоторые новые законы, характерные для войны гражданской. Он подчеркивал, что, в отличие от войны национальной, план такой войны не может быть составлен ранее ее начала, а «армия восставшего, как революционная, так и контрреволюционная, будет наскоро сколоченная, т. е. будет продуктом импровизации». Тухачевский провозглашал: «Гражданская война по самому своему существу требует решительных, смелых наступательных действий. Революционная энергия и смелость доминируют над всем остальным». К сожалению, у самого Михаила Николаевича «революционная смелость» порой доминировала над здравым смыслом. Иначе как объяснить заявленное и обоснованное им пренебрежение к стратегическим резервам: «Стратегические резервы, польза которых всегда была сомнительна, в нашей войне и вовсе неприменимы… Фронты армий громадны. Пути сообщений в полной разрухе. Вместе с тем операции развиваются со стремительной быстротой. Все это делает употребление стратегических резервов с целью нанесения противнику удара в решительный момент совершенно излишним и вредным самоослаблением». На практике молодой командарм очень часто не заботился вообще ни о каких резервах. И когда, уже в качестве командующего фронта, ему пришлось действовать в Польше, где, в отличие от Сибири, сеть путей сообщения была достаточно плотной, отсутствие резервов сыграло среди прочего роковую роль.
Учитывая опыт командования 8-й армии в Донской области, Тухачевский фактически методом «от противного», с «классовой точки зрения», обосновал правильность избранного Вацетисом и Троцким плана нанесения главного удара через пролетарский Донбасс: «Значительно ухудшается дело в том случае, если в тылах у нас остаются «мертвящие» для нас центры. Они требуют большого расхода войск для удержания этих центров в повиновении. Таких тылов надо избегать. Главная причина краха нашей кампании на Южном фронте весной этого года заключалась в том, что главные силы фронта были двинуты не там, где мы имели бы советские жизненные тылы в Донецком бассейне, а там, где мы имели «мертвящие» тылы, требовавшие выделения больших гарнизонов для удержания за собой обширных донских степей. Вопрос отношения числа к пространству не был учтен, и армии наши были разбиты». Он доказывал необходимость массирования всех сил на небольшом по протяженности участке фронта, поскольку из-за плохого состояния транспорта неприятель не сможет быстро сосредоточить здесь достаточно войск для отражения удара «дробящим молотом»: «…Мы можем достигать на отдельных участках фронта подавляющего превосходства сил, а это, в связи с невозможностью для противника вовремя уравнять силы, принесет ему неминуемое поражение… Время, потребное противнику на перегруппировку, очень велико. Темп развития операций в нашей войне… отличается необычайной скоростью… Мы сохраним за собой превосходство над противником и на громадном протяжении преследования.
Кроме этого преимущества, есть еще и то, что наступающий мобилизует в занятых областях родственные ему классы. Разбитые же армии в гражданской войне отличаются тем, что уроженцы теряемых областей дезертируют и остаются в своих родных местах. Таким образом, по мере наступления наступающий непрерывно усиливается, а отступающий непрерывно ослабляется. Это также одно из характерных явлений гражданской войны.
В войнах национальных отступающий, отходя на свои сообщения, легко получает подкрепления, а наступающий непрерывно ослабляется на обеспечение тылов. В нашей войне наступление по «мертвящим» для нас центрам напоминает эти условия национальной войны. Сгладить их можно лишь систематической колонизацией покоряемых областей с большой потерей времени.
Превосходства сил можно достигнуть не только перебросками и перегруппировками, но и концентрическим наступлением (столь любимым Тухачевским. — Б.С.), если до пункта сосредоточения противник не окажет серьезного сопротивления.
Организацией в тылу противника восстаний и партизанских действий мы также можем, создать благоприятное соотношение сил».
Беда Тухачевского была в том, что он всякую будущую войну с участием Советской России рассматривал как продолжение гражданской войны и рассчитывал, что на помощь Красной Армии непременно придет европейский пролетариат. И войну с Польшей в 1920 году не только тогдашний командующий Западного фронта, но и большинство коммунистических вождей рассматривали как войну гражданскую, а не национальную. Потому и противника называли не просто «поляками», но «белополяками», а старое доброе шовинистическое «польские паны» приобрело сугубо классовую окраску — под «панами» понимались ненавистные польские дворяне, шляхта, а заодно — и капиталисты.
Когда же выяснилось, что советско-польская война — это все-таки классическая национальная война, что при отступлении польские солдаты отнюдь не спешат расходиться по домам, а тем более вступать в ряды победоносно двигавшейся на Варшаву Красной Армии, что наступающий, как и бывает обычно в войнах между государствами, постепенно слабеет, отрываясь от своих баз, а отступающий, приближаясь к источникам пополнения людьми и вооружением, — усиливается, вот тогда войска Тухачевского в одночасье оказались почти полностью уничтожены. К несчастью, молодой полководец тот суровый урок до конца не усвоил. И двенадцать лет спустя в своем концептуальном труде «Новые вопросы войны» оптимистически предрекал: «В войне империалистов против СССР рабочие капиталистических стран, ведущие борьбу за превращение войны империалистической в войну гражданскую, будут создавать свои Красные Армии, подобно тому, как это делали польские рабочие в 1920 году (? — Б.С.), и будут вступать в ряды нашей Красной Армии в целях поддержать и обеспечить ее победу как над собственной буржуазией, так и над буржуазией всего мира». Еще хуже оказалось то, что враги Тухачевского в Красной Армии, добившиеся в конечном счете падения и гибели маршала, полностью разделяли установку на исключительно наступательный характер действий советских войск в будущей войне и даже расчеты на помощь «братьев по классу» по другую сторону фронта. Это во многом способствовало катастрофическому для СССР началу Великой Отечественной войны.
Тухачевского опять направили на Юг, добивать Деникина. Но новое назначение он получил не сразу. В конце декабря победителя Колчака определили командовать 13-й армией Южного фронта, нацеленной на Крым. Тухачевский прибыл в штаб фронта в Курск, но командующий А.И. Егоров на армию его так и не поставил. 19 января 1920 года Михаил Николаевич обратился в Реввоенсовет Республики с отчаянным письмом: «Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой: освободите меня от безработицы. В штаюгозапе (10 января 1920 года Южный фронт был переименован в Юго-Западный. — Б.С.) я бесцельно сижу почти три недели, а всего без дела — два месяца. Не могу добиться ни причины задержки, ни дальнейшего назначения. Если за два почти года командования различными армиями я имею какие-либо заслуги, то прошу дать мне использовать свои силы в живой работе, и если таковой не найдется на фронте, то прошу дать ее в деле транспорта или военкомиссаров».
Явно не без участия председателя Совнаркома так и не состоявшегося командарма-13 24 января назначили временно исполняющим обязанности командующего Кавказским фронтом, действовавшим против главных сил Деникина на рубежах рек Дон и Маныч. Укрепленные позиции белых здесь долго не удавалось прорвать, что послужило одной из причин смещения с поста командующего фронта В.И. Шорина, у которого также возник острый конфликт с влиятельным руководством 1-й Конной армии — С.М. Буденным и К.Е. Ворошиловым.
В ту пору антагонизма между Тухачевским, с одной стороны, и Сталиным, Ворошиловым и Буденным — с другой, не было. Сталин хлопотал о назначении Тухачевского командующим фронта, а тот вполне лояльно отнесся к Конармии, приняв сторону ее командования в спорах со штабом фронта и командующим соседней 8-й армии Г.Я. Сокольниковым. Разлад начался позднее, во время похода в Польшу. А кончилось все тем, что Сталин и Ворошилов в 37-м санкционировали расправу над Тухачевским, а Буденный был среди тех, кто вынес маршалу предрешенный смертный приговор.
С Кавказского фронта завязалась дружба Тухачевского с Орджоникидзе, продолжавшаяся вплоть до самоубийства Григория Константиновича в феврале 1937 года. Гибель Орджоникидзе и его конфликт со Сталиным в последние месяцы жизни ускорили падение Тухачевского.
Михаил Николаевич довольно успешно командовал Кавказским фронтом. Он вовремя повернул 1-ю Конную армию и ударную группу 10-й армии, наступавшие на станцию Тихорецкая, на север, что позволило внезапно атаковать кавалерийскую группу генерала А.А. Павлова, последнюю надежду Деникина, в районе станиц Среднеегорлыкская и Егорлыкская и в период с 25 февраля по 2 марта 1920 года разгромить ее в крупнейшем встречном кавалерийском сражении Гражданской войны. Теперь белые практически безостановочно откатывались до Кавказских гор и Новороссийска — единственного порта на Черноморском побережье Кавказа, откуда они могли эвакуироваться в удерживаемый корпусом генерала Я.А. Слащова Крым. Тухачевский в ходе Кубано-Новороссийской операции в марте не позволил Деникину спокойно провести эвакуацию из Новороссийска. Основная часть Вооруженных сил Юга России была пленена в ходе энергичного преследования. В Крым успели уйти лишь сильно потрепанный Добровольческий корпус и меньшая часть Донской армии, тогда как большинство донцов, не пропущенных в Грузию грузинским правительством, сдались Красной Армии в конце апреля в районе Сочи. Была разгромлена также Кубанская армия, остатки которой укрылись в горах.
Тухачевский, по приказу из Москвы, обдумывал поход за Большой Кавказский хребет. 21 апреля он подписал директиву, согласно которой 11-я армия 27 апреля должна была вторгнуться в Азербайджан и стремительно двигаться на Баку. Но самому Михаилу Николаевичу не довелось непосредственно руководить операцией по вводу войск в Закавказье. В конце апреля ему был дан другой приказ — на Запад! Здесь началась полномасштабная советско-польская война.
В период, когда генерал Деникин непосредственно угрожал Москве, Советское правительство проявляло склонность, как и поляки, решить конфликт мирным путем, предлагая отдать Польше значительную часть территории Украины и Белоруссии. Однако глава Польского государства маршал Юзеф Пилсудский не без оснований полагал, что это лишь временная уступка, вызванная тяжелым положением Советской власти. Он считал, что, только разбив Красную Армию, можно достичь более или менее прочного мира с большевиками.
Ситуация изменилась с разгромом Добровольческой армии. В декабре 1919 года Польша оставила без ответа мирные предложения советской стороны. С окончательным же разгромом Деникина большевики опять всерьез задумались о возможности экспорта революции в Европу на красноармейских штыках. Еще 27 февраля 1920 года Ленин телеграфировал Реввоенсовету Западного фронта: «Надо дать лозунг подготовиться к войне с Польшей». Это был ответ на выдвинутое тремя неделями раньше польское требование вывести все советские войска с территорий, лежащих в границах Польской Речи Посполитой до 1772 года, т. е. до первого раздела Польши. Впрочем, еще до получения польских предварительных условий для заключения мира Ленин прозорливо предвидел, что поляки предъявят «абсолютно невыполнимые, даже. наглые требования», и распорядился «все внимание направить на подготовку, усиление Запфронта». Война между Россией и Польшей становилась неизбежной, причем обе стороны стремились к ней вне зависимости от действий потенциального противника. 5 марта польские войска захватили Мозырь и продолжали подготовку к большому наступлению. 21 апреля 1920 года в Варшаве был подписан договор с Петлюрой, по которому его правительство признавалось единственной законной властью на Украине, а взамен уступало Польше Восточную Галицию до рубежа реки Збруч. Через два дня была заключена военная конвенция о совместных действиях польской и украинской армий против большевиков.
Готовилась к войне и Красная Армия. Еще 14 марта Ленин телеграфировал Тухачевскому и Орджоникидзе на Кавказский фронт: «Поляки, видимо, сделают войну с нами неизбежной. Поэтому главная задача сейчас не Кавтрудармия (Кавказская трудовая армия. — Б. С.), а подготовка быстрейшей переброски максимума войск на Запфронт. На этой задаче сосредоточьте все усилия. Используйте пленных архиэнергично для того же». Через три дня в разговоре по прямому проводу со Сталиным Владимир Ильич потребовал поскорее ликвидировать деникинские войска в Крыму, поскольку «только что пришло известие из Германии, что в Берлине вдет бой и спартаковцы (члены коммунистического «Союза Спартака». — Б. С.) завладели частью города. Кто победит неизвестно, но для нас необходимо максимально ускорить овладение Крымом, чтобы иметь вполне свободные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас двинуться на запад на помощь коммунистам» (на этот раз председатель Совнаркома ошибся: на берлинских улицах вели бои не коммунисты, а путчисты из числа правых, возглавляемые землевладельцем Вольфгангом Каппом). Идея помочь коммунистической революции в Германии красноармейскими штыками присутствовала у Ильича постоянно.
20 марта главком С.С. Каменев предложил Ленину «ввиду важности Польского фронта и ввиду серьезности предстоящих здесь операций… к моменту решительных операций переместить на Западный фронт командующего ныне Кавказским фронтом Тухачевского, умело и решительно проведшего последние операции по разгрому армий Деникина». Репутация Михаила Николаевича как полководца была уже столь высока, что считалось необходимым назначить его командующим самым важным фронтом.
В роли противника Тухачевского на этот раз выступал маршал Юзеф Пилсудский, у которого был гораздо более значительный, чем у 27-летнего командующего Западного фронта, опыт участия в Первой мировой войне. Маршал был вдвое старше — к моменту сражения под Варшавой ему исполнилось 53 года. В Первую мировую Пилсудский был на генеральских должностях — командовал им же сформированной 1-й бригадой польских легионеров в австрийской армии, затем был военным министром созданного Германией и Австро-Венгрией Королевства Польского, до того как в 1917 году был заключен немцами в Магдебургскую тюрьму, после того как отказался разрешить польским солдатам принести присягу германскому кайзеру. То, что Пилсудский был опытнее Тухачевского в руководстве большими массами людей в условиях более «правильной», чем Гражданская, Первой мировой войны, сильно помогло ему. Советско-польская война во многих отношениях (наличие линий окопов и заграждений, сравнительно высокая плотность войск и артиллерии, наконец, столкновение между собой двух национальных армий) была все-таки ближе к сражениям 1914–1918 гг., чем к боевой практике Гражданской войны в России. Победа на Висле стала подлинным «звездным часом» «начальника Польского государства» и помогла ему утвердить свою диктатуру в Польше шесть лет спустя. Как знать, если бы победу тогда одержал Тухачевский, не изменила бы она его судьбу, не сделала ли в будущем настоящим «советским Бонапартом»?
25 апреля началось польское наступление на Украине, а 28-го был утвержден предложенный Тухачевским план разгрома поляков. 29-го Михаил Николаевич вступил в Смоленске в командование войсками Западного фронта.
7-го мая армии Пилсудского и Петлюры захватили Киев и на широком фронте вышли к Днепру, захватив плацдармы на его восточном берегу. Чтобы помочь советскому Юго-Западному фронту, Тухачевский, не ожидая сосредоточения всех сил, начал 14 мая наступление на Молодечно и Борисов и занял эти города. 22 мая, в самый разгар операции, он был удостоен высокой чести. Тухачевского без окончания академии причислили к Генеральному штабу. Этот акт знаменовал признание полководческого искусства командующего Западного фронта. В изданном по этому поводу приказе Реввоенсовета Республики необычное решение мотивировалось следующим образом: «…М.Н. Тухачевский вступил в Красную Армию и, обладая природными военными способностями, продолжал непрерывно расширять свои теоретические познания в военном деле. Приобретая с каждым днем новые теоретические познания в военном деле, М.Н. Тухачевский искусно проводил задуманные операции и отлично руководил войсками как в составе армии, так и командуя армиями фронтов Республики и дал Советской республике блестящие победы над ее врагами на Восточном и Кавказском фронтах».
Однако на этот раз до победы, тем более блестящей, было еще далеко. Польские войска 30 мая контратаковали и с помощью подошедших резервов восстановили положение. Только 15-я армия А.И. Корка смогла удержать небольшой плацдарм в районе Полоцка. Резервов у Тухачевского не оказалось. Он вложил все силы в первый удар, рассчитывая резервы создать позднее, из новых дивизий, перебрасываемых с Кавказского и Восточного фронтов, от Петрограда и внутренних округов. Но эти дивизии опоздали к началу польского контрнаступления. Тем временем под Киевом 1-я Конная армия Буденного, перешедшая в наступление в один день с началом польского контрудара в Белоруссии, прорвала фронт и 8 июня перерезала пути снабжения киевской группировке поляков. Польские войска стали поспешно отступать от Днепра. Пилсудский, рассчитывая, что армии Тухачевского еще не оправились от понесенного поражения, перебросил несколько дивизий из Белоруссии для борьбы с конницей Буденного, разбить которую считал не таким уж трудным делом. Расчеты маршала строились на опыте Первой мировой войны, когда кавалерия показала полную беспомощность в условиях позиционной войны, сплошной линии фронта, окопов полного профиля, проволочных заграждений и насыщения войск артиллерией и пулеметами. Однако в советско-польской войне была совсем другая плотность войск и особенно огневых средств. Не было и сплошных линий окопов, в большинстве случаев отсутствовала колючая проволока — страшный враг кавалерии.
1-ю Конную полякам разбить не удалось, а Тухачевский, воспользовавшись ослаблением польских сил перед Западным фронтом, 4 июля, получив значительные подкрепления, в том числе 3-й конный корпус ГД. Гая, перешел в наступление с самыми решительными целями. Главный удар наносился на правом фланге, который должен был пройти вдоль границ Литвы и Восточной Пруссии. Несколько польских дивизий планировалось окружить в районе Германовичи — Лужки — Глубокое, тогда как основная часть противостоявших Западному фронту неприятельских войск загонялась в болотистое Полесье. В мемуарах Тухачевский утверждал: «Уже к 7 числу выяснилось с полной определенностью, что войска противника подверглись полному разгрому в районе нашего главного наступления». Однако в действительности полякам удалось отступить без больших потерь. 11 июля войска Тухачевского заняли Минск, 14 июля — Вильно, 15 июля — Молодечно, 19-го — Барановичи и Гродно, а 23-го — Пинск. Армии польского Северо-Восточного фронта отступали.
Взятие Варшавы, сокрушение Польши как пролог к мировой пролетарской революции виделись Тухачевскому как великое дело, лишь немногим уступающее в значении Октябрьскому перевороту. Еще перед началом июльской операции он издал знаменитый приказ, нацеливающий бойцов и командиров Западного фронта на сокрушение «белой Польши», на предстоящее в недалеком будущем последнее решительное наступление на польскую столицу: «Бойцы рабочей революции! Устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад!.. На Вильну, Минск, Варшаву — марш!»
Три года спустя в книге «Поход за Вислу» Тухачевский размышлял, почему блестяще начавшееся наступление закончилось катастрофой: «Основными причинами гибели операции можно признать недостаточно серьезное отношение к вопросам подготовки управления войсками. Технические средства имелись в недостаточном количестве в значительной степени благодаря тому, что им не было уделено должного внимания. Далее, неподготовленность некоторых наших высших начальников делала невозможным исправление на местах недостатков технического управления. Расхождение во времени решительного столкновения почти под прямым углом главных сил Западного и Юго-Западного фронтов предрешило провал операции как раз в тот момент, когда Западный фронт был двинут в наступление за Вислу. Несуразные действия 4-й армии вырвали из наших рук победу и в конечном счете повлекли за собой нашу катастрофу».
Использовал бывший командующий Западного фронта и такой традиционный аргумент всех битых полководцев, как якобы подавляющее превосходство противника в численности войск. Тухачевский уверял своих читателей и слушателей, что Западный фронт на заключительном этапе операции располагал не более чем 40 тысячами штыков и сабель, тогда как в противостоявших ему польских войсках штыков и сабель было более 70 тысяч.
Как же на самом деле развивались события и почему армии Тухачевского в первый и последний раз в его жизни оказались разгромлены? Замысел собственно Варшавской операции был, как всегда у Тухачевского, блестящим. Командующий Западного фронта решил брать польскую столицу глубоким обходом с севера. Он ошибочно полагал, что в этом направлении отходят основные силы польской армии. Кроме того, наступление на севере выводило Красную Армию к Данцигскому коридору и границам Восточной Пруссии. Тем самым перерезалась основная линия снабжения Польши военными материалами из Франции и Англии через порт Данцига (Гданьска) и появлялся реальный шанс на штыках принести революцию в Германию.
Даже потерпев разгром под Варшавой, Тухачевский отказывался верить, что национальное сознание большинства польских рабочих и крестьян отвергало идеи коммунистической революции, а Красная Армия и Советская Россия с самого начала войны воспринимались основной массой поляков как наследницы царской армии и Российской империи. Битый полководец тщился доказать, что только поражение красных в Варшавском сражении способствовало распространению мнения о преобладании у поляков национального чувства над классовым, тогда как в случае победы советских войск все было бы наоборот: «Разговоры о пробудившемся национальном чувстве среди польского рабочего класса в связи с нашим наступлением являются, конечно, следствием проигрыша нами кампании. У страха глаза велики. Не надо забывать, что при подходе нашем к Варшаве рабочее население Праги (варшавского предместья. — Б.С.), Лодзи и других рабочих центров глухо волновалось, но было задавлено буржуазными польскими добровольческими частями. Расчет на революцию в Польше, как встречу нашего наступления, как следствие разгрома орудия принуждения в руках польской буржуазии, имел под собой серьезные основания и, если бы не наше поражение, он увенчался бы полным успехом».
Но в этом пункте Тухачевского опроверг Пилсудский. Польский маршал саркастически заметил: «Г-н Тухачевский вел свои войска к Висле и за Вислу во имя и ради насаждения при помощи силы того, что он называет революцией. В соответствии с этим он выбрал и название главы (в книге «Поход за Вислу». — Б. С.) — «Революция извне». Но цель войны, очерченная такими словами, уже сама по себе ясно показывает, что внутренняя революция у нас не существовала, если ее нужно было принести извне на острие штыков. Во всяком случае, не подлежит сомнению тот факт… что Советская Россия вела с нами войну под лозунгом навязывания нам, полякам, своего, т. е. советского строя и такую цель она назвала «революцией извне». То, что Советы преследовали в войне именно такую цель, мне было хорошо известно с самого начала, поэтому я сразу же хочу отметить, что лично я воевал за то, чтобы эта революция извне не была принесена к нам на советских штыках». И продолжал: «Г-н Тухачевский не хочет видеть, что в течение всей войны, которую Советы вели с нами, в ближнем, а еще больше в глубоком тылу фронта, повернутого против нас, другие советские войска и другие собратья г-на Тухачевского не занимались ничем другим, как только с трудом подавляли те или иные выступления против Советов! Да и большая часть армии г-на Тухачевского начала войну с нами только после того, как подавила различные восстания где-то в глубине Советской России. В Польше ничего подобного не было. И войска, если только они были собраны, свободно могли быть направлены для борьбы с тем, кто стоит перед фронтом, а не с тем, кто находится за ним! За всю войну только в нескольких местах я был вынужден послать небольшие отряды, да и то не для боя, а для проведения массовых обысков и изъятия оружия, которым мне можно было угрожать. Помню, как одному высокому представителю одного из западных государств, который… как и г-н Тухачевский, ожидал, что что-то должно «бурлить» и «клокотать», я показывал, как в моем тылу железные дороги и телеграфы работают без всякой охраны. Может, г-н Тухачевский усмотрит в этом, как и в других местах, недоразвитие «революции» и, наоборот, в восстаниях, с которыми сам боролся в тылу своего фронта, — излишек контрреволюции. В полководческой стратегии и расчетах эти слова ничего не меняют. Факты говорят, что в своих расчетах г-н Тухачевский ошибся, у меня же не было ошибки ни в сердце, ни в мыслях… В достижении своей цели — оставить между Варшавой и Советами возможно более широкое пространство — я действовал как человек, знающий театр войны как свои пять пальцев; каждый здесь принимал меня за своего, а не за чужого, и разговаривал со мной на вполне понятном мне языке. И я хорошо видел, что подавляющее большинство населения относилось к Советам и их господству с глубоким недоверием, а часто и с явной неприязнью, видя в них — обоснованно или необоснованно, это также для стратегии неважно, — разгул невыносимого террора, который получил название еврейского. Поэтому в течение всей войны я не чувствовал беспокойства за свой тыл, что там может вспыхнуть какое-то восстание».
Тухачевский же в «Походе за Вислу» рисовал радужные перспективы не только польской, но и немецкой революции: «Рабочие Германии открыто выступили против Антанты, загоняли в обратную сторону эшелоны со снаряжением и вооружением, которые Франция пересылала в Польшу, не допускали разгрузки французских и английских кораблей с амуницией и вооружением в Данциге, сбрасывали поезда под откос и прочее — словом, вели активную революционную борьбу в пользу Советской России. Из Восточной Пруссии, когда мы соприкоснулись с ней, к нам потекли сотни и тысячи добровольцев, спартаковцев, беспартийных рабочих под знамена Красной Армии, формируясь в Германскую стрелковую бригаду… Итак, Германия революционно клокотала и для окончательной вспышки только ждала соприкосновения с вооруженным потоком революции». И делал безоговорочный вывод: «Революция извне была возможна. Капиталистическая Европа была потрясена до основания, и если бы не наши стратегические ошибки, не наш военный проигрыш, то, быть может, Польская кампания явилась бы связующим звеном между революцией Октябрьской и революцией западноевропейской» (в последней фразе Тухачевский довольно оригинально совместил пространство и время, Западную Европу с Октябрем).
27-летний командующий фронта мечтал своим победоносным маршем на Варшаву решить главный, как ему казалось, вопрос современности — обеспечить торжество мировой пролетарской революции. И, на первый взгляд, его аргументы в пользу продолжения наступления представляются убедительными. Но только если не обращать внимания на очевидные противоречия в тексте «Похода за Вислу». Ведь в другом месте, как мы помним, Тухачевский утверждал, что немецкие рабочие успешно саботировали военные поставки Польше и с нетерпением ждали, когда Красная Армия наконец принесет на своих штыках революцию в Германию. Польские же рабочие и крестьяне будто бы только и делали, что приводили в трепет собственную буржуазию и готовились вступать в ряды польской Красной Армии, которая «начала усиленным темпом формироваться», да вот беда, не поспела превратиться во что-либо осязаемое к моменту разгрома советских войск. И вдруг выясняется, что Антанта, оказывается, не испытывает, несмотря на германский саботаж, особых затруднений в снабжении Пилсудского всем необходимым, а польская буржуазия успешно и в короткие сроки создает многочисленные добровольческие части — неужели из одних только студентов и торговцев, как уверяла советская пропаганда?
Разгадка здесь, думаю, довольно проста. В тех главах книги, где Тухачевскому требовалось оправдать свой довольно-таки авантюристический план наступления на Варшаву, он подчеркивал слабость и деморализацию польской буржуазии и армии и силу и воодушевление польского пролетариата и батрачества. Когда же командующему Западного фронта необходимо было объяснить происшедшую катастрофу объективными условиями, от него не зависящими, в ход пошли тезисы о многочисленных польских резервах и способности буржуазии задавить «нарождающуюся» польскую революцию.
Как же на самом деле оценивал обстановку Тухачевский накануне и в дни Варшавского сражения? Скорее всего, тогда он был уверен: противник разбит и в панике отступает, что создает благоприятные условия для польской революции, которая, в свою очередь, поможет Красной Армии довершить разгром войск Пилсудского. Только так можно объяснить предпринятые Тухачевским действия по подготовке и проведению Варшавской операции.
Случаи паники и беспорядочного отхода у поляков на самом деле были, попытки формирования частей польской Красной Армии предпринимались. Однако масштаб этих явлений в донесениях разведки и нижестоящих командиров, как водится, был сильно преувеличен. Сказался давний недуг русской армии, отмеченный критически мыслящим бароном Будбергом, — «любовь к дутым и ложным донесениям». В результате Тухачевский не имел верного представления о состоянии неприятельских войск. Радужные донесения командармов и комдивов о разгроме «белополяков» некритически воспринимались молодым командующим Западного фронта. Это был самообман. Можно согласиться с командармом 1-й Конной С.М. Буденным: «Из оперативных сводок Западного фронта мы видели, что польские войска, отступая, не несут больших потерь. Создавалось впечатление, что перед армиями Западного фронта противник отходит, сохраняя силы для решающих сражений… Мне думается, что на М.Н. Тухачевского в значительной степени влиял чрезмерный оптимизм члена РВС Западного фронта Смилги и начальника штаба фронта Шварца. Первый из них убеждал, что участь Варшавы уже предрешена, а второй представлял… главкому, а следовательно, и командующему фронта ошибочные сведения о превосходстве сил Западного фронта над противником в полтора раза».
Ну, насчет того, ошибочные или нет, судить трудно. Уж больно тонкий вопрос во всех войнах, не исключая и советско-польскую, о соотношении сил и потерях сторон. Но нет сомнений, что Тухачевский и Реввоенсовет Западного фронта здорово преувеличивали возможности своих войск и серьезно недооценивали противника. 19 июля Тухачевский предложил главкому Каменеву «обдумать удар Конармии в юго-западном направлении, чтобы пройти укрепления в районе, слабо занятом противником, и выиграть фланг поляков подобно Конкорпусу Гая». К тому времени Каменев и сам пришел к выводу о целесообразности действий войск Юго-Западного фронта именно в этом направлении, о чем сообщил в своем ответе Тухачевскому. 22 июля командующий Юго-Западного фронта А.И. Егоров и члены Реввоенсовета И.В. Сталин и Р.И. Берзин направили главкому телеграмму, где предлагали изменить направление главного удара подчиненных им войск с Люблина на Львов. Данное стратегическое решение мотивировалось тем, что «поляки оказывают весьма упорное сопротивление, при этом особенное упорство оказывают на львовском направлении», и что «положение с Румынией остается неопределенно напряженным». На следующий день Реввоенсовет одобрил предложение Егорова, Сталина и Берзина.
Так началось расхождение Западного и Юго-Западного фронтов, до этого концентрически наступавших на польскую столицу. Советское командование явно недооценило противника. Хотелось захватить не только Варшаву, но и Львов, а заодно и с «румынскими боярами» разобраться. Главный удар наносился северным крылом Западного фронта, чтобы как можно скорее перерезать Данцигский коридор, перекрыть путь англо-французской помощи Польше. Каменев и Тухачевский, рассуждая логически, полагали, что польское командование прекрасно понимает значение Данцига (Гданьска) для питания своей армии всем необходимым и не пожалеет сил для защиты северной транспортной артерии, так что здесь будет сосредоточена наиболее мощная группировка польских войск. Ее разгром и предрешит участь Варшавы.
На самом деле основная часть польских войск в тот момент была сосредоточена против Юго-Западного фронта, где безуспешно пыталась разбить конницу Буденного. Их переброска на север была сопряжена со многими трудностями. Транспорт был расстроен войной, да и сами войска не имели опыта осуществления сложных перегруппировок. Поэтому Пилсудский планировал, чтобы свести перемещения войск к минимуму, сосредоточить наиболее боеспособные дивизии с Украины для удара с юга во фланг советскому Западному фронту. Он писал: «…Моим общим стратегическим замыслом было: 1) Северный фронт должен только выиграть время; 2) в стране провести энергичную подготовку резервов — я направлял их на Буг, без ввязывания в бои Северного фронта; 3) покончить с Буденным и перебросить с юга крупные силы для контрнаступления, которое я планировал из района Бреста. Этого основного замысла я придерживался до самого конца». «Покончить с Буденным» полякам не удалось. Но в районе Бродов Конармии в начале августа было нанесено поражение. Только падение Бреста заставило польское командование отказаться от контрудара на Буге и отвести войска за Вислу.
Собственно, за единственно разумное в тех условиях решение «отказаться совсем» от наступления на Варшаву, остановиться на Западном Буге и добиваться заключения мира выступал один только Троцкий. Но его голос не был услышан. ЦК постановил: наступать. Тухачевский требовал объединения под своим командованием обоих фронтов, действовавших против Польши после выхода к Бугу и занятия Брест-Литовска. Позднее именно запозданием такого объединения он объяснял неудачу под Варшавой. Однако в мемуарах фактически признал, что управлять войсками Юго-Западного фронта был не в состоянии, поскольку не располагал средствами связи: «…Болотистое Полесье не позволяло непосредственного взаимодействия Западного фронта и Юго-Западного фронта… Когда… мы попробовали осуществить объединение, то оказалось, что оно почти невыполнимо в силу полного отсутствия средств связи. Западный фронт не мог установить последней с Юго-Западным. Мы при наличии тех несчастных средств, которые имелись в нашем распоряжении, могли эту задачу выполнить не скоро, не ранее 13–14 августа, а обстановка уже с конца июля настойчиво требовала немедленного объединения всех этих войск под общим командованием… Рассчитывая со дня на день получить в свое подчинение 12-ю и 1-ю Конную армии, командование Западным фронтом уже заранее предопределяло им подтягивание к левому флангу основных армий фронта, но дело затягивалось, и эта задача осталась висеть в воздухе».
Расчеты Тухачевского оказались построены на песке. Еще 2 августа Политбюро приняло решение об объединении под его командованием войск двух фронтов. Однако передачу в Западный фронт 1-й Конной и 12-й армий осуществить немедленно не было возможности. 8 августа Тухачевский предложил штабу Юго-Западного фронта создать временный оперативный пункт для управления этими армиями, поскольку «обстановка требует срочного объединения армий, а средств быстро установить с ними всестороннюю связь у нас нет». Егоров и Сталин не возражали, но считали, что оперативный пункт должен создаваться силами и средствами Западного фронта, чтобы не дробить штаб Юго-Западного, которому предстояло руководить войсками, действовавшими против Врангеля. «Всякое другое решение вопроса, — утверждали они, — считаем вредным для дела вообще, в частности для достижения успеха над Врангелем». Здесь проявились местнические интересы руководства Юго-Западного фронта, не желавшего усложнять себе жизнь при организации-операций против Врангеля. Кроме того, Егоров и Сталин надеялись, что Львов вот-вот падет, и рассчитывали пожать славу покорителей столицы Восточной Галиции. Главное же, все еще царила эйфория в связи с, казалось, уже состоявшимся разгромом «белополяков». Думали, что одновременно можно уничтожить и последнюю из белых армий — Русскую армию барона П.А. Врангеля. При этом как будто забыли, что Польский фронт оставался основным театром войны, а вырвавшаяся из Крыма врангелевская армия, несмотря на захват Северной Таврии, все равно не могла угрожать тылам наступавших на Варшаву и Львов советских войск.
Только 11 августа была достигнута договоренность о повороте 12-й и 1-й Конной армий на Варшаву. В этот день главком приказал вывести Конармию в резерв, а 12-ю перенацелить на Люблин. Однако при передаче директив шифр был искажен и руководство Юго-Западного фронта смогло ознакомиться с ними лишь 13 августа. А за день до этого уже бросили 1-ю Конную на «последний решительный» штурм Львова, хотя не имели права это делать. Конница Буденного по приказу главкома находилась в резерве и могла быть введена в бой лишь с его согласия. Сталин и Егоров рассчитывали быстро взять Львов, а потом бросить войска на помощь Западному фронту или даже, как предлагал Сталин, — сразу на крымский участок фронта, если под Варшавой все уже будет кончено. Тухачевский тем временем потребовал немедленной передачи ему обеих армий. Главком отдал соответствующую директиву, требуя передачи армий к полудню 14 августа. Реввоенсовет Юго-Западного фронта возражал, так как Конармия и 12-я армия уже втянуты в бои за Львов и немедленно двинуть их на север не представляется возможным. В действительности, как утверждает в своих мемуарах Буденный, в тот момент Конармия еще только выдвигалась ко Львову и завязала бои с арьергардами противника. Ее еще можно было повернуть на Гру-бешов и Замостье для содействия войскам Тухачевского. Однако Егоров и Сталин продолжали гнать конницу Львову.
Тем временем Тухачевский продолжал глубокий обход польской столицы с севера. 8 августа он отдал приказ о форсировании Вислы 14-го числа. Четыре армии наступают севернее Варшавы — 3-я, 4-я, 15-я и 16-я. Вместе с ними — вырвавшийся вперед 3-й конный корпус Гая, угрожающий польским тылам и, как и буденновская Конармия, вынуждающий поляков стремительно откатываться. Южнее польской столицы наступает только слабая Мозырская группа Т.С. Хвесина. Тухачевский подкрепил ее 58-й дивизией из 12-й армии. Он ощущает какое-то смутное беспокойство за свой открытый из-за отставания Юго-Западного фронта левый фланг. Но конкретных данных о сосредоточении здесь поляками сил для контрудара не имеет. А такое сосредоточение уже разворачивается вовсю.
13 августа Пилсудский вступил в командование Срединным фронтом и прибыл в его штаб в Пулавах на правом берегу Вислы. Польскому «верховному вождю» предстояло померяться силами с победителем российского «верховного правителя». Пожалуй, единственный раз за всю Гражданскую войну Тухачевский имел против себя полководца, достойного его таланта, и войска, значительно отличающиеся по боевому духу от наспех, буквально из-под палки набранных белых армий Колчака и Деникина. В отличие от польского главкома, командующий Западного фронта предпочел следить за решающими событиями под Варшавой издалека, все время оставаясь во фронтовом штабе в Минске. Может быть, это было ошибкой. Не исключено, что на месте Тухачевскому все же удалось бы разглядеть грозящую опасность, и если не предотвратить катастрофу, то уменьшить ее размеры. Впрочем, только из Минска он имел более или менее надежную связь со всеми подчиненными армиями, и не было гарантий, что при перемещении на запад можно будет поддерживать ее хотя бы на прежнем уровне. Так что, кто знает, не было бы даже хуже, если бы Тухачевский перед началом наступления на Варшаву решил перебраться, скажем, в Брест, в штаб Мозырской группы.
Потом, после войны, Тухачевский объяснял свое поражение численным превосходством противника и невыполнением командованием Юго-Западного фронта распоряжения главкома о переброске под Варшаву 1-й Конной армии. Ну, насчет численного превосходства он, безусловно, не оригинален. Во все времена и у всех народов проигравшие старались списать неудачи на численный перевес неприятеля, даже тогда, когда такого перевеса и в помине не было. Если почитать, например, советскую историографию Великой Отечественной, то создастся стойкое впечатление, что немцы превосходили Красную Армию в людях и технике вплоть до 43-го года, а порой — и в 44-м и чуть ли не в 45-м. Что же касается проблемы поворота армий Юго-Западного фронта на Варшаву, то она дискутировалась в Советском Союзе с начала 20-х и вплоть до начала 90-х и, в зависимости от политической конъюнктуры, решалась то в пользу Сталина, Егорова, Ворошилова и Буденного, то в пользу Тухачевского и Реввоенсовета Западного фронта. Посмотрим, как же обстояло дело в действительности.
Михаил Николаевич настаивал: «Западный фронт насчитывал в своих рядах едва только 40 000 штыков. Зато польские силы возросли до 70 000 с лишком, по нашим разведывательным данным того времени, а на самом деле они были еще больше». И в другом месте повторил для убедительности: «По нашим подсчетам, возросший в числе противник имел… до 70 000 штыков и сабель… Силы Западного фронта не превышали 40 000 штыков и сабель». Пилсудский над этой арифметикой откровенно посмеялся: «…Самыми забавными являются явно предвзятые расчеты и итоги… показывающие соотношение сил перед началом 4 июля главной советской операции, завершившейся под Варшавой. В самом низу таблицы добавлена рубрика: запасные батальоны и эскадроны действующих полков. Для нас они показаны цифрой 27 000 штыков и 1200 сабель, готовых влиться в строй». С русской же стороны мы находим вместо штыков и сабель лишь три звездочки, не означающие никакую цифру, но зато поясняющие, что батальоны и эскадроны уже учтены в составе дивизий… Неизвестно почему в некоторых наших пехотных дивизиях каким-то чудом появилась конница в постоянно повторяющемся количестве 400 сабель, в то время как другие дивизии таким подарком облагодетельствованы не были… Такой странный расчет соотношения наших и советских сил, полный грубых ошибок, мог бы стать весьма грустным свидетельством плохой работы советских штабов в войсках, которыми командовал г-н Тухачевский, если бы не его явная агитационно-публицистическая направленность… выражающаяся в том, чтобы в окончательном итоге, в сумме, выводимой внизу колонок, тенденциозно преувеличить наши силы и, наоборот, приуменьшить свои».
Со своей стороны, польский главнокомандующий, подобно уже знакомому нам барону Будбергу, весьма критически относился к донесениям подчиненных и призывал подобный здоровый критицизм применить и к советским донесениям о численности войск: «О количественном составе своих сил можно судить на основании донесений, периодически представляемых командирами различных частей. Однако каждого, кто захочет опираться только на эти данные, я, как историк, должен предостеречь от этого опрометчивого шага. Прежде всего потому, что любое донесение, независимо от того, какая информация в нем содержится, с исторической точки зрения может считаться надежным источником лишь после критического анализа, ведь донесения пишутся для начальства, они всегда имеют цель не только отчитаться в чем-либо, но и подспудно склонить начальника к тем или иным мыслям, к тем или иным решениям в отношении пишущего это донесение. Если так происходит в армиях, имеющих глубокие традиции и давным-давно до мельчайших деталей отработанную систему подготовки кадров, то что же говорить о нашей армии, совсем недавно сформированной и, если речь идет о командирах, состоящих из людей, по сути дела, случайно собранных из самых разных армий и школ. Именно по этой причине я никогда не относился в достаточной степени серьезно к донесениям наших командиров о численном составе войск. Я всегда вносил в них одну суммарную поправку, а именно: в нашей армии очень широко распространилась система откомандирования множества людей из боевых частей в ближний или дальний тыл для выполнения работ в интересах войск или командиров и по разным хозяйственным надобностям (в Красной, а особенно позднее, Советской, Армии эта система «хозяйственного использования» солдат, в том числе для строительства генеральских дач и прополки командирских огородов, расцвела пышным цветом. — Б. С.). В донесениях же эти откомандированные никогда или почти никогда не указывались, и для начальства их считали постоянно находящимися в полках. Попустительство в этом отношении зашло у нас слишком далеко, и мне не приходит на память хотя бы один случай, когда кто-нибудь из командиров применил бы здесь строгие дисциплинарные меры. Поэтому всегда, получая донесения о численности армий, я вносил в итоговую сводку… суммарную поправку… — по крайней мере треть людей, считавшихся штыками и саблями, я не засчитывал в боевой состав…
Я вовсе не хочу сказать, что советская армия не знала подобной системы хозяйственного откомандирования штыков и сабель. Более того, я уверен, что так и было. Тем не менее… дисциплина у нашего противника была чрезвычайно жесткой, часто даже жестокой, а меры, предпринимаемые для ее поддержания, настолько суровыми, что, думаю, неприятельскому командующему не было необходимости производить такие грустные расчеты, какие делал я».
Польский «верховный вождь» полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось около 795 тысяч человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130–150 тысяч бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120–180 тысяч. Такая оценка кажется ближе к истине, чем та, что содержится в «Походе за Вислу». После варшавской катастрофы более 80 тысяч человек из состава Западного фронта попали в польский плен, а еще более 40 тысяч оказались интернированы в Восточной Пруссии. В основном это были те, кого на военном жаргоне именуют штыками и саблями — тылы-то ведь успели убежать за Западный Буг и спастись. Кроме того, многие бойцы и командиры нашли смерть в бою, а некоторой, хотя и небольшой части боевых подразделений Западного фронта удалось избежать гибели. Каким же образом взялось свыше 100 тысяч пленных и интернированных, если, по уверениям Тухачевского, его фронт располагал всего 70 000 штыков и сабель? Нет, по всей вероятности, в Варшавском сражении силы противников были равны. Не исключено даже, что Тухачевский имел небольшое численное превосходство, но оно никак не могло ему помочь. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск: сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.
Тухачевский считал, что, если бы вовремя получил Конармию, можно было не только предотвратить разгром фронта, но и взять Варшаву. Много лет спустя он прервал вопрос одного из сотрудников штаба РККА В.Н. Ладухина о Варшавском сражении «Не могу до конца понять, почему же вдруг в августе…» характерной репликой: «На войне нередко случается «вдруг». Но здесь было не совсем «вдруг». Вы не первый, от которого я слышу этот вопрос. И всегда советую: обращайтесь, как и при всех сложных случаях, к Ленину. Ведь он ясно сказал, что мы переоценили тогда перевес наших сил. Это в равной мере относится и к главному командованию, и к командованию обоих фронтов — Западного и Юго-Западного». А в ответ на робкую попытку собеседника возразить Михаил Николаевич продолжил: «Понимаю, вас интересуют частности. Но они неотделимы от общей причины. Командование Западного фронта, развивая наступление, имело все основания к концу лета двадцатого года внести некоторую поправку в оперативный план. Сергей Сергеевич Каменев не возражал против маневра армий Западного фронта севернее Варшавы. Он, как и я, вначале не особенно беспокоился за левый фланг Западного фронта, который предполагалось усилить тремя армиями с Юго-Западного фронта. Появление в намеченный срок даже одной Конной армии в районе Люблина сорвало бы контрудар Пилсудского…» Здесь Тухачевский ссылался на известные слова Ленина: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти что до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка… Эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами». И председатель Совнаркома, и командующий Западного фронта оказались крепки задним умом.
В книге «Поход за Вислу» Тухачевский так изложил события, связанные с переподчинением 1-й Конной: «Главное командование, учитывая необходимость консолидации левого фланга Западного фронта, 11 августа в 3 часа отдает Юго-Западному фронту директиву о необходимости изменить группировку сил Юго-Западного фронта и в Самом срочном порядке двинуть Конную армию в направлении Замостье — Грубешов. Расчет времени и пространства показывает, что эта директива Главного Командования могла быть безусловно выполнена до перехода южной польской группировки в наступление. Если бы выполнение несколько и запоздало, то польские части, перешедшие в наступление, были бы поставлены перед неизбежностью полного разгрома, получив по тылам удар нашей победоносной Конной армии». Командующий Западного фронта был уверен, что против Конармии действуют только полторы польские кавалерийские дивизии и «украинские партизанские части». Под последними имеется в виду украинская армия генерала Павленко. Она насчитывала свыше 11 тысяч бойцов, но располагала всего 2 орудиями и 29 пулеметами и серьезной военной силы из себя не представляла. Однако Тухачевский ошибся. В тот момент против Конармии были сосредоточены куда большие силы — не только польская кавалерия, но и еще немалая толика пехоты. Пилсудский и тут не упустил повода посмеяться над поверженным противником: «В отношении наших действий у г-на Тухачевского есть еще одно странное недоразумение. Он утверждает, что мы вывезли из Восточной Галиции почти все войска, оставив там только украинские формирования Петлюры и генерала Павленко с одной польской кавалерийской дивизией. Правда, он сам сомневается в этом и уточняет, что кое-какие пехотные дивизии, как осколки нашей армии, там могли еще остаться. Но, одобряя в другом месте эту нашу смелость, он тем самым, как мне кажется, ищет возможность преувеличить собранные против него польские силы и одновременно обвинить своих южных коллег в том, что они не помогли ему во время разгрома под Варшавой. Однако дело обстояло совершенно иначе. Из нашей 6-й армии была вывезена только 18-я дивизия и небольшая часть конницы, а 12-я, 13-я и половина 6-й дивизии остались на месте. Кроме того, туда прибыла 5-я дивизия, сильно потрепанная в боях на севере…» Польский главнокомандующий вообще считал неосновательными расчеты Тухачевского на помощь со стороны 1-й Конной и 12-й армий, доказывал, что при любом развитии событий они не успели бы прибыть вовремя, чтобы повлиять на исход Варшавского сражения: «Признаюсь, что как во время самой войны, так… и при ее аналитическом разборе, я не могу избавиться от впечатления, что г-н Тухачевский вовсе не рассчитывал на взаимодействие с югом, потому что он поставил себе такую далекую цель, как форсирование Вислы между Плоцком и Модлином… А достижение столь глубокой цели было бессмысленно связывать и с действиями 12-й армии, робко переминающейся с ноги на ногу у Буга, и с действиями потрепанной армии Буденного, которая в течение нескольких дней после неудачи под Бродами не подавала никаких признаков жизни. Если сосредоточение советских войск под Варшавой (чего, кстати, я ожидал) отодвигало г-на Тухачевского от 12-й армии на Буге более чем на 200 километров, то «поход за Вислу» в ее нижнем течении за Варшавой (чего я совсем не ждал) добавлял к этому расстоянию еще добрую сотню километров, превращая в полную иллюзию взаимодействие с оставшейся где-то далеко на востоке 12-й армией».
Если бы Конармия действительно начала свой маневр на север 11 августа, согласно директиве главкома, то выйти в тыл польской ударной группировки до того, как определился успех контрнаступления от Вепша, она могла только в том случае, если бы львовская группировка поляков осталась в бездействии и буденновские кавалеристы совершали бы марш без всяких препятствий, словно на учениях. Но мы уже убедились, что именно такого маневра опасалось польское командование и планировало любой ценой задержать Буденного. Сил для этого у поляков было достаточно. И сам командующий 1-й Конной считал, что его войска не могли в те дни немедленно повернуть от Львова на Люблин: «…Все попытки главкома сменить Конармию пехотой и полностью вывести ее в резерв начиная с 6 августа не имели успеха. 13 августа он, разговаривая по прямому проводу с командующим Западным фронтом, заявил, что Конармия и сейчас стоит перед стеной пехоты, которую ей до сих пор не удалось сокрушить». Выходит, знал Тухачевский, что перед Юго-Западным фронтом — не «партизанские части», а «несокрушимая стена пехоты», и лукавил в своей книге, дабы оправдаться перед историей.
Буденный указал, что позднее, 16 августа, когда наконец поступила директива Тухачевского о выводе конницы из боя и сосредоточении ее в районе Владимира-Волынского для удара в люблинском направлении, она была еще более невыполнима, чем пятью днями раньше. Конармия вела тяжелые бои за Бугом, а сменять ее было некому. Семен Михайлович доказывал, что «физически невозможно было в течение одних суток выйти из боя и совершить стокилометровый марш, чтобы 20 августа сосредоточиться в указанном районе. А если бы это невозможное и произошло, то с выходом к Владимиру-Волынскому Конармия все равно не смогла бы принять участия в операции против люблинской группировки противника, которая… действовала в районе Бреста», т. е. значительно восточнее. Так что на самом деле Тухачевскому трудно было винить в собственной неудаче соседей.
Командующий Западного фронта надеялся, что, имея «против правого фланга польской основной группировки не менее 14… стрелковых дивизий и 3-й конный корпус» и учитывая «моральное превосходство», можно рассчитывать на победу. Он пренебрег данными разведки. Еще 10 августа в руки бойцов 1-й Конной попал приказ командования 3-й польской армии от 8 августа, где ставилась задача на отход для сосредоточения в районе Вепша. Тухачевский и главком сочли приказ дезинформацией. Дело в том, что с целью прикрыть отход 1-я и 3-я дивизии легионеров атаковали и потеснили соединения 12-й армии. Поэтому командование Юго-Западного фронта решило, что перечисленные в приказе дивизии все еще на прежних позициях и перегруппировываться не собираются. Тухачевский и Каменев поверили Егорову и Сталину. Вплоть до начала польского контрнаступления Западный фронт так и не смог вскрыть сосредоточение ударной группировки противника. Командующий фронта пребывал в уверенности, что почти вся польская армия сконцентрирована в Варшаве и к северу от нее. Он продолжал осуществлять свой замысел. Между тем 14 августа перешла в контрнаступление 5-я польская армия, и одно происшествие, вызванное этим контрнаступлением, оказалось, по мнению Тухачевского, роковым для исхода всего Варшавского сражения: «Полевой штаб 4-й армии, перешедший при наступлении в город Цеханов, был неожиданно атакован прорвавшимися между 4-й и 15-й армиями мелкими частями противника и должен был поспешно сняться и уехать на Запад к своим частям. Таким актом нарушалась связь между штабом фронта и 4-й армией, которая больше не восстанавливалась вплоть до начала нашего отступления, что, конечно, произошло благодаря полному отсутствию в нашем распоряжении каких бы то ни было средств стратегической связи».
Тухачевский думал, что войска Сикорского окажутся легкой добычей: «5-я армия, слабейшая по числу единиц и слабейшая духом, перешла в наступление против наших 15-й и 3-й армий, когда над их оголенным левым флангом нависли самые свежие, самые боеспособные наши части 4-й армии. Радость этого события для фронтового командования была чрезвычайно велика, и оно отдало приказ 15-й и 3-й армиям на всем фронте встретить наступление противника решительным контрударом и отбросить его за реку Вкра; 4-й армии, оставив заслон в торнском направлении, всеми своими силами атаковать перешедшего в наступление противника во фланг и тыл в новогеоргиевском (модлинском. — Б.С.) направлении из района Рацибуж — Дробин». Казалось, гибель 5-й армии противника являлась неминуемой и уничтожение ее повлекло бы самые решительные последствия в дальнейшем ходе всех наших операций». Но прекраснодушные мечтания команд-запа опять, как уже не раз бывало в его боевой практике, разбились о всемогущее «вдруг». Тухачевский так объяснил постигшую его неудачу: «…Полякам повезло. Наша 4-я армия, где новый командарм (в начале августа, за несколько дней до последнего наступления на Варшаву, Е.Н. Сергеева сменил начальник штаба А.Д. Шуваев. — Б.С.) потерял связь со Штабом фронта, не отдавала себе ясного отчета в складывающейся обстановке. Не получая приказов фронта, она выставила в районе Рацибуж — Дробин какой-то бесформенный полузаслон и разбросала свои главные силы на участке Влоцлавск — Плоцк. 5-я армия противника оказалась спасенной и совершенно безнаказанно, имея на фланге и в тылу у себя нашу мощную армию из четырех стрелковых и двух кавалерийских дивизий, продолжала наступление против 3-й и 15-й армий».
В свете последующих событий радость Тухачевского остается совершеннейшей загадкой. Ведь даже не потеряй 4-я армия связи со штабом фронта и разбей 5-ю польскую армию, на исход сражения это могло повлиять только в худшую для красных сторону. Во-первых, даже в этом случае войска Сикорского вряд ли удалось бы полностью уничтожить. У него было четыре с половиной пехотных дивизии и до двух дивизий кавалерии — силы, практически равные силам 4-й армии, к тому же находящиеся в лучших условиях с точки зрения снабжения и скорее превосходивших противника в моральном отношении, вопреки утверждению Тухачевского. Во-вторых, и это главное, задуманный контрудар против 5-й польской армии, осуществись он в полном объеме, еще дальше увел бы основную массу войск Западного фронта на северо-запад и только уменьшил бы их шансы на спасение после успеха контрнаступления польского Среднего фронта.
Мозырская группа и 58-я дивизия были разгромлены в первый же день польского контрудара. Такая же участь постигла выделенную во фронтовой резерв 8-ю дивизию 16-й армии. Как отмечает польский военный историк капитан Адам Боркевич, «вечером 16 августа Мозырская группа в действительности перестала существовать как оперативная единица». Разгром произошел так быстро, что части группы и ее штаб не успели информировать о начавшемся польском наступлении ни штаб 16-й армии, ни штаб Западного фронта. Тухачевский только 17-го утром узнал о происшедшем. Он отдал приказ своим северным армиям начать отход, чтобы избежать ловушки. 16-я армия и Мозырская группа (что ее уже фактически не существует, командующий еще не знал) должны были задержать польскую контратакующую группировку, которую планировалось сокрушить ударом на Люблин 1-й Конной и 12-й армии. Тухачевский подозревал, что «отсутствие средств связи и бестолковые путешествия 4-й армии по Данцигскому коридору, по-видимому, не позволили получить командарму-4 отданного приказа вовремя». В действительности командарм Шуваев директиву об отходе на юго-восток получил. Но собрать в короткий срок разбросанные далеко друг от друга дивизии и бригады было невозможно. Поэтому Шуваев, не представляя всей серьезности обстановки на левом крыле фронта, решил действовать, как пьяница из анекдота, ищущий ключи не там, где потерял, а под фонарем, где светло. Командарм-4 приказал своим войскам и кавкорпусу Гая продолжать операции по форсированию Вислы, утратившие к тому времени всякий смысл.
Оказавшиеся в неприятельском тылу части Западного фронта утратили всякую боеспособность. В ночь с 19-го на 20-е августа из занятого тремя днями ранее Седльца Пилсудский писал военному министру генералу Соснковскому: «То, что здесь творится, трудно себе даже представить. Ни по одной дороге нельзя проехать спокойно — столько здесь шляется по окрестностям разбитых и рассеянных, но также и организованных отрядов с пушками и пулеметами. Пока что с ними справляется местное население и тыловые органы различных наших дивизий, которые, однако, должны идти дальше, за своими дивизиями; после их ухода остается такая ужасающая пустота, что если бы не вооружившиеся крестьяне, то завтра или послезавтра окрестности Седльца, наверное, были бы во власти разбитых и рассеянных нами большевиков, а я бы с отрядами вооруженных жителей сидел бы в укрепленных городах». Войска, с которыми без труда могут справиться вооруженные крестьяне, — это уже нечто, больше похожее на толпу с оружием, а не на регулярную армию. Тухачевский в одночасье лишился большей части подчиненных ему дивизий, да и на оставшиеся положиться было нельзя. Он пережил одно из тяжелейших потрясений в своей жизни, сравнимое только с германским пленом. По сути, Тухачевский опять оказался в плену, в плену обстоятельств — отрезанный от войск, бессильный что-либо изменить в ходе сражения.
В дни Варшавского сражения завязался узел неприязненных отношений между Тухачевским, с одной стороны, и Ворошиловым и Буденным — с другой. В 37-м наступила трагическая развязка.
Много лет спустя Тухачевский обсуждал детали Варшавского сражения с Г.С. Иссерсоном и И.П. Уборевичем. Много лет спустя переживший ГУЛаг комдив Г.С. Иссерсон, по освобождении почему-то аттестованный всего лишь полковником, так передал содержание этого разговора: «…Иероним Петрович Уборевич спросил Тухачевского, почему он в эти критические дни на Висле не появился среди своих войск и не организовал лично их прорыва из окружения к северу от Варшавы. Уборевич сказал: пробивался бы к своим войскам любыми средствами — на машине, на самолете, наконец, на лошади — и, взяв на себя непосредственное командование, вывел бы их из окружения… Подумав, Тухачевский ответил, что роль командующего фронта тогда понималась иначе, и добавил, что сейчас, конечно, учить и воспитывать высший командный состав на этом примере нельзя и что в трудном положении высшие командующие должны брать на себя руководство войсками». Под Варшавой же войска Западного фронта находились в безнадежном положении, и подними Тухачевский в удачную атаку роту или полк, это никак не заменило бы ему отсутствующую связь с дивизиями и армиями, не вызвало бы перелома в неблагоприятной ситуации. Это молодой командующий фронта прекрасно понимал.
Как самокритичная оценка собственных действий в качестве командующего Западного фронта выглядит следующее признание в книге Михаила Николаевича «Новые вопросы войны», писавшейся в 30-е годы: «Очень часто командиры увлекались водоворотом событий, а не руководили, не организовывали и не ускоряли его». Так и вихрь похода на Варшаву и Берлин захватил Тухачевского. Казалось, вот-вот Польский фронт рухнет, надо спешить, а то Антанта успеет помочь Пилсудскому, тут не до тонкостей организации, главное, чтобы войска быстрее двигались вперед. В результате Красная Армия оказалась наголову разбита.
12 октября 1920 года вступило в силу советско-польское перемирие, а 18 марта 21-го, в день, когда войска под командованием Тухачевского штурмовали мятежный Кронштадт, в Риге был подписан мирный договор. Польша в Белоруссии удержала за собой линию старых германских окопов, так что здесь граница прошла примерно там, где установился фронт в Первую мировую войну. На Украине поляки оставили за собой Восточную Галицию и Волынь, переданные им правительством Петлюры. Граница прошла здесь по реке Збруч. Петлюровцы и отряды Народно-добровольческой армии Булак-Балаховича попытались самостоятельно продолжить борьбу с Красной Армией, но были разбиты в ноябре 1920 года. Операциями против Булак-Балаховича руководил Тухачевский, но эта победа над плохо вооруженными партизанскими группами была лишь очень слабым утешением за неудачный «поход за Вислу».
В марте 1921 года Тухачевскому пришлось подавлять Кронштадтский мятеж, ставший реакцией масс на политику «военного коммунизма» и прежде всего на продразверстку. 2 марта появилось правительственное сообщение, подписанное Лениным и Троцким: «28 февраля с. г. в г. Кронштадте начались волнения на корабле «Петропавловск». Была принята черносотенно-эсеровская резолюция (?! — интересно, кому пришла в голову мысль совместить несовместимое, впрячь в одну колесницу социалистов-революционеров и «Союз русского народа», Владимиру Ильичу или Льву Давидовичу? — Б.С.). Бывший генерал Козловский с тремя офицерами, фамилии которых еще не установлены, открыто выступили в роли мятежников». 5 марта, в день, когда предполагались перевыборы Кронштадтского Совета, в Петроград прибыл Тухачевский, возглавивший 7-ю армию, численность которой к концу боев достигла 45 тысяч человек. Большевики очень опасались, что после мятежа в Кронштадте события в Петрограде будут развиваться по тому же сценарию, что и в феврале 1917 года: хлебные бунты, демонстрации, переход солдат и матросов на сторону демонстрантов и свержение правительства. Поэтому восстание хотели подавить в зародыше и быстро, еще до начала X съезда партии, который открывался 8 марта. Ленин, Троцкий и другие вожди торопили Тухачевского. 6 марта мирная делегация ревкома из четырех человек во главе с матросом Вершининым, направлявшаяся в Петроград, была арестована, а впоследствии расстреляна. Вечером 7 марта начался артиллерийский обстрел крепости. Выпустили 5 тысяч снарядов. А на рассвете следующего дня на штурм Кронштадта пошли в качестве ударного отряда 3 тысячи красных курсантов (всего же для наступления было сосредоточено 20 тысяч человек). Расчет делался на то, что восставшие будут застигнуты врасплох, не успеют еще сразу после горячих митингов организовать надежную оборону, побоятся сражаться с советскими войсками и капитулируют, не доводя дело до кровопролития. Ленин был настолько уверен в успехе, что 8 марта в политическом отчете съезду заявил: «Я не имею еще последних известий из Кронштадта, но не сомневаюсь, что это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы». Но в «ближайшие часы» никак не получилось.
Артиллерийским огнем с линкоров и фортов защитники Кронштадта отразили атаку. Наступавшие без маскировочных халатов курсанты представляли собой отличную мишень на непрочном весеннем льду. Почти все участники штурма были убиты или ранены.
Тем временем, 10 марта, Ленин пообещал поставить вопрос о замене продразверстки продналогом, а 15 марта X съезд партии принял соответствующее решение. Кронштадтцы пришли к выводу, что теперь, когда их основное требование удовлетворено, продолжать сопротивление бессмысленно. Перед началом восстания в Кронштадте насчитывалось около 27 тысяч военных моряков и красноармейцев. Большинство решили остаться в родном городе и не оказывать сопротивления советским войскам. Примерно треть гарнизона собиралась уйти в Финляндию, оставив небольшие арьергарды из наиболее опытных военморов для прикрытия отступления. 14-го марта началась подготовка к отступлению. 16-го отряды прикрытия заняли позиции на линкорах и в фортах, и в ночь с 16-го на 17-е марта отход на финский берег начался.
Перед повторным штурмом 300 делегатов X парт-съезда влились в изготовившиеся к наступлению на Кронштадт части, дабы пресечь всякие колебания среди красноармейцев и повести их в бой. Тухачевский отдал боевой приказ: «В ночь с 16-го на 17-е марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт… Артиллерийский огонь открыть в 14 часов 16 марта и продолжать его до вечера…»
В первой половине дня 17-го марта кронштадтцам, несмотря на ураганный артиллерийский огонь с материка, удавалось отражать атаки советских войск. Двенадцатидюймовые орудия линкоров при разрыве проделывали во льду широкие полыньи, которые тут же покрывались тонкой ледяной коркой. Многие штурмующие проваливались в них и камнем шли на дно. Большие потери красноармейцы несли также от осколков и ружейно-пулеметного огня. Тухачевский думал управлять действиями атакующих по телефону, но в первые же минуты боя телефонные провода оказались перебиты осколками. Так что командарму пришлось довольствоваться ролью зрителя. Правда, наблюдать за ходом сражения мешал сильный туман. Только к вечеру передовые отряды атакующих ворвались в Кронштадт. В 21 час 50 минут Тухачевский отдал боевой приказ о полном овладении крепостью, островом Котлин и батареей Риф. Им предписывалось «сегодня же окончательно завладеть городом и ввести в нем железный порядок… При действиях в городе широко применять артиллерию в уличном бою». В дополнение командарм послал секретную телеграмму о том, что делать с поверженным противником: «Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления… пленными не увлекаться». После подавления восстания к расстрелу приговорили более 2100 человек, а около 7 тысяч отправили в лагеря и тюрьмы. Кроме того, несколько сот кронштадтцев было расстреляно сразу после штурма.
Следующим шагом в карьере Тухачевского стало подавление тамбовских крестьян — еще одна проверка на преданность большевистскому руководству. В конце апреля 1921 года Михаила Николаевича назначили командующим войсками Тамбовской губернии, в задачу которых входило как можно скорее подавить мощное крестьянское восстание во главе с бывшим сельским учителем эсером А.С. Антоновым. Политбюро ЦК РКП(б) 27 апреля решило «назначить единоличным командующим войсками в Тамбовском округе Тухачевского, сделав его ответственным за ликвидацию банд Антонова. Дать для ликвидации месячный срок. Не допускать никакого вмешательства в его дела…» Командарму после Кронштадта полностью доверяли. Силы под началом Тухачевского были собраны нешуточные. Численность советских войск (с тылами) превышала 120 тысяч человек. Непосредственно же на линии фронта против повстанцев действовало 53 тысячи бойцов, подкрепленных 9 артиллерийскими бригадами, 4 бронепоездами, 6 бронелетучками, 5 автобронеотрядами и 2 авиаотрядами. Красноармейцы не знали недостатка в боеприпасах. 63 орудиям, 463 пулеметам, 8 самолетам и 6 бронеавтомобилям антоновцы, насчитывавшие 18 тысяч бойцов, могли противопоставить 5 орудий и 25 пулеметов, к которым катастрофически не хватало снарядов и патронов. Повстанцы, несмотря на сочувственное отношение со стороны населения и свою способность быстро рассеиваться, уходя из-под удара, превращаться на время в мирных землепашцев, чтобы потом вновь собраться в вооруженные отряды и возобновить борьбу, были обречены и все равно рано или поздно капитулировали бы. Но Тухачевский еще 20 апреля, когда встречался и Лениным, обещал вождю мирового пролетариата подавить восстание в самый кратчайший срок. И принял соответствующие меры.
12 мая, в день своего прибытия в Тамбов, Тухачевский издал истребительный приказ № 130. Популярное изложение этого приказа 17 мая опубликовала Полномочная комиссия ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, озаглавив как «Приказ участникам бандитских шаек»:
«1. Рабоче-Крестьянская власть решила в кратчайший срок покончить с разбоем и грабежом в Тамбовской губернии и восстановить в ней мир и честный труд.
2. Рабоче-Кресгьянская власть располагает в Тамбовской губернии достаточными военными силами. Все поднимающие оружие против Советской власти будут истреблены.
Вам. участникам бандитских шаек, остается одно из двух: либо погибать, как бешеным псам, либо сдаваться на милость Советской власти.
1. Именем Рабоче-Крестьянского правительства Полномочная комиссия вам приказывает:
Немедленно прекратить сопротивление Красной Армии, разбой и грабеж, явиться в ближайший штаб Красной Армии, сдать оружие и выдать своих главарей.
2. К тем, кто сдаст оружие, приведет главарей и вообще окажет содействие Красной Армии в изловле-нии бандитов, будет широко применено условное осуждение и в особых случаях — полное прощение.
Согласно приказу красного командования за № 130 и «Правилам о взятии заложников», опубликованным Полномочной комиссией 12 сего мая, семья уклонившегося от явки забирается как заложники, и на имущество накладывается арест».
К концу мая в Тамбове, Борисоглебске, Кирсанове и других городах губернии спешно поставили концлагеря на 15 тысяч человек и попробовали по каждому селу составить список «бандитов». 28 мая войска перешли в решающее наступление на повстанцев. К 20 июля все крупные отряды антоновцев были уничтожены или рассеяны.
11 июня вышел самый грозный приказ № 171, подписанный председателем Полномочной комиссии В.А. Антоновым-Овсеенко, командующим войсками М.Н. Тухачевским, председателем губисполкома А.С. Лавровым и секретарем губкома партии Б.А. Васильевым. Теперь от слов перешли к делу: «…Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и в дополнение к ранее изданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК приказывает:
1. Граждан, отказывающихся назвать свое имя, расстреливать на месте без суда.
2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссий и райполиткомиссий объявлять приказы об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.
3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.
4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в семье расстреливается на месте без суда.
5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитские и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.
6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома разбирать или сжигать.
7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно».
Расстрелы сотен заложников и другие бесчеловечные репрессии вынудили крестьян отказаться от поддержки антоновцев. Восстание было подавлено.
В июле Тухачевский применил против скрывающегося в лесах населения химическое оружие, обретя сомнительный приоритет использования удушливых газов против мирного населения. Из-за задержки с противогазами первую газовую атаку произвели только 13 июля. В этот день артиллерийский дивизион бригады Заволжского военного округа израсходовал 47 химических снарядов. К тому времени восстание фактически уже было потоплено в крови. К 15 июля в Тамбовской губернии осталось не более 1200 повстанцев, загнанных в леса, голодных, почти без патронов, не представлявших реальной угрозы ни восстановленным органам Советской власти, ни, тем более, 120-тысячной группировке войск, которую начали готовить к возвращению в места прежней дислокации. 16 июля Тухачевский докладывал Ленину о победе: «В результате методически проведенных операций на протяжении 40 дней восстание в Тамбовской губернии ликвидировано. СТК (руководивший восстанием «Союз Трудового Крестьянства», находившийся под влиянием эсеров. — Б.С.) разгромлен. Советская власть восстановлена повсеместно».
Казалось бы, раз восстание ликвидировано, надобность в применении химического оружия отпала. Ан нет! 3 августа командир батареи Белгородских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии Инжа-винского боевого участка: «По получении боевого задания батарея в 8.00 2 августа выступила из с. Инжавино в с. Карай-Салтыково, из которого после большого привада в 14.00 выступила на с. Кипец. Заняв позицию в 16.00, батарея открыла огонь по острову, что на озере в 1,5 верстах северо-западнее с. Кипец. Выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических снарядов. После выполнения задачи батарея в 20.00 возвратилась в Инжавино».
Мятежная губерния была блокирована, и подвоза продовольствия туда не было. И вряд ли в условиях нэпа вчерашние повстанцы захотели бы после окончания уборочной страды вернуться в леса. Но позволить антоновцам, не сдавшимся, не признавшим свое поражение, вернуться к мирному труду большевики не могли. Это значило бы хоть частично признать победу крестьян и поражение власти. Как и в случае с Кронштадтом, требовалось преподать повстанцам предметный урок, чтобы не только им, но и детям и внукам бунтовать было неповадно. Для этого и нужны были расстрелы заложников и газовые атаки против искавших убежища в лесах. И цель была достигнута. Через несколько лет насильственная коллективизация, «год великого перелома», добивший нэп, прошли куда спокойнее, без восстаний масштаба антоновского, хотя, возможно, даже с еще большими жертвами. Впрочем, сколько народу истребили бойцы Тамбовской армии под руководством «красного Наполеона», мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Наверняка счет шел на тысячи, если не на десятки тысяч.
После подавления Тамбовского восстания Тухачевский опять командовал Западным фронтом. На этом посту он оставался до марта 1924 года, с небольшим перерывом, когда из-за конфликта с Реввоенсоветом фронта был отозван в Москву руководить Военной академией. В апреле 24-го Михаил Николаевич пошел на повышение — стал помощником начальника Штаба РККА (возглавлял штаб тогда М.В. Фрунзе, хорошо знавший его по Восточному фронту). Неоднократно встречавшийся с Тухачевским немецкий генерал Карл Шпальке так оценивал его стремительную карьеру при большевиках: «Он, помимо прочих талантов, принес с собой и чрезвычайную способность подстраиваться, позволившую ему обойти стороной неисчислимые рифы в водовороте революции, добраться до поначалу неприступного поста». Но нельзя отрицать, что на более высокие должности Тухачевский назначался не по знакомству, а вследствие своих организаторских, волевых и полководческих качеств. Трагедией для Михаила Николаевича было то, что в осуществлении своих планов реорганизации Красной Армии он мог более или менее твердо опереться лишь на узкую прослойку бывших царских офицеров, достаточно рано, как и он, связавших свою судьбу с коммунистической партией.
В период пребывания Тухачевского в академии начала разворачиваться дискуссия о том, какой стратегии следует придерживаться в случае возникновения войны: наступательной или оборонительной, «стратегии сокрушения» или «стратегии измора»? Горячим сторонником последней был один из профессоров академии бывший генерал-майор А.А. Свечин, авторитетный военный теоретик, возглавлявший также комиссию по использованию опыта Первой мировой войны. Тухачевский, напротив, ратовал за господство наступательной маневренной стратегии, предполагавшей разгром противника несколькими мощными ударами. В результате конфликта с новым начальником Свечин вскоре покинул академию, что не помешало ему в 1923 году выпустить капитальный труд «Стратегия», где бывший генерал отстаивал свои взгляды и, в частности, первичность стратегической обороны как основы последующего перехода в наступление на измотанного и ослабленного противника. В 1924 году в предисловии составленной им хрестоматии трудов военных классиков, в основном — сторонников «измора», Свечин предупреждал: «Война — это долгие месяцы трудов, лишений и жертв; войска равномерно тянут свою лямку, но они должны понимать, что бывают моменты, когда требуется собрать урожай, являющийся плодом всех этих усилий. Один день, говорит в таких случаях крестьянин в своем обиходе, год кормит. Тактика пашет и сеет, сбор урожая — это дело стратегии. Если забывать об урожае, то не стоит и хозяйством заниматься…» Позднее, в 1927 году, Свечин подчеркивал, что «для успеха обороны нужно иметь возможность утрачивать территорию». Мысль абсолютно здравая. Как раз так поступили поляки в 1920 году и в результате сотворили «чудо на Висле». Однако Тухачевский был за войну главным образом на чужой территории, и лучше — с наименьшими потерями, а для этого предлагал как следует обучить бойцов и командиров и насытить армию вооружением и техникой. Он на будущую войну смотрел как на войну гражданскую, только теперь уже в мировом масштабе. Рассчитывал, что пролетариат Западной Европы поможет братской Красной Армии и можно будет очень скоро собрать обильный урожай. Правда, во Второй мировой войне вышло иначе, но в начале 20-х годов надежды на мировую революцию еще не угасли. Повторное назначение Тухачевского на Западный фронт во многом было связано с расчетом, что вот-вот грянет революция в Германии (которую в 1922–1923 годах всерьез ожидали руководители большевиков).
Тухачевский, равно как Фрунзе и Ворошилов, полагал, что Красная Армия должна стремиться упредить вероятных противников и первой перейти в наступле-нме. Он еще в 1921 году в статье «Обучение войск» писал: «Рабочие и крестьяне должны знать, что Советская власть приложит все силы и средства, чтобы избежать новых войн, но они должны сознавать, что классовые враги Советской России только и ждут случая, чтобы с наименьшими для себя потерями наброситься на нее и задушить ненавистное рабочее государство. А раз так, то за мирным трудом не должна забываться и боевая подготовка. Раз так, то каждый трудящийся Советской России должен быть готов к тому, чтобы с объявлением нам войны не ожидать капиталистического нападения, а, наоборот, самим наброситься на изготовившихся к нападению врагов, опрокинуть их и внести знамя социалистической войны на буржуазную территорию». Тухачевский призывал готовиться к такой войне «как духовно, так технически и физически». Эту подготовку он регламентировал в следующих тезисах: «о целях войны, о неминуемости революционных взрывов в буржуазных государствах, объявивших нам войну (Тухачевский подразумевал, что война буржуазией Советской Республике фактически уже объявлена с тех пор, как победила Октябрьская революция. — Б. С.), о сочетании социалистических наступлений с этими взрывами, об атрофировании национальных чувств и о развитии классового самосознания и солидарности…»
Наиболее подходящим видом обороны Тухачевский считал пассивную оборону, которая «выигрывает время и максимально экономит силы». Идею активной, или, по позднейшей терминологии, «эластичной обороны», он отвергал с порога, утверждая: «…Пассивная оборона есть элемент смелого, а активная — элемент робкого решения», хотя сам стал на Висле жертвой активной, т. е. связанной с преднамеренным отступлением и контрударом по наступающим, обороны со стороны противника. Командующий Западного фронта верил, что, поскольку «обороняющийся при прорыве у него фронта гораздо более бывает потрясен и растерян, чем прорвавшийся», то «контратакующие резервы в моральном отношении в худшем положении, чем прорвавшийся». Кроме того, подчеркивал Тухачевский, «ведь прорвавшийся бывает сильнее обороняющегося… и в численном отношении контратакующий проигрывает». Отсюда он делал вывод: «…На силу глубоких резервов рассчитывать не стоит. Лучше всемерно усилить боевую линию… Активные действия глубоких резервов пользы не принесут… Им лучше ограничиваться занятием в тылу новой укрепленной полосы, затыкающей образовавшуюся дыру».
Красная Армия готовилась к наступлению, к «упреждающему удару». Поэтому Тухачевский предпочитал не вспоминать, чей моральный дух на Висле оказался крепче: контрударной польской группировки или противостоявших ей слабых советских войск. И по-прежнему пренебрегал вопросами обороны, рассчитывая, что в будущей войне долго обороняться, а тем более обороняться по всему фронту, не придется. Так же думали и Фрунзе, и Ворошилов, и многие другие военачальники. Линия Троцкого и Свечина на первичность для Красной Армии стратегической обороны была ошельмована и предана забвению.
Практика Великой Отечественной войны доказала, что Тухачевский ошибался. Больше года Красной Армии пришлось обороняться по всему фронту. И в последующем, когда к ней перешла стратегическая инициатива, отдельным армиям и даже группам армий приходилось вести тяжелые оборонительные бои, в том числе и в победном 45-м. Опыт Второй мировой войны и ряда последующих военных конфликтов подтвердил также эффективность активной обороны, основанной на контрударах в заранее выбранных районах по прорвавшемуся противнику.
В ноябре 1925 года Тухачевский стал начальником Штаба РККА. Хотя это назначение последовало уже после смерти Фрунзе во время операции по поводу язвы желудка, но принципиально вопрос об этом назначении был решен еще при его жизни. Михаил Васильевич сблизился с Тухачевским еще в 19-м году на Восточном фронте. На новом посту Михаил Николаевич должен был готовить Красную Армию к будущей войне.
В вышедшей в 1926 году работе «Вопросы современной стратегии» Михаил Николаевич важнейшей задачей назвал задачу «военизации» страны, полагая, что централизованное планирование позволяет в СССР «выжать больший процент военной продукции», чем в капиталистических странах, и добиться того, чтобы экономика не была разрушена необходимостью перехода на военные рельсы. В полном соответствии с линией Сталина и большинства Политбюро, он выступал за милитаризацию страны в мирное время и подчинение всей экономики нуждам обороны страны, практической мобилизации промышленности еще до начала боевых действий.
Вместе с тем в «Вопросах современной стратегии» Тухачевский, по-прежнему веря, что Красной Армии в будущей войне придется главным образом наступать, а не обороняться, высказывал весьма здравые мысли. «Надо иметь в виду, — предупреждал он, — что в современных условиях ведения войны очень часто одной операцией достигнуть уничтожения врага не удается. Противник зачастую ускользает из-под удара. Поэтому приходится вести операции одну за другой, с тем чтобы доконать противника хотя бы у последней черты его сопротивления. А эта черта находится там, где начинаются районы, питающие войну». Отсюда следовал вывод: «Мы должны считаться с тем, что нам предстоят тяжелые, длительные войны…» Данный прогноз полностью подтвердился в ходе Второй мировой войны, когда сопротивление вермахта прекратилось лишь после оккупации войсками союзников почти всей территории Германии, включая столицу. И еще один вывод Туха-невского вполне актуален и сегодня: «…Искусство уничтожения вооруженных сил врага является основным условием экономного и успешного ведения войны, и в этом искусстве, как и во всем искусстве стратегии, мы должны постоянно совершенствоваться». А в статье 1927 года «Задачи общевойсковой подготовки» начальник Штаба РККА сформулировал: «…Основной тактический принцип — это действовать сообразно обстановке». Он был сторонником того, чтобы командирам была предоставлена необходимая самостоятельность как на учениях, так и в реальных боевых условиях.
На должности начальника Штаба РККА Тухачевский пробыл до мая 1928 года. Причиной его ухода с этого поста послужили постоянные конфликты с Ворошиловым. Например, 5 апреля 1928 года Тухачевский писал наркому: «…Считаю необходимым доложить два основных момента, делающих работу Штаба РККА совершенно ненормальной… Прежде всего и в текущей и в плановой работе создается такое положение, что зачастую может казаться, будто Вы, как нарком, работаете сами по себе, а Штаб РККА сам по себе, что совершенно противоестественно, так как по существу Штаб должен быть рабочим аппаратом в Ваших руках по объединению всех сторон и работ по подготовке войны. Если он таким аппаратом не является, то, значит, дело не в порядке». Через несколько дней, 16 апреля, Ворошилову поступило другое письмо, а точнее говоря, донос на Тухачевского за подписями Буденного, Егорова и Дыбенко, где начальник Штаба Красной Армии обвинялся в том, что якобы самоустранился от руководства работой Штаба и не соответствует занимаемой должности. В конце концов Михаил Николаевич осознал, что все его инициативы по перевооружению войск и реорганизации органов военного управления блокируются наркомом, и подал рапорт об освобождении от должности. Его назначили командующим Ленинградского военного округа.
В Ленинграде Тухачевский не успокоился и продолжал строить широкомасштабные планы преобразований. 11 января 1930 года он представил наркому Ворошилову доклад о реорганизации Красной Армии, где доказывал: «Успехи нашего социалистического строительства… ставят перед нами во весь рост задачу реконструкции Вооруженных Сил на основе учета всех новейших факторов техники и возможности массового военно-технического производства, а также сдвигов, происшедших в деревне (так деликатно именовал Михаил Николаевич насильственную коллективизацию крестьянства, повлекшую массовый голод. — Б.С.)… Реконструированная армия вызовет и новые формы оперативного искусства». Тухачевский предлагал увеличить численность армии, а также количество артиллерии, авиации и танков. Это должно было гарантировать победу СССР в будущей мировой войне.
Ворошилов передал письмо Сталину 5 марта 1930 года со следующим комментарием: «…Направляю для ознакомления копию письма Тухачевского (именно так, даже без сакраментального «товарищ», обязательного в официальных документах при упоминании членов партии; одно это достаточно говорит об отношении наркома к Тухачевскому. — Б. С.) и справку штаба по этому поводу. Тухачевский хочет быть оригинальным и… «радикальным». Плохо, что в Красной Армии есть порода людей, которая этот «радикализм» принимает за чистую монету. Очень прошу прочесть оба документа и сказать мне свое мнение». Сталин с Ворошиловым согласился и 23 марта написал ему: «…Я думаю, что «план» т. Тухачевского является результатом модного увлечения «левой» фразой, результатом увлечения бумажным, канцелярским максимализмом. Поэтому-то анализ заменен в нем «игрой в цифири», а марксистская перспектива роста Красной Армии — фантастикой. «Осуществить» такой «план» — значит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию. Это было бы хуже всякой контрреволюции… Твой И. Сталин». Вождь все же не подозревал командующего Ленинградского округа в контрреволюции и по-прежнему именовал его «товарищем». Это слово в СССР дорогого стоило: «враг народа», будто в насмешку над гражданским обществом, сразу же превращался в «гражданина».
Получив столь благоприятный ответ Сталина, Ворошилов заготовил проект письма Тухачевскому, издевательского по тону и скудного по содержанию, поскольку ничего своего к сталинскому мнению осторожный Климент Ефремович не рискнул добавить: «…Посылаю Вам его (т. е. Сталина) оценку Вашего «плана». Она не очень лестна… но, по моему глубокому убеждению, совершенно правильна и Вами заслужена. Я полностью присоединяюсь к мнению т. Сталина, что принятие и выполнение Вашей программы было бы хуже всякой контрреволюции, потому что оно неминуемо повело бы к полной ликвидации социалистического строительства и к замене его какой-то своеобразной и, во всяком случае, враждебной пролетариату системой «красного милитаризма»». Письмо, однако, Ворошилов предпочел не отправлять лично адресату, а огласил на расширенном заседании Реввоенсовета. Это возмутило Тухачевского. 30 декабря 1931 года он обратился с посланием к Сталину: «…Формулировка Вашего письма, оглашенного тов. Ворошиловым на расширенном заседании РВС СССР, совершенно исключает для меня возможность вынесения на широкое обсуждение ряда вопросов, касающихся проблем развития нашей обороноспособности; например, я исключен как руководитель по стратегии из Военной академии РККА, где вел этот предмет в течение шести лет. И вообще положение мое в этих вопросах стало крайне ложным. Между тем я столь же решительно, как и раньше, утверждаю, что Штаб РККА беспринципно исказил предложения моей записки…»
Сталин вел с Михаилом Николаевичем какую-то сложную игру. В июне 31-го Тухачевский был возвращен в Москву и назначен начальником вооружений Красной Армии. Еще в конце 1931 года Тухачевский направил Ворошилову письмо, где предлагал ввести танковые подразделения в состав стрелковых и кавалерийских дивизий. Это предложение было принято. А в мае 1932 года Сталин наконец прислал Тухачевскому письмо, в котором признал, что слишком резко и несправедливо отнесся к первоначальной записке Тухачевского и теперь готов признать его правоту и извиниться, хоть и с запозданием, за допущенную в отношении Тухачевского ошибку. Иосиф Виссарионович, хотя и с оговорками, покаялся: «В своем письме на имя т. Ворошилова, как известно, я присоединился в основном к выводам нашего штаба и высказался о Вашей «записке» резко отрицательно, признав ее плодом «канцелярского максимализма», результатом «игры в цифры» и т. п. Так было дело два года назад. Ныне, спустя два года, когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма — не во всем правильными… Мне кажется, что мое письмо на имя т. Ворошилова не было бы столь резким по тону и оно было бы свободно от некоторых неправильных выводов в отношении Вас, если бы я перенес тогда спор на эту новую базу. Но я не сделал этого, так как, очевидно, проблема не была еще достаточно ясна для меня. Не ругайте меня, что я взялся исправить недочеты своего письма с некоторым опозданием. С коммунистическим приветом. И. Сталин». При желании в этих словах можно усмотреть намек на то, что его, Сталина, ввели в заблуждение насчет предложений Тухачевского Ворошилов с Шапошниковым, занявшим тогда должность начальника Штаба Красной Армии, и что тогда, два года назад, правота Михаила Николаевича была не столь очевидна, как теперь, когда обозначились первые успехи ускоренной индустриализации. Главное же, Сталин очень хотел использовать военный талант и организаторские способности Тухачевского для подготовки Красной Армии к будущей войне и чтобы новый заместитель наркома обороны трудился не за страх, а за совесть. Потому-то и принес письменные извинения, признал, пусть частично, свою неправоту.
Тухачевский, конечно, не знал, что подобных унижений Иосиф Виссарионович не прощает никому и в долгосрочной перспективе судьба тех, кто удостоился извинений со стороны генсека, предрешена. Сталину невыносимо было сознавать, что кто-то оказался умнее и дальновиднее его в тех сферах, которые генсек считал своими главными коньками: политика, экономика, военное дело. Об этом говорил в 1936 году в Париже меньшевику Ф.И. Дану бывший сталинский друг Бухарин, уже предчувствовавший близкую гибель: «Сталин даже несчастен оттого, что не может уверить всех, и даже самого себя, что он больше всех, и это его несчастье, может быть, самая человеческая в нем черта, может быть, единственная человеческая в нем черта, но уже не человеческое, а что-то дьявольское есть в том, что за это самое свое «несчастье» он не может не мстить людям, всем людям, а особенно тем, кто чем-то выше, лучше его… Если кто лучше его говорит, он — обречен, он уже не оставит его в живых, ибо этот человек — вечное ему напоминание, что он не первый, не самый лучший; если кто-то лучше пишет — плохо его дело… Это маленький, злобный человек, не человек, а дьявол». Тухачевский лучше Сталина знал военное дело и умел водить войска. Для расстрела этого оказалось достаточно.
На посту начальника вооружений и заместителя наркома Тухачевский начал практическую деятельность по реорганизации и перевооружению Красной Армии. Основные принципы программы реформ были изложены им в рукописи «Новые вопросы войны», начатой еще в Ленинграде весной 31-го. В предисловии Михаил Николаевич писал: «Настоящая книга является первой частью намеченной работы и рассматривает вооруженные силы и их использование». Во второй и третьей частях, так и не написанных, Тухачевский предполагал проанализировать военный потенциал СССР и возможных «империалистических коалиций» и вероятный ход борьбы против этих коалиций. Он признавался: «То короткое время, которое остается у практически занятого человека для работы над теоретическими вопросами, с большой натяжкой позволяет подолгу останавливаться над отдельными местами. Жизнь уходит вперед, и начало книги отстает от конца… Весьма возможно, многим покажется, что я в этой книге забегаю слишком вперед. Но тем не менее это будет своего рода обманом зрения. Человек нелегко отделывается от привычных представлений, но теоретическая работа, базируясь на техническом развитии и социалистическом строительстве, упорно выдвигает новые формы, и я совершенно не сомневаюсь в том, что года через два эта книжка во многом устареет, а то, что сейчас кажется странным, будет привычным, обыденным».
Что же удалось предвидеть Тухачевскому? В чем его прогноз оказался точен? Прежде всего в том, что решающую роль в будущей войне он придавал танкам и авиации. В такой общей форме, пожалуй, с ним оказалось бы солидарно подавляющее большинство военных теоретиков, работавших в 30-е годы. Однако, что очень важно, Тухачевскому удалось правильно предсказать многие конкретные особенности применения этих новых грозных видов вооружений. Например, в «Новых вопросах войны» совершенно справедливо подчеркивалась необходимость стремиться «к простоте производства самолета» — тенденцию, особенно сильно проявившуюся во Вторую мировую войну и, быть может, наиболее ярко в СССР, где в авиационную промышленность очень широко пришлось привлекать неквалифицированных рабочих из женщин и подростков. Тухачевский, вслед за известным британским военным теоретиком Б. Лидцелом Гартом, утверждал, что «основная масса танков будет строиться на автомобильно-тракторной базе страны» и поэтому «в будущей войне действующие танки будут измеряться не тысячами, как это было в 1918 году, а десятками тысяч». Отмечу, что Красная Армия к 22 июня 1941 года располагала более чем 23 тысячами танков.
В феврале 1934 года Тухачевский совместно с командующим Белорусского военного округа Уборевичем написали письмо Ворошилову, где доказывали, что военно-воздушные силы будут играть решающую роль в будущей войне: «…Современная авиация может на длительный срок сорвать железнодорожные перевозки, уничтожить склады боеприпасов, сорвать мобилизацию и сосредоточение войск… Та сторона, которая не будет готова к разгрому авиационных баз противника, к дезорганизации систематическими воздушными нападениями его железнодорожного транспорта, к нарушению его мобилизации и сосредоточения многочисленными авиадесантами, к уничтожению его складов горючего и боеприпасов, к разгрому неприятельских гарнизонов и эшелонов быстрыми действиями мехсоединений, поддержанных кавалерией и пехотой на машинах, — сама рискует подвергнуться поражению». Исходя из этого, авторы письма предлагали, учитывая возможности советской авиапромышленности, иметь в Красной Армии к 1935 году до 15 тысяч боевых самолетов. Но вскоре и эта казавшаяся тогда фантастической цифра была перекрыта. Только в период с 1 января 1939 года по 22 июня 1941 года Красная Армия получила 17 745 боевых самолетов, из которых 3719 были новых типов, не уступающих по основным параметрам лучшим машинам люфтваффе. Вот только летать на этих самолетах не очень-то умели. Накануне Великой Отечественной войны, за первые три месяца 41-го года, летчики Прибалтийского военного округа успели налетать в среднем 15,5 часа, Западного — 9, а Киевского — вообще 4 часа. На самолетах новых конструкций многие пилоты так и не успели подняться в воздух. Неудивительно, что, имея на Восточном фронте к началу войны всего 1860 боевых самолетов, немцы менее чем за месяц без большого труда уничтожили почти всю авиацию советских приграничных округов. Замыслы Тухачевского относительно количественного роста авиации и повышения качества боевых самолетов были воплощены в жизнь с большим избытком, но толку от этого оказалось чуть, ибо весь эффект от десятков тысяч «стальных птиц» (точнее, алюминиевых и деревянных) был сведен на нет отсутствием подготовленных экипажей. Вернее всего, в избытке и было дело, когда численность самолетного парка наращивалась без учета наличия пилотов. Тухачевский тут, конечно, виноват не был, он как раз обращал внимание на необходимость иметь подготовленные кадры летчиков, танкистов, представителей других военных специальностей. Михаил Николаевич даже обращал внимание на то, что «качественный уровень кадров в капиталистических странах, имеющих большую культурную давность, будет выше нашего уровня и упрощенное сравнение одними цифрами не вполне достаточно». Однако это предупреждение забылось, да и сам Тухачевский не склонен был ставить данное обстоятельство во главу угла при разработке планов будущей войны, поскольку верил, что Красной Армии придется наступать, а не обороняться.
В «Новых вопросах войны» Тухачевский оптимистично провозглашал: «Если французская революция создала предпосылки для появления массовых армий в сотни тысяч бойцов, то социалистическая реконструкция нашей страны, революция, проводимая в технике и производстве, создает предпосылки для столь массовой технической реконструкции армии, какой мир еще не видал». Вместе с тем, в противоположность Фуллеру и Лидделу Гарту, он считал, что в новых условиях многомиллионная армия вовсе не должна заменяться немногочисленной, хорошо обученной кадровой армией: «Десанты, глубокие прорывы, ведение глубоких сражений — не только не исключают необходимости многомиллионной пехотно-артиллерийской армии, но, наоборот, предлагает ее желательной. Эта армия будет все более и более моторизоваться и механизироваться и тем самым переходить во все более и более высокий класс боеспособности. Соотношение между старыми и новыми формами организации будет зависеть от того, через какое время возникнет война. Но этот процесс развития пойдет еще более быстрыми темпами во время самой войны». В этом процессе первостепенное значение Тухачевский придавал «качеству бойца», утверждая, что «современный боец должен быть высококультурен, должен обладать способностью к целесообразному и продуктивному использованию передовой техники». Михаил Николаевич словно абстрагировался от конкретных условий советской действительности 30-х годов, когда основная масса давно уже была приучена жить и работать по шаблону, сидела на карточках (вплоть до конца 1934 года) и боялась сказать лишнего слова, напуганная несколькими волнами террора (он еще не знал, что главная волна впереди и его не минует).
Тухачевский не учитывал, какого рода кадры получит армия в случае войны. Ведь те же крестьяне и недавние рабочие из крестьян, составляющие большинство в Вооруженных Силах, были основательно деморализованы быстрой и насильственной коллективизацией, запуганы террором. Ликвидация неграмотности в СССР дала подавляющему большинству лишь формальное образование, но отнюдь не умение полученными знаниями адекватно пользоваться. В этих условиях менее многочисленная, но хорошо обученная в течение ряда лет кадровая армия могла бы принести Советскому Союзу больше пользы, чем многомиллионная масса вооруженных вчерашних рабочих и крестьян. Но ни военные, ни политические руководители страны этого не осознавали.
В 1932 году Тухачевский провел опытное учение Балтийского флота, по итогам которого сделал весьма решительный вывод о том, что мощные линкоры, считавшиеся до этого основной ударной силой флота, отжили свой век. «Применение новых технических средств морского и воздушного морского боя, — писал Михаил Николаевич в докладе наркому, — совершенно по-новому ставит вопрос о борьбе с линейным флотом, особенно в условиях относительной близости берега. Быстроходность линкора и мощь его артиллерийского вооружения могут уменьшиться, и иногда почти сводятся на нет, применением высотного и низкого торпе-дометания, высотной постановкой мин заграждения, атаками радиоуправляемых ракет и торпедных катеров, задымлением артиллерийского наблюдения и управления на кораблях путем сбрасывания мелких дымовых авиабомб и мощного авиационного бомбометания с применением во всех случаях широкой постановки дымовых завес авиацией». Действительно, во Второй мировой войне роль линкоров очень быстро сошла на нет, поскольку они оказались очень уязвимы для авиации и подводных лодок. Так, во время разгрома в Пёрл-Харборе в декабре 41-го были уничтожены или выведены из строя все американские линкоры. Однако американцам удалось сохранить в целости свои авианосцы, и благодаря этому уже через полгода японский флот был разбит ими в бою у атолла Мидуэй.
К сожалению, в Советском Союзе в 30-е годы вновь начали увлекаться строительством линкоров и тяжелых крейсеров. Играло роль и то, что этим кораблям благоволил сам Сталин. В результате к началу Второй мировой войны Красный Флот оказался избыточен для борьбы с теми весьма ограниченными силами, которые мог выделить против него германский флот. Тем не менее и на Балтике, и на Черном море советские военно-морские силы понесли тяжелые потери от немецких самолетов и подводных лодок. И тогда же выяснилось, что советскому ВМФ остро не хватает катеров, самоходных барж, сторожевых и эскортных кораблей, десантных и артиллерийских судов прибрежного радиуса действия, необходимых для охраны конвоев и высадки десантов на занятое противником побережье. Немцы, которые такими судами на Черном море располагали, получили преимущество над гораздо более многочисленным, но громоздким советским флотом. После же окончания войны СССР развернул полномасштабную гонку морских вооружений, сначала — линкоров, потом — атомных подводных лодок, ракетных крейсеров и авианосцев, но так и не догнал флот главного потенциального противника, США. И сегодня в России флот слишком велик для возможных локальных конфликтов с соседями, но заведомо обречен при полномасштабном конфликте с тем же НАТО. Поэтому новые призывы к усилению российского флота — это не более чем, говоря словами Тухачевского, «морской патриотизм морских работников», несоизмеримый с реальными возможностями страны.
Тухачевский очень рано увидел перспективу развития ракетного оружия. Еще в ноябре 1932 года он добился начала работ по конструированию ракетных двигателей на жидком топливе, а в сентябре 1933 года добился создания Реактивного научно-исследовательского института, занимавшегося разработкой ракетного оружия в СССР. Тухачевский также оценил значение радаров. В начале 1933 года он поручил Управлению ПВО определить, какие институты и конструкторские бюро могут заняться использованием электромагнитных волн для обнаружения самолетов.
Внешне карьера Тухачевского развивалась вполне гладко. 21 февраля 1933 года его наградили орденом Ленина «за исключительные личные заслуги перед революцией в деле организации обороны Союза ССР на внешних и внутренних фронтах в период Гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи РККА». В том же году доверили принимать 7 ноября военный парад на Красной площади. В 1934 году на XVII съезде партии Михаила Николаевича избрали кандидатом в члены ЦК ВКП(б). 20 ноября 1935 года Тухачевский вместе с Ворошиловым, Буденным, Егоровым и Блюхером был удостоен высшего воинского звания Маршала Советского Союза, а менее чем через год, 9 апреля 36-го, стал первым заместителем наркома обороны и начальником Управления боевой подготовки РККА. Однако за стремительным восхождением самого молодого «красного маршала» к вершинам военной власти, вплоть до второго по значению поста в иерархии Наркомата обороны, скрывалась борьба группировок. Ворошилов и поддерживающие его командиры Первой Конной противостояли Тухачевскому, вокруг которого группировались коммунисты из числа бывших офицеров, а также некоторые военные руководители, офицерских званий в царской армии не имевших, но находившихся в напряженных отношениях с Ворошиловым и другими «конармейцами».
Сам Климент Ефремович к новациям своего молодого заместителя относился очень подозрительно. В частности, нарком на Пленуме Реввоенсовета критиковал отстаиваемую Тухачевским теорию глубокого боя. В связи с этим Михаил Николаевич 20 ноября 1933 года обратился к Ворошилову с письмом, где отмечал: «…После Вашего выступления на Пленуме РВС у многих создалось впечатление, что, несмотря на новое оружие в армии, тактика должна остаться старой… Я потому решил написать это письмо, что после Пленума началось брожение в умах командиров. Идут разговоры об отказе от новых форм тактики, от их развития, и, так как… это целиком расходится с тем, что Вы неоднократно высказывали, я решил Вас поставить в известность о происходящем разброде…» Разброд действительно был, но не только среди командиров среднего звена, но и среди высших военачальников. Рано или поздно открытое столкновение в руководстве Наркомата обороны становилось неизбежным.
За границей Тухачевского в ЗО-е годы считали самым выдающимся из всех руководителей Красной Армии. Бывший полковник царской службы А.А. Зайцев в 1934 году писал в парижском «Русском инвалиде»: «Будучи человеком культурным и вполне грамотным с военной точки зрения, Тухачевский бесспорно является самым крупным военным специалистом из числа лиц, занимающих высшие посты в Красной Армии». В СССР такие похвалы со стороны белой эмиграции Ворошиловым и его окружением воспринимались весьма настороженно. А ведь и на самом деле, не только при жизни Михаила Николаевича, но и после его безвременной кончины более крупного организатора и теоретика в Красной и наследовавшей ей Советской Армии так и не появилось.
Армию, о которой мечтал, маршал создать не успел. Ни одного сражения действительно мирового масштаба не выиграл, побеждая лишь сравнительно слабые войска Колчака и Деникина. Таким сражением могло бы стать наступление на Варшаву, но оно, как мы помним, для армий Западного фронта закончилось очень плачевно. Какого-то оригинального вклада в военную теорию Тухачевский не внес. Быстро откликался на новые веяния в этой сфере, но в общем шел По стопам британцев — Лиддела Гарта и Фуллера. В предисловии к книге последнего «Реформация войны», написанном в 1930 году, Тухачевский подчеркнул важность фулле-ровских требований повышенного внимания к военной технике и новейшим видам вооружений, но упрекнул британского генерала за недооценку массовых армий. И вместе с тем здесь же сумел похвально отозваться и о шитом белыми нитками процессе Промпартии, и о «ликвидации кулака как класса». Не было у него политических разногласий с коммунистами, со Сталиным… Если бы не казнили Тухачевского, и встретил бы он 41-й год во главе Красной Армии, результат был бы примерно тем же, что и в реальной действительности. Ведь поражения первых месяцев Великой Отечественной войны определялись общими пороками советской системы, которые Тухачевский при всем желании не имел возможности устранить. Другое дело, потом у него был бы шанс сыграть в войне ту роль, что на самом деле сыграл маршал Г.К. Жуков (если не сделали бы, конечно, «козлом отпущения», как командующего Западного фронта генерала Д.Г. Павлова).
С приходом к власти в Германии Гитлера связи между рейхсвером и Красной Армией оказались прерваны. Начавшаяся в 1935 году официальная ремилитаризация Третьего рейха еще больше ухудшила советско-германские отношения. Новосозданный вермахт стал рассматриваться в качестве главного потенциального противника. И Тухачевский с одобрения свыше написал статью «Военные планы Гитлера», где подчеркивал: «…Неистовая, исступленная политика германского национал-социализма толкает мир в новую войну. Но в этой своей неистовой милитаристской политике национал-социализм наталкивается на твердую политику мира Советского Союза. Эту политику мира поддерживают десятки миллионов пролетариев и трудящихся всех стран. Но если, несмотря на все, капиталисты и их слуги зажгут пламя войны и рискнут на антисоветскую интервенцию, то наша Красная Армия и вся наша социалистическая индустриальная страна железными ударами любую армию вторжения обратят в армию гибели, и горе тем, кто сам нарушил свои границы. Нет силы, способной победить нашу социалистическую колхозную страну, страну с ее гигантскими людскими и индустриальными ресурсами, с ее великой коммунистической партией и великим вождем товарищем Сталиным».
К концу жизни Тухачевский все больше сознавал, что реальный уровень подготовки советских войск не соответствует потребностям будущей войны. В заметках по поводу больших маневров Московского военного округа, проходивших в сентябре 1936 года, он с сожалением констатировал, что ни выучка бойцов и командиров, ни взаимодействие войск, ни работа штабов не находятся на должной высоте: «Мехкорпус прорывал с фронта оборонительные полосы противника без арт-поддержки. Потери должны были быть огромны… Действия мехкорпуса вялы, управление плохое… Действия мехкорпуса не поддерживались авиацией… Авиация использовалась… недостаточно целеустремленно… Плохо работала связь… Высадку авиадесантов следовало бы обеспечить истребителями… Парашютисты прыгают без оружия. Это надо изменить… Работа штабов, в частности разведка, очень слаба во всех частях…»
Тухачевский настаивал: надо «учить людей только тому, что требуется на войне» (эти слова Михаила Николаевича приводит в своих воспоминаниях генерал Н.И. Корицкий). Но, к сожалению, этот принцип не удалось полностью провести в жизнь даже в бытность Тухачевского первым заместителем наркома обороны, ответственным за боевую подготовку войск. После его смещения и казни о необходимости учить красноармейцев в условиях, приближенных к боевым, надолго забыли. Некоторое отрезвление наступило только после неудачи в финской войне. Новый нарком обороны С.К. Тимошенко выдвинул лозунг, почти дословно совпадающий с мыслью Тухачевского: «Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне». Тем не менее ничего кардинально изменить в деле боевой подготовки вплоть до начала Великой Отечественной войны не удалось. Хотя проведенная весной 41-го инспекция сделала вывод о значительном росте боевой выучки личного состава, он оказался верным только на бумаге. Однако Сталин, Тимошенко и тогдашний начальник Генштаба Г.К. Жуков накануне 22 июня были уверены, что Красная Армия вполне готова к крупномасштабному столкновению с вермахтом. Например, Жуков в мемуарах признавался: «Мы предвидели, что война с Германией может быть тяжелой и длительной, но вместе с тем считали, что страна наша уже имеет все необходимое для продолжительной войны и борьбы до полной победы. Тогда мы не думали, что нашим вооруженным силам придется так неудачно вступить в войну, в первых же сражениях потерпеть тяжелое поражение и вынужденно отходить в глубь страны». Вряд ли думал подобным образом и Тухачевский, который, как и Ворошилов, Тимошенко, Жуков и почти все остальные военачальники, твердо верил, что в будущей войне Красная Армия будет наступающей стороной, а обороняться ей, если и придется, то недолго и лишь на второстепенных направлениях. Хотя, безусловно, Михаил Николаевич куда более критически, чем Георгий Константинович, оценивал состояние советских вооруженных сил.
Сталину была необходима абсолютно послушная армия бездумных исполнителей, которую можно было в любой момент бросить как для подавления волнений внутри страны, так и для осуществления нового похода на Запад для обеспечения торжества «мировой революции». По мере приближения большой войны диктатор все больше опасался Тухачевского: под командованием бывшего гвардейского подпоручика окажутся огромные силы, и не захочет ли он, вместо Варшавы и Берлина, двинуть их на Москву?
Все идеи Тухачевского о повышении боеспособности Красной Армии в условиях тоталитарного коммунистического режима, которому самостоятельно мыслящие люди, в том числе и военные, были не нужны, не могли быть реализованы сколько-нибудь полно. Поэтому Красная Армия могла побеждать только очень большой кровью и по уровню боевой подготовки уступала главному потенциальному противнику — вермахту.
В апреле 1936 года, за год до гибели, Тухачевский разработал и провел большую оперативно-стратегическую штабную игру, где прорабатывался возможный сценарий войны между СССР и Германией. О ходе этой игры нам известно только из показаний на следствии по делу о «военно-фашистском заговоре», да из довольно скупых воспоминаний ее участников — полковника Г.С. Иссерсона, составлявшего задание на игру, и генерал-лейтенанта А.И. Тодорского, командовавшего во время игры одним из соединений на германской стороне, всеми войсками которой командовал Тухачевский. Войсками союзника Германии — Польши руководил тогдашний командующий Киевским военным округом И.Э. Якир, а советский Западный фронт возглавил командующий Белорусским военным округом И.П. Уборевич. Согласно воспоминаниям Иссерсона и Тодорского, Генеральный штаб РККА полагал, что Германия могла в тот момент отмобилизовать до 100 дивизий, из которых половина будет брошена на фронт к северу от Полесья для похода на Москву, где им помогут еще 30 польских дивизий. Игра вылилась во фронтальное столкновение, в котором Красная Армия, располагавшая примерно 100 дивизиями, в конце концов одержала победу.
В собственноручных показаниях на следствии от 1 июня 1937 года Тухачевский следующим образом изложил итоги игры: «Эта игра дала нам возможность продумать оперативные возможности и взвесить шансы на победу для обеих сторон, как в целом, так и на отдельных направлениях, для отдельных участников заговора (т. е. для И.П. Уборевича и И.Э. Якира, в то время командовавших, соответственно, Белорусским и Киевским военными округами, которые с началом войны должны были превратиться в Белорусский и Украинский фронты. — Б. С.). В результате этой игры подтвердились предварительные предположения о том, что силы (число дивизий), выставляемые РККА по мобилизации, недостаточны для выполнения поставленных ей на западных границах задач. Допустив предположение, что главные германские силы будут брошены на украинское направление, я пришел к выводу, что если в наш оперативный план не будут внесены поправки, то сначала Украинскому, а потом Белорусскому фронтам угрожает весьма возможное поражение… Я дал задание Якиру и Уборевичу на тщательную проработку оперативного плана на Украине и в Белоруссии…»
Бросается в глаза определенная искусственность военно-политических вводных для игры. В 1936 году о германо-польском союзе говорить никак не приходилось, поскольку именно к Польше Гитлер предъявлял серьезные территориальные претензии — на земли Германской империи, отошедшие к Варшаве по Версальскому мирному договору. К тому же фюрер ставил под сомнение само существование независимого Польского государства. Этого не могли не знать в Кремле, не мог не знать и Тухачевский. Думается, что достаточно нелепая конструкция совместных действий вермахта и польской армии понадобилась ему для того, чтобы замаскировать перед рядовыми участниками игры истинные агрессивные советские цели. Скорее всего Сталин предполагал сначала разгромить и оккупировать Польшу, в союзе с Германией или в одиночку, а потом уже, выбрав подходящий момент (лучше всего — когда Германия будет скована войной на Западе), обрушиться на вермахт всей мощью Красной Армии. А она в 1935 году насчитывала 940 тысяч человек, а к началу 1938 года — уже 1513 тысяч, значительно превосходя вермахт по численности и вооружению. В начале 1936 года советские вооруженные силы располагали уже 4 механизированными корпусами, 6 отдельными механизированными бригадами и 6 танковыми полками, тогда как в Германии, только что отказавшейся от военных ограничений Версальского договора, танковые и механизированные соединения лишь начинали формироваться. Вероятно, во время игры 1936 года мифические польские дивизии на германской стороне должны были только продемонстрировать агрессивность Германии, будто бы собиравшейся напасть на СССР вместе с Польшей. И заменить собой реальные германские дивизии, число-которых было сознательно занижено. Ведь Тухачевский совершенно справедливо полагал, что Германия в перспективе способна развернуть примерно 200 дивизий, так что на фронте к северу от Полесья, там, где в 41-м наступали группы армий «Север» и «Центр», вермахт сможет сосредоточить не менее 80 дивизий. По игре так и получалось, только 30 немецких дивизий заменили польскими. Отмечу, что прогноз Тухачевского оказался точен — накануне нападения на СССР Гитлер располагал чуть более чем 200 дивизиями. Интересно также, что, хотя по условиям игры Советский Союз подвергался нападению со стороны Германии и Польши, фактор внезапности никак не учитывался, и развертывание Красной Армии происходило беспрепятственно, без всякого противодействия со стороны поляков и немцев. Кроме того, вермахт использовал против СССР лишь половину своих сил, остальные сохраняя на Западе, словно там уже происходила война с Англией, Францией, а быть может, еще и с Чехословакией, с которой у Советского Союза существовал договор о взаимопомощи. Все это наводит на такую мысль: Тухачевский полагал, что Красная Армия сможет первой начать войну с Германией, и уже после того, как Гитлер ввяжется в войну с западными державами.
Падение Тухачевского началось во второй половине апреля 37-го. Михаил Николаевич с женой собирался в Лондон на коронацию короля Георга VI. И вдруг поездка отменяется. Нарком внутренних дел Н.И. Ежов 21 апреля 1937 года направил спецсообщение Сталину, Молотову и Ворошилову: «Нами сегодня получены данные от зарубежного источника, заслуживающего полного доверия, о том, что во время поездки тов. Тухачевского на коронационные торжества в Лондон над ним по заданию германских разведывательных органов предполагается совершить террористический акт. Для подготовки террористического акта создана группа из 4 человек (3 немцев и 1 поляк). Источник не исключает, что террористический акт готовится с намерением вызвать международное осложнение. Ввиду того, что мы лишены возможности обеспечить в пути следования и в Лондоне охрану тов. Тухачевского, гарантирующую полную его безопасность, считаю целесообразным поездку тов. Тухачевского в Лондон отменить. Прошу обсудить». На этой бумаге Сталин написал: «Членам Политбюро. Как это ни печально, приходится согласиться с предложением т. Ежова. Нужно предложить т. Ворошилову представить другую кандидатуру».
Политбюро безропотно согласилось с вождем и на следующий день постановило поездку Тухачевского отменить. Вместо него в Лондон отправился флагман флота 1-го ранга В.М. Орлов, начальник морских сил РККА и заместитель наркома обороны (его расстреляли годом позже, чем Тухачевского, 28 июля 1938 года). 23 апреля Михаила Николаевича ознакомили с текстом спецсообщения, резолюцией Сталина и решением Политбюро. Что он должен был подумать? Конечно, публикации Тухачевского с резкой критикой ремилитаризации Германии были широко известны и снискали к нему ненависть в Берлине. Так что в принципе немцы могли попытаться уничтожить Тухачевского. Однако оговорка в записке Ежова о том, что теракт, возможно, готовится, чтобы спровоцировать международные осложнения, меняла суть дела. В таком случае покушавшимся было бы практически все равно, кого из заместителей Ворошилова убивать — Тухачевского или Орлова. НКВД точно так же не могло гарантировать стопроцентную безопасность начальнику морских сил, но его почему-то рискнули отправить на туманный Альбион.
Первый прямой удар по Тухачевскому последовал 10 мая. Это был нокдаун. Маршал, если использовать боксерскую терминологию, «поплыл», впал в состояние «троги». Политбюро приняло предложение Ворошилова освободить Тухачевского от обязанностей первого заместителя наркома обороны и назначить командующим второстепенного, Приволжского, военного округа. Тем же постановлением Якира переводили с Киевского округа в Ленинградский, и тем самым он терял место в Политбюро Компартии Украины (это облегчило впоследствии процедуру его ареста). Начальником Генштаба стал командарм 1 ранга Шапошников, а первым заместителем наркома — маршал Егоров. 13 мая Тухачевский добился приема у Сталина. О чем они говорили, точно неизвестно. Но кое-какие сведения, как маршалу объяснили причины его опалы, имеются. Старый друг Кулябко, доживший до реабилитации, показал партийной комиссии, что, когда узнал о назначении Тухачевского в Приволжский округ, то бросился к нему на квартиру. Маршал объяснил, что «причиной его перевода в Куйбышев, как об этом сообщили в ЦК партии, является то обстоятельство, что его знакомая Кузьмина и бывший порученец оказались шпионами и арестованы».
Тухачевский пользовался большой популярностью у женщин и помимо трех жен имел в своей жизни немало любовниц. Первая жена, дочь пензенского машиниста Мария Владимировна Игнатьева. В 1920 году она покончила с собой, причем причины самоубийства не выяснены до сих пор. Второй раз Тухачевский женился через год или два, но прожил с женой недолго, всего год. Она не простила Михаилу Николаевичу супружескую неверность. В этом браке родилась дочка, позднее умершая от дифтерита. Известно, что вторая жена будущего маршала была из дворянского рода, но до сих пор ее имя покрыто мраком тайны. Третьей женой Тухачевского стала Нина Евгеньевна Гриневич, тоже дворянка. У них родилась дочь Светлана. Но сердце маршала принадлежало жене бывшего комиссара Балтийского флота Николая Николаевича Кузьмина, которого бойцы Тухачевского освободили из кронштадтской тюрьмы в марте 21-го. У Юлии Ивановны Кузьминой была дочь Светлана, родившаяся еще до расставания с Николаем Николаевичем. Но ходили упорные слухи, что настоящий отец девочки — Тухачевский.
В последние месяцы жизни Тухачевского с его третьей женой познакомилась Лидия Шатуновская, приемная дочь старого большевика, обитавшая в одном с Тухачевскими правительственном доме, после выхода повести Юрия Трифонова известном в народе как «дом на набережной». Оказавшись в конце концов на Западе, она в своих мемуарах «Жизнь в Кремле» дала очень сочувственный портрет той, кому предстояло вскоре стать вдовой Тухачевского и лишь ненадолго пережить казненного маршала: «Нина несколько раз приходила ко мне, мы занимались вместе английским языком и хорошо познакомились. Была она очень хорошенькой, изящной, мягкой женщиной. Она была интеллигентна, очень хорошо воспитана, происходила из хорошей, отнюдь не пролетарской семьи. В личной жизни она была глубоко несчастна. Все знали, что, кроме официальной семьи, у Тухачевского есть другая, тайная семья, что от его второй, неофициальной, жены у него есть дочь того же возраста, что и дочь Нины (не очень-то тайная была, выходит, связь Тухачевского с Юлией Кузьминой, если «все знали»; главное же, об «официальной любовнице», или «неофициальной жене», Тухачевского было очень хорошо осведомлено НКВД и держало ее «под колпаком». — Б.С.). Обеих этих девочек звали одинаково. Обе были Светланами». Видно, неравнодушен был Михаил Николаевич к этому имени, хотел, чтобы у дочек судьба была светлая, а у обеих впереди были лагеря… В 37-м Светлане Тухачевской было тринадцать, а Светлане Кузьминой — одиннадцать лет…
Сам Николай Николаевич Кузьмин, арестованный 15 мая 1937 года и обвиненный в заговорщических связях с Тухачевским, на допросе, продолжавшемся с 11 по 14 июня, не зная, что друга уже нет в живых, показал: «1 ноября 1930 года я был в Ленинграде на квартире Тухачевского и обедал у него. Эту дату я помню хорошо, потому что это день рождения моей дочери, жившей с моей прежней женой у Тухачевского. Тухачевский женат на моей бывшей жене и очень внимательно относится к моей дочери. Поэтому товарищеские отношения с ним и после ухода моей жены не испортились. Беседуя с ним, я информировал его о встречах с Сува-риным (близким к Троцкому деятелем французской компартии. — Б.С.) в Париже. Я прямо сказал ему, что Суварин в беседах со мной просил передать ему привет от Троцкого и его личный, что он проинформировал о том, что группа наиболее талантливых военных во главе с ним находится в опале, что пора перейти к активной борьбе, что провал сталинской политики ведет страну к гибели, что кризис переживает не только партия в СССР, но и компартии за границей. Тухачевский на это мне ответил, что те методы и формы борьбы, которые применяли троцкисты, ничего реального, кроме разгона по тюрьмам, дать не могут».
Николая Николаевича следователи сломали еще 3 июня, когда он, не выдержав непрерывных допросов, согласился давать нужные показания. Нам остается только гадать, действительно ли Кузьмин, будучи советским генеральным консулом в Париже, встречался с Сувариным и передал от него и Троцкого привет Тухачевскому, да еще таким образом, что становилось ясно: Михаил Николаевич и его соратники прежде уже информировали бывшего председателя Реввоенсовета о своей оппозиции к Сталину. Или все это придумали следователи, чтобы обвинить Кузьмина в скрытом троцкизме?
А вот другое признание Николая Николаевича почти не вызывает сомнений. Бывший комиссар Балтфлота процитировал слова Тухачевского о том, что Ворошилов и принадлежавшие к его группе Буденный, И.П. Белов, Шапошников и Егоров — «рутинеры, недостаточно понимающие современное военное дело». Кузьмин утверждал: «Тухачевский, как он мне тогда говорил, своей основной задачей ставил добиться назначения нескольких ориентирующихся на него командующих войсками членами Реввоенсовета в целях усиления влияния чисто военных на деятельность Реввоенсовета». Нет, конечно же, не из-за женщин погорел Михаил Николаевич! Юлию Ивановну арестовали и объявили шпионкой только потому, что была близка с Тухачевским. И отделалась она сравнительно легко — всего 8 годами лагерей, выйдя из заключения 8 мая 1945 года, в первый день мира.
В 20-х числах апреля были получены показания от арестованных бывшего начальника Особого отдела НКВД Гая и бывшего заместителя наркома внутренних дел Прокофьева о сговоре Тухачевского, Уборевича, Корка, Шапошникова и других военачальников с Ягодой. Однако сам Генрих Григорьевич этого пока не подтверждал. На допросе 26 апреля 1937 гбда он настаивал: «Личных связей в буквальном смысле слова среди военных у меня не было. Были официальные знакомства. Никого из них я вербовать не пытался». Сговорчивее оказался один из подчиненных Ягоды, бывший заместитель начальника одного из отделов НКВД Волович. На следующий день он показал, что Тухачевский был участником заговора правых и должен был обеспечить поддержку заговорщиков армией.
Приволжским военным округом Михаилу Николаевичу довелось командовать очень недолго. 14 мая он прибыл в Куйбышев, а 22 мая был арестован. 25-го маршала под конвоем привезли в Москву. 15 мая последовал арест бывшего начальника управления начальствующего состава в Наркомате обороны, одного из ближайших друзей Тухачевского. Узнав об этом, Михаил Николаевич по-настоящему встревожился, опасаясь, что вскоре последует за Борисом Мироновичем. Но ничего предпринять не успел, да и не знал, что предпринять.
20 мая Ежов направил Сталину, Молотову, Ворошилову и Кагановичу протокол допроса Фелвдмана, произведенного накануне. В сопроводительной записке нарком подчеркивал: «Фельдман показал, что он является участником военно-троцкистского заговора и был завербован Тухачевским М.Н. в начале 1932 года. Названные Фельдманом участники заговора — начальник штаба Закавказского военного округа Савицкий, заместитель командующего Приволжского ВО Кутяков, бывший начальник школы ВЦИК Егоров, начальник инженерной академии Смолин, бывший помощник начальника инженерного управления Максимов и бывший заместитель начальника автобронетанкового управления Ольшанский — арестованы. Прошу обсудить вопрос об аресте остальных участников заговора, названных Фельдманом». Именно эти показания послужили формальным основанием для решения об аресте Тухачевского.
На самых первых допросах, протоколы которых или не составлялись вовсе, или не сохранились, Тухачевский отказывался признать свою вину. Это явствует из его собственноручных показаний, датированных 1 июня 1937 года: «Настойчиво и неоднократно пытался я отрицать как свое участие в заговоре, так и отдельные факты моей антисоветской деятельности».
26 мая Тухачевский заявил: «Мне были даны очные ставки с Примаковым, Путной и Фельдманом, которые обвиняют меня как руководителя антисоветского военно-троцкистского заговора. Прошу представить мне еще пару показаний других участников этого заговора, которые также обвиняют меня. Обязуюсь дать чистосердечные показания». И в тот же день написал: «…Признаю наличие антисоветского военно-троцкистского заговора и то, что я был во главе его… Основание заговора относится к 1932 году».
До сих пор не решен вопрос, применяли ли к Тухачевскому во время следствия меры физического воздействия, т. е., говоря проще, пытали ли и избивали его. Хотя относительно других подсудимых на этот счет имеются вполне определенные данные. Так, бывший сотрудник НКВД, а впоследствии заместитель министра госбезопасности Селивановский 10 декабря 1962 года сообщил в ЦК: «В апреле 1937 года дела Путин и Примакова были переданы Авсеевичу. Зверскими, жестокими методами допроса Авсеевич принудил Примакова и Пугну дать показания на Тухачевского, Якира и Фельдмана… Работа Авсеевича руководством Особого отдела ставилась в пример другим следователям. Авсеевич после этого стал эталоном в работе с арестованными». По свидетельству бывшего сотрудника Особого отдела Бударева, Авсеевич, возглавлявший одно из отделений этого отдела, заставлял своих сотрудников постоянно находиться рядом с Примаковым, не давать ему спать и вынудить дать признательные показания. На сон подследственному отводилось лишь 2–3 часа в сутки, да и то в кабинете, где проходил допрос и куда даже доставляли пищу. Подобное непрерывное давление в конце концов сломило волю арестованного. Кроме того, по утверждению Бударева, «в период расследования дел Примакова и Путин было известно, что оба эти лица дали показания об участии в заговоре после избиения их в Лефортовской тюрьме».
Можно предположить, что разгадка поведения Тухачевского и его товарищей лежит не в гипнозе. И даже не в особом мастерстве следователей-инквизиторов. Один из них, Ушаков, после своего ареста вообще потерял представление о реалиях окружающего мира, хвастался на допросах своими заслугами, рассчитывая на снисхождение. Зиновий Маркович утверждал: «Я переехал с Леплевским в Москву в декабре 1936 года… Я буквально с первых дней поставил диагноз о существовании в РККА и Флоте военно-троцкистской организации, разработал четкий план ее вскрытия и первый же получил такое показание от бывшего командующего Каспийской флотилии Закупнева… Шел уверенно к раскрытию военного заговора. В то же время я также шел по другому отделению на Эйдемана и тут также не ошибся. Ну, о том, что Фельдман Б.М. у меня сознался в участии в антисоветском военном заговоре… на основании чего 22 числа того же месяца начались аресты… говорить не приходится. 25 мая мне дали допрашивать Тухачевского, который сознался 26-го, а 30-го я получил Якира. Ведя один, без помощников (или «напарников»), эту тройку и имея указание, что через несколько дней дело должно быть закончено для слушания, я, почти не ложась спать, вытаскивал от них побольше фактов, побольше заговорщиков. Даже в день процесса, рано утром, я получил у Тухачевского дополнительные показания об Апанасенко и некоторых других». Среди этих «других» был и будущий нарком С. К. Тимошенко.
Успех Ушакова, Авсеевича и других следователей, костоломов и психологов, работавших поодиночке или в паре, где «злой» следователь составлял нужный контраст «доброму», сильно зависел от того человеческого материала, с которым им приходилось иметь дело. И «материал» в целом оказался подходящим. Ни Тухачевский, ни другие подсудимые не были фанатиками какой-либо идеи, сколько бы не пыталась советская пропаганда доказать обратное, представив их убежденными коммунистами, готовыми отдать за партию жизнь. По большому счету, опальных военачальников заботила собственная карьера. Еще в Гражданскую войну Тухачевский, Якир, Уборевич и др. приняли и красный террор, и массовую гибель соотечественников в братоубийственной бойне. Идея же, с которой они так или иначе связали судьбу, олицетворяли тот же Сталин и тот же Ежов и даже те же следователи и судьи, одетые в одинаковую с подсудимыми форму с одними и теми же красными звездами. Арест породил у Тухачевского и его товарищей чувство душевной пустоты и потери жизненных ориентиров. Они не готовы были жертвовать жизнью за идеалы, ибо идеалов-то, похоже, не имели. Девятимесячное упорство Примакова тоже можно объяснить прежде всего страхом смерти. Понимал, что обвинения расстрельные, и отрицал, правда, только до тех пор, пока в мае 37-го из-за спешности дела не перешли к более серьезному разговору и не начали лишать сна и бить. Пытки и избиения не только причиняли физическую боль. Когда они начались, арестованным стало ясно, что признаний от них будут добиваться любой ценой, что это не какая-то чудовищная ошибка или провокация, а политика, и надежд на спасение почти нет. И тут же появились следователи-искусители: ты только признайся сам, выведи других заговорщиков на чистую воду, покайся, и тебе скидка выйдет, а уж вышки точно не будет. И вообще: больше, как можно больше заговорщиков, хороших и разных, в больших чинах и не очень больших… На первых порах любой комбриг и даже майор сгодится. Как на февральско-мартовском Пленуме 1937 года Ворошилов одним из организаторов и исполнителей покушения на себя представил скромного майора авиации Б.И. Кузьмичева. И подследственные охотно называли фамилии или подтверждали участие в заговоре тех, на кого им указывали люди Ежова. Возможно, Тухачевский, называя в числе участников «военно-троцкистской организации» близких к Ворошилову бывших конармейцев И.Р. Апанасенко и С.К. Тимошенко, хотел таким своеобразным образом отомстить ворошиловской группировке, действуя по принципу: врага в могилу взять с собой… В самый канун суда, 10 июня, Примаков дал показания, компрометирующие трех из восьми членов Специального Судебного Присутствия, которым на следующий день предстояло судить «заговорщиков». На этот раз объектами оговора стали командармы НД. Каширин, П.Е. Дыбенко и Б.М. Шапошников. Правда, как рассказывал следователь Авсеевич, эти показания явились плодом совместного творчества бывшего предводителя червонного казачества и действующего «железного наркома»: «На последнем этапе следствия Леплевский, вызвав к себе Примакова, дал ему целый список крупных командиров Красной Армии, которые ранее не фигурировали в показаниях Примакова, и от имени Ежова предложил по каждому из них написать… Так возникли показания Примакова на Каширина, Дыбенко, Гамарника (очевидно, Виталий Маркович не знал, что того уже нет в живых. — Б. С.), Куйбышева, Грязнова, Урицкого, Ковалева, Васильева и других…»
Так или иначе, но в 1937–1938 годах показания были получены практически на всех советских военачальников, исключая, разве что, Ворошилова (на члена Политбюро без специальной санкции Сталина наговаривать не решались). Зато кого казнить, а кого миловать, решал сам Иосиф Виссарионович, не без учета, конечно, мнения Ворошилова. Если бы дали ход всем доносам и поверили всем сфальсифицированным показаниям, на воле ни то что ни одного маршала и командарма, комкора и комдива, а и командира роты бы не осталось. Поэтому определенную выборку проводили всегда. Не тронули названных Тухачевским Апанасенко и Тимошенко, не тронули Буденного и Шапошникова, не тронули некоторых других… А польза от того, что на каждого командира имелся компромат, была немалая.
С 1 по 4 июня происходило заседание Военного Совета, посвященное «военно-фашистскому заговору». Там и был определен состав Специального Судебного Присутствия из высших военачальников, которому предстояло судить Тухачевского и его товарищей. Члены Совета, заслушивая вполне нелепые показания обвиняемых насчет грандиозных планов измены и шпионажа, хорошо понимали, что такие же показания или уже существуют и на них самих, или могут быть получены в любой подходящий момент. И если кто-то рискнет публично усомниться в виновности Тухачевского, Якира и остальных, то запросто станет главой или участником следующего заговора, разоблаченного доблестными соратниками Ежова…
2 июня на заседании с большой речью выступил Сталин. Он утверждал: «Уборевич, особенно Якир, Тухачевский, занимались систематической информацией немецкого генерального штаба. Тухачевский — вы читали его показания (Голоса: Да, читали), — он оперативный план наш, оперативный план — наше святое-святых — передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион.
Могут спросить, естественно, такой вопрос — как это так, эти люди, вчера еще коммунисты, вдруг стали сами оголтелым орудием в руках германского шпионажа? А так, что они завербованы. Сегодня от них требуют — дай информацию. Не дашь, у нас есть твоя расписка, что ты завербован, опубликуем. Под страхом разоблачения они дают информацию. Завтра требуют: нет, этого мало, давай больше и получи деньги, дай расписку. После этого требуют — начинайте заговор, вредительство. Сначала вредительство, диверсии — покажите, что вы действуете на нашу сторону. Не покажете — разоблачим, завтра же передаем агентам Советской власти, и у вас головы летят. Начинают они диверсии. После этого говорят — нет, вы как-нибудь в Кремле попытайтесь что-нибудь устроить или в Московском гарнизоне и вообще займите командные посты. И они начинают стараться, как только могут. Дальше и этого мало. Дайте реальные факты, чего-нибудь стоящие. И они убивают Кирова. Вот получайте, говорят. А им говорят — идите дальше, нельзя ли все правительство снять. И они организуют. Им говорят — организуйте группу, которая должна арестовать правительство. Летят донесения, что есть группа, все сделаем, арестуем и прочее. Но этого мало — арестовать, перебить несколько человек, а народ, а армия? Ну, значит, они сообщают, что у нас такие-то командные посты заняты, мы сами занимаем большие командные посты».
Эту сказку, созданную по законам мифа, с нарастающим коварством злодеев и безропотными жертвами, все более запутывающимися в расставленных сетях, слушали более 100 умудренных жизнью людей в генеральских чинах. Слушали и верили, или делали вид, что верили. Между тем никаких расписок Тухачевского и других подсудимых в получении денег от германского Генштаба членам Военного Совета так и не было предъявлено. Не фигурируют они и в материалах следствия и суда. Не удалось обнаружить пресловутые расписки и в немецких архивах. После войны бывший шеф разведки СД Вальтер Шелленберг пустил в оборот легенду, будто документы о шпионаже Тухачевского, Уборевича и прочих были сфабрикованы гестапо и подброшены Сталину, чтобы заставить мнительного диктатора уничтожить цвет своего генералитета. При ближайшем рассмотрении и эта легенда не выдерживает критики. Я подробно разобрал ее в книге «Михаил Тухачевский: жизнь и смерть красного маршала». Сейчас же только подчеркну, что у Гитлера, руководителей германских спецслужб и генералов вермахта не имелось оснований желать устранения группы Тухачевского и возвышения группы Ворошилова, Буденного и близких к ним Шапошникова и Егорова. Ведь тогда наряду с «антантофилом» Тухачевским обрекался на уничтожение и считавшийся «германофилом» Уборевич. Кроме того, немецкие спецслужбы не обладали столь подробной информацией о высшем комсоставе Красной Армии, чтобы более или менее точно определить состав противоборствующих группировок. И уж подавно немцы не могли предположить, что арест Тухачевского и его товарищей приведет к арестам и репрессиям против десятков тысяч командиров РККА.
Каковы же подлинные причины падения Тухачевского? Думаю, они лежат исключительно в плане конфликта между группой Тухачевского и особенно близкой к Сталину группой Ворошилова. Сам Иосиф Виссарионович на Генштаб смотрел совсем иначе, чем Тухачевский, — только как на надзирающий орган. Выступая на Военном Совете 2 июня 37-го года, Сталин утверждал: «Мы для чего организовали Генеральный штаб? Для того, чтобы он проверял командующих округами». Он понимал, что недалекий Ворошилов будет надежной опорой в Наркомате обороны и гарантией, что армия будет на стороне генсека. Выступая 1 июня 1937 года на Военном Совете, Климент Ефремович рассказал: «О том, что эти — Тухачевский, Якир, Уборевич и ряд других людей — были между собой близки, это мы знали, это не было секретом. В прошлом году, в мае месяце, у меня на квартире Тухачевский бросил обвинение мне и Буденному, в присутствии т.т. Сталина, Молотова и многих других, в том, что я якобы группирую вокруг себя небольшую кучку людей, с ними веду, направляю всю политику и т. п. Потом на второй день Тухачевский отказался от всего сказанного. Тов. Сталин тогда же сказал, что надо перестать препираться частным образом, нужно устроить заседание Политбюро и на этом заседании подробно разобрать, в чем дело. И вот на этом заседании мы разбирали все эти вопросы и опять-таки пришли к прежнему результату».
«Он отказался от своих обвинений», — подтвердил Сталин.
«Да, отказался, — продолжал Климент Ефремович, — хотя группа Якира и Уборевича на заседании вела себя в отношении меня довольно агрессивно. Уборевич еще молчал, а Гамарник и Якир агрессивно вели себя в отношении меня».
На суде Уборевич признал: «Мы шли в правительство ставить вопрос о Ворошилове, нападать на Ворошилова, по существу, уговорились с Гамарником, который сказал, что он крепко выступит против Ворошилова».
После того первомайского банкета 36-го года судьба Тухачевского, которого прочили в преемники Ворошилова, была решена. Но Сталин еще год поиграл с ничего не подозревавшей жертвой в кошки-мышки. В цивилизованной демократической стране неудачная попытка генералов добиться смещения министра обороны стоила бы им карьеры, но никак не жизни. В Советском же Союзе расплата была одна — пуля в затылок.
11 июня 1937 года Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Фельдмана, Эйдемана, Примакова и Путну судило Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР на закрытом заседании, без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей. Обвинительное заключение вечером 9 июня после встречи со Сталиным, Молотовым и Ежовым утвердил Генеральный прокурор СССР А.Я. Вышинский. В состав Присутствия вошли маршалы С.М. Буденный и В. К. Блюхер, командармы Я.И. Алкснис, И.П. Белов, П.Е. Дыбенко, Н.Д. Каширин, комкор Е.И. Горячев, а также печально знаменитый председатель Военной коллегии Верховного Суда армвоенюрист 2-го ранга В. В. Ульрих, который и председательствовал на процессе, но фактически выполнял роль не судьи, а прокурора. Почти все судьи, кроме Буденного, Шапошникова и Ульриха, были впоследствии расстреляны (правда, Горячеву, как и Гамарнику, повезло: он успел застрелиться).
Тухачевский и Уборевич от развернутого выступления отказались, и их допрос велся только в форме вопросов и ответов. Буденный в докладной записке Сталину так изложил показания Тухачевского: «Тухачевский в своем выступлении вначале пытался опровергнуть свои показания, которые он давал на предварительном следствии. Тухачевский начал с того, что Красная Армия до фашистского переворота Гитлера в Германии готовилась против поляков и была способна разгромить Польское государство. Однако при приходе Гитлера к власти в Германии, который сблокировался с поляками и развернул из 32 германских дивизий 108 дивизий, Красная Армия, по сравнению с германской и польской армиями, по своей численности была на 60–62 дивизии меньше…» С числом дивизий тут явно какая-то путаница. Вероятно, Семен Михайлович ослышался. Ведь еще в 1935 году Тухачевский в статье «Военные планы нынешней Германии» указывал, что рейхсвер располагал к 1933 году только 8 дивизиями, из которых Гитлер в 1934 году создал 21 соединение и собирался довести их число до 36. 108 же дивизий, по мнению Михаила Николаевича, Германия могла бы выставить только в военное время, после мобилизации. Красная же Армия уже в 35-м году располагала более чем 100 дивизиями общей численностью в 930 тысяч человек. А к концу 1937 года численность советских вооруженных сил уже превысила полтора миллиона.
Буденный продолжал: «Тухачевский пытался популяризировать перед присутствующей аудиторией на суде как бы свои деловые соображения в том отношении, что он все предвидел, пытался доказывать правительству, что создавшееся положение влечет страну к поражению и что его якобы никто не слушал. Но тов. Ульрих, по совету некоторых членов Специального Присутствия, оборвал Тухачевского и задал вопрос: как же Тухачевский увязывает эту мотивировку с тем, что он показал на предварительном следствии, а именно, что он был связан с германским Генеральным штабом и работал в качестве агента германской разведки еще с 1925 года? Тогда Тухачевский заявил, что его, конечно, могут считать и шпионом, но что он фактически никаких сведений германской разведке не давал…»
Создается впечатление, что в последний день своей жизни поверженный маршал думал о своем месте в истории, хотел, чтобы в стенограмме процесса отразилась его деятельность по развитию и реформированию Красной Армии. Надеялся, что когда-нибудь стенограмму суда прочтут историки (ее текст в несколько сот страниц не опубликован до сих пор).
В 23 часа 35 минут 11 июня Ульрих огласил суровый и несправедливый приговор. Всех восьмерых присудили к расстрелу, лишению всех воинских званий и наград и конфискации всего лично им принадлежащего имущества. Расстреляли тут же, в ночь на 12-е.
Люди в СССР и за его пределами несколько десятилетий гадали, что же происходило за закрытыми дверями зала судебных заседаний. Суд и расправа над Тухачевским вызвали также оживленные комментарии в зарубежной прессе, особенно в Германии, где возмущались, что подсудимых обвинили в преступных связях с германской разведкой и руководством рейхсвера. Немцы прекрасно поняли, что участников «военнофашистского заговора» сделали немецкими и японскими шпионами только потому, что в тот момент у Советского Союза были напряженные отношения с этими странами. Можно не сомневаться: проходи следствие и суд после Советско-Германского пакта о ненападении от 23 августа 1939 года, Тухачевского объявили бы агентом не Германии и Японии, а Англии и Франции. Благо, в обеих странах Михаил Николаевич бывал и с тамошними военными и политиками встречался.
Немецкий военный журнал «Дейче вер» в связи с казнью Тухачевского 24 июня 1937 года писал: «В первых числах мая были собраны «доказательства» о мнимой подготовке переворота силами Красной Армии. Обвинения против Тухачевского были собраны полностью и объявлены в присутствии всех народным комиссаром обороны: Тухачевский готовил переворот для того, чтобы объявить национальную военную диктатуру во главе с самим собой». Вермахт, несомненно, получил в целом достоверную информацию о заседании Военного Совета, где Ворошилов и Сталин шельмовали «заговорщиков». Автор появившейся статьи «Счастье и гибель Тухачевского» высоко оценил талант маршала: «Тухачевский, бесспорно, был самым выдающимся из всех красных командиров, и его нельзя заменить. История когда-нибудь скажет нам, какую роль он играл в действительности в деле строительства этой армии… Ни один человек никогда не узнает, что происходило на процессе… Наводит на размышления тот факт, что к Тухачевскому присоединились три таких известных представителя младшего поколения, как Уборевич, Якир и Эйдеман… Если при этом учесть самоубийство Гамарника… то дело становится еще более серьезным. Тухачевский хотел быть «русским Наполеоном», который, однако, слишком рано раскрыл карты, либо же, как всегда, его предали в последний момент. Каганович — Сталин являются снова господами в стране, и Интернационал торжествует. Надолго ли?» В другом же немецком военном издании, «Верфронт», констатировалось: «В противовес краткой эре Тухачевского снова выступили на первый план парадные генералы и герои Гражданской войны. Вместе с этим путем восстановления военных советов и значительного усиления политического аппарата восстановлен дуализм, устраненный в интересах боеспособности армии расстрелянным маршалом Тухачевским».
Самый молодой советский маршал мечтал создать величайшую в мире армию, встать во главе нее и когда-нибудь испытать ее в деле. Для такого дела лозунг мировой пролетарской революции очень хорошо годился, и большевики представлялись Михаилу Николаевичу вполне приемлемыми союзниками. Ради достижения своей цели он готов был пойти на многое: травить газом тамбовских крестьян, расстреливать взбунтовавшихся кронштадтских матросов, заставить весь народ потуже затянуть пояса и делать пушки вместо масла… И не думал о том, что с его умом, талантом, независимостью характера при тоталитарной диктатуре выжить никак нельзя. И не выжил.
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ МАРШАЛ-ВРАЛЬ
Из истребленных маршалов Александр Ильич Егоров, наряду с Худяковым-Ханферянцом, наименее известен. Если Тухачевский, Блюхер, Берия, даже Кулик были фигурами символическими, то Егоров всегда оставался как-то в тени. Он и маршальское звание в 35-м получил по должности, просто потому, что являлся начальником Генерального штаба Красной Армии. Пропаганда называла Александра Ильича одним из авторов плана разгрома Деникина, но не слишком выпячивала его роль. Ведь главным архитектором победы на Юге полагалось считать Сталина. Александр Ильич, наряду с Ворошиловым и Буденным, числился среди самых послушных сталинских маршалов. Почему он попал в мясорубку репрессий, до сих пор остается до конца не ясным. Так же как до последнего времени оставались в тумане многие обстоятельства егоровской биографии.
Александр Ильич Егоров родился 13/25 1883 года в городе Бузулуке в мещанской семье. Однако даже этот факт большую часть жизни ему пришлось скрывать. Вот что говорилось, например, в автобиографии, написанной будущим маршалом в августе 1926 года: «Я родился в 1885 году в Бузулукском уезде бывшей Самарской губернии (ныне Средне-Волжский край). Отец мой, происходя из крестьян, в первую половину моей жизни был рабочим, грузчиком на станции железной дороги и речной пристани, и впоследствии, уже в старости, потеряв силу, был принят на службу в качестве приказчика. Чрезвычайно тяжелые материальные условия жизни усиливались многочисленной семьей, в которой только отец был, в сущности, работоспособным, при этом заработок отца не был постоянным, а от случая к случаю, что даст текущий день, и колебался, насколько я помню, от 50 коп. до 75 коп. И редко до 1 рубля в день. Кроме того, отец страдал алкоголизмом, что приносило огромнейшие страдания семье. Я не могу забыть тех дней, а их было очень много, когда мать целыми часами простаивала у замерзших окон трактира, высматривая там отца и стараясь его вытащить и забрать домой. Почему-то мать всегда брала меня в этих случаях с собой, говоря, что отец больше слушает меня и при мне не бьет ее. Эти тяжелые, безотрадные минуты на всю жизнь останутся в моей памяти.
В таких условиях крайней нищеты проходили мои детские годы. Я не помню ни одного года, чтобы мы прожили его на одной квартире. Нас за невозможностью платить выгоняли, хотя плата и выражалась в нескольких рублях, и сама квартира была лачугой.
Мальчиком 11 лет я вынужден был пойти на работу и поступить в кузнечную мастерскую, где сначала раздувал мехами горн, убирал кузницу и т. п., а затем постепенно был переведен на молотобойца и подмастерье. В период, когда отец запивал, я и старший брат заменяли его на работе в артели грузчиков. В общей сложности этой работой я занимался 6 лет и за этот период окончил церковно-приходскую школу.
Не знаю, в силу каких условий, но я с раннего детства начал читать, и это дало мне возможность легко пройти начальную грамоту церковно-приходской школы, а затем и сдать экстерном экзамен за курс средней школы.
Отбывая воинскую повинность на правах вольноопределяющегося, я был откомандирован в Казанскую военную школу, которую и окончил в апреле 1905 года. Во время пребывания в училище я в 1904 году вступил в тайный социалистический кружок и примкнул к про-грамме социал-революционеров. Работая в кружке в период 1904–1905 годов, я принял участие в революционной подготовке школы, которая осенью 1905 года, руководимая этим кружком, примкнула к революционной волне. По окончании школы я офицером служил в армии. Офицерская служба сама по себе была мне не по духу, а кроме того, определенное отношение ко мне как к политически неблагонадежному лицу, что, видимо, было сообщено еще из военной школы, заставило меня уйти из армии. В поисках работы и занятия я пошел на сцену (у Егорова был неплохой баритон. — Б.С.). Данные для этой работы у меня оказались в достаточной степени удовлетворительные. Под предлогом совершенствования театрального искусства в 1910 году я был в Италии. Этот период до 1914 года я провел на сцене, а в 1914 году был мобилизован и отправлен на фронт империалистической войны».
В своей последней автобиографии, написанной 26 февраля 1933 года, Александр Ильич сходным образом рассказал о начале своего жизненного пути, опустив только экзотические подробности об оперной карьере и поездке в Италию (вдруг подумают, что был знаком с Бенито Муссолини?). Егоров по-прежнему утверждал, что родился в 1885 году, что отец большую часть жизни трудился «рабочим-грузчиком на станции железной дороги и речной пристани, и впоследствии, уже под старость, служил в качестве приказчика». Повторил почти дословно фразу о тяжелых материальных условиях жизни многодетной семьи, но об алкоголизме отца на этот раз не упомянул ни словом. Александр Ильич настаивал и на том, что был самоучкой, только экстерном сумевшим сдать экзамены за гимназический курс: «Систематическим самообразованием мне заниматься не пришлось. В период работы, в силу хорошего ко мне отношения, мне удалось находить время для учения. Приходилось заниматься очень напряженно и главным образом по ночам. Однако я могу сказать, что, несмотря на все трудности и бытовые и во времени, я все же учился хорошо, и поэтому мне удалось сдать за курс городского училища и затем в течение 2—3-х лет пройти программу и держать экстерном экзамен за курс средней школы». Отметил, что примкнул к «программе социалистов-революционеров» еще в 1904 году в «Казанской военной школе» (т. е. юнкерском училище, но само слово «юнкер» при Советской власти было ругательным, и Александр Ильич предпочитал его не употреблять).
Свое участие в Первой мировой войне Егоров в 1933 году охарактеризовал довольно скупо, больше напирая на революционную деятельность: «В мировую войну я был призван в армию. Февральская революция застала меня на фронте. Революционная работа развернулась, и нелегальные партийные кружки, которые были заложены еще до Февральской революции, были объединены в полковой партийный комитет. В дальнейшем мне пришлось взять на себя организацию дивизионного, корпусного и армейского исполнительного комитетов и партийных фракций в них. На Первомайском митинге в 33-й дивизии в 1917 году за выступление и агитацию среди частей против наступления я подвергся военному суду, где приговорен к отстранению от должности с возбуждением дела о заключении в крепость. Выступление солдат полка и развитие революционного движения в войсковых частях освободили меня от этого заключения. За этот период мною организован из частей 33-й дивизии отряд Красной Гвардии, на который опирался партийный комитет большевиков и левых эсеров в Октябрьские дни.
От армейского комитета Солдатских Депутатов 1-й армии я был избран на 2-й Всероссийский съезд Советов и членом ВЦИКа этого созыва. На меня, как одного из членов организационного бюро, в декабре 1917 года была возложена задача проведения Всероссийского съезда по демобилизации старой армии. В качестве зам. председателя этого съезда я принял участие в его проведении. Съезд закончил свою работу и был образован Комиссариат по демобилизации старой армии, членом которого я и был назначен.
Одной из задач Комиссариата являлась организация отрядов Красной Гвардии как для осуществления мероприятий по охране и эвакуации имущества старой армии, так и для активных действий против наступавших немцев. Лично я в тот период состоял в качестве командира в отряде Красной Гвардии Комиссариата, начальником которого являлся т. Подвойский Н.И. и заместителем — тов. Кедров М.С.
После эвакуации правительственных учреждений из Петрограда в Москву я работал в Нарком воен море, исполняя обязанности председателя Центропленбежа (эта жуткая аббревиатура расшифровывается как Центральная коллегия по делам пленных и беженцев. — Б.С.), комиссара Всероссийского Главного штаба и председателя Высшей аттестационной комиссии по отбору офицеров для Красной Армии».
В автобиографии 1926 года о деятельности будущего маршала в 1914–1917 годах говорилось несколько подробнее, чем семь лет спустя: «Революционная работа на фронте империалистической войны проводилась мною в области агитации и пропаганды, и в первый период войны она была в силу условий боевой обстановки чрезвычайно тяжелой. В последующие годы войны революционная работа была облегчена: уже в этот период в войсковых частях закладывались нелегальные партийные кружки. Пройдя командные должности во взводе, роте и батальоне, я в момент Февральской революции командовал полком». В 33-м году Александр Ильич предусмотрительно не стал называть своих должностей в старой армии, чтобы у читателей автобиографии не возникло неприятных вопросов: почему офицер, агитировавший против войны, оставался на хорошем счету у начальства и столь успешно делал карьеру? Кстати, насчет командования взводом Егоров поскромничал. В Первую мировую войну он вступил в чине штабс-капитана командиром роты.
Надо отметить еще, что в 26-м году Егоров упомянул, что в декабре 1917 года получил «задание от Военного отдела ВЦИК ехать на Украину и поставить перед Центральной Радой Украины вопрос о порядке удовлетворения материального снабжения солдат старой армии, демобилизованных с фронта и проходящих через территорию Украинской республики. В связи с общими политическими условиями, создавшимися в то время на Украине, я был арестован вместе с другими украинскими товарищами (Михайличенко, Чудновским и др.) и был заключен в крепость, из которой был освобожден в конце января 1918 года взявшими Киев красными войсками». В 33-м году об этом эпизоде лучше было не говорить. Совсем недавно в Красной Армии прошла чистка бывших царских офицеров. А тут получалось, что Егоров, хоть и не по своей воле, но некоторое время находился на территории, контролировавшейся антисоветским правительством. И почему украинские власти его не расстреляли? Может, Александр Ильич выдал им какие-то тайны? Подобные мысли у сверхбдительных чекистов вполне могли возникнуть, и Егоров не хотел давать пищу для опасных домыслов.
В 26-м году, в отличие от 33-го, Александр Ильич довольно подробно рассказал и о том, как порвал с левыми эсерами в июле 1918 года: «В период левоэсеровского выступления я уже фактически отошел от убеждений этой партии, членом которой я являлся еще с осени 1917 года, целиком и полностью воспринял идеи коммунистической партии. Порицая факт выступления левых эсеров, я официально заявил об этом в печати и вышел из этой партии».
Действительно, «Правда» 16 июля 1918 года опубликовала заявление Егорова, где утверждалось: «Я категорически протестую против преступной выходки некоторых членов партии, предводительствуемых зарвавшейся кучкой интеллигентов буржуазного толка, и решительно с ними порываю. Вынеся на своих плечах весь гнет и тяжесть последней войны и имея в этом отношении боевой опыт, я совершенно не разделяю взгляды ЦК партии левых социалистов-революционеров по вопросам ведения войны и строения армии, я целиком с самого начала создания Советской Армии стоял за систему строительства, проводимую Советской властью, в силу чего я принял на себя обязанность председателя Высшей аттестационной комиссии». В 33-м же году акцентировать свою прошлую связь с левыми эсерами никак не следовало, вот и не стал будущий “маршал писать даже о своем разрыве с этой партией. Тем более что егоровское заявление появилось через несколько дней после подавления левоэсеровского выступления в Москве, и наверху могли подумать, что Александр Ильич просто выжидал, чья возьмет.
В автобиографии 33-года Александр Ильич так написал о своем участии в Гражданской войне: «Летом 1918 года, объединяя отряды Красной Гвардии Сиверса, Миронова и Киквидзе, руководил операциями против Краснова, организуя вместе с тем из указанных отрядов регулярные дивизии 9-й армии как командующий этой армии. В декабре 1918 года назначен командующим 10-й армии по обороне Царицына. В мае 1919 года, руководя операциями 10-й армии на реке Сал и лично ведя в атаку конный корпус Буденного, был тяжело ранен. За эту операцию был награжден орденом Красного Знамени. Не успев оправиться от ранения, в силу общей обстановки, сложившейся на фронте, был назначен помощником командующего Южным фронтом и членом Ревсовета этого фронта с непосредственной задачей командовать 14-й армией Южного фронта. В октябре 1919 года назначен командующим армиями Южного фронта, во главе которых провел операцию по разгрому Деникина. После ликвидации деникинщины назначен командующим Юго-Западным фронтом против белой Польши. После окончания Польской операции и ликвидации Врангеля получил назначение командующим войсками Киевского военного округа. В апреле 1921 года получил назначение командующим 7-й Красной Армии и Петроградским военным округом. Затем в сентябре 1921 года назначен командующим Западным фронтом, откуда в феврале 1922 года назначен командующим Кавказской Краснознаменной Армией. Весной 1924 года назначен на должность командующего войсками Украины и Крыма и членом Ревсовета Союза. В 1927 году назначен командующим войсками Белорусского военного округа, которым и руководил вплоть до назначения меня в 1931 году начальником Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В Гражданскую войну ранен 2 раза. За боевые отличия в Гражданскую войну и за работу в Красной Армии награжден 4-я орденами Красного Знамени, Почетным Боевым Краснознаменным революционным оружием и зачислен в списки лиц Генерального штаба. Состоял членом Груз. ЦИКа, Зак. ЦИКа, ВУЦИКа, ЦИКа БССР, ВЦИКа и в данное время состою членом ЦИКа СССР всех созывов и членом РВС Союза».
Если верить тому, что Егоров сам о себе написал, то у него получается богатая революционная биография. Но вот верить как раз и не следует. К сожалению, почти все здесь, за исключением наград, титулов и некоторых дат службы в Красной Армии, — ложь чистой воды, ложь от первого до последнего слова.
Начнем с даты рождения и родителей будущего советского полководца. Прошение Егорова о зачислении в Казанское пехотное юнкерское училище и приложенные к нему анкета и выписка из метрической книги доказывают, что родился Александр Ильич 13/25 октября 1883 года, а родители его — бузулукские мещане Илья Федорович и Мария Ивановна Егоровы, к крестьянскому сословию никакого отношения не имевшие. Действительно ли отец беспробудно пил, как это утверждал Егоров-младший, мы сегодня с уверенностью сказать не можем. А вот что рабочим-грузчиком никогда не был, можно сказать уверенно. Илья Федорович работал приказчиком и управляющим у не слишком-!» богатых бузулукских купцов. Семья, где было четверо детей, конечно, не роскошествовала, но и нищей, разумеется, не была. Да в ту пору весь этот слой, который на Западе теперь причисляют к среднему классу, жил не очень-то зажиточно. Мой прадед, о. Михаил Соколов, был православный священник во Владимире. Но, по рассказам деда, семья, где было 10 человек детей, мясо ела только по воскресным дням и праздникам. И, конечно, поступление Александра в юнкерское училище на полное казенное обеспечение было для его родителей очень кстати. Да и будущее офицерское жалованье в их глазах было довольно солидным доходом. Вообще, боюсь, придумывал свою биографию будущий маршал под сильным влиянием автобиографической трилогии Горького.
На военную службу Александр Ильич Егоров поступил в 1901 году вольноопределяющимся в 4-м гренадерском Несвижском полку, в мае 1902 года был произведен в унтер-офицеры и осенью того же года стал юнкером. Послужной список капитана 132-го Бендерского полка Александра Ильича Егорова, составленный в июне 1916 года, свидетельствует: «В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку». Выясняется, что бравый капитан не имел ни одного дня перерыва в службе, был православного вероисповедания, происходил из мещан Самарской губернии, окончил обычным путем, а никак не экстерном, Самарскую классическую гимназию, а затем Казанское пехотное юнкерское училище по 1-у разряду. Ни в какую Италию Егоров не ездил и ни в какой опере не пел. В революционных событиях 1905–1907 годов действительно принимал самое активное участие, но только так, как в известном анекдоте про дедушку, который сражался с Чапаевым. Напомню вкратце этот анекдот. Вовочка привел в школу своего деда, который сражался с Чапаевым. Деда просят: «Расскажите, как там все было, под Лбищенском». И старичок бодро начинает: «Идем мы, значит, ночью, тихо-тихо, сняли часовых, вошли в город. Тут я командую: «Сотня! Руби в капусту красную сволочь!» Ну, они, красные, к реке побежали, спасаться. Главный у них, Чапаев, худенький такой, с усиками, через Урал поплыл. Я — к пулемету. Первую очередь я дал перед ним, вторую — за ним. А третьей очередью я попал. Тут Чапаеву и крышка».
Так же должен был бы рассказывать о своем участии в революции 1905 года и маршал Егоров. Но он, понятное дело, правдивых мемуаров не оставил, только невнятный рассказ об этом периоде своей жизни в автобиографиях. Между тем послужной список рисует довольно полную картину деятельности подпоручика 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка Егорова при подавлении революционного движения в Закавказье. В июне — октябре 1905 года он нес караульную службу в Баку, в октябре — ноябре громил восставших грузинских крестьян в Гурии, потом, вплоть до января 1906-го, содействовал гражданским властям Тифлиса в подавлении беспорядков. Десять месяцев, вплоть до октября 1906 года, Егоров находился в Гори «для подавления мятежа». Как действовали войска, можно судить по телефонограмме, посланной 26 декабря 1905 года Генеральным штабом во все военные округа: «Государь император высочайше указать соизволил, что на выстрелы войска обязаны отвечать выстрелами же и сокрушать малейшее поползновение вооруженного сопротивления». Очевидно, малопочтенную функцию карателя Александр Ильич выполнял вполне успешно, поскольку 10 марта 1907 года был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени, а 31 августа 1909 года получил нагрудный знак «В память 50-летия покорения Восточного Кавказа». Понятно, что красному маршалу хвалиться такими подвигами и наградами было не с руки. А зачем потребовалось Александру Ильичу омолаживать себя на два года, трудно до конца понять и сегодня. Может быть, чтобы оттенить свои карьерные успехи? В 32 года — и уже полковник!
Дальше служба Егорова протекала вполне размеренно, без каких-либо ярких событий. Разве что произошла важная перемена в личной жизни. Весной 1911 года Александр Ильич женился на дочери тифлисского почетного гражданина Варваре Александровне Васильевой, только что окончившей гимназию. 31 марта 1913 года у них родилась дочь Татьяна. Правда, Илья Федорович Егоров родительского благословения на брак не дал, поскольку сын так и не представил ему невесту (хотя роман длился уже три года). Судя по всему, у них с Александром Ильичем отношения были не слишком теплые. Потому-то будущий маршал позднее не постеснялся подробно писать в автобиографии о подлинном или мнимом алкоголизме отца.
В апреле 1911 года Егорова перевели в 132-й Бендерский полк, располагавшийся в Киевском военном округе. Первую мировую войну он встретил штабс-капитаном и командиром роты. «Под ложечкой сосало и волосы дыбом вставали, когда мы пошли в первый раз в атаку 13 августа 1914 года», — вспоминал Александр Ильич в 37-м. Его рота тогда взяла штурмом деревню Виерцблони в Галиции, захватила 60 пленных. Егоров за этот бой был удостоен Георгиевского оружия. Потом получил еще 6 боевых наград. Был дважды ранен и трижды контужен. 30 мая 1916 года Егорова произвели в капитаны, а 27 ноября того же года — в подполковники.
После Февральской революции Александр Ильич вступил в партию эсеров. Таких как он, называли «мартовскими эсерами». Это были люди, после падения самодержавия поспешившие связать себя с одной из революционных партий, прежде всего из карьерных соображений. Став эсером, Егоров по-прежнему ратовал за войну до победного конца. Не случайно весной 17-го он написал краткую памятку для солдат с историей Бендерского полка, чтобы «с любовью и желанием ярко ознакомить молодых бендерцев со славными делами полка» и побудить их столь же доблестно сражаться в дальнейшем. К тому времени подполковник Егоров состоял офицером для особых поручений при штабе полка, занимавшего позиции по Западной Двине, на Северном фронте. Членство в эсеровской партии открыло путь для военно-политической карьеры. Александр Ильич возглавил фракцию эсеров в дивизионном кабинете, а в августе 1917 года стал членом Совета военных депутатов 12-й армии. Только клевому крылу партии, выделившемуся летом 17-го, вплоть до глубокой осени Егоров отношения не имел. Как говорилось в одном из доносов, поступившем на маршала в начале 1938 года, на армейском съезде в ноябре 17-го подполковник Егоров выступал как правый эсер и резко критиковал Ленина и большевиков, которые тогда выступали в союзе с левыми эсерами. К тому же 9 ноября он был произведен в полковники по представлению, сделанному еще при Временном правительстве.
Однако уже через несколько дней после Октябрьской революции, когда положение новой власти в Петрограде упрочилось, Егоров перешел к левым эсерам. Но пробыл у них лишь полгода. Когда в июле 1918 года в ходе спровоцированного большевиками левоэсеровского мятежа эта партия оказалась вне закона, Александр Ильич публично объявил о разрыве с левыми эсерами и стал большевиком. Поскольку он оказался одним из немногих офицеров в штаб-офицерских чинах, не только поддержавшим Октябрьскую революцию, но и ставшим членом революционной партии, продвижение по службе шло очень быстро. Здесь егоровские автобиографии не расходятся с истинным положением дел.
А вот обстоятельства своего ранения на реке Сал в мае 1919-го маршал намеренно исказил. Тогда Егоров вместе с командиром конницы 10-й армии Б.М. Думенко возглавил атаку ударной группы против казаков генерала П.Н. Краснова. Оба они попали под пулеметный огонь и были тяжело ранены. Потом Егорова и Думенко за этот бой наградили орденами Красного Знамени. И именно Думенко, а не Буденный был первым командиром 1-го Сводного конного корпуса. Однако позднее, в мае 1920-го, Бориса Мокеевича, не без содействия конкурентов — Ворошилова и Буденного, — расстреляли по недоказанному обвинению в убийстве комиссара корпуса В.Н. Микеладзе. И Егоров закономерно заменил в эпизоде своего ранения Думенко на Буденного.
Александр Ильич весьма скупо сообщает о своей службе на Кавказе в 1922–1924 годах. Может быть, потому, что пришлось заниматься тем же самым, чем и в 1905–1907 годах. В первой половине 20-х в Закавказье Егорову пригодилось уже знакомое ремесло карателя. Он боролся с армянскими, азербайджанскими и грузинскими повстанческими отрядами. В сводках красное командование неизменно именовало их «бандами». В частности, 22 февраля 1923 года Егоров приказывал: «Бандитизм ликвидировать в кратчайший срок и с бандитами расправляться беспощадно и сурово; население, относящееся недоброжелательно к Соввласти, разоружить, пособников и укрывателей арестовать». Фактически Александр Ильич применял те же граничившие с геноцидом методы, что и Тухачевский при подавлении Тамбовского восстания двумя годами ранее. За это коммунистические правительства Азербайджана и Грузии наградили Егорова республиканскими орденами Красного Знамени.
По количеству умышленных искажений собственной биографии Александр Ильич оставил далеко позади любого из советских военачальников. Не знаю как у тебя, читатель, а у меня лично возникло глубокое недоверие как к полководческим, так и к человеческим качествам Егорова.
Стремительной карьере Егорова в годы Гражданской войны и позднее в огромной степени способствовало то обстоятельство, что ему довелось сражаться вместе со Сталиным и Ворошиловым против Краснова, Деникина и поляков. Их боевое содружество началось под Царицыном, где Егоров из разрозненных партизанских отрядов формировал 9-ю армию. Потом он командовал 10-й армией, нанесшей в январе 19-го поражение казакам на подступах к «красному Вердену». Весной и летом 19-го сражаться пришлось уже с пришедшей на помощь Краснову Кавказской Добровольческой армией генерала П.Н. Врангеля, которой 30 июня 1919 года удалось захватить Царицын. Егоров в это время был в госпитале. 31 июля за майский бой на реке Сал его наградили орденом Красного Знамени. В приказе Реввоенсовета Республики о награждении, в частности, говорилось: «Противник, поставив целью прорвать фронт 10-й армии у Плетнева, стремился все время, обходя фланги, разъединить силы армии на две части, чтобы захватить Котельниково, покончить с каждой частью отдельно. Товарищ Егоров, твердо решив не дать противнику выполнить этот план и тем самым спасти оставшиеся части, лично принял командование над частями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий и бросился с ними в атаку на неприятеля. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, особенно его пехотных частей, товарищ Егоров стремительным натиском смял его и отбросил его на южный берег реки Сал. В результате этой лихой атаки вся неприятельская пехота, находившаяся на северном берегу, около 2–3 полков, осталась в наших руках и была частью взята в плен, а частью изрублена. В наших руках остались богатые трофеи в виде орудий и пулеметов. Товарищ Егоров в одной из атак был ранен, но, невзирая на довольно тяжелое сквозное пулевое ранение надключичной области с значительным кровоизлиянием, не оставил поля сражения, пока не прибыл вызванный им заместитель».
9 июля 1919 года Александр Ильич ненадолго был назначен помощником командующего и членом РВС Южного фронта с одновременным вступлением в командование 14-й армии. Эта армия с боями оставила Киев, а потом обороняла Брянск. В Брянске будущий маршал познакомился со своей второй женой — выпускницей местной гимназии Галиной Антоновной Цеш-ковской. 27 сентября из Южного фронта был выделен Юго-Восточный фронт, а новым Южным фронтом стал командовать Егоров. Войска Деникина во исполнение директивы, отданной еще 3 июля 1919 года, продолжали двигаться на Москву.
С именем Егорова обычно ассоциируется план разгрома белых армий на Юге. Известный военный историк Н.Е. Какурин в 1926 году писал по поводу вступления Егорова в должность командъюжа, что с его именем «связаны решительные успехи Южного фронта». Позднее, с 1929 года, после празднования 50-летнего сталинского юбилея и появления статьи Ворошилова «Сталин и Красная Армия», все успехи в борьбе с Красновым и Деникиным стали связывать с именем Сталина. Сам Егоров в 1937 году в статье «Героическая эпопея», появившейся в «Правде» 2 января 1937 года, подобострастно утверждал: «В 17-ю годовщину борьбы за Царицын я не могу хотя бы вкратце не вспомнить одного из классических уроков военного искусства, который был дан нам с командной высоты царицынских полей великим стратегом классовых битв товарищем Сталиным. Боевые операции, проведенные товарищем Сталиным, неизгладимым уроком стоят в нашем сознании как образцы классического военного искусства эпохи Гражданской войны. Ему, товарищу Сталину, мы обязаны тем, что на царицынских полях кадры Красной Армии, и в первую очередь славные кадры 10-й и Первой Конной армии, получили наглядные, классические образцы методов ведения войны». Полковник старой армии готов был учиться военному искусству у человека, вся армейская служба которого свелась к месячному пребыванию в запасном полку.
В автобиографии 1926 года Егоров с гордостью писал о себе как об авторе плана разгрома армии Краснова под Царицыном в январе 1919 года: «Большое значение в оперативном плане, который был намечен мною для разрыва этого кольца и спасения Царицына, принадлежит нашей геройской коннице, которая в это время была лишь в зародыше, в лице конной бригады товарища Буденного». В 33-м году Александр Ильич уже на своем авторстве не настаивал. Двумя годами раньше он также издал книгу «Разгром Деникина. 1919», где подчеркнул: «Изучая события, связанные с защитой Царицына, и обращаясь не только к этому периоду, но и ко всей эпохе Гражданской войны, каждый из нас со всей ясностью видит, какую грандиозную по своему значению работу провел на всех фронтах, и в частности на царицынском фронте, И.В. Сталин». Правда, иллюстрировать конкретный вклад вождя в победу над Красновым и Деникиным Александр Ильич предпочитал не своими словами, а обширнейшими цитатами (по несколько страниц) из упоминавшейся выше статьи Ворошилова «Сталин и Красная Армия». Климента Ефремовича Егоров тоже не забыл добрым словом: «Только железная и непоколебимая воля к победе дала возможность т. Сталину и т. Ворошилову, этим двум революционерам-большевикам, лучшим представителям старой ленинской гвардии, не только соорганизовать и сплотить живую силу вокруг задач обороны, но и отстоять «красный Верден» в ожесточенных схватках с казачьей контрреволюцией». Бывший командующий Южного фронта также утверждал, будто разгром казачьей конницы под Воронежем, определивший перелом кампании 1919 года в пользу Красной Армии, стал следствием личной инициативы Буденного, а не распоряжений главного командования: «Задача разбить Мамонтова и Шкуро явилась не как следствие определенно принятого главкомом или фронтовым командованием плана, а как результат личной инициативы Буденного, которая совпала с требованиями момента». «Гениальную мысль» создать конную армию Егоров приписал всецело Сталину, занимавшему в ту пору должность члена РВС Южного фронта. Но, как можно судить по книге Какурина, все эти утверждения были далеки от истины. Николай Евгеньевич отмечал, со ссылкой на соответствующий архивный документ, что «командование Южного фронта ставило 7 октября задачей конному корпусу Буденного разыскать и разбить конные корпуса Шкуро и Мамонтова. Для усиления корпуса Буденного командование 8-й армии должно было передать в его распоряжение свою конную группу, 56-ю кавалерийскую бригаду, и усилить его в случае надобности одним-двумя батальонами пехоты».
Подводя итоги борьбы против Деникина, Егоров отдал должное и неприятелю, но подчеркнул неспособность главного командования белых к решению политических и стратегических задач: «Части белых армий во многих случаях действовали очень удачно. Офицерские части дрались упорно и ожесточенно, а наличие крупных конных частей, особенно в первый период кампании 1919 года, давало в руки белых неоценимое преимущество над красными войсками, ибо позволяло применять маневрирование, создавать превосходство в силах в момент, когда это менее всего ожидали, и сводить на нет достигнутые перед тем красными успехи. Однако свое преимущество белые использовали часто не в нужном направлении. Продвигаться на север зимой было излишним, и белые имели все основания попытаться закончить борьбу в пределах Донской области. Но плохая политика определяла собой плохую стратегию, и белые испытали на своей шкуре все невыгоды последней. Бесконечное расползание в пространстве (Днепр — Волга) при отсутствии должного количества сил ни в какой степени не способствовало дальнейшему продвижению в центре, а правый фланг был безнадежен в отношении успеха. Однако что касается боевой деятельности Добровольческой армии, то мы должны признать за ней ряд крупных успехов и подчас весьма умелые действия. Начиная с ликвидации группы Селивачева у Купянска и блестящего применения здесь конного маневра, дальнейшие действия Добровольческой армии протекают в строгой последовательности и соответствии поставленным ей по «московской директиве» задачам. Армия прорывает фронт у Курска и незамедлительно приступает к обеспечению дальнейшего своего продвижения, расширяя этот прорыв до стратегических размеров и проявляя нужную заботливость об обоих своих флангах. Но по мере продвижения к Орлу левый фланг постепенно начинает выпадать из внимания командующего Добровольческой армией, и это обстоятельство сыграло гибельную для всей операции роль».
В автобиографии 1926 года Александр Ильич приписал замысел разгрома деникинских войск исключительно себе, а роль Сталина сводил к пропаганде: «Разработанный мною оперативный план наступления был составлен главным образом на удар конного корпуса, переименованного в Конную армию (просто переименованного — значит, тогда Егоров никакого гениального сталинского замысла в создании Конармии не видел! — Б.С.), по стыку «Добровольческой» и казачьей армии в направлении Воронеж — Донбасс — Ростов. Расчет был верен: Деникин разбит, и наши части водрузили красное знамя в ставке контрреволюции в Ростове-на-Дону. Основной задачей было достичь перелома в настроении бойцов, остановить отход и, подготовившись, нанести Деникину решительный удар. Обработку настроения я начал в первую голову с корпуса Буденного, будучи вместе с т. Сталиным связанным с буденновцами по боям 10-й армии; мы обратились к бойцам корпуса с воззванием, в котором, обрисовав чрезвычайно тяжелое положение фронта и Республики Советов, призывали их к исполнению революционного долга. «На вас, как на ударный кулак, рассчитывает Республика», — писали мы в обращении. В ответ конный корпус заявил о полной готовности выполнить любую задачу».
В книге 31-го года, не отвергая как будто решающий вклад Сталина, Егоров, тем не менее, подробно говорил о замысле операции по разгрому Добровольческой армии как о своем собственном: «После того как успех у Орла будет достигнут, наступление белых будет приостановлено, и 14-я и 13-я армии перейдут в контрнаступление, — корпус Буденного должен был приступить к выполнению основной задачи фронта — разрыва белых армий на две части.
В этом заключалась основная идея, стержень всей оперативной концепции нового командования Южным фронтом (т. е. Егорова и назначенного членом РВС фронта Сталина. — Б. С.); все прочее играло только служебную, второстепенную роль. В стратегическом отношении этот разрыв тыла белых армий на две части конным корпусом Буденного, окрыленным по флангам армиями фронта, преследовал цель — отделить Добровольческую армию от Донской, и, следовательно, направление удара должно было пройти где-либо между Курском и Воронежем; в политическом отношении это было отделение казачества от деникинщины».
В 1933 году, как мы помним, будущему маршалу пришлось выразиться о собственной роли гораздо скромнее: «В октябре 1919 года назначен командующим армиями Южного фронта, во главе которых провел операцию по разгрому Деникина». Но кто же все-таки был автором того, что после 29-го года стали называть «гениальным сталинским планом разгрома Деникина»? Политически неангажированный Какурин дал на этот вопрос вполне Определенный ответ, как всегда, со ссылками на архивы: «Главное командование намеревалось взять организацию контрудара в свои руки, подготовив его из глубины вне непосредственного воздействия противника. Первое зарождение этой идеи мы можем усмотреть из телеграммы главкома командьюжу (предшественнику Егорова В.Н. Егорьеву. — Б.С.) от 24 сентября за № 4514/оп, в которой первый указывает об имеющем произойти в районе Навля — Дмитриевск сосредоточении войск, которые останутся в подчинении главкома.
В последующие дни эта идея получила окончательное оформление. Удар мыслилось нанести по наиболее выдвинувшимся к северу частям Добровольческой армии двумя группами: одною — из района северо-западнее г. Орла — резервом главкома в составе Латышской дивизии, бригады Павлова и кавалерийской бригады червонных казаков Примакова общею численностью в 10 тыс. штыков, 1500 сабель и 80 орудий; другой — в составе конного корпуса Буденного вместе с кавалерийскими частями 8-й армии из района восточнее Воронежа. Таким образом, здесь налицо была идея срезания клина противника ударами по его основанию». Так и действовали советские войска в октябре — ноябре.
На самом деле, следовательно, план разгрома Деникина родился у главнокомандующего Красной Армии С.С. Каменева и председателя Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого (последний был одним из инициаторов формирования червонного казачества в качестве ударной кавалерийской силы наряду с Конармией). Но писать об этом Егоров не мог и не хотел. Гораздо приятнее было носить лавры победителя Деникина, пусть и на пару со Сталиным. Но Иосиф Виссарионович не хотел ни с кем делить славу, и это обстоятельство в конечном счете оказалось для Егорова роковым.
После поражения деникинских армий Александр Ильич возглавил Юго-Западный фронт, действовавший против Польши. Чем закончился поход на Варшаву, мы уже знаем из очерка о Тухачевском. В 1929 году Егоров опубликовал книгу «Львов — Варшава. 1920 год», где стремился оправдать руководство Юго-Западного фронта, снять с него ответственность за поражение советских войск. И с его аргументами трудно не согласиться.
Вот что писал Егоров по поводу передачи Первой Конной армии Западному фронту: «От района местонахождения 1 Конной армии 10 августа (район Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4 армии (на р. Вепш — на линии Коцк — Иван-город) по воздушной линии около 240–250 км. Даже при условии движения без боев просто походным порядком 1 Конная армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не меньше чем в 8–9 дней (3 перехода по 40–45 км, дневка и т. д.), т. е. могла выйти на линию р. Вепш лишь к 19–20 августа, и то этот расчет грешит преувеличением для данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке Конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т. е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21–23 августа Конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не сумела бы. Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о движении 1 Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих мероприятий оказалась бы отмена наступления 4 армии. По пути своего движения 1 Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии Замостья, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18 пехотную дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через Люблин к Варшаве. Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточивалась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои возможности, панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу Варшавы только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы с началом наступления «двигались почти без соприкосновения с противником, так как незначительные стычки в том или ином месте с какими-то небольшими группами, которые при малейшем столкновении с нами рассыпались и убегали, нельзя было называть сопротивлением» (здесь Александр Ильич вполне к месту процитировал книгу Пилсудского «1920 год». — Б.С.).
Действительно, более раннее движение армии Буденного к Замостью могло бы привести только к ослаблению польской ударной группировки на одну дивизию, что все равно не помешало бы Пилсудскому разбить войска Мозырской группы и зайти во фланг армиям Западного фронта. Правда, если уж быть совсем точным, возвращение 18-й польской дивизии на юго-западное направление против Конармии, вероятно, заставило бы польское командование отказаться от контрудара на севере. Однако, во-первых, сам по себе этот контрудар решающего значения не имел, и, во-вторых, Пилсудский мог решить, что уже имевшихся под рукой пяти пехотных дивизий (трех дивизий легионеров, 7-й польской и 6-й украинской) и конницы для нейтрализации Буденного хватит, и продолжить переброску 18-й дивизии в 5-ю армию. В любом случае Первая Конная попала бы в районе Замостья в окружение, как это на самом деле и произошло во время ее рейда в 20-х числах августа, и никакой существенной помощи армиям Тухачевского в отражении польского контрнаступления оказать бы не смогла.
Как и победа над Деникиным под Орлом и Воронежем, так и поражение под Варшавой были предопределены не действиями командующих фронтов, а решениями главного командования Красной Армии и политического руководства. В первом случае был принят правильный как в военном, так и в политическом отношении план удара по сходящимся направлениям под основание далеко выдавшегося на север клина Добровольческой армии и дальнейшего наступления через пролетарский Донбасс, чтобы разобщить донцов и добровольцев. Во втором случае после поражения поляков в Белоруссии члены Политбюро переоценили деморализацию противника и недооценили его способность к сопротивлению, приняв в результате ошибочное решение о наступлении в расходящихся направлениях на Львов и Варшаву.
Варшавская неудача никак не отразилась на военной карьере Егорова, так же как и Тухачевского. После заключения 12 октября 1920 года советско-польского перемирия в Риге он продолжал командовать Юго-Западным фронтом, в состав которого была возвращена из Западного фронта 12-я армия. 10 ноября 1920 года, после прорыва перекопских укреплений Врангеля, главком подписал директиву Западным и Юго-Западным фронтам о начале наступления против отрядов Петлюры на Украине и Булак-Балаховича и Савинкова в Белоруссии. Эти отряды были сосредоточены в установленной перемирием нейтральной зоне — территории между линией наибольшего продвижения польской армии и линией предварительно согласованной советско-польской границы. С.С. Каменев отмечал, что «в нейтральной зоне, согласно договору, должно быть наше административное управление» и что «польское командование отказалось от ответственности за войска Булак-Балаховича и другие антисоветские отряды, действующие в нейтральной зоне». Лишенные польской поддержки, войска Украинской армии и Народно-добровольческой армии Булак-Балаховича были к концу ноября оттеснены за линию границы. Егоров все это время проболел, тяжело простудившись в плохо отапливаемом помещении штаба Юго-Западного фронта в Киеве. Фактически боевыми действиями руководил начальник штаба фронта Н.Н. Петин.
30 декабря 1920 года, учитывая «солидные теоретические познания военного дела» и командование фронтами в годы Гражданской войны, Реввоенсовет Республики причислил Егорова к Генеральному штабу. И это несмотря на то, что закончить Военную академию Александр Ильич так и не удосужился и никаких «солидных теоретических познаний» в области военного искусства ни до, ни после никак не проявил. Во всяком случае, ни одной военно-теоретической работы из-под пера Александра Ильича так и не вышло.
С января 21-го Егоров командовал Киевским военным округом, с апреля того же года принял Петроградский округ, войска которого только что под руководством Тухачевского подавили Кронштадтский мятеж. Одновременно по совместительству с сентября 21-го по январь 22-го Егоров командует Западным фронтом вместо отозванного на время Тухачевского. 17 февраля 1921 года он был награжден Почетным революционным оружием. В феврале 22-го, как я уже говорил, Александра Ильича направили в Закавказье, где ему пришлось заниматься тем же, чем занимался Тухачевский в Кронштадте и Тамбовской губернии. С ремеслом карателя Егоров справился хорошо, благо, имел богатый дореволюционный опыт. В результате к двум орденам Красного Знамени РСФСР он добавил еще ордена Красного Знамени Грузии и Азербайджана. С мая 1924 года получил повышение — стал вместо Фрунзе главнокомандующим войск Украины и Крыма. В 1925 году Егорова назначили военным атташе в Китае, к которому тогда было приковано внимание советского руководства. Ожидали, что именно здесь может вспыхнуть пожар мировой революции. Егорову пришлось руководить военными советниками, в том числе и будущим маршалом В.К Блюхером, находившимися при Национально-революционной армии гоминьдановского правительства на юге и при Национальных армиях севера, также ориентировавшихся на СССР. Однако в Китае дело не заладилось. Егорову не удалось найти общего языка ни с командующим гоминьдановских войск маршалом Чан Кайши, ни с командующим 1-й Национальной армии Фын Юйсяном. Александра Ильича с военно-дипломатической работы весной 1926 года отозвали. Полтора года он отсиживался на малозначительной должности заместителя председателя Военно-Промышленного управления при Высшем Совете Народного Хозяйства. В октябре 27-го нарком Ворошилов вспомнил о соратнике по царицынским боям и назначил его командующим войск Белорусского военного округа. На этом посту Егоров пробыл до апреля 1931 года, когда сменил Тухачевского во главе Штаба РККА. В 1929 году под Бобруйском Александр Ильич провел большие маневры. Как ему пришлось признать на заседании Реввоенсовета, посвященном разбору маневров, в ходе их выявилось отсутствие «твердых навыков в организации и управлении крупных соединений, оснащенных современной техникой». Бывший главком, а в ту пору — заместитель наркома обороны, С.С. Каменев резко критиковал Егорова за завышенную оценку подготовки пехоты и недооценку роли танков и механизации пехоты в будущей войне. Сергей Сергеевич утверждал, что «с маршами на Бобруйских маневрах мы провалились. Теперь, когда артиллерия получает большую подвижность, в одной колонне водить трактор, автомобиль и пехоту нельзя». Критиковали Егорова и Тухачевский, Уборевич, Якир и сам Ворошилов, но на карьере Александра Ильича это никак не сказалось. Став начальником Штаба РККА, он в 1934 году был избран на XVII съезде партии кандидатом в члены ЦК, а в 35-м удостоился маршальского звания. Никаких особых заслуг в деле повышения боеспособности и боеготовности войск и внедрения новых видов вооружений за Егоровым замечено не было, но это с лихвой компенсировалось покровительством Ворошилова. И Александр Ильич в долгу не оставался. Вот, например, какое поздравление наркому обороны с 50-лет-ним юбилеем направил он 15 февраля 1931 года из Германии, куда был командирован на полгода для изучения военно-технических и оперативно-тактических разработок рейхсвера: «Дорогой Климент Ефремович! От всей глубины моего сердца шлю тебе, дорогой друг, боевой соратник и любимый Начальник (именно так, с большой буквы! — Б. С.) — руководитель, в день твоего славного юбилея самые горячие поздравления. Конечно, я был бы бесконечно рад в эти дни видеть тебя и лично выразить все те волнующие меня, как ребенка, чувства, связанные с днями твоего исторического юбилея.
Ведь на твоем боевом и революционном пути было весьма много исключительных по своему значению событий и явлений и что они теперь получают еще большую выпуклость и встают, как великаны-гиганты не только на фоне прошедших действительно бурных и героических дней Гражданской войны, но и в проспекте предстоящего будущего, в балансе которого, как мы знаем, есть графа, так называемых, «неизбежных столкновений». Я говорю, что меня, как ребенка, охватывает в эти дни особое чувство радости и, вместе с тем, гордости. В самом деле — мы связаны с тобой историческими днями боевой работы. Вся эпоха борьбы на юге, против основных, по существу, сил всей российской контрреволюции (Деникин и Врангель), а затем и Польская кампания 1920 г., прошли при нашем (ты, Семен Михайлович Буденный и я) совместном и дружном боевом участии.
С каким восторгом я вспоминал эту тесную совместную боевую работу, проходившую под непосредственным тактическим руководством нашего горячо любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Когда взвесишь, что история для решения своих задач потребует еще людей, способных проявить великие качества ума, воли, твердости, решительности и беззаветной преданности делу Ленина, и знаешь, что таких людей, в лице Иосифа Виссарионовича и Климента Ефремовича, наш Советский Союз имеет, становится еще радостнее, и бодрость, как живая струя, наполняет все фибры организма.
Разве в такие дни не желательно быть вместе и лично передать эти возвышенные чувства и переживания. Этой возможности я не имею, так как нахожусь, как говорят, — in der Fremde (на чужбине). Но, однако, та работа, ради которой я нахожусь здесь в Германии, меня убеждает и, надо думать, она служит достаточным основанием и оправданием моего личного отсутствия. Желаю тебе, дорогой Климент Ефремович, долгих лет и крепкого здоровья, так нужных для того, чтобы наша доблестная Красная Армия с каждым годом росла и совершенствовалась во всех областях своей боевой выучки и в случае вооруженного столкновения под твоим испытанным руководством сокрушила любого лютого врага, посягнувшего на революционные права и суверенитет Советского Союза».
«Дорогой Климент Ефремович» до лести был падок. «Луганский слесарь Клим» должен был особо ощущать свою значимость, когда его подобострастно нахваливал бывший подполковник царской службы. Да и комплимент в адрес Сталина, как надеялся Александр Ильич, Ворошилов доведет до сведения вождя. Иосифу Виссарионовичу будет приятно узнать, что он осуществлял «тактическое руководство» разгромом Деникина, т. е. объяснял Егорову, как следует наступать пехоте, где располагать артиллерию и т. д. Но все-таки была в этом письме непростительная ошибка. Никак не следовало ставить на один уровень Сталина и Ворошилова как двух советских руководителей, способных решать исторические задачи. Иосиф Виссарионович-то полагал, что такой руководитель в СССР всего лишь один. Да и знание немецкого не стоило демонстрировать малограмотному Ворошилову. Обидеться мог «дорогой друг» Климент Ефремович.
В 1932 году группа сотрудников Штаба РККА подготовила доклад «Тактика и оперативное искусство РККА на новом этапе». Трудно сказать, каков был личный вклад Егорова в создание этого документа. Там было немало здравых мыслей. Например, о том, что танки, авиация и крупнокалиберная артиллерия «позволяют поражать противника одновременно на всей глубине его расположения». Поэтому «основная проблема современности — это одновременное развертывание боевых действий на большую глубину. В тактике разрешение ее намечается по линии проникновения на всю глубину оборонительной полосы противника при помощи быстроходных танков, истребителей, артиллерии, транспортеров пехоты и действиями штурмовой авиации. В оперативном искусстве это достигается глубоким выходом в тыл противнику или прорывом в этот тыл, если нет открытых флангов, крупных масс конницы или мото-мехсоединений при поддержке мощной авиации».
В принципе все правильно. Разве что роль кавалерии, в угоду наркому Ворошилову, преувеличивалась. Ведь уже в Первую мировую войну стало ясно, что на поле боя, изрезанном окопами, покрытом проволочными заграждениями, насыщенном орудиями и пулеметами, коннице делать нечего. Но главная беда была в том, что верные на бумаге тезисы проводились в жизнь из рук вон плохо. На учениях допускалось слишком много условностей, а вероятного противника заставляли играть в поддавки.
Когда в мае 37-го Тухачевский был сослан командовать периферийным Приволжским военным округом, Егоров занял его пост первого заместителя наркома обороны. Фактически Александр Ильич стал вторым лицом в военной номенклатуре после Ворошилова. На Военном Совете в начале июня Егоров вместе со всеми клеймил участников «военно-фашистского заговора». Он был одним из 42 выступавших членов Совета, еще не зная, что будет и в числе тех 34 ораторов, кто вскоре разделит участь Тухачевского.
Александр Ильич достиг пика своей карьеры и на какое-то время утратил бдительность. Думал, что, раз поставили на место разоблаченного «врага народа» Тухачевского, значит, ничего против него у Ежова нет и Сталин ему, Егорову, полностью доверяет. Всем, казалось, был доволен Александр Ильич, но была у него одна кручина на сердце. Главным делом своей жизни маршал считал победу над Деникиным осенью 19-го. Теперь же архитектором этой победы полагалось считать Сталина, а имя Егорова лишь упоминалось в одном ряду с Ворошиловым и Буденным.
Александра Ильича в октябре 37-го выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Вяземскому избирательному округу. Решив, что теперь-то бояться нечего, Егоров поделился наболевшим с давними друзьями из Первой Конной — заместителем наркома обороны по кадрам Е.А. Щаденко и начальником финансово-планового управления РККА А.В. Хрулевым. Эта откровенность оказалась для маршала роковой. Уже в декабре 37-го, вскоре после того как Егоров стал депутатом Верховного Совета и формально обрел депутатскую неприкосновенность, на стол Ворошилова легли доносы Ефима Афанасьевича и Андрея Васильевича. Два друга согласно утверждали, что Егоров во время товарищеского ужина (отмечали назначение Щаденко заместителем наркома обороны, последовавшее в конце ноября) высказал недовольство тем, что историю Гражданской войны освещают неправильно, его, Егорова, роль умаляют, а роль Сталина и Ворошилова «незаслуженно возвеличивают». Видно, выпили в тот вечер военачальники лишнего, потерял Александр Ильич бдительность, расчувствовался, вот и результат. Время после дела Тухачевского и начала массовых арестов в армии было тревожное. Щаденко и Хрулев могли с перепугу подумать, что Егоров вообще их провоцирует. И решили, что сообщить Ворошилову об «идеологически невыдержанном» разговоре в любом случае просто необходимо. Их доносы оказались решающими в судьбе маршала. Но, справедливости ради, надо признать, что эти доносы не были первыми доносами на Егорова. Сомнительный приоритет здесь принадлежит комбригу Яну Матисовичу Жигуру, преподавателю Академии Генштаба. 9 ноября 1937 года он написал:
«В ЦК ВКП(б), тов. Сталину.
Целый ряд важнейших вопросов организации РККА и оперативно-стратегического использования наших Вооруженных Сил, по моему убеждению, решен ошибочно, а возможно, и вредительски. Это в первый период войны может повлечь за собой крупные неудачи и многочисленные лишние жертвы.
Я прошу, тов. Сталин, проверить деятельность маршала Егорова в бытность его начальником Генерального штаба РККА, так как он фактически несет ответственность за ошибки, допущенные в области подготовки оперативно-стратегического использования наших Вооруженных Сил и их организационной структуры.
Я политического прошлого и настоящего тов. Егорова не знаю, но его практическая деятельность, как начальника Генерального штаба, вызывает сомнения.
Член ВКП(б) с 1912 года Я. Жигур».
История умалчивает, из-за чего поссорились Ян Матисович с Александром Ильичем. Отмечу только, что никаких конкретных данных в доносе Жигура не содержится. В принципе подобные обвинения с тем же успехом можно было бы предъявить любому начальнику Генерального штаба любой армии в мире. И в зависимости от отношения главы государства к фигуранту доноса вопрос о его виновности мог быть решен положительно или отрицательно, совершенно независимо от действительного состояния вооруженных сил. Донос Жигура явно диктовался откуда-то возникшей личной неприязнью к Егорову, а не заботой о поддержании боеспособности Красной Армии. Подобных «телег» в 37-м году поступало с избытком. Если бы каждой из них давали ход, на воле не осталось бы никого из руководителей партии, армии и государства. Вполне возможно, что жигуровский донос на Егорова остался бы без последствий, как, например, не привели ни к чему доносы на Буденного и многочисленные показания против Семена Михайловича, на всякий случай выбитые чекистами из арестованных военачальников. Но доносы Щаденко и Хрулева изменили ситуацию. Сталину не нужен был второй по занимаемой должности человек в Наркомате обороны, затаивший обиду на него и Ворошилова за 19-й год. И судьба Александра Ильича была решена. Оставалась только техническая сторона вопроса: как оформить дело. Тем более что Иосиф Виссарионович, как кажется, не был слишком высокого мнения о военных талантах Егорова и продвигал его только в силу личной преданности маршала ему, Сталину, и Ворошилову.
Последней каплей, подточившей шансы Александра Ильича на спасение, стал донос начальника Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы комбрига Георгия Васильевича Жукова, члена ВКП(б) с 1917 года. Вот его текст:
«НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР тов. ВОРОШИЛОВУ.
Вскрытие гнусной, предательской, подлой работы в рядах РККА обязывает всех нас проверить и вспомнить всю ту борьбу, которую мы под руководством партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА провели в течение 20-и лет. Проверить с тем, что все ли мы шли искренно честно в борьбе за дело партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА, как подобает партийному и непартийному большевику и нет ли среди нас примазавшихся попутчиков, которые шли и идут ради карьеристской, а может быть, и другой, вредительско-шпионской цели.
Руководствуясь этими соображениями, я решил рассказать т. ТЮЛЕНЕВУ следующий факт, который на сегодняшний день считаю имеющим политическое значение.
В 1917 году в ноябре м-це, на Съезде 1-й Армии в Штокмазгофе, где я был делегатом, я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника ЕГОРОВА А.И., который в своем выступлении называй товарища ЛЕНИНА авантюристом, посланцем немцев. В конечном счете речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили ЛЕНИНУ как борцу-революционеру, борющемуся за освобождение рабочего класса и крестьянства.
После его выступления выступал меньшевик, который, несмотря на вражду к большевикам, даже отмежевался от его выступления.
Дорогой товарищ Народный Комиссар, может быть поздно, но я, поговорив сегодня с товарищем ТЮЛЕНЕВЫМ, решил сообщить это Вам.
ЧЛЕН ВКП(б) (Г. ЖУКОВ)».
Справедливости ради отмечу, что это письмо, поступившее в канцелярию Ворошилова 26 января 1938 года, уже не повлияло существенным образом на судьбу Егорова. Просто Климент Ефремович и Иосиф Виссарионович еще раз убедились в неискренности своего соратника по Царицыну и могли укрепиться в своем намерении расправиться с ним. Получалось, что даже на съезде 1-й армии, открывшемся 30 октября 1917 года, через четыре дня после победы большевистской революции в Петрограде, Александр Ильич стоял на оборонческих, правоэсеровских позициях, а не примыкал к левому крылу эсеровской партии, тогда склонявшемуся к большевикам. Судьба же Егорова была определена как раз накануне поступления Жуковского доноса.
25 января 1938 года Политбюро и Совнарком приняли специальное постановление, где утверждалось: «Первый заместитель народного комиссара обороны СССР т. Егоров А.И. в период его работы на посту начальника Штаба РККА работал крайне неудовлетворительно, работу Генерального штаба развалил, передоверив ее матерым шпионам польской, немецкой и итальянской разведок Левичеву и Меженинову. СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают подозрительным, что т. Егоров не только не пытался контролировать Левичева и Меженинова, но безгранично им доверял, состоял с ними в дружеских отношениях.
Т. Егоров, как это видно из показаний арестованных шпионов Белова, Гринько, Орлова и других, очевидно, кое-что знал о существующем в армии заговоре, который возглавлялся шпионами Тухачевским, Гамарником и другими мерзавцами из бывших троцкистов, правых эсеров, белых офицеров и т. п. Судя по этим материалам, т. Егоров пытался установить контакт с заговорщиками через Тухачевского, о чем говорит в своих показаниях шпион из эсеров Белов.
Т. Егоров безосновательно, не довольствуясь своим положением в Красной Армии, кое-что зная о существующих в армии заговорщических группах, решил организовать и свою собственную антипартийного характера группу, в которую он вовлек т. Дыбенко и пытался вовлечь в нее т. Буденного.
На основании всего указанного СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1. Признать невозможным дальнейшее оставление т. Егорова А.И. на руководящей работе в центральном аппарате Наркомата обороны ввиду того, что он не может пользоваться полным политическим доверием ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
2. Освободить т. Егорова от работы заместителя наркома обороны.
З. Считать возможным в качестве последнего воспитания предоставление т. Егорову работы командующего одного из неосновных военных округов. Предложить т. Ворошилову представить в ЦК ВКП(б) и СНК СССР свои предложения о работе т. Егорова.
4. Вопрос о возможности оставления т. Егорова в составе кандидатов в члены ЦК ВКП(б) поставить на обсуждение очередного Пленума ЦК ВКП(б).
5. Настоящее постановление разослать всем членам ЦК ВКП(б) и командующим военными округами».
Постановление подписали Сталин и Молотов, как председатель Совнаркома. Странное постановление! Если человека уличают в попытке организовать антипартийную группу, то почему не исключают из партии и не арестовывают (в 38-м году иное трудно себе представить), а в качестве последнего испытания дают возможность покомандовать военным округом, пусть и неосновным? Все дело в том, что и Молотов, и Сталин прекрасно знали, что никакой Егоров не враг, и собирались расправиться с ним за другое — за то, о чем неосторожно обмолвился Александр Ильич в разговоре с Щаденко и Хрулевым. В основном постановление, кстати сказать, повторяло обвинения, содержавшиеся в доносе Жигура. Только в словах о недовольстве Егорова своим положением в Красной Армии имелся скрытый намек на подлинную причину опалы — критическое отношение Егорова к возвеличиванию роли Сталина и Ворошилова в Гражданской войне.
Стоит сказать, что судьба некоторых из тех, кто доносил на Егорова, сложилась не слишком удачно. Жигура арестовали и расстреляли в 38-м, так что маршал даже ненадолго пережил одного из своих губителей. Жукову посчастливилось умереть своей смертью, но во время Великой Отечественной войны он тоже был арестован и несколько лет провел в ГУЛаге. Только Щаденко и Хрулев благополучно миновали все волны репрессий.
Александра Ильича назначили командовать Закавказским военным округом. Между прочим, это еще одно косвенное доказательство, что настоящим заговорщиком Сталин и Ворошилов маршала не считали. Округ-то пограничный, и что, спрашивается, помешало бы страшащемуся разоблачения врагу народа попытаться перейти турецкую границу? 4 февраля 1938 года Егоров прибыл в штаб округа в Тбилиси. Через четыре дня, 8 февраля, в Москве арестовали жену маршала Галину Антоновну Цешковскую. Основываясь на фамилии, люди Ежова обвинили ее в шпионаже в пользу Польши. Между тем Цешковские были связаны с Польшей только очень отдаленным происхождением. Ведь уже дед Галины Антоновны Никанор Цешковский был православным священником. Но после недели интенсивных допросов она призналась в том, что является давним агентом польской разведки. Показания на Егорова были выбиты также из арестованных командармов И.П. Белова, Н.Д. Каширина, А.И. Седякина, комкора И.К. Грязнова и одного из фигурантов процесса «правотроцкистского блока» бывшего наркома финансов СССР Г.Ф. Гринько. Все они заявили, что Александр Ильич возглавляет военную группировку правых, действовавшую в контакте с участниками «военно-фашистского заговора» Тухачевского. Дело здесь было не в какой-то особой симпатии Егорова к Бухарину или Ягоде, а в том, что маршала стремились подверстать к очередному политическому процессу — над «правотроцкистским блоком», который открывался в Москве 2 марта 1938 года.
21 февраля Ворошилов телеграммой вызвал Егорова в Москву. Здесь Александру Ильичу, еще не арестованному и остававшемуся кандидатом в члены ЦК, но уже находившемуся под колпаком НКВД на даче в Соснах, а затем в санатории в Архангельском, были даны очные ставки с Беловым, Кашириным, Седяки-ным, Грязновым и Гринько. Все они, за исключением Каширина, послушно подтвердили причастность Егорова к антисоветской организации правых. Только Николай Дмитриевич нашел в себе мужество 26 февраля перед очной ставкой в присутствии Ворошилова и Молотова отказаться от своих показаний и заявить, что от всех арестованных командиров ложные признания получают пытками и истязаниями. Каширин утверждал, что он сам никогда не был участником какой-либо антисоветской организации и предупредил: «Не верьте ничему, что бы я ни писал в своих дальнейших показаниях». В 1939 году арестованный бывший первый заместитель Ежова командарм 1-го ранга М.П. Фриновский рассказал следователям, как вел себя Каширин перед очной ставкой с Егоровым: «Было решено устроить очные ставки ряду арестованных, которые давали показания на Егорова, в частности и Каширину с Егоровым, который еще не был арестован. Эта очная ставка должна была проводиться Ежовым в присутствии Молотова и Ворошилова в кабинете у Ежова. Первым был вызван Каширин. Егоров уже сидел в кабинете. Когда Каширин вошел и увидел Егорова, он попросил, чтобы его выслушали предварительно без Егорова. Егорова попросили выйти, и Каширин заявил, что показания на Егорова им были даны под физическим воздействием следствия, в частности находящегося здесь Ушакова».
После провалившейся очной ставки с Егоровым «физическое воздействие» на Каширина было продолжено с еще большей интенсивностью. 3 апреля 1938 года Николай Дмитриевич вынужден был написать письмо Ежову, где свое заявление на очной ставке с Егоровым назвал провокационным. Каширин заявил: «Прошло уже больше месяца с того момента, когда я 26 февраля с. г. сделал Вам и находящемуся у Вас в кабинете народному комиссару обороны Советского Союза маршалу Ворошилову К.Е. провокационное заявление, направленное на дискредитацию органов НКВД. Мое провокационное заявление о том, что я не являюсь участником заговора, а в НКВД существует застенок, в котором содержится много невинных командиров, не было случайным и неожиданным. Я пришел к следующим основным решениям: а) сказать о себе, что не был участником контрреволюционного заговора, и отказаться от всех своих прошлых показаний и тем самым опорочить их; б) сказать, что НКВД арестовало много невинных командиров, которые якобы под влиянием репрессий дают друг на друга ложные показания. В этом направлении я примерно и сделал свое гнусное провокационное заявление Вам и народному комиссару обороны Ворошилову».
Егоров, еще надеясь на спасение, 28 февраля написал отчаянное письмо Ворошилову, где уверял «друга Клима» в собственной благонадежности: «Я представил Вам свои выводы по основным вопросам, которые были поставлены на очной ставке со мной врагами народа. Со всей глубиной моей ответственности за себя, за свои поступки и поведение я вновь и еще раз вновь докладываю, что моя политическая база, на основе которой я жил в течение последних 20 лет, живу сейчас и буду жить до конца моей жизни, — это наша великая партия ЛЕНИНА — СТАЛИНА, ее принципы, основы и генеральный курс.
За все эти 20 лет, проводя в жизнь все задачи партии и борясь за их осуществление, у меня не было ни одного облачка, которое вызывало бы какое-либо малейшее сомнение и тем более колебание в отношении правильности задач партии и критики руководства. Этого никогда не было, и никто не посмеет говорить обратное. На тех же основах было и зижделось мое отношение к задачам Красной Армии и отношение к руководству армии в Вашем лице. Я со всей решительностью это подчеркиваю и заявляю, как бы и что бы ни говорили по этому вопросу в отношении меня предатели и шпионы.
Я не безгрешен. Допускаю, что и я и мне говорили по отдельным моментам практической работы. Но со всей решительностью скажу, что я тотчас же перегрыз бы горло всякому, кто осмелился бы говорить и призывать к смене руководства. Моя политическая база оставалась и остается незыблемой. Мое политическое лицо не обрызгано ни одной каплей грязи и остается чистым, как оно было на протяжении всех 20 лет моего пребывания в рядах партии и Красной Армии. Исходя из этого сознания, тем более тяжело переживать всю ту обстановку, которая сложилась в отношении меня. Тяжесть переживаний еще более усугубилась, когда узнал об исключительной подлости и измене Родине со стороны бывшей моей жены, за что я несу величайшую моральную ответственность.
Дорогой Климент Ефремович! Я переживаю исключительно тяжелую моральную депрессию. Я знаю и сознаю, что показания врагов народа, несмотря на их вопиющую гнусность и клеветничество, надо тщательно проверить. Но я об одном не могу не сказать, а именно: конечно, партия должна получить исчерпывающие данные для окончательного решения моей судьбы. Решение будет являться следствием анализа показаний врагов народа против меня и анализом моей личности, в совокупности всех моих личных свойств.
Если бы я имел за собой, на своей совести и душе хоть одну йоту моей вины в отношении политической связи с бандой врагов и предателей партии, Родины и народа, я не только уже теперь, а еще в первые минуты, когда партия устами вождя товарища СТАЛИНА объявила, что сознавшиеся не понесут наказания, да и без этого, прямо и откровенно об этом заявил в первую голову товарищу СТАЛИНУ и Вам. Но ведь нет самого факта для признания, нет вопросов моей политической вины перед партией и Родиной как их врага, изменника и предателя.
Я могу и должен быть наказан за недочеты, проступки, оплошность, нерадение в своей практической работе, за политическую слепоту и ротозейство, за отсутствие надлежащей классовой и революционной бдительности. Меня можно и необходимо наказать за обывательщину, недостойную подлинного большевика. вокруг которой орудовала шайка преступников и шпионов. Это все бесспорно, и это я полностью за собой признаю. Но за собой я не могу признать наличие какой бы то ни было политической связи с врагами, предателями и шпионами, поскольку таковой никогда не существовало, что бы и как бы ни говорили эти враги. Вот это особенно и тяжело переживать, и этот вопрос я бы, не задумываясь, прямо и открыто, поставил и заявил бы о нем нашей партии и Вам, если бы он был в природе и за мной в каком бы то ни было виде и объеме. Его не было, нет и никогда быть не может. В этом я вновь клянусь всем существом мой жизни.
Дорогой Климент Ефремович!
Я подал записку СТАЛИНУ с просьбой принять меня хоть на несколько минут в этот исключительный для моей жизни период. Ответа нет. Я хочу в личной беседе заявить ему, что все то светлое прошлое, наша совместная работа на фронте остается для меня самым дорогим моментом жизни и что это прошлое я никогда и никому не позволял чернить, а тем более не допускал и не могу допустить, чтобы я хоть в мыслях мог изменить этому прошлому и сделаться не только уже на деле, но и в помыслах врагом партии и народа. Прошу Вас, Климент Ефремович, посодействовать в приеме меня тов. СТАЛИНЫМ. Вся тяжесть моего переживания сразу же бы спала как гора с плеч.
Я хочу, мне крайне необходимо моральное успокоение, какое всегда получаешь от беседы с тов. СТАЛИНЫМ.
Еще раз заявляю Вам как моему непосредственному начальнику, соратнику по боевым дням Гражданской войны и старому другу (как Вы выразились в своем приветствии по случаю моего пятидесятилетия), что моя политическая честность непоколебима как к партии, так и к народу».
На этом этапе Александра Ильича, очевидно, еще не ознакомили с доносами Жигура, Щаденко Хрулева и Жукова, и он терялся в догадках, чем вызвана внезапная немилость. Вероятно, Ворошилов показал егоров-ское письмо Сталину и они вместе только посмеивались, когда читали признания маршала в непоколебимой верности партии и руководству. Иосиф Виссарионович и Климент Ефремович хорошо знали, что единственно в чем был постоянен маршал, так это в стремлении сделать карьеру, и ради этого всегда примыкал к победителям. Вот и Ленина еще в ноябре 17-го ругал немецким шпионом, чтобы потом клясться в верности партии Ленина — Сталина, вот и к левым эсерам примкнул, когда они стали правящей партией, чтобы порвать с ними в июле 18-го, когда левоэсеровских лидеров навсегда лишили доступа к власти. А насчет того, что у Егорова в помыслах не было изменить славному прошлому, Сталин с Ворошиловым и подавно не верили. Знали ведь от Хрулева и Щаденко, как честил Александр Ильич в приватном разговоре высокопоставленных соратников по «совместной боевой работе».
Егоров, похоже, догадывался, что причиной опалы мог стать какой-то неосторожный разговор. Поэтому и говорил или слышал что-то не очень выдержанное, не совсем партийное. Но вряд ли маршал грешил именно на Щаденко с Хрулевым. Иначе бы догадался, что писать письма старым друзьям Клименту Ефремовичу и Иосифу Виссарионовичу уже бесполезно, что не удастся отделаться малым наказанием — выводом из ЦК, назначением на второстепенный округ — «за обывательщину» (под этим расплывчатым термином подразумевалось, что не разглядел шпиона в горячо любимой жене). Вот и Галину Антоновну Александр Ильич поспешил назвать своей бывшей супругой, отрекся от нее, лишь бы собственную шкуру спасти, да не спас.
Ворошилов Егорову не ответил. Ответил Сталин. 28 февраля — 2 марта 1938 года опросом членов Политбюро было принято специальное постановление о Егорове: «Ввиду того, что, как показала очная ставка т. Егорова с арестованными заговорщиками Беловым, Грязновым, Гринько, Седякиным, т. Егоров оказался политически более запачканным, чем можно было бы думать до очной ставки, и, принимая во внимание что жена его, урожденная Цешковская, с которой т. Егоров жил душа в душу, оказалась давнишней польской шпионкой, как это явствует из ее собственного показания, ЦК ВКП(б) признает необходимым исключить т. Егорова из состава кандидатов в члены ЦК».
Под этим постановлением стоит подпись Сталина как секретаря ЦК. В тот же день, 2 марта, он получил письмо Егорова. Маршал молил о пощаде и клялся в собственной преданности Родине, партии и лично Иосифу Виссарионовичу: «Я заявляю ЦК ВКП(б), Политбюро, как высшей совести нашей партии, и Вам, тов. Сталин, как вождю, отцу и учителю, и клянусь своей жизнью, что если бы я имел хоть одну йоту вины в моем политическом соучастии с врагами народа, я бы не только теперь, а на первых днях раскрытия шайки преступников и изменников Родины пришел бы в Политбюро и к Вам лично, в первую голову, с повинной головой в своих преступлениях и признался бы во всем.
Но у меня нет за собой, на моей совести и душе никакой вины перед партией и Родиной, как и перед Красной Армией, вины в том, что я их враг, изменник и предатель.
Но я еще раз со всей искренностью докладываю и прошу Политбюро и Вас, тов. Сталин, верить мне, что я лично никогда и ни с кем из преступной шайки врагов народа, предателей и изменников Родины и шпионов не был ни в какой политической связи, а все 20 лет пребывания в рядах партии и Красной Армии был всегда верным и преданным сыном и бойцом нашей великой партии Ленина — Сталина, нашей могучей Родины, нашей доблестной Красной Армии и нашего народа».
«Отец и учитель» в искренность маршала не поверил. Никак не мог забыть Иосиф Виссарионович, что Егоров сомневался в его полководческих заслугах. Подобных сомнений вождь не прощал.
На следующий день, 3 марта, ознакомившись с постановлением ЦК, Александр Ильич написал еще одно письмо Ворошилову, последнее. И зачем-то поставил на письме гриф «совершенно секретно». Егоров рассказывал о том, в каком тяжелом положении находится, и просил помочь:
«Дорогой Климент Ефремович!
Только что получил решение об исключении из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б). Это тяжелейшее для меня политическое решение партии признаю абсолютно и единственно правильным, ибо этого требует непоколебимость авторитета ЦК ВКП(б) как руководящего органа нашей великой партии. Это закон и непреложная основа. Я все это полностью осознаю своим разумом и пониманием партийного существа решения.
Вы простите меня, Климент Ефремович, что я надоедаю Вам своими письмами. Но Вы, я надеюсь, понимаете исключительную тяжесть моего переживания, складывающегося из двух, совершенно различных по своему существу, положений.
Во-первых, сложившаяся вокруг меня невообразимая и неописуемая обстановка политического пачкания меня врагами народа и, во-вторых — убийственный факт вопиющего преступления перед Родиной бывшей моей жены. Если второе, т. е. предательство бывшей жены, является неоспоримым фактом, то первое, т. е. политическое пачкание меня врагами и предателями народа, является совершенно необъяснимым, и я вправе назвать его трагическим случаем моей жизни.
Чем объяснить эту сложившуюся вокруг меня чудовищную обстановку, когда для нее нет никакой политической базы и никогда не было такого случая, чтобы меня, или в моем присутствии, кто-либо призывал к выступлению против руководства партии, советской власти и Красной Армии, т. е. вербовал как заговорщика, врага и предателя.
За все мои 20 лет работы никогда, нигде и ни от кого подобных призывов и предложений я не слыхал. Заявляю, что всякий, кто осмелился бы предложить мне акт такого предательства, был бы немедленно мной передан в руки наших органов НКВД и об этом было бы мной в первую голову и прежде всего доложено Вам. Об этом отношении знал каждый из шайки врагов и предателей народа, и никто из них не осмелился сделать мне ни одного раза и ни одного подобного предложения в продолжение всего моего 20-летнего периода работы.
Дорогой Климент Ефремович! Я провел в рядах нашей родной Красной Армии все 20 лет, начиная с первых дней ее зарождения еще на фронте в 1917 г. Я провел в ее рядах годы исключительной героической борьбы, где я не щадил ни сил, ни своей жизни, твердо вступив на путь Советской власти, после того как порвал безвозвратно с прошлым моей жизни (офицерская среда, народническая идеология и абсолютно всякая связь, с кем бы то ни было, из несоветских элементов или организаций), порвал и сжег все мосты и мостики, и нет той силы, которая могла бы меня вернуть к этим старым и умершим для меня людям и их позициям. В этом я также абсолютно безгрешен и чист перед партией и Родиной. Свидетелем моей работы на фронтах и преданности Советской власти являетесь Вы, Климент Ефремович, и я обращаюсь к вождю нашей партии, учителю моей политической юности в рядах нашей партии т. Сталину и смею верить, что и он не откажется засвидетельствовать эту мою преданность делу Советской власти. Пролитая мною кровь в рядах РККА в борьбе с врагами на полях сражений навеки спаяли меня с Октябрьской революцией и нашей великой партией. Неужели теперь, в дни побед и торжества социализма, я скатился в пропасть предательства и измены своей Родине и своему народу, измены тому делу, которому с момента признания мною Советской власти я отдал всего себя — мои силы, разум, совесть и жизнь. Нет, этого никогда не было и не будет.
Мне стыдно, дорогой Климент Ефремович, обращаться вновь и призывать Вас верить моему заявлению. Но, не находя за собой никакой вины перед партией, Родиной и народом в том, что я в какой бы то ни было степени являлся врагом, предателем и изменником перед ними, я смею поклясться перед партией, перед т. Сталиным и перед Вами ценой моей жизни, что вокруг меня (помимо предательства бывшей жены, за это я несу исключительную моральную вину) создалась йи-чем не объяснимая трагическая обстановка, в которой я гибну, невиновным в какой бы то ни было степени перед партией, Родиной и народом в деле измены как их враг и предатель…»
Климент Ефремович ручаться за Александра Ильича вовсе не собирался, равно как и Иосиф Виссарионович не спешил засвидетельствовать преданность Егорова Советской власти. Даже в этом отчаянном письме маршал привычно врал насчет первых этапов своей биографии. В частности, говорил о своей приверженности в прошлом «народнической», т. е. эсеровской, идеологии, поддерживая легенду о многолетнем членстве в эсеровской партии.
Егоров продолжал надеяться, что старые друзья по Царицыну не будут его губить. И когда после исключения из ЦК Александра Ильича оставили на свободе еще на три с половиной недели, он начал верить, что все обойдется. Тем большим потрясением стал для маршала арест.
Его взяли 27 марта 1938 года. Не исключено, что Егорову предъявили доносы Щаденко и Хрулева, и он понял, что никакой ошибки в аресте нет и что Ворошилов и Сталин теперь стали его врагами. Во всяком случае, Александр Ильич не стал запираться и послушно дал те показания, которые ему продиктовали следователи. Покорно изобличал в измене и предательстве как уже арестованных командиров Красной Армии, так и тех, кто еще оставался на свободе. Бывший сотрудник НКВД Казакевич, участвовавший в следствии по его-ровскому делу, в 1955 году сообщил, что Ежов обещал сохранить маршалу жизнь, если тот даст правдивые показания и вскроет преступную деятельность других заговорщиков. Александр Ильич, кажется, поверил, может быть, опять вспомнив сталинский тезис, что «сознавшиеся не понесут наказания». Егоров собственноручно написал очень подробные показания, но Ежов, вероятно, не собирался выполнять обещание. Да и как мог он спасти Егорова от казни, если дело Егорова было инициировано самим Сталиным. Тем более что как раз в период следствия по этому делу, в ноябре 38-го, Николай Иванович был смещен с поста наркома внутренних дел.
22 февраля 1939 года Егоров предстал перед Военной коллегией Верховного Суда. Александра Ильича приговорили к расстрелу. Его вина в приговоре определялась следующим образом: «Егоров признан виновным в том, что он, с двурушнической целью вступив в компартию, в 1919 году, установил преступные связи ч: Каменевым С.С. и Лебедевым П.П. (с главкомом и начальником Штаба Красной Армии. — Б.С.), а также с Троцким, по заданию которого пытался сорвать выполнение плана Сталина по разгрому Деникина. В 1920 году подготавливал террористический акт в отношении Сталина. В 1928 году, установив антисоветские связи с Рыковым и Бубновым, по их заданию создал в РККА антисоветскую террористическую организацию правых. В последующие годы Егоров установил контакт по антисоветской работе с Тухачевским и Гамарником. В 1931 году, находясь на учебе в Германии, установил шпионские связи с германским генеральным штабом, а в 1934 году, по заданию Рыкова, стал шпионом польской разведки».
Здесь — стандартный «джентльменский набор» обвинений: заговор, подготовка покушения на вождя, шпионаж в пользу потенциальных противников — Польши и Германии, благо, что жену Егорова еще раньше объявили польской шпионкой, а сам он побывал в Германии. Вот китайским шпионом Александра Ильича делать не стали, хоть и был он военным атташе при гоминьдановском правительстве. И вполне понятно, почему. Ведь в конце 30-х Чан Кайши оказался советским союзником против Японии, и делать казнимых военных мнимыми агентами китайской разведки Сталину было без надобности.
Оригинальным же пунктом обвинения Егорова был план разгрома Деникина. Теперь Александр Ильич не только перестал быть соавтором и исполнителем этого плана, но вообще превратился в злостного саботажника, пытавшегося не допустить реализации гениального сталинского замысла. Так Иосиф Виссарионович отомстил Егорову за неосторожную похвальбу перед Щаденко и Хрулевым. Что же касается «двурушнического вступления в партию», конечно, к большевикам Александр Ильич присоединился не по идейным, а по карьерным соображениям. Но разве подавляющее большинство членов компартии не были движимы теми же самыми карьерными мотивами? Даже Ленин и Сталин, в сущности, рассматривали партию как средство захвата власти, надеясь занять в новом государстве главную роль.
Егорова расстреляли 23 февраля 1939 года, в 21-ю годовщину создания Красной Армии, в рядах которой маршал находился с первого дня. Реабилитировали его 14 марта 1956 года той же самой Военной коллегией Верховного Суда СССР, теперь отменившей смертный приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» и прекратившей дело «за отсутствием состава преступления».
По точному определению В.Н. Рапопорта и Ю.А. Геллера, маршал Егоров — это «человек, в натуре которого было больше от чиновника, чем от полководца». Можно сказать, что, в отличие от Тухачевского, гибель Егорова была случайностью. Если бы держал Александр Ильич язык за зубами, не сетовал бы в компании не слишком надежных друзей на неправильное освещение роли Сталина и своей собственной, вряд ли доносам против него был бы дан ход. Сомневаюсь, что Александр Ильич оказался бы на высоте в годы Великой Отечественной войны. Его могла ожидать почетная отставка с назначением на малозначительную должность. Но такого счастливого финала судьба Егорову не отпустила.
СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ КРЫЛАТЫЙ МАРШАЛ, НЕ ВЗЛЕТЕВШИЙ В НЕБО
Сергей Александрович Худяков — самый неизвестный из истребленных маршалов. До сих пор о нем не написано ни одной книги. А между тем жизнь маршала авиации таит немало загадок. Начать с того, что его подлинные фамилия, имя и отчество совсем другие. При рождении будущего маршала звали Арменак Артемович Ханферянц. Он появился на свет в 1902 году в селе Мец-Гаглар в Нагорном Карабахе. В 1915 году отец Арменака погиб на фронте, а вскоре умерла и мать. Чтобы не помереть с голоду, подросток пошел подручным в рыболовецкую артель, базировавшуюся на полуострове Сара в Каспийском море, а через несколько месяцев перебрался на Бакинские нефтепромыслы, где трудился чернорабочим.
Что делал Арменак Ханферянц в революционном 1917 году, достоверно неизвестно, как и многое другое в его биографии. А в 1918 году мы видим юного уроженца глухого карабахского села в рядах одного из отрядов, обороняющих Баку от наступающих на город турецких войск. После ареста маршала обвинили в том, что отряд этот был дашнакский. Он, однако, это отрицал и на следствии, как и во всех автобиографиях, настаивал, что отряд был красногвардейский, сражавшийся за Бакинскую коммуну во главе с 26 легендарными комиссарами. Потом этот отряд влился в полк Григория Константиновича Петрова, военного комиссара Бакинского района, расстрелянного под Красно-водском вместе с другими бакинскими комиссарами в сентябре 18-го года. Незадолго до захвата Баку турками отряд, в котором служил Ханферянц, эвакуировался в Астрахань. Перед этим он был разоружен захватившим власть в городе эсеро-меньшевистским правительством. По словам единственного на сегодня биографа Худякова генерал-майора Ашота Вагаршаковича Казарьяна, по пути пароход был обстрелян английскими военными судами и поврежден. Арменак оказался в воде и стал тонуть. Его спас товарищ по роте Сергей Худяков. Вместе они добрались до Астрахани, где были зачислены в ряды 289-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии Красной Армии, сформированного из бывших бойцов отряда Петрова. Худяков стал командиром отряда конных разведчиков, а Ханферянц — его заместителем. В 1919 году во время одного из боев с деникинцами команда разведчиков оказалась в окружении. Худяков был смертельно ранен. А.В. Казарьян так передает его последние слова, обращенные к другу Арменаку: «Надень мою коммунарку (кожаный картуз. — Б.С.), браток, и веди отряд вперед. Пусть враги думают, что я жив». После этого разведчики во главе с Ханферянцом прорвались к своим. В память о друге Арменак взял не только коммунарку, но и фамилию, имя и отчество и превратился в Сергея Александровича Худякова. Возможно, об этом бое, где погиб настоящий Худяков, Ханферянц-Худяков рассказал в автобиографии 1940 года. Там написано, что в апреле 1919 года он попал в плен к белым, но через семь дней ему удалось бежать вместе с другими разведчиками. Не исключено, что смена фамилии каким-то образом связана с этим коротким пребыванием в плену. Во всяком случае, будущий маршал никогда не скрывал, что его первоначальная фамилия — Ханферянц, так что вряд ли перемена имени была связана со стремлением утаить какие-то неблаговидные факты биографии.
Интересно, что наш герой унаследовал не только паспорт друга, но и его короткую биографию. С тех пор во всех энциклопедиях писали, что маршал авиации Сергей Александрович Худяков родился 7 января 1902 года (а по старому стилю - 25 декабря 1901 года) в городе Вольске Саратовской губернии в семье железнодорожника и в 1916 году окончил городское начальное училище. В действительности отец маршала Артем Ханферянц был бедным крестьянином, и вообще сомнительно, что до революции образование Арменака пошло дальше церковно-приходской школы. Ведь уже с 15 лет он вынужден был сам добывать средства к существованию. Трудно также сказать, действительно ли Арменак Ханферянц родился 7 января 1902 года или это — дата рождения его друга Худякова. Вместе с его паспортом Арменак обрел и столь ценимое при Советской власти пролетарское происхождение, и достаточно высокий образовательный ценз — курс городского начального училища давал полное среднее образование, которого у паренька из Мец-Гаглара, очевидно, не было.
Пребывание в плену не помешало свежеиспеченному Худякову делать весьма успешную карьеру в рядах Красной Армии. В конце 1919 года он возглавил полковую команду конных разведчиков. Потом командовал взводом и был помощником командира эскадрона. Вместе со своим эскадроном и другими частями 11-й советской армии Худяков вошел в Баку в мае 1920 года, а затем боролся с партизанскими отрядами мусаватистов в Азербайджане. В этих боях он был дважды ранен и один раз контужен. В апреле 21-го года Худякова послали на кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Тифлис. После окончания курсов, в июне 22-го, его направили в 1-й корпус червонного казачества на Украину. В связи с резким сокращением армии, с 5,5 миллиона человек в конце 1920 года до 1 595 тысяч человек к концу 1921 года и до 516 тысяч — к концу 23-го, бывший помощник командира эскадрона сначала смог получить лишь должность взводного. Однако вскоре вырос до командира сотни. В 1925 году окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС) в Ленинграде и стал начальником полковой школы. Последняя должность Худякова в кавалерии — помощник командира полка (в 1930 году ему даже пришлось исполнять обязанности полкового командира).
В 1931 году судьба Сергея Александровича претерпела крутой поворот. Партия, в которую он вступил еще в 1924 году в рамках так называемого «ленинского призыва», бросила лозунг: «Трудовой народ, строй воздушный флот!» 29-летнего кавалериста направили учиться на командный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. Этот факультет готовил, собственно, не летчиков, а штабных работников и высших командиров авиации, и его выпускники умели летать весьма условно. Правда, и летной подготовкой Худяков не пренебрегал. Уже в первый год учебы в академии налетал 148 часов, в том числе 8 — ночью. Позднее проходил практику в качестве летчика-наблюдателя. Однако асом так и не стал, да и в воздушных боях ни разу в жизни не участвовал. Тем не менее учился Сергей-Арменак хорошо и по окончании академии в 1936 году получил блестящую аттестацию: «Подлежит выпуску по 1-у разряду. Достоин присвоения звания майора. Может быть назначен на должность командира эскадрильи». Однако командование эскадрильей Худякову, умевшему летать только на устаревших учебных самолетах, все же не доверили. Иначе, боюсь, его жизнь могла бы оборваться в одной из авиакатастроф значительно раньше, чем это произошло на самом деле. Ведь в 30-е годы советские ВВС держали прочное первое место в мире как по общему числу самолетов, так и по их аварийности. Да и подчиненным с командиром, едва научившимся летать, наверное, пришлось бы несладко. К общему удовлетворению, Сергей Александрович получил довольно непыльную должность — начальника оперативного отдела штаба 5-й тяжелой бомбардировочной бригады в ВВС Белорусского военного округа. Здесь не надо было подниматься в воздух. Сиди в кабинете и работай с картами и документами — чем плохо? Через год Худяков вырос до начальника оперативного отделения в штабе авиации округа. Стремительное восхождение по ступенькам авиационной иерархии было связано с начавшимися в 37-м году широкомасштабными репрессиями в Красной Армии. Освободившиеся вакансии заполнялись молодыми командирами-коммунистами, которых в тот момент считали «благонадежными» и никак не связанными с «Тухачевским и его бандой». В 1938 году Худякова-Ханферянца произвели в полковники и назначили начальником тыла ВВС Белорусского военного округа. В 1940 году последовало новое назначение — начальником штаба ВВС Белорусского Особого военного округа. Как известно, большинство самолетов округа в первые же дни Великой Отечественной войны было уничтожено на аэродромах и в воздушных боях. Командующий ВВС Западного фронта генерал-лейтенант И.И. Копец покончил с собой. Если бы не покончил, то разделил бы печальную участь командующего фронта генерала армии Д.Г. Павлова и других руководителей войск фронта. А вот Худяков не только уцелел, но и резко пошел в гору. В июне 41-го он стал начальником штаба, а с февраля 42-го — командующим ВВС Западного фронта.
Нельзя сказать, что Сергей Александрович чем-нибудь обогатил тактику или оперативное искусство боевого применения авиации. Никогда не командовавший авиационными частями, обо всем этом он знал только понаслышке. Но, очевидно, хорошо умел писать доклады, где расписывал подлинные и мнимые достижения «сталинских соколов». Потому и держался на плаву. В октябре 41-го, когда советские войска терпели сокрушительное поражение на подступах к Москве и неприятельская авиация полностью господствовала в воздухе, Худякову присвоили звание генерал-майора авиации. Значит, Сталин не считал его виновным в поражениях первых месяцев войны. Между тем советские летчики уступали асам люфтваффе не только в уровне летного и боевого мастерства, но и, что не менее важно, в уровне организации и тактических и оперативных принципах использования ВВС. Вот что вспоминал, например, земляк Худякова-Ханферянца, тоже уроженец Нагорного Карабаха, Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян: «Противник не только превосходил нас в количестве боевых самолетов, он имел и более удачное организационное построение своей авиации, и более гибкую систему централизованного управления ею в операциях.
Имея единое командование, единые органы управления и аэродромного обеспечения, немцы без особого труда сосредоточивали основные усилия авиации для массированного боевого применения на тех направлениях, где, по их замыслам, решалась участь самых важных сражений и операций в целом.
Наши же военно-воздушные силы на фронтах в организационном отношении были до предела раздроблены. Основная масса боевых самолетов фронтов входила в состав армейской авиации, действия которой планировались и управлялись главным образом командующими общевойсковыми армиями исходя из оперативных задач, стоящих перед ними.
Сидят: М. Тухачевский, К, Ворошилов, А. Егоров. Стоят: С. Буденный, В. Блюхер
В. Блюхер, М. Викторов, М. Калмыков
Л. Егоров, 1920 г. Л. Берия
В. Блюхер М. Тухачевский
И. Сталин. 1936 г.
В дни работы XVII съезда ВКП(б).
Сидят: Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. М. Киров. Стоят: А. С. Енукидзе, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, В. В. Куйбышев
Слева направо (сидят): главком С. С. Каменев, член Реввоенсовета Республики С. И. Гусев, командующий войсками Юго-Западного фронта А. И. Егоров, член Реввоенсовета 1-й Конной армии К Е. Ворошилов. Стоят: начальник Полевого штаба Реввоенсовета Республики П. П. Лебедев, начальник штаба Юго-Западного фронта Н. Н. Петин, командующий 1-й Конной армией С. М. Буденный, начальник Оперативного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики Б. М. Шапошников. 1920 г.
Реввоенсовет Кавказского фронта. Слева направо: С. И. Гусев, Г. К Орджоникидзе, М. Н. Тухачевский, В. А. Трифонов. 1920 г.
В состав фронтовой авиации выделялось относительно небольшое количество самолетов. Такая организационная раздробленность во многих случаях крайне затрудняла возможность массированного их применения для решения наиболее важных задач операции.
Другим крупным недостатком организационной структуры нашей авиации в тот период (речь идет о 1942 годе. — Б.С.) являлся неоднородный, смешанный состав самолетов в авиационных дивизиях. Каждое соединение имело в своем составе два штурмовых и два истребительных авиационных полка. Это крайне затрудняло, а иногда даже прямо исключало возможность массированного применения имевшихся истребителей, например, для завоевания господства в воздухе над районами, где происходили решающие боевые действия наших наземных войск, или для нанесения мощных ударов большим количеством штурмовиков и бомбардировщиков по наиболее важным группировкам войск противника».
Баграмян рассказывал о действиях авиации на Юго-Западном фронте. Но та же картина была и на Западном фронте, где действиями авиации руководил Худяков. «Сталинские соколы» и их командиры уступали асам Германа Геринга, его генералам и фельдмаршалам по всем статьям. Германский генерал Ф. В. Меллентин вынес такое впечатление о боевой деятельности советской авиации: «Эффективность действий русской авиации не соответствовала ее численности. Потери в опытных кадрах, понесенные в первые месяцы войны, так и не были восполнены, а самолеты серийного производства намного уступали по своим качествам нашим самолетам. Старшие офицеры, видимо, не могли усвоить принципов ведения боевых действий авиации в современных условиях.
Русские фактически не имели стратегической авиации, и те немногие удары, которые нанесла их авиация дальнего действия, не причинили нам никакого ущерба. Самолеты-разведчики углублялись иногда в наше расположение на 50-100 км, но истребители и бомбардировщики редко залетали за линию фронта более чем на 30 км. Это было для нас большим облегчением, так, даже в самые тяжелые периоды войны передвижение войск и грузов в тыловых районах происходило беспрепятственно.
Русская авиация использовалась в основном для решения тактических задач, а начиная с лета 1943 года самолеты русских висели с утра до вечера над полем боя. Организация взаимодействия между авиацией и наземными войсками непрерывно улучшалась; в то же время качественное превосходство немецкой авиации постепенно исчезало. Но в тактическом отношении русские всегда уступали нам, а их летчики не могли сравниться с нашими пилотами».
Строго говоря, по качеству самолетов ВВС Красной Армии не уступали люфтваффе с самого начала войны. Ведь уже к 22 июня 1941 года советские приграничные округа располагали 1540 самолетами новых типов, тогда как немцы имели на Восточном фронте лишь 1830 боевых машин. А новые истребители Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-Зне уступали или даже превосходили основной немецкий истребитель Me-109 (а таких самолетов в армии вторжения было всего около 500). К концу же 1942 года боевые машины новых типов составили почти 72 % советского авиационного парка. Вот только летать на них умели плохо. Из-за этого, а также из-за нехватки бензина вплоть до лета 43-го советские истребители барражировали над полем боя не на максимальной, а на наиболее экономичной скорости. Да и численное превосходство советской авиации сохранялось на протяжении почти всей войны, исключая лишь ее первые месяцы, когда погибла практически вся авиация приграничных округов, а пополнение еще не поступило. Но оно сводилось на нет низким уровнем подготовки летчиков, а также тем обстоятельством, что на фронт часто поступала бракованная авиатехника. За это после войны были осуждены непосредственный начальник Худякова главнокомандующий ВВС главный маршал авиации А.А. Новиков и руководство Наркомата авиационной промышленности.
Из — за больших потерь в летном составе советские пилоты так и не успевали набраться опыта и погибали прежде, чем могли научиться как следует воевать. У нас только И.Н. Кожедуб сбил 62 самолета, а А.И. Покрышкин — 59. И это — лучшие из летчиков-истребителей. А в люфтваффе 104 пилота имели более 100 побед. Из них только трое воевали на Западном фронте, а остальные, в том числе абсолютный рекордсмен Эрих Хартман, сбивший 352 самолета, действовали против советских ВВС. Кстати, оказавшийся в плену у Красной Армии Хартман был приговорен к 20 годам исправительно-трудовых лагерей «за нанесение ущерба советской экономике, выразившееся в уничтожении 347 самолетов». По этому уникальному в мировой юриспруденции приговору он отсидел десять с половиной лет и вернулся на родину только в 1955 году.
Справедливости ради надо заметить, что в ходе войны в организации советской авиации произошли изменения к лучшему. Так, в мае 1942 года были сформированы воздушные армии, каждая из которых сконцентрировала всю авиацию, действовавшую на одном из фронтов. К этой реформе приложил свою руку и начальник штаба ВВС Худяков, назначенный на эту должность месяцем раньше. Но вскоре, в июне 42-го, по просьбе руководства Западного фронта Сергей Александрович отправился туда командовать 1-й воздушной армией. Здесь с ним позднее встретился А.Н. Пономарев, исполнявший должность главного инженера армии. Александр Николаевич тепло вспоминал о командарме: «Быстро нашли мы общий язык с генерал-лейтенантом С.А. Худяковым (это звание он получил в марте 1943 года. — Б.С.). В немногие свободные минуты Сергей Александрович делился со мной своими мыслями о реорганизации фронтовой авиации, чтобы повысить ее мобильность и уменьшить зависимость от органов снабжения и обеспечения. Командарм думал и над тем, как улучшить связь с наземными войсками. Так сложился конкретный план перестройки органов тыла, эксплуатации и снабжения авиационных войск. Худяков, человек неистощимой энергии и решительности, на свой страх и риск ввел эти перемены в армии, а когда стал начальником Главного штаба ВВС (в мае 1945 года. — Б.С.), постарался распространить их на все Военно-Воздушные Силы».
Вообще, все немногочисленные сохранившиеся отзывы мемуаристов о Худякове — положительные. Вот, например, А.В. Казарьян утверждает: «Никто не припомнит, чтобы командующий 1-й армии устраивал необоснованный разнос, дергал по пустякам». Но сами по себе высказывания такого рода мало что значат. Ведь в советской исторической и мемуарной литературе о Великой Отечественной войне существовало очень немного «мальчиков для битья» — военачальников, о которых дозволялось отзываться дурно. Кулик, Павлов, Жуков во времена опалы при Хрущеве, еще несколько фамилий. Об остальных писали только хорошее или, в крайнем случае, нейтральное. Да и похвалы обычно сводятся к самым общим словам, из которых трудно понять, что же такого выдающегося совершил Худяков. Тот же Казарьян пишет: «Перед Курской битвой штаб ВВС разослал директиву воздушным армиям о проведении операции по ослаблению операций противника. Директива была получена и в штабе 1-й воздушной армии. Однако, лучше зная оперативную обстановку, генерал Худяков не согласился с теми задачами, которые были поставлены в директиве. Он выдвинул другие задачи, добился их утверждения и успешно выполнил их». Вот и пойми, что это за «операция по ослаблению операций» и что за задачи поставил Сергей Александрович. Впрочем, столь же загадочны и «конкретный план перестройки органов тыла, эксплуатации и снабжения авиационных войск», который упоминает А.Н. Пономарев.
Очень глухо говорится и о единственной неудаче Худякова. Т. е. наверняка не единственной, а о той одной, о которой мне удалось найти хоть какие-то сведения. Казарьян свидетельствует: «23 февраля 1943 года, неверно оценив возможности противника, он (Худяков. — Б. С.) принял решение внезапным ударом разгромить вражескую авиацию на фронтовых аэродромах. Расчет на внезапность не оправдался. Главком ВВС дал приказ о наказании ряда авиационных командиров. С.А. Худяков заступился за своих подчиненных, отправив в Москву телеграмму следующего содержания: «Во всем виноват я. Фон Грайм — командующий немецкой авиационной группировкой — обманул меня. Прошу отменить приказ о незаслуженном наказании… офицеров».
Раз провалившаяся операция проводилась в день Красной Армии, примерный ход рассуждений Сергея Александровича видится следующим образом. Немцы решат, что в праздничный день русские атаковать не будут, расслабятся, утратят бдительность. Тут-то их и застигнут врасплох советские бомбардировщики и штурмовики. Однако то ли немцы во все дни педантично несли службу, то ли командующий 6-го корпуса люфтваффе Роберт фон Грайм разгадал намерение советского командования, то ли произошла утечка информации, но в итоге уничтоженными оказались не немецкие машины на аэродромах, а атаковавшие их советские самолеты. К чести Худякова надо отметить, что он не только полностью взял на себя вину за неудачу операции, но и воздал должное противнику. Кстати, поражение, понесенное его армией 23 февраля 1943 года, не помешало Сергею Александровичу получить орден Суворова 1-й степени «за умелое руководство операциями в зимнюю кампанию 1942–1943 годов». Хотя тогдашнее наступление Западного фронта на Ржевско-Вяземский плацдарм не принесло успеха: советские ударные группировки были разбиты, а потом немцы без потерь отвели свои войска на заранее подготовленный в тылу оборонительный рубеж.
В период Курской битвы Худяков, будучи начальником Главного штаба ВВС, координировал действия авиации Воронежского и Степного фронтов. В этом сражении потери советских ВВС значительно превысили потери люфтваффе. Для всей Курской дуги их соотношение составило 4,7:1. Правда, командование советских ВВС резко завысило безвозвратные потери противника, оценив их в 3700 машин. В действительности за июль — август 1943 года общие безвозвратные потери люфтваффе, по данным Германского военного архива во Фрайбурге, составили 3213 самолетов, из них на Восточном фронте — только 1030. На южном фасе дуги, где находился Худяков, положение было относительно более благоприятно для советской авиации, чем на северном. Достаточно сказать, что в Орловской наступательной операции, продолжавшейся 38 дней, ВВС Центрального, Западного и Брянского фронтов безвозвратно потеряли около 2000 самолетов, а в Белгородско-Харьковской наступательной операции, правда, продолжавшейся только 21 день, ВВС Степного и Воронежского фронтов недосчитались более 300 боевых машин. Здесь, конечно, могло сыграть свою роль и то обстоятельство, что в группе армий «Центр», оборонявшейся у Орла, силами люфтваффе командовал такой талантливый военачальник, как генерал фон Грайм. Недаром он стал последним немецким генералом, которого Гитлер в пылающем Берлине, обстреливаемом советской артиллерией, произвел в фельдмаршалы.
В октябре 43-го Сергей Александрович стал генерал-полковником. А в ноябре 1943 года, после успешного форсирования Днепра и взятия Киева войсками тех фронтов, авиацией которых продолжал руководить Худяков, главком ВВС Новиков представил его к званию маршала авиации. Это представление стоит процитировать полностью. В нем отражен боевой путь Сергея Александровича в Великой Отечественной войне: «Тов. Худяков на должность начальника штаба ВВС Красной Армии был назначен первый раз в 1942 году и вторично в 1943. До этого более года был командующим ВВС Западного фронта. Имеет большой опыт по использованию авиации. За умелое руководство боевыми операциями в зимнюю кампанию 1942—43 годов на Западном фронте награжден орденом Суворова 1-й степени. В летний период 1943 года координировал действия авиации Воронежского и Степного фронтов на Белгородском и в дальнейшем — на Харьковском и Киевском направлениях. С возложенными на него обязанностями справляется хорошо. Грамотный, культурный генерал. Помимо того что хорошо знает авиацию, тов. Худяков имеет хорошую общевойсковую подготовку, что дает ему возможность наиболее полно увязывать взаимодействия (так в документе. — Б. С.) авиации с наземными войсками на поле боя.
Хорошо знает штабную работу, так как он до войны служил в штабе ВВС округа и около года в период Отечественной войны работал начальником штаба ВВС фронта. Энергичный и с чувством ответственности выполняет порученное дело. Инициативен. Болеет за рост и развитие ВВС и в связи с этим поставил ряд вопросов, улучшающих боевую выучку и боевую готовность авиационных частей. Иногда недостаточно прям и несколько поспешен в выводах о людях. Как начальник штаба среди подчиненных авторитетом пользуется. К себе и к подчиненным требователен. Несмотря на то что тов. Худяков не летчик, имеет сильное стремление освоить летное дело, в этом имеет успехи. Самостоятельно летает на У-2, Як-6, Ли-2. Тов. Худяков умеет отстаивать свое мнение. Трудолюбив и усидчив.
Вывод: Должности начальника штаба и заместителя командующего ВВС Красной Армии вполне соответствует. По своим знаниям и накопленному за время Отечественной войны опыту заслуживает присвоения звания «маршала авиации».
Это представление было удовлетворено 19 августа 1944 года, когда вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Сергею Александровичу Худякову маршальского звания.
Обрати внимание, читатель, за что Худякову предт лагалось присвоить маршальское звание: за знания и накопленный в войну опыт. Словно не разрабатывал Сергей Александрович никаких воздушных операций, не одерживал побед в сражениях. Или действительно Худяков занимался больше вопросами тылового обеспечения и снабжения авиации? И вновь таинственнобюрократическая формула: «поставил ряд вопросов, улучшающих боевую выучку и боевую готовность авиационных частей». Что сие значит? И знал ли сам Новиков, что именно он сам имел в виду? Вообще, пока что биография Худякова-Ханферянца выстраивается из одних штампов. И в документах, и в мемуарах дело не идет дальше самых общих фраз, за которыми очень трудно увидеть живого человека.
Вот слухи о Худякове куда колоритнее. Например, петербургский исследователь В. В. Мариничев приводит в своей статье рассказ о том, как во время Ялтинской конференции глав союзных держав в феврале 45-го «генерал Худяков (тогда уже — маршал и один из военных экспертов советской делегации. — Б. С.) все мрачно удивлялся — почему Сталин из всех военных чинов с ним одним поздоровался и долго тряс руку, неизвестно за что благодаря? Так и не разгадал, а после победы был безжалостно расстрелян — заподозрил шутник-Верховный, что собирается коварный генерал улететь в Америку, дошло до него, что Худяков летает на американской «Эрокобре» и изучает английский язык».
То, что Сталин взял Худякова с собой в Ялту, означало высокую степень доверия со стороны вождя к маршалу. Двумя другими экспертами были, кстати сказать, нарком Военно-Морского Флота адмирал флота Н.Г. Кузнецов и заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии А.И. Антонов (через несколько дней после окончания конференции он сменил А.М. Василевского на посту начальника Генштаба). А вот вызвал Сергей Александрович какое-то недовольство или подозрение со стороны Верховного уже в Ялте или что-то роковое для него произошло позднее, мы сегодня не знаем. Однако вряд ли Худяков действительно осваивал «Эрокобру». Как мы помним хотя бы из текста представления к маршальскому званию, он умел летать только на учебно-тренировочных самолетах. А американский истребитель «Эрокобра» освоить было еще сложнее, чем советские истребители, на которых Сергей Александрович так и не научился уверенно летать. В легенде же, будто погубило маршала стремление выучить английский язык, быть может, отразился тот факт, что после ареста Худякова обвинили в сотрудничестве с британской разведкой.
Мариничев приводит и любопытное высказывание Покрышкина, прозвучавшее в одном телеинтервью: «Жизнь — борьба! А борьба с кем? С начальством. Начальство-то не летает, поди докажи ему, что по инструкции много не навоюешь». Исследователь проиллюстрировал эти слова следующим примером: «Нашему руководству ВВС, к примеру, два года пришлось доказывать, что истребителям летать надо парой». Худяков, кавалерист по первой военной профессии, был как раз из того начальства, что летать умело весьма условно. Как один из руководителей советской авиации в годы войны, он, безусловно, несет свою долю ответственности за то, что «сталинские соколы» по всем статьям проиграли асам Геринга. Даже в последние полтора года войны, когда из-за нехватки горючего немецкие самолеты все реже появлялись в небе, командование люфтваффе своих молодых пилотов, только что окончивших училища, сначала направляло на Восточный фронт. Там они могли обстреляться в относительно спокойных условиях, а потом уже вступить в борьбу с англо-американской авиацией, беспощадно бомбившей территорию рейха. Кстати, командование германской авиации до последних дней войны не пренебрегало боевой подготовкой пилотов. В советских же ВВС большинство летчиков вступали в схватки с противником после окончания ускоренных курсов, едва научившись летать. И результаты были соответствующие. Вопреки распространенному в советской историографии мнению, основные свои потери — около 70 % — люфтваффе понесла в борьбе против западных союзников, а отнюдь не на Восточном фронте. Историк немецкой авиации во Второй мировой войне О. Греффрат отмечает, что даже в последний период войны на Востоке, «несмотря на серьезное превосходство русских в воздухе, немецкая авиация все еще оставалась становым хребтом обороны, прикрывая своими истребителями наземные войска от налетов русских штурмовиков». Два года понадобилось советской авиации, чтобы скопировать немецкие боевые порядки. В. Мариничев справедливо отмечает, что вина за это — целиком на командовании ВВС, а не на рядовых командирах эскадрилий и полков: «Наши истребители примерно половину войны летали группой, в плотном боевом порядке, стремясь максимально прикрыть друг друга (на советских самолетах не было радио, и лишь в плотных боевых порядках командиры имели какие-то возможности управлять действиями подчиненных, хотя бы по принципу «делай, как я»; предоставлять же подчиненным возможность действовать самостоятельно было не в советских традициях. — Б. С.). Это сковывало их действия и лишало самостоятельности — все вынуждены были держаться друг друга и постоянно следить за старшим.
Немецкие летчики летали парами, стремясь атаковать на вертикалях. Ошибку первого исправлял второй, повторяя его маневр. Минимальная связь истребителей друг с другом позволяла им импровизировать в бою, выжимая из машины все ее положительные качества. Чтобы это постичь, руководству наших ВВС понадобилось два года». А ведь с этой тактикой советские летчики встретились еще за полтора года до германского нападения, во время советско-финской войны 1939–1940 годов. Тогда финские пилоты, летавшие парой, воевали куда успешнее советских. Но опыт не пошел впрок.
После победы над Германией Сергею Александровичу доверили еще покомандовать 12-й воздушной армией в скоротечной войне против Японии. Уже через неделю после начала советского вторжения в Маньчжурию японцы капитулировали, так что Красной Армии осталось принять пленных и трофеи. Худяков сажал свои транспортные самолеты прямо на неприятельских аэродромах. Из самолетов выходили несколько десятков десантников, и им сдавались многотысячные японские гарнизоны. После завершения советско-японской войны маршал несколько месяцев командовал авиацией Дальнего Востока. Потом Сергея Александровича вызвали в Москву и 14 декабря 1945 года арестовали. Арест без санкции прокурора произвели органы военной контрразведки «Смерш». Ее глава генерал-полковник В.С. Абакумов вскоре стал главой Министерства государственной безопасности. Он и был одним из архитекторов дела Худякова.
Два месяца маршал крепился и не признавал себя виновным. Затем его сломали. 19 февраля 1946 года Сергей Александрович согласился с утверждениями следователей, что является матерым английским шпионом, что в 1918 году служил в дашнакском отряде, а уже будучи маршалом «злоупотреблял служебным положением». Здесь соответствовал действительности только последний пункт. Худяков, как и многие другие генералы и маршалы, болел «трофейной лихорадкой». И в Германии, и в Маньчжурии брал мебель, ковры, картины. К сожалению, в отличие от маршала Жукова и того же Абакумова, опись изъятых у Худякова трофейных ценностей до сих пор не опубликована. Может быть, она и не сохранилась. Но, как и у других советских военачальников, трофейные дела у Сергея Александровича шли лишь небольшим довеском к куда более серьезным политическим статьям.
В марте 46-го года наконец была получена санкция прокурора и оформлено постановление на арест маршала, более трех месяцев содержащегося в застенке без каких-либо законных оснований. 22 августа 1946 года Худякову официально предъявили обвинение в измене Родине и злоупотреблении служебным положением. Следствие длилось четыре года. Только 18 апреля 1950 года маршал Худяков предстал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. В тот же день судебный процесс, проходивший без участия защиты, обвинения и без вызова свидетелей, закончился. Сергея Александровича признали виновным по всем статьям и приговорили к смертной казни. Что же конкретно ему инкриминировалось?
Следствие утверждало, будто Ханферянц, состоя на службе в красногвардейском отряде в городе Баку, был завербован английским офицером Вильсоном. По заданию британской разведки Арменак дезертировал из красногвардейского отряда и вступил в дашнакский отряд, подчинявшийся эсеро-меньшевистскому правительству города (это правительство, называемое Диктатурой Центрокаспия, свергло большевистское правительство во главе с С.Г. Шаумяном). Вместе с дашнаками Ханферянц якобы «принял участие в конвоировании арестованных 26 Бакинских комиссаров из г. Баку к месту их казни в г. Красноводск».
Читатель, уже знакомый с некоторыми деталями худяковской биографии, должно быть, удивится. Если человек вступил в отряд, созданный армянской национальной партией Дашнакцутюн, по идеологии близкой к русским меньшевикам, значит, прежде всего сознавал себя армянином. Но как-то сложно себе представить, что убежденный армянский националист, участвовавший в казни бакинских большевиков, вдруг добровольно превратился в бойца Красной Армии с вполне русскими именем, отчеством и фамилией — Сергей Александрович Худяков. Чтобы объяснить эту странность, суду опять понадобилась «Сикрет Интеллидженс Сервис»: в том же 18-м году Ханферянц «установил связь с агентом английской разведки Воскресенским, по заданию которой со шпионскими целями неоднократно проникал в расположение частей Красной Армии. В дальнейшем Худяков длительное время был связан по шпионской деятельности с агентами английской разведки Карпушиным-Зориным, Лукавой и Мосиным, впоследствии осужденными».
В качестве довеска, как я уже говорил, шло злоупотребление служебным положением: «В период Отечественной войны, используя свое служебное положение, Худяков присвоил большое количество трофейного имущества и других ценностей». Этот пункт приговора, возможно, и соответствовал истине. Во всяком случае, начальник штаба ВВС, к услугам которого была вся фронтовая авиация, имел практически неограниченные возможности для вывоза трофеев в СССР.
А вот участие Худякова в расстреле 26 Бакинских комиссаров и шпионаже в пользу Англии — это чистой воды фантастика. Зато анализ этих обвинений помогает понять, почему же все-таки арестовали Сергея Александровича. Первая мысль: Абакумов по поручению Сталина начал подкоп против непосредственного начальника Худякова главкома ВВС главного маршала авиации А.А. Новикова, которого действительно взяли спустя несколько месяцев. Однако хоть инкриминировали Александру Александровичу измену Родине, но совсем в другой в форме. Новикова обвинили в сознательном вредительстве, выразившемся в приеме на вооружение бракованной авиатехники. Но Худякова-то в подобном не обвиняли, и его дело развивалось совершенно независимо от дела Новикова. В чем же была настоящая причина трагедии, случившейся с Сергеем Александровичем?
Думаю, что здесь Сталин вел охоту на еще более крупного зверя. Такой вывод можно сделать, знакомясь с материалами дела по реабилитации Сергея-Арменака Александровича-Артемовича Худякова-Ханферянца. 18 августа 1954 года Военная коллегия Верховного Суда рассмотрела заключение Генеральной прокуратуры. Там говорилось, что показания Худякова, данные на следствии, о службе в дашнакском отряде и связях с британской разведкой «никакими объективными данными не подтверждены», а допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели «прямых показаний о преступной деятельности Худякова не дали». Ни на одном из проходивших в 1920–1927 годах судебных процессах над лицами, причастными к гибели Бакинских комиссаров, имя Худякова ни разу не называлось ни в каком качестве. Не существует никаких данных и о том, что он был английским шпионом. Карпушин-Зорин и Мосин действительно были осуждены, но отнюдь не за связи с британской разведкой, а за «участие в военном заговоре». Лукаве же в вину вменялась только «антисоветская агитация». В своих показаниях все трое ни разу не назвали фамилию Худякова-Ханферянца. И дела их были столь же дутыми, как и дело маршала.
В мемуарах бывшего начальника Главного Управления охраны генерал-лейтенанта Николая Сергеевича Власика отмечается, что «были, как это ни печально, и предательства (маршал авиации Худяков). Не все в свое время было выкорчевано с корнем. Но самым губительным и опасным было то, что среди людей, особенно близких к Сталину, оказался такой страшный враг и предатель, как Берия». Раз дело Худякова отложилось в памяти начальника сталинской охраны, то можно предположить, что оно находилось под пристальным вниманием Иосифа Виссарионовича. А поскольку вслед за Худяковым Власик тут же упоминает Берию как «врага народа», то нельзя исключить, что первоначально планировалось при конструировании Сталиным и Абакумовым мнимого заговора создать связку Худяков — Микоян — Берия. Ведь Анастас Иванович действительно был близок к Лаврентию Павловичу, и даже в июне 53-го, на роковом для Берии Пленуме, как мы увидим дальше, предлагал не арестовывать обвиненного в заговоре шефа МВД, а всего лишь переместить на менее ответственный пост министра нефтяной промышленности. В 46-м же Микояну и Берии, в отличие от Худякова, повезло. Они еще нужны были Сталину, и он не стал делать из Анастаса Ивановича и Лаврентия Павловича заговорщиков. Эти члены Политбюро еще были нужны «кремлевскому горцу». Правда, если верить мемуарам Хрущева, незадолго до своей кончины Иосиф Виссарионович всерьез рассматривал возможность сделать из Микояна, Ворошилова, Берии и Молотова английских шпионов в рамках планируемой новой чистки в верхнем эшелоне власти. Да вот только смерть помешала.
Бывший заместитель министра госбезопасности и начальник следственной части МГБ полковник М.Д. Рюмин, арестованный вскоре после смерти Сталина, на допросах 10–13 июня 1953 года показал, что допрашивавший Худякова следователь Герасимов заставил того признаться в принадлежности к английской агентуре, а также в том, что «принимал якобы какое-то участие в расстреле Бакинских комиссаров». По словам Рюмина, Герасимов систематически избивал маршала. О том, что к Худякову применялись меры физического воздействия, показал на допросе и бывший следователь М.Т. Лихачев. Сам Герасимов рассказывал Рюмину, что Абакумов в разговоре с Анастасом Ивановичем Микояном выяснял обстоятельства ареста и расстрела 26 Бакинских комиссаров, чтобы потом внести эти данные в протокол в качестве признаний, будто бы добровольно сделанных Худяковым.
Вот где собака зарыта! Сталин решил, что пора заиметь солидный компромат на соратника по Политбюро товарища Микояна. Боюсь, что погубила Худякова отнюдь не трофейная лихорадка, близость к попавшему в опалу Новикову или какие-то недочеты в руководстве ВВС. Нет, роковыми для Сергея-Арменака Александровича-Артемовича стали армянская национальность и присутствие в Баку в 1918 году, в одно время с Анастасом Ивановичем. Сталину и Абакумову просто нужен был высокопоставленный военный, которого можно было так или иначе связать с Микояном в один заговор. Худяков-Ханферянц идеально подходил для этой цели. И шпионаж в пользу англичан пришить ему не составляло труда. Ведь до захвата Баку турками там находился небольшой английский отряд. Почему бы кому-нибудь из британских офицеров не завербовать 16-летнего армянского паренька. Авось, в большие люди выйдет. А в Ялте в феврале 45-го Худяков встречался с Черчиллем и английскими генералами. Пусть-ка попробует доказать, что не передал им секретной информации и не получил от хозяев секретных инструкций. Может, им с Микояном поручили устроить переворот, бомбить с воздуха Кремль, уничтожить Сталина. Вполне потянет на большой политический процесс, вроде тех, что были в 30-е годы.
Недаром же Иосиф Виссарионович еще в 1935 году, вскоре после самоубийства Орджоникидзе, вкрадчиво говорил Микояну: «История о том, как были расстреляны 26 Бакинских комиссаров и только один из них — Микоян — остался в живых, темна и запутанна. И ты, Анастас, не заставляй нас распутывать эту историю». В своих мемуарах, впервые появившихся в печати в 60-е годы, Анастас Иванович отстаивал версию, прозвучавшую в 20-е годы на процессах по делу о гибели руководителей Бакинской коммуны. Будто бы эсеро-меньшевистское правительство в Ашхабаде, когда ему в руки попали Шаумян и его товарищи, воспользовалось списком, который оказался у одного из арестованных. Дело в том, что до отплытия из Баку комиссаров арестовали городские власти. Их список сохранился у старшего по камере. Микоян, не будучи арестован, в злополучный список не попал. Всего же там числилось 25 человек, в том числе и совсем случайные люди, вроде делопроизводителя штаба. К ним власти в Крас-новодске, куда прибыл пароход из Баку, добавили 26-го — известного большевистского журналиста Тате-воса Амирова. Микоян же, хоть и был арестован в Красноводске, но под расстрел не попал, так как в тюремном бакинском списке отсутствовал. Скажу, что мне довелось слышать и другое. Как-то в 70-е годы я стоял у прилавка книжного магазина и просматривал микояновские мемуары. Рядом стоял человек, по виду — армянин, и радостно сообщил: «А, Микоян, так он же дашнак, недавно установили. Поэтому его и не кончили вместе с Шаумяном». Может быть, этот слух и явился слабым отголоском дела Худякова, где Микоян тоже фигурировал? Во всяком случае, никаких публикаций о связях Анастаса Ивановича с дашнаками мне встречать не доводилось.
Можно предположить, что в итоге Сталин решил дела против Микояна не возбуждать. И Худякова осудили как простого английского шпиона и участника расстрела Бакинских комиссаров, но ни к какому военному заговору несчастного приплетать не стали. И с расстрелом не спешили. Во всех энциклопедиях датой смерти Худякова указывается 18 апреля 1950 года — день скорого и неправого суда над ним. Однако военные юристы А.И. Муранов и В.Е. Звягинцев в своей книге «Досье на маршала», посвященной закрытым судебным процессам 20-х — 50-х годов, утверждают, что Худяков был расстрелян в период между 18 и 23 августа 1950 года. Если это действительно так, то, возможно, от маршала добивались дополнительных показаний против кого-то из высокопоставленных лиц или думали использовать в еще одном судебном процессе. Но потом все-таки привели приговор в исполнение.
Еще в 1953 году в Москву вернулись вдова и двое детей Худякова, в 1951 году репрессированные как «члены семьи изменника Родины». Однако вселиться в свою квартиру они не смогли. Там уже проживал офицер МГБ.
ГРИГОРИЙ КУЛИК РАЗЖАЛОВАННЫЙ МАРШАЛ
Вот что написал о себе Григорий Иванович Кулик в автобиографии, датированной 5 января 1939 года: «Я родился в 1890 году на хуторе Дудниково, около г. Полтавы, б. Полтавской губернии и уезда (ныне Полтавской области) в семье крестьянина-бедняка. Отца своего я не помню, так как он умер в год моего рождения».
Детство будущего маршала было трудным. Сирота с рождения, Гриша рано узнал тяжелый крестьянский труд. Из 9 детей в семье он был самым младшим. Кулики владели карликовым наделом в две десятины земли. После женитьбы старших братьев они получили собственные наделы, и Григорию с матерью осталось всего полдесятины. «В 1906 или 1907 году, — отмечал Кулик в автобиографии, — мать через банк с рассрочкой на 50 лет купила дополнительно две десятины земли, и вот на этой земле я работал до призыва в царскую армию, т. е. до 1912 года». Урожая едва хватало, чтобы прокормить себя и сделать причитающиеся платежи по ссуде.
В армии Кулик служил в артиллерии, пройдя путь от рядового до старшего фейерверкера (так назывался артиллерийский унтер-офицер), получил под свою команду взвод. Всю Первую мировую войну он пробыл на фронте. Но еще до войны Григорий Иванович оказался причастен к революционному движению. Вот что в связи с этим можно прочесть в его автобиографии: «Революционные взгляды, кровная ненависть к царскому самодержавию, помещикам, офицерам и попам у меня сложились еще в 1903 году, при следующих обстоятельствах. Район Полтавщины в 1903 году был охвачен крестьянскими восстаниями, и в это время было разгромлено поместье нашего помещика. Я еще мальчишкой видел, как жестоко и зверски расправлялись с крестьянами за эти крестьянские восстания карательные отряды, запарывая насмерть крестьян.
В 1905 году за участие в забастовке был арестован мой брат (старше меня на 18 лет), работавший в то время рабочим в железнодорожных мастерских на станции Белгород, и был заключен в Курскую тюрьму.
В 1906 году моего брата с группой рабочих, арестованных по этому делу, судили при закрытых дверях. На этом суде разрешалось присутствовать по одному человеку из родственников, и от нашей семьи поехал на суд я. Этот судебный процесс, продолжавшийся три недели, был моей первой партийной школой, еще более выработавшей во мне ненависть к царскому самодержавию и его приспешникам. Мой брат был осужден на два года и восемь месяцев, и свое наказание он отбывал в Петропавловской крепости. После подавления крестьянского восстания и ареста моего брата в нашей местности работали революционно настроенные студенты, которые, по всей вероятности, зная об аресте и заключении в крепость моего брата, сблизились со мной, и я помогал в их работе.
Моя помощь этим студентам заключалась в том, что я прятал революционную литературу, а был один случай — и оружие, а также посещал маёвки, которые организовывались в лесу около г. Полтавы, примерно в 10 километрах от нашего хутора».
Будущему маршалу еще мальчишкой довелось узнать жестокость карателей. Может, потому и считал жестокость по отношению к подчиненным делом обыденным.
Участие в маевках и хранение нелегальной литературы были только первыми шагами крестьянского юноши на революционном поприще. Начало же своей деятельности в качестве профессионального революционера, вскоре после призыва на военную службу, Григорий Иванович в автобиографии описывает несколько туманно: «Примерно около 10 раз за период с конца 1912 года до ухода на фронт, т. е. по август 1914 года, я был на маёвках, организуемых революционерами, и при разгоне одной из таких маёвок был избит нагайкой казаками, в результате чего спина около двух месяцев болела и я не мог, чтобы не выдать себя, обратиться за оказанием медицинской помощи.
В этот же период, т. е. в начале 1913 года, в г. Полтаве я вступил в местную революционную организацию, а это решение явилось результатом того, что тот гнет и произвол, которые имели место в казарме и испытывали солдаты, испытывал и я. Если сейчас спросить меня, какая это была организация, меньшевистская или эсеровская, просто затрудняюсь точно ответить, так как в политике я в тот период очень плохо разбирался. Что в тот период меня удовлетворяло в требованиях этих революционеров? Свержение царского самодержавия, передача земли-крестьянам за плату и власти учредительному собранию».
Тут Кулик лукавит. Он прекрасно помнил, что вступил в партию эсеров, что в 1939 году само по себе представляло сомнительный пункт биографии. Интересно, как это человек, вступивший в революционную организацию, заявляет, что в политике в тот момент «очень плохо разбирался»? Ведь связать свою судьбу с революцией — это и есть осознанный политический выбор. Но беда в том, что с этим выбором будущий маршал слегка ошибся. В 50-м году на судебном процессе Григорий Иванович показал, что «в партию эсеров вступил в 1913 году в депо станции Полтава», а членом партии большевиков стал 22 октября 1917 года, всего за три дня до начала социалистической революции в Петрограде.
О своей революционной деятельности на фронте Кулик в автобиографии рассказал так: «В 1914 году с уходом на фронт я всякую связь с революционерами до Февральской революции потерял (в этом позволительно усомниться; логичнее предположить, что в 39-м году Григорий Иванович старался всячески приуменьшить значение своего членства в эсеровской партии. — Б.С.). Ненависть к царскому самодержавию, к капиталистам, офицерам и попам я среди солдат всегда прививал, и это позднее сказалось при выборе меня председателем в солдатский комитет.
Февральская революция меня застала на фронте, где сразу же я был избран председателем батарейного комитета, потом дивизионного и бригадного и перед Октябрьской революцией был уже председателем солдатского комитета 9-й пехотной дивизии. Через газету «Окопная правда» начал знакомиться с большевистской партией.
В апреле 1917 года я был избран делегатом на съезд Западного фронта, который состоялся в г. Минске. На этом съезде я впервые услышал выступления большевиков, и тут у меня окончательно сформировалось большевистское мировоззрение, и на этом съезде я отстаивал линию большевиков.
В 1917 году после возвращения со съезда делегатов Западного фронта я уже более уверенно повел революционную работу. В момент июньского наступления в 1917 году на Крево и Сморгонь, будучи председателем дивизионной комиссии 9-й пехотной дивизии, я выступил перед солдатами против наступления, за что был арестован, а вскоре под нажимом солдатской массы был освобожден, а дивизия переброшена на Румынский фронт, как дивизия политически неблагонадежная.
В октябре 1917 года во время ухода войск с фронта я с группой вооруженных солдат отправился пешком домой на Украину, где в это время находилась у власти Украинская Рада. Эти солдаты впоследствии были основным ядром созданного мной красногвардейского отряда.
В первых числах ноября 1917 года в г. Полтаве я вступил в подполье, в партию большевиков (вероятно, здесь Григорий Иванович пользуется датировкой по новому стилю; время его вступления в большевистскую партию, 22 октября 1917 года по старому стилю, соответствует 4 ноября по новому стилю. — Б.С.). В этот же период я по заданию партийной организации начал формировать партизанский отряд».
В годы Первой мировой войны Григорий Иванович Кулик, насколько мне известно, не был ни ранен, ни награжден. Во всяком случае, в своей автобиографии он не упоминает ни о ранениях, ни о наградах в 1914–1917 годах. Зато Кулик наверняка умел повести за собой солдат, раз так быстро поднялся от командира взвода до председателя дивизионного солдатского комитета. И, видно, ему уж очень надоела война, если уже в июне будущий маршал, в отличие от большинства эсеров в солдатских комитетах, активно выступал против готовившегося по приказу Временного правительства наступления и был за это даже арестован.
В Гражданской войне Кулик активно участвовал буквально с первых дней. Его отряд сражался с войсками Центральной Рады и, зайдя в тыл украинским войскам, обеспечил взятие Полтавы частями Красной Гвардии. Со своими бойцами Григорий Иванович в январе 18-го брал Киев, а через полтора месяца он же прикрывал отход советских войск с Украины от натиска германской и австро-венгерской армий, пришедших на помощь Центральной Раде, чтобы прибрать к рукам украинские хлеб и сало, сталь и уголь.
В апреле 1918 года отступившие с Украины красногвардейские отряды были объединены в 5-ю Украинскую армию под командованием К.Е. Ворошилова. В штабе этой армии на станции Родаково под Луганском Кулик впервые встретился с будущим «первым маршалом». Дружба с ним и с опекавшим Ворошилова Сталиным сыграла большую роль в последующей стремительной карьере Григория Ивановича. Кулика выбрали начальником артиллерии армии. По совместительству он командовал Харьковской батареей. Потом началось сражение за «Верден» на Волге — Царицын, на который наступали казаки донского атамана П.Н. Краснова.
«При подходе в июне 1918 года 5-й Украинской армии к Царицыну, — писал Кулик в автобиографии, — эта армия и все отдельные отряды г. Царицына под руководством тов. Сталина и тов. Ворошилова были реорганизованы в 10-ю армию, и я бьш назначен начальником артиллерии, под руководством тов. Сталина участвовал в обороне Царицына против белых и их разгроме».
В глубине души Григорий Иванович считал, что сыграл в тех боях едва ли не решающую роль. Именно он выдвинул идею сосредоточить всю артиллерию на одном решающем участке, где было сокрушено наступление Донской армии 17 октября 1918 года.
«В марте 1919 года, — продолжал Кулик рассказ о своем жизненном пути, — после полученного ранения я до окончательного выздоровления в течение полутора месяцев исполнял должность губернского военного комиссара и начальника гарнизона г. Харькова (всего в Гражданскую войну Григорий Иванович был пять раз ранен и дважды контужен. — Б.С.). В этот период времени, будучи председателем тройки, непосредственно руководил подавлением меньшевистских и эсеровских восстаний в Белгороде, Сумах и Харькове». Крестьянский сын Григорий Кулик, сам в недавнем прошлом член партии эсеров, теперь беспощадно расправлялся с братьями-крестьянами, восставшими из-за произвола продотрядов.
Дальше была борьба с отрядами Григорьева, бывшего царского офицера, одно время служившего Центральной Раде, потом в Красной Армии, а теперь собиравшегося со своими людьми перейти к Деникину. «В мае 1919 года, — вспоминал Кулик, — во время восстания банд Григорьева я был назначен начальником артиллерии вновь созданной под командованием тов. Ворошилова армии. За ликвидацию григорьевского восстания был награжден первым орденом Красного Знамени.
После разгрома банд Григорьева эта армия в июне 1919 года переформировывается в 14-ю армию под командованием тов. Ворошилова, и я назначаюсь начальником артиллерии этой армии».
Но вскоре Григорий Иванович стал жертвой острого конфликта Ворошилова и Сталина с председателем Реввоенсовета Троцким, стремившимся покончить с партизанщиной в Красной Армии и заставить командиров-коммунистов и комиссаров считаться с военными специалистами из числа бывших офицеров и генералов царской службы. «С переводом тов. Ворошилова из 14-й армии, — с грустью отмечал Кулик в автобиографии, — я был по приказу Троцкого с должности начальника артиллерии армии снят и назначен комиссаром артиллерии 14-й армии, а вместо меня назначен бывший офицер, оказавшийся впоследствии предателем, который был расстрелян. Лишь с приездом в 14-ю армию тов. Серго Орджоникидзе, по указанию тов. Сталина находящегося в тот момент на Южном фронте, я вновь был назначен начальником артиллерии 14-й армии».
Вроде бы этот эпизод должен был только укрепить положение Кулика в глазах Сталина и Ворошилова. Ведь пострадал Григорий Иванович от главного мифологизированного злодея Троцкого. Но вот то, что в восстановлении его в должности принял участие Орджоникидзе, в 39-м году было уже скорее не плюсом, а минусом. Немногие посвященные знали, что двумя годами раньше «дорогой Серго» покончил с собой из-за острого конфликта со Сталиным.
В составе 14-й армии Кулик сражался с наступавшей на Москву белой Добровольческой армией. И опять ему сопутствовал успех. «В составе 14-й армии я, как начальник артиллерии армии, объединяя всю артиллерию армии, участвовал в разгроме под Кромами армии генерала Май-Маевского». Замечательнее всего здесь четырехкратное употребление слова «армия» в одном предложении. Общее образование у Григория Ивановича ограничивалось четырьмя классами церковно-приходской школы, и с русским языком маршал не очень-то ладил. Но в военном деле он кое-что понимал. Во всяком случае, умел сосредоточить в нужное время и в нужном месте основную часть артиллерии.
Ворошилов, ставший членом Реввоенсовета 1-й Конной армии, не забыл Кулика. В июне 1920 года Григорий Иванович стал начальником артиллерии у Буденного. За бои против Деникина, поляков и Врангеля он получил второй орден Красного Знамени. В 1921–1922 годах Кулик, возглавляя артиллерию Северо-Кавказского военного округа, которым командовал Буденный, громил восставшие донские станицы. Он даже был председателем революционной тройки, беспощадно каравшей повстанцев.
Подходящее социальное происхождение и дружба с Ворошиловым, Буденным и самим Сталиным способствовали стремительному продвижению Кулика на высшие ступеньки в военной иерархии. В 1923 году Григория Ивановича направили на учебу в Военную академию РККА. По признанию маршала, это была первая школа, где он получил «основательные политические и военные знания».
Но не успел Кулик кончить курса в академии, как в ноябре 1924 года был назначен помощником начальника артиллерии Красной Армии. В конце 1925 года его перевели заместителем председателя в Военно-промышленный комитет ВСНХ, где Кулик занимался производством артиллерийского вооружения. В конце 1926 года последовало очередное повышение: Григория Ивановича сделали начальником Артиллерийского управления РККА. В 1929 году в честь 10-й годовщины обороны Царицына был удостоен третьего ордена Красного Знамени. Для приобретения опыта командования строевыми частями Кулик в течение года, с конца 1929 по октябрь 1930-го, командовал отборной Московской Пролетарской дивизией. Потом его направили на Особый факультет Академии имени Фрунзе, который Григорий Иванович окончил в 1932 году. Затем будущий маршал был назначен командиром-комиссаром 3-го стрелкового корпуса.
После начала в 1936 году Гражданской войны в Испании Кулика командировали туда, чтобы помочь артиллеристам республиканской армии. За испанские дела его в 37-м наградили орденом Ленина и в конце того же года назначили начальником Артиллерийского управления РККА.
Сразу после возвращения из Испании Григорий Иванович засвидетельствовал собственную благонадежность на заседании Главного Военного Совета, обсуждавшего дело Тухачевского и его товарищей с 1 по 4 июня 1937 года. Кулик рассказывал, как Гамарник и другие «враги народа» пытались опорочить его: «Я к Гамарнику никогда не ходил. Вот тогда, когда вызывали Говорухина, так они хотели представить дело. Я выпил вино и пригласил женщину (до выпивки и прекрасного пола Кулик был большой охотник. — Б.С.), так они хотели меня скомпрометировать (смех). Не в том смысле. Они говорили, что я бездарный человек. Ну, что там какой-то унтеришка, фейерверк. Уборевич так меня и называл «фейерверком». А вождь украинский Якир никогда руки не подавал. Когда Белов проводил в прошлом году учение осенью, как они и сбежались все, чтобы скомпрометировать это учение.
Я ошибся в Горбачеве, он играл провокаторскую роль, в военном отношении он бездарный Корк — вообще дурак в военном деле.
Голос с места: Положим, он не дурак.
Кулик: Нет, Корк в военном деле безграмотный человек, техники не знает.
Буденный: Начальник штаба Московского округа Степанков — сволочь. Первая сволочь — Гамарник».
Разумеется, Кулик тогда и не подозревал, что сам через тринадцать лет окажется на месте Тухачевского, Якира и Уборевича. А нелюбовь к арестованным, принадлежащим, в отличие от Кулика, не к «конармейскому», а к «пехотному клану», с большой прослойкой бывших офицеров, была у бывшего фейерверкера вполне искренней. История с «компрометацией» наверняка вызовет смех не только у членов Главного Военного Совета, но и у сегодняшних читателей. А вот противостояние «конармейцев», по большей части из бывших унтеров, и более образованных «пехотинцев» было суровой реальностью. Как оно разрешилось, мы уже видели на примере Тухачевского. Теперь Кулик занял освободившийся пост начальника Артиллерийского управления РККА. Предшественник Григория Ивановича Н.А. Ефимов вместе со своим заместителем Г.И. Бондарем был арестован еще в мае 37-го.
Уже после Великой Отечественной войны и разжалования и расстрела Кулика на него постарались возложить чуть ли не всю ответственность за просчеты в подготовке советской артиллерии к войне, а также за ряд неудач 41-го года. Но так ли уж был виноват Григорий Иванович, не доживший до мемуаров и потому лишенный возможности ответить своим критикам в генеральских и маршальских погонах?
Сразу после первого суда над ним, 18 февраля 1942 года, Кулик, только что из маршала превратившийся в генерал-майора, направил письмо Сталину. Он пробовал оправдаться: «Тов. Сталин! Когда я был у Вас в последний раз, Вы мне сказали относительно моего руководства вооружением. Я считаю себя ответственным за вооружение с июня 37 года по 20 июня 1941 года, как за количество, так и за качество, так как я проводил всю систему вооружения новыми образцами. Прошу назначить авторитетную беспристрастную комиссию, которая должна установить, сколько я принял вооружения от своих предшественников и сколько я сдал. Как была обеспечена армия согласно плану развертывания по утвержденным Правительством нормам с учетом плана заказа 41 года, качество вооружения новых систем, принятых на вооружение армии под моим руководством. Особенно прошу вскрыть системы прохода плана заказов на каждый год: что я предлагал и что фактически утверждали и что мы получали; как общее правило нам давали после долгих мытарств, которые длились по менее 4–5 месяцев в Наркоматах, в Госплане, в разных комиссиях и подкомиссиях правительственных и в Комитете Обороны, не более 60–65 процентов от просимого нами.
Промышленность тоже урезала этот утвержденный план своими недоделками, которые исчислялись 20–30 процентов, смотря по какому виду вооружения. Я же отстаивал интересы армии упорно, по этому вопросу можно найти десятки моих жалоб, просьб ежегодно в аппарате Госплана, Комитете Обороны, Госконтроле, в Наркоматах промышленности и у Вас в ЦК ВКП. Я думаю, никто не сможет отрицать, как я защищал интересы армии, где проходил наш план заказов, с членов Правительства.
Я был удивлен, когда Вы мне сказали насчет ППШ, что мы мало просили, а комиссия (председателем был т. Молотов) по предложению т. Вознесенского (председателя Госплана. — Б. С.) нам срезала. В этой же комиссии были срезаны и винтовки. Я защищал, бывший нарком т. Тимошенко меня не поддержал, так как в этих вопросах мало разбирался, и я остался в одиночестве. Я только говорю Вам об одном примере. Можно найти десятки примеров, когда мне удавалось доложить Вам, и Вы проводили постановлением ЦК ВКП по отдельному виду вооружения, а когда начинался год, численность срезалась на ссылку, что нет металла.
Я предлагал за несколько месяцев перед войной перевести пороховую, снаряжательную, стрелкового вооружения промышленность по мобплану. Мое предложение есть в ЦК ВКП, у т. Молотова и в Комитете Обороны, но тогда отвергли, а также предлагал большую программу производства танков на 40-й и 41-й годы, она тоже не прошла, этот документ есть в Комитете Обороны за моей и т. Федоренко (начальника Главного Автобронетанкового управления. — Б.С.) подписью, тоже не прошел за недостатком брони и моторов (поразительно, но уже в 42—43-м брони и моторов оказалось достаточно, чтобы произвести танков гораздо больше, чем предлагал Кулик, — уж не за счет ли приписок? — Б.С.).
Тов. Сталин! Прошу Вас приказать детально вскрыть: кто же был виновником торможения вооружения, и Вы увидите, только не НКО».
Действительно, во многих грехах, которые ему приписывали, Кулик повинен не был. Дело здесь было чаще всего в нереальности планов военного ведомства, для осуществления которых не хватало металла и взрывчатых веществ. Здесь вину с Григорием Ивановичем разделяли другие руководители Наркомата обороны и военной промышленности. В целом же артиллерия к Великой Отечественной войне оказалась подготовлена неплохо. Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов в своих мемуарах «На службе военной», вышедших в 1963 году, не пожалел черных красок для характеристики своего бывшего начальника, Маршала Советского Союза Григория Ивановича Кулика: «Г.И. Кулик был человеком малоорганизованным, много мнившим о себе, считавшим все свои действия непогрешимыми. Часто было трудно понять, чего он хочет, чего добивается. Лучшим методом своей работы он считал держать в страхе подчиненных (Воронов был первым заместителем начальника Главного Артиллерийского управления и начальником артиллерии Красной Армии. — Б.С.). Любимым его изречением при постановке задач и указаний было: «Тюрьма или ордена». С утра обычно вызывал к себе множество исполнителей, очень туманно ставил задачи и, угрожающе спросив «Понятно?», приказывал покинуть кабинет. Все, получавшие задания, обычно являлись ко мне и просили разъяснений и указаний». Чем-чем, а избытком скромности Николай Николаевич явно не страдал.
Воронов вспоминал и поездку Кулика на Халхин-Гол летом 39-го, в самый разгар советско-японского конфликта: «Наши передовые части находились за рекой Халхин-Гол и занимали там значительный плацдарм. Под прикрытием ночи туда был выведен стрелковый полк только что прибывшей дивизии. Утром противник обнаружил плохо замаскированные боевые порядки полка и открыл артиллерийский огонь. Молодые красноармейцы, которым до этого, как говорится, не доводилось нюхать порох, растерялись. В отдельных подразделениях возникла паника. Командиры пытались навести порядок, но это не всегда удавалось. На наше счастье, японцы не смогли воспользоваться растерянностью наших бойцов. Видимо, у противника ушло много времени на организацию моторизованных отрядов. Когда они наконец начали наступать, по ним открыли огонь четыре наши батареи, срочно выдвинутые по моему приказанию на открытые позиции. Под прикрытием артиллерии свежие стрелковые батальоны восстановили положение.
Но случай с необстрелянными бойцами произвел сильное впечатление на председателя московской комиссии Г.И. Кулика. Он вдруг предложил отдать приказ об отводе наших частей с плацдарма. Командование группы войск пыталось доказать нецелесообразность такого решения, а потом наотрез отказалось выполнять его (имени командовавшего на Халхин-Голе 1-й армейской группой Г.К. Жукова, находившегося в 63-м году в опале, Воронов назвать в положительном контексте не решился. — Б.С.). Об этом узнала Москва (точнее, Сталин. — Б.С.). Оттуда пришло указание — войска не отводить, а комиссии Кулика немедля возвратиться в столицу. Утром проводили улетающих. Все облегченно вздохнули: Кулик вносил много путаницы».
Эпизод с предложением Кулика оставить плацдарм за Халхин-Голом подтверждают в мемуарах и Буденный, и Жуков. В беседе с писателем Константином Симоновым Георгий Константинович рассказывал: «Когда вначале создалось тяжелое положение, когда японцы вышли на этот берег реки у Баин-Цагана, Кулик потребовал снять с того берега, с оставшегося у нас там плацдарма, артиллерию — пропадет, мол, артиллерия! Я ему отвечаю: если так, давайте снимать с плацдарма все, давайте и пехоту снимать. Я пехоту не оставлю там без артиллерии. Артиллерия — костяк обороны, что же — пехота будет пропадать там одна? Тогда давайте снимать все. В общем, не подчинился, отказался выполнить это приказание и донес в Москву свою точку зрения, что считаю нецелесообразным отводить с плацдарма артиллерию. И эта точка зрения одержала верх».
В данном случае прав оказался Жуков, а не Кулик. Однако и предложения Григория Ивановича нельзя назвать абсурдными. Если бы японцы располагали на Халхин-Голе танковыми и моторизованными частями, то плацдарм, возможно, действительно пришлось бы эвакуировать. Жуков лучше Кулика знал противника и был уверен, что японцы не смогут развить успех, достигнутый благодаря нестойкости 63-го стрелкового полка 82-й мотострелковой дивизии, сформированной на основе территориальных частей. Но Кулику Сталин этот инцидент не поставил в вину. В том же 39-м Григорий Иванович стал заместителем наркома обороны и начальником Главного Артиллерийского управления, в которое было преобразовано прежнее Артиллерийское управление РККА. А через год Кулику присвоили звания Героя Советского Союза и маршала.
О Кулике оставил воспоминания и Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, познакомившийся с Григорием Ивановичем еще в Испании, а первый острый конфликт имевший с ним во время финской войны: «В штаб Ленинградского военного округа приехали Л.З. Мехлис и Г.И. Кулик. Они вызвали адмиралов Галлера и Исакова и стали давать им весьма некомпетентные указания. Необоснованные претензии к флоту с их стороны обострились, когда кампания на суше стала затягиваться. Г.И. Кулик вносил немало суматохи там, куда его посылали. Впервые я услышал о нем в Испании, где его прозвали «генералом но-но». Кроме слова «но» — «нет», он почти ничего по-испански не знал и потому употреблял его кстати и некстати. Вернувшись в Москву, Г.И. Кулик занял высокий пост, потом стал маршалом. В начале войны он оказался в окружении, кое-как выбрался из него. Потом его послали представителем Ставки на Юг. За то что он подписал какие-то необдуманные приказы, его судили и снизили в звании. Но, насколько я знаю, и это мало образумило его».
Николай Герасимович то ли забыл, что бывшего маршала потом расстреляли, то ли не стал упоминать об этом, чтобы не разрушать впечатления от нарисованного малопривлекательного портрета Кулика. Невинно убиенному читатель наверняка посочувствует. А ведь сам Кузнецов побывал в шкуре Григория Ивановича, дваж-. ды будучи разжалован и, как и Кулик, восстановленный в высшем воинском звании только посмертно (но посчастливилось ему умереть в собственной постели).
Положим, утверждение, что в Испании Кулик всем только мешал, вряд ли верно. Не стали бы генерала, от которого не было никакого толку, награждать орденом Ленина и отдавать под его начало всю артиллерию Красной Армии.
Между прочим, когда Кулик ругал флот, он был прав. В самый канун финской войны шеф НКВД Л.П. Берия направил Ворошилову письмо, где констатировал, что Балтийский флот к боевым действиям совершенно не готов, а на некоторых кораблях артиллеристы даже не умеют заряжать пушки. Лаврентий Павлович подчеркивал: «Артиллерийская подготовка флота находится не на должной высоте. Крейсер «Киров» ни одну из зачетных стрельб из главного калибра не выполнил. Новые миноносцы и лидеры зачетных стрельб не выполнили, а старые эсминцы, которые в предстоящей операции будут осуществлять десантные задачи, огневой подготовки в течение всей летней кампании не проходили и использовались только лишь как обеспечивающие корабли.
Новую материальную часть артиллерии личный состав, в том числе командиры боевых частей, знают плохо. Установленные на новых кораблях пушки К-34 76-мм и крупнокалиберные пулеметы ДК еще не опробованы.
На «Якобинце» при проверке знаний материальной части оказалось, что личный состав не может даже самостоятельно зарядить пушку К-21. На некоторых кораблях и береговых частях нет таблиц стрельб. Форт «Краснофлотский», на который возложены весьма ответственные задачи, таблицы сверхдальних стрельб для 12-дюймового калибра получил только лишь 16 ноября».
Конечно, войска Ленинградского округа были подготовлены к войне не лучше флота, но они хотя бы на завершающем этапе, пусть с большими потерями, но прорвали линию Маннергейма. Моряки же, несмотря на свое подавляющее превосходство, так и не смогли подавить береговые батареи финнов и нарушить судоходство в Финском заливе. Так что Кулику было за что ругать подчиненных Кузнецова. Сам же Григорий Иванович всю жизнь был убежден, что сыграл решающую роль в успехе финской кампании. Он говорил всем и каждому, что первым придумал сопровождать пехоту в наступлении артиллерийским огнем. В действительности этот прием был известен еще в Первую мировую войну, но он требовал хорошего взаимодействия пехоты и артиллерии и высокой выучки артиллеристов, чтобы не попасть по своим. Худо-бедно, но такое взаимодействие Кулик наладил. Во время повторного штурма линии Маннергейма в феврале 40-го пехоту сопровождал огневой вал. Артиллеристы научились также во время артподготовки делать несколько ложных переносов огня в глубину обороны, чтобы противник подумал, будто начинается атака, вышел из укрытий в окопы и попал бы под повторный губительный обстрел. Правда, финны быстро нашли противоядие. Они подпускали наступающих красноармейцев на дистанцию в 100 м и только тогда возвращались в окопы. Чтобы преодолеть по глубокому снегу эту последнюю в буквальном смысле огненную сотню метров требовалось 20 минут. Этого времени финским пехотинцам было вполне достаточно, а еще раз ударить по финским позициям советская артиллерия уже не могла, так как неминуемо задела бы своих.
Тем не менее линию Маннергейма Красная Армия все-таки прорвала. Решающую роль в прорыве сыграла артиллерия, которая смогла в конце концов стрельбой прямой наводкой разрушить многие финские доты. И в марте 40-го Григорий Иванович Кулик был удостоен звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство».
Совсем не симпатизирующий Кулику маршал артиллерии Н.Д. Яковлев, сменивший Григория Ивановича на посту начальника ГАУ 21 июня 41-го, в самый канун войны, признает, что советская артиллерия в целом к столкновению с Германией оказалась подготовлена неплохо: «Удалось не только разработать ряд совершенно новых образцов оружия, но и принять их в серийное производство. Советские Вооруженные Силы получили самозарядную винтовку Токарева, облегченный пулемет «максим» на треноге, 82-мм миномет, 45-мм противотанковую пушку, 122-мм гаубицу и 152-мм гаубицу-пушку образца 1937 года, 76-мм зенитную, 76-мм горную пушки, 120-мм миномет, 76-мм дивизионную и 152-мм пушки, 37-мм и 85-мм зенитные орудия образца 1939 года». И все эти успехи, получается, были достигнуты не благодаря, а вопреки Кулику, которого Николай Дмитриевич, как и Воронов, рисует одними только черными красками: «В вопросах оперативного искусства и боевого применения артиллерии он, мягко выражаясь, слабоват. Г.И. Кулик вел совещание с заметной нервозностью (занервничаешь тут, если совещание проходит в последние предвоенные часы, когда все больше признаков, что германские войска вот-вот вторгнутся на советскую территорию, а тебя к тому же снимают с поста начальника ГАУ! — Б.С.), но высказывался крайне самоуверенно, вероятно, надеясь, что авторитет его суждений обязан подкрепляться высоким служебным положением и званием маршала. Да, это был типичный случай не власти авторитета, а авторитета власти.
Слушая путаное выступление Г.И. Кулика, я с горечью вспоминал слышанное однажды, что он все же пользуется определенным доверием в правительстве, и прежде всего у И.В. Сталина, который почему-то считал Г.И. Кулика военачальником, способным даже на решение оперативных вопросов. И думалось: неужели никто из подчиненных бывшего начальника ГАУ не нашел в себе смелости раньше, чем это уже сделано, раскрыть глаза руководству на полную некомпетентность Г.И. Кулика на занимаемом им высоком посту? Но тут же утешил себя: а все-таки нашлись смелые люди! Справедливость-то восторжествовала!»
Под справедливостью Яковлев, несомненно, понимал смещение Кулика с поста начальника ГАУ (при этом он продолжал оставаться заместителем наркома обороны). А кого же, интересно, подразумевал под «смелыми людьми»? Вероятно, авторов доносов на маршала. Но об этом я расскажу чуть ниже. Пока же отмечу, что Воронов тоже упоминает, будто Григорий Иванович верил в свои выдающиеся оперативные способности:
«Совсем случайно мне стало известно, что заместитель народного комиссара обороны начальник ГАУ Г.И. Кулик и заместитель начальника Генерального штаба И.В. Смородинов разрабатывают проект ликвидации должности начальника артиллерии Красной Армии и его аппарата и передачи их функции в ГАУ. У меня не укладывались в голове эти неразумные предложения. Недавно только закончилась советско-финляндская война, которая подтвердила возросшую роль и значение артиллерии в современной войне. Вскоре меня официально предупредили, что вопрос уже решен высшими инстанциями. Я получил извещение прибыть на заседание в Кремль.
Я выступил против, но мой единственный «глас» оказался «вопиющим в пустыне». После этого выступил Г.И. Кулик и в своей витиеватой речи попросил учесть, что ему пора перейти работать на другое направление и поэтому нужно освободить его от работы в ГАУ. Куда он метил — этого он не сказал, но пояснил, что его перемещение соответствовало бы его высоким оперативным познаниям и опыту работы, что у него выработан большой оперативный «нюх». Кулик внес предложение назначить меня начальником нового ГАУ (которому переходила часть функций начальника артиллерии. — Б.С.).
Я попросил снять мою кандидатуру, так как не согласен с новой структурой, и предложил оставить на этой должности Г.И. Кулика: пусть на деле докажет полезность предлагаемых им новшеств.
Начальником ГАУ был утвержден Г.И. Кулик, я — его первым заместителем, Г.К. Савченко — вторым. В.Д. Грендаль — третьим».
Яковлев также критикует идею Кулика об упразднении поста начальника артиллерии: «Еще в середине 1940 года по настоянию заместителя наркома обороны Кулика должность начальника артиллерии ликвидировали и ввели в ГАУ, начальником которого и был Кулик, должность заместителя начальника ГАУ по боевой подготовке артиллерии. Но что это была за должность! При этом заместителе начальника ГАУ существовало лишь небольшое отделение боевой ПОДГОТОВКИ:
Начальник артиллерии РККА участвовал в согласовании всех тактико-технических требований на артиллерийское вооружение, разрабатывавшееся промышленностью по заказам ГАУ, и организовывал войсковые испытания опытных образцов артиллерийского вооружения. Таким образом, решающее слово о принятии на вооружение того или иного образца орудия принадлежало начальнику артиллерии. Если, конечно, не было иных мнений со стороны руководства Генерального штаба, народного комиссара обороны или в правительстве.
Что, например, мог предпринять теперь по должности заместителя начальника ГАУ Н.Н. Воронов? Ничтожно мало! Его требования к принимаемому к разработке артиллерийскому вооружению начальник ГАУ мог и не утвердить. Все замыкалось на ГАУ, в котором он был всего лишь заместителем начальника». Характерно, что, если верить Воронову, предпринятая реформа не была направлена на умаление его роли. Ведь Кулик именно Николаю Николаевичу предложил возглавить реорганизованное ГАУ. Не исключено, что планировавшееся перемещение маршала на другую должность было связано с готовившимся как раз в середине 40-го года вторжением Красной Армии в Западную Европу в тот момент, когда вермахт увязнет в наступлении на «линию Мажино». Возможно, Сталин, учитывая опыт Кулика в Финляндии, рассчитывал назначить Григория Ивановича командующим или координатором действий одного из фронтов. Однако быстрый крах французского сопротивления заставил отказаться от броска на Запад. Может быть, потому, что советско-германская война была отложена, Кулик и остался пока во главе ГАУ? Зато когда в 41-м году, еще не зная о «Барбароссе», Сталин решил в июле вторгнуться в Германию и Польшу, он снова собрался направить верного Григория Ивановича на фронт. Яковлев, занимавший должность начальника артиллерии Киевского Особого военного округа, вспоминал, что 16-го июня ему объявили о назначении начальником ГАУ. Значит, решение о перемещении Кулика было принято несколькими днями раньше. Вероятно, вскоре после того, как Политбюро 4 июня 1941 года постановило создать к 1 июля в составе Красной Армии польскую дивизию. Точно так же осенью 39-го за месяц до советского вторжения в Финляндию в Красной Армии появился Финский Народный корпус. А в первые же часы войны Григорий Иванович направился на Западный фронт к находившимся в Белостокском выступе и нацеленным на Варшаву 3-й и 10-й армиям.
Мне кажется, что скорее всего снятие Кулика с руководства Главным Артиллерийским управлением не означало недоверия к нему со стороны Сталина. Да и за что было ругать Григория Ивановича? Ведь артиллерия к войне оказалась подготовлена получше, чем, например, авиация или танковые войска. Об этом писал не один лишь Яковлев. Вот, например, в книге маршала артиллерии К.П. Казакова «Всегда с пехотой, всегда с танками», представляющей собой очерк действий советской артиллерии в 1941–1945 годах, читаем, что накануне войны «артиллерия Красной Армии представляла мощный по вооружению и вполне современный по организации и боевой подготовке род войск, способный успешно решать боевые задачи в современной войне».
А генерал-полковник артиллерии Н.М. Хлебников в своих мемуарах приводит сравнительную характеристику вооружения советской и немецкой артиллерии в 41-м: «За годы Советской власти артиллерия наша сделала резкий скачок вперед и, насколько мне было известно, к 1941 году обогнала по решающим показателям артиллерию самых крупных иностранных армий, в том числе и немецко-фашистскую.
В противотанковой артиллерии мы имели 45-мм пушку с большой начальной скоростью, пробивной способностью и вдвое более мощным снарядом, чем 37-мм немецкая пушка (пробивная способность на 500 метров по броне соответственно 40 и 26 мм).
В полковой артиллерии наша 76-мм пушка образца 1927 года также была почти вдвое мощнее 75-мм немецкой пушки. Дивизионная немецкая артиллерия была вооружена 75-мм пушками 1918 и 1922 годов, которые значительно уступали нашей 76-мм пушке УСВ 1939 года по всем статьям (дальнобойность соответственно 4,5 и 8,5 км). Немецкая 105-мм гаубица в полтора раза уступала по мощности нашей 122-мм дивизионной гаубице М-30. Наша 152-мм гаубица М-10 по баллистическим данным примерно равнялась немецкой 150-мм гаубице, но была легче на 1,5 тонны, а следовательно — гораздо подвижнее и маневреннее.
В корпусной артиллерии мы имели отличный «дуплекс» (так артиллеристы называют два орудийных ствола разных калибров, которые можно установить на одном и том же лафете. — Б.С.), т. е. 122-мм пушку А-19и 155-мм гаубицу-пушку с дальностью стрельбы соответственно 20 и 17 километров. Этот «дуплекс» не имел себе равных ни в одной иностранной армии.
В артиллерии большой и особой мощности наши 152-мм пушки БР-2 и 210-мм БР-17 не уступали немецким, а 203-мм гаубица Б-4 и 305-мм гаубица БР-18 превосходили немецкие орудия соответствующих калибров».
Но, может быть, советские генералы и маршалы из патриотических побуждений преувеличивали достоинства собственной артиллерии? Интересно, а какие отзывы имеются с немецкой стороны? Немецкий генерал-танкист Ф.В. фон Меллентин в своей книге «Танковые сражения 1939–1945 гг.» не пожалел критических стрел в адрес Красной Армии, ругал за плохую тактическую подготовку и действия по шаблону и пехоту, и танковые соединения, и авиацию. Только об артиллерии отозвался очень уважительно: «Несмотря на известные недостатки, русская артиллерия является очень грозным родом войск и целиком заслуживает той высокой оценки, какую ей дал Сталин. Во время войны Красная Армия применяла больше тяжелых орудий, чем армия любой другой воюющей страны».
Недостатки были связаны прежде всего с недостаточным взаимодействием артиллерии с пехотой и танками, плохой разведкой целей и не очень совершенным управлением огнем. Однако все это относилось скорее к сфере боевой подготовки, за которую отвечал главным образом Воронов, а не Кулик.
Нет, не из-за сбоев в работе ГАУ подкрадывалась к маршалу беда. Она пришла совсем с другой стороны и была связана не со служебной деятельностью Григория Ивановича, а с его личной жизнью, о которой пришла пора рассказать.
В первый раз Григорий Иванович женился в 1921 году. Его женой стала Лидия Яковлевна Пауль, дочь зажиточного немца-колониста, предки которого поселились на Дону еще при Екатерине II. С ней Кулик познакомился в Ростове-на-Дону. Позднее тестя будущего маршала записали в кулаки. В начале 20-х Григорию Ивановичу удалось, пользуясь своим высоким положением, отстоять хозяйство Паулей от конфискации. Однако, когда началась политика «окончательной ликвидации кулачества как класса», Кулику припомнили «контрреволюционную связь с мироедом» и в декабре 1929 года вкатили выговор по партийной линии. Григорий Иванович сообразил, что социальное и этническое происхождение жены становится непреодолимым препятствием в восхождении по ступенькам военной иерархии, и с Лидией Яковлевной развелся. Тем более что его сердце уже принадлежало другой. На курорте Кулик познакомился с Кирой Ивановной Си-монич. Дочь маршала от первого брака Валентина Григорьевна Кулик-Осипенко в беседе с писателем Владимиром Карповым вспоминала: «Из-за того что у Кулика жена была немкой, он имел неприятности по службе. Может быть, это было одной из причин, почему папа с ней развелся. Но главной причиной была неожиданная любовь отца к Кире Ивановне. Она действительно была очень красивая. Такая женщина — никто не мог пройти мимо, не обратив внимания! Отец познакомился с ней, кажется, на курорте. И вот в 1930 году разгорелась такая любовь, что оба оставили свои семьи (на суде в 1950 году Кулик утверждал, что «в 1932 году я женился на дочери графа — Симонич, с которой я прожил 10 лет»; вероятно; жить с Кирой Ивановной Григорий Иванович, как о том свидетельствует дочь, действительно начал в 30-м году, и они оставались вместе 10 лет — до трагической разлуки в мае 40-го, а в 32-м году они только оформили свои отношения законным браком. — Б. С.). У Киры Ивановны тоже был муж и сын Миша. Она все бросила и пришла к отцу. Я с мамой была в санатории. Вернулись в Москву, а в квартире новая жена у папы! Мне было всего восемь лет, но я поняла, какая произошла для нас с мамой трагедия. Самое ужасное то, что мы были вынуждены жить в одной квартире. Разъехаться некуда. Я с мамой в одной комнате, отец с Кирой в другой, и одна общая столовая. Обстановка напряженная, наэлектризованная Сами понимаете — две жены в одной квартире! Но мама моя типичная, сдержанная немецкая жена — кухе, кирхе, киндер (кухня, церковь, дети). Ходила с поджатыми губами, молчала. А Кира Ивановна — победительница, да к тому же счастливая, держала себя независимо. Мама, чтобы поменьше быть дома, устроилась на работу делопроизводительницей, у нее не было образования. Мне ее было очень жалко. Но я ребенок, мне проще, много подружек приходило, они жили в нашем доме — дочка Гамарника, дочка Уборевича (дети дружили с Валей, несмотря на то, что их отцы относились к Кулику более чем прохладно, презрительно называя героя Царицына «фейерверком». — Б. С.) Позднее отец добился через Ворошилова, чтобы нам с мамой дали две небольшие комнаты в общей квартире, недалеко от станции метро Бауманская. В старой квартире остались отец с Кирой Ивановной. В 1932 году у них появилась дочка, тоже Кирой назвали. В 1938 году, когда случилась беда с Гамарником — он застрелился, и его объявили врагом народа (беда-то, как мы помним, случилась годом раньше — в 37-м. — Б. С.), — отец прибавил квартиру Гамарника к той, в которой мы жили раньше, они были смежные, номер 13 и 14, на одной лестничной площадке. Причем отец оставил объединенной квартире номер 14, а 13, как несчастливый, снял (но судьбу перехитрить Григорию Ивановичу не удалось, и кончил он так же скверно, как Гамарник с Тухачевским. — Б. С.).
Отношения моей мамы с отцом не оборвались совсем. Он о нас заботился, помогал. В 1938 году достал маме путевку в санаторий. А за мной приехала Кира Ивановна и забрала к себе: «Папа сказал, будешь у нас жить». — «А как школа — в сентябре начало учебы?» — «У нас рядом есть школа — туда перейдешь». Ну, слово папы — закон. А когда мама вернулась с курорта, решили меня из школы в школу не переводить, осталась жить у отца до окончания учебного года. К маме ездила в выходные дни, очень тосковала по ней. Однажды она мне говорит: «Доченька, я встретила хорошего человека, он сделал мне предложение, как ты на это смотришь?» — «А кто он?» — «Полковник, познакомились в санатории. Встречаемся и здесь, в Москве». — «Ну что ж, мамочка, я взрослею, когда-то тоже выйду замуж. Зачем тебе жить в одиночестве? Соглашайся. А я буду жить с папой». — «Почему не со мной?» — «Хлеб отцовский все же будет слаще хлеба отчима». Жестоко, наверное, получилось, но я желала ей добра, не хотела мешать.
И вот последние три года учебы в школе, с восьмого по десятый класс, я жила с отцом и Кирой Ивановной. У нас сложились прекрасные отношения с Кирой, она была веселой, общительной женщиной, летом на даче полно гостей. Отцу дали дачу в Крюкове, раньше здесь жил Куйбышев, теперь во флигеле жили две его жены — первая и вторая, они растили сына Володю.
Кира была не просто красивая, а очень красивая. И еще в ней была та самая изюминка, которая даже некрасивую женщину делает привлекательной. Вот такое в ней неотразимое сочетание получалось: красота и обаяние. Глаза у нее с каким-то зеленоватым, даже не цветом, а светом. Какой-то бесовский в них огонек. Хорошая фигура, красивые стройные ноги. Холеные руки. Нрав веселый. Умна, хитра — не простушка. Да и воля была твердая, мужа-маршала держала в руках крепко! Мужчин как магнитом притягивала: артисты, писатели, музыканты и другие знаменитости вокруг нее постоянно кружили. Ей это нравилось. Любила быть в центре внимания. А какой красивой женщине это не нравится?»
Неудивительно, что Кулик попал под чары Киры. Вообще же в истории со своими двумя первыми женами Григорий Иванович выглядит вполне достойно. Хоть и разлюбил Лидию Яковлевну, но продолжал заботиться о ней и дочери, не боялся, что обвинят в связи с «кулацкой дочкой». А когда у бывшей супруги наметился новый роман, Григорий Иванович с готовностью взял к себе дочь Валю, которой Кира Ивановна на время стала второй матерью.
Но вот беда, анкета у Киры Симонич была ничуть не лучше, чем у Лидии Пауль. Мало того что отец — граф из обрусевших сербов, дослужившийся до генеральского чина. Так еще этого самого графа-генерала в 1919 году вывела в расход ЧК. Официально — «за контрреволюционную деятельность». Фактически — за «нехорошую должность»: бедняга перед революцией был начальником контрразведки военно-морской базы в Гельсингфорсе. Оба брата Киры также были арестованы и направлены в лагеря. Саму ее с первым мужем, крупным нэпманом Ефимом Абрамовичем Шапиро, и с матерью, Марией Романовной, купеческой дочкой, в 1928 году сослали в Сибирь. Там Кира родила сына Мишу. Летом 29-го их всех из ссылки вернули. Мария Романовна уехала в Италию к одной из дочерей, эмигрировавшей ранее, да так в Италии и осталась. Кира же отправилась поправить здоровье к Черному морю, где и встретилась с Куликом. Первый муж без возражений дал ей развод и в дальнейшем остался с Кирой в хороших отношениях. А ведь Ефима Абрамовича чекисты подозревали в связях с иностранными разведками. Впрочем, кого они только в таких связях не подозревали!
Нет, думаю, не из-за карьерных соображений Кулик развелся с Пауль и женился на Симонич, а только из-за любви. Согласись, читатель, что отец-граф, да еще расстрелянный чекистами, это по меркам того времени еще хуже, чем отец-кулак. А ведь к этому надо добавить репрессированных братьев Киры и ее первого мужа и, о ужас, родственники за границей. Словом, весь джентльменский набор. Но до поры до времени это лыко Григорию Ивановичу в строку не ставили.
В ноябре 39-го Кулик праздновал на даче свой день рождения. Этот вечер хорошо запомнился его дочери Вале. Она рассказывала Владимиру Васильевичу Карпову: «Были здесь давние друзья отца — Ворошилов, Тимошенко, Буденный, Городовиков, писатель Алексей Толстой, тенор Козловский, композитор Покрасс, первые Герои Советского Союза Ляпидевский, Слепнев с женой балериной и другие знаменитости. И вот, когда мы собирались сесть за стол, раздался звонок телефона. Папа взял трубку и, как только услышал голос говорившего, сразу зажал трубку и как-то сдавленно крикнул, ни к кому не обращаясь: «Тихо, Сталин!»
Все мгновенно замолчали, напряглись в ожидании. А Кулик между тем отвечал: «Что делаю? Да вот собираюсь день рождения отмечать. Друзья приехали».
Сталин сказал: «Подождите меня, я сейчас приеду». Это было так неожиданно и необычно, что все просто онемели, получилась немая сцена, как в «Ревизоре» Гоголя. А потом заговорили все разом, негромко, приглушенно, с беспокойством. Смысл всех разговоров был один: «Что это значит?»
В общем, пока мы гадали, что это значит, вдруг примчались многочисленные легковые машины и небольшие автобусы. Из них выскакивали люди в штатском и мгновенно рассыпались за кусты, деревья, ограды. Через несколько минут никого не было видно, но мы-то знали — все вокруг забито охраной.
Вскоре приехал «сам» в сопровождении личной охраны и ее начальника всесильного Власика. Охранники внесли ящик марочного вина. Сталин подарил папе книгу Золя «Разгром» (словно предчувствовал события первых месяцев Великой Отечественной. — Б. С.) с надписью, сделанной прямо на обложке: «Другу моему давнишнему. И. Сталин». Затем Сталин обошел всех, поздоровался с каждым за руку. Все стояли вдоль стен и ждали, когда он подойдет. Меня поразило, что он небольшого роста и не такой величественный, как на портретах и в нашем воображении. У него плохая блеклая кожа лица с редкими ямками от болезни оспой.
Сели за стол. Произносили тосты за здоровье отца, за артиллерию. Сталин пил только то вино, которое привезла и наливала ему охрана.
Через некоторое время хмель снял напряжение, стали говорить громко, шутили. Козловский пел песни под аккомпанемент Покрасса. Я не заметила, чтобы Сталин оказывал какие-то особые знаки внимания Кире Ивановне. Да и она вела себя, как обычно, непринужденно, весело шутила с мужчинами. Отец сидел рядом со Сталиным, но опасался предлагать ему какие-то закуски или выпивку, зная подозрительность Сталина. Иосиф Виссарионович уделил несколько минут и мне. Когда все стали танцевать, а я стояла в сторонке, он сказал: «Ну что же вы не приглашаете такую молодую красивую девушку, приглашайте ее, она скучает!»
Тут рассказ Валентины Григорьевны прервал ее муж-летчик Александр Степанович Осипенко: «Сталин вообще ее запомнил. Он едва не лишил меня невесты, все советовал своему сыну Василию — не прозевай, смотри какая у Кулика дочка красавица!..»
Владимир Васильевич-, основываясь на ходивших в писательской среде туманных слухах, полагал, что Сталин воспылал страстью к Кире Ивановне, а когда она отвергла домогательства вождя, последовала трагическая развязка. Поэтому Карпов старался узнать мельчайшие подробности неожиданного визита Сталина на дачу к Кулику. Писателю удалось разговорить на эту тему Ивана Семеновича Козловского. И вот что рассказал великий тенор о том памятном вечере: «Была сырая погода, а к ночи подморозило и образовался гололед. Машины скользили на подъеме. Дача Кулика была на взгорке. Машину, в которой ехал Сталин, занесло на скользком подъеме, и она свалилась в кювет. Представляю, как он испугался! Наверное, думал, что на него покушение. Он вообще был очень осторожным и подозрительным. Он сам ничего не сказал об этом случае. Мы услышали от начальника его личной охраны. Ну, сели за стол, поздравили хозяина, выпили, закусили, еще выпили. Сталин произнес очень странный тост. Мы даже не поняли, почему он его сказал: «Давайте выпьем за демократическую Финляндию».
Все выпили. А 30 ноября, буквально через несколько дней после нашего застолья, советские войска начали боевые действия против Финляндии. И тогда я понял: даже в гостях голова Сталина была занята надвигающейся войной, которую он решил начать для того, чтобы сделать Финляндию «демократической».
Я сидел за пианино в соседней со столовой комнате и напевал Сталину шутливые песенки, что-то вроде «Ах, милашка, скинь рубашку». Мы все к тому времени изрядно выпили, и я мог себе позволить такие шутки. Вдруг вошла в эту комнату Кира Ивановна и прямо к Сталину, и начинает с ним так говорить, как будто они давние знакомые. Они даже отошли от пианино. Я краем уха слышал, что Кира говорила о своем брате Сергее, бывшем офицере белой армии. Он в то время находился где-то в лагерях. Кира очень настойчиво просила Сталина помочь спасти ее брата. Я понял, что лишний при этом разговоре, и потихоньку ушел из комнаты, оставив их наедине».
Карпов считает, что свидетельства Козловского и дочери Кулика доказывают, будто между Сталиным и Кирой существовали какие-то особые отношения. Козловский высказал предположение, что последующее исчезновение жены маршала может быть связано с тем, что «на нее что-то наговорил режиссер Большого театра Мордвинов. Его незадолго перед этим посадили, и он уже оттуда не вернулся. А он ухаживал за Кирой Ивановной, они были близкими друзьями — незадолго до ареста они где-то в озере или в пруду купались, их видели там». Владимир Васильевич сразу построил несложную схему: Берия донес Сталину об интимных отношениях между режиссером Борисом Аркадьевичем Мордвиновым и женой Кулика, после чего «могло случиться так, что ревность диктатора взыграла до того, что он не остановился перед тем, чтобы наказать обоих. А наказание у этого жестокого человека было одно — смерть».
Тут, правда, получается одна неувязка. Наказал-то Сталин обоих очень по-разному. Мордвинова арестовали, хоть и без особой огласки, но так, что об этом знали и родные, и коллеги-артисты, тот же Козловский. И в лагере он прожил целых тринадцать лет — до 1953 года. Симонич же просто исчезла, да так, что несколько десятилетий никто не знал о ее судьбе.
Валентина Григорьевна рассказывала Карпову о последнем приеме в Кремле, на котором ей пришлось побывать: «Последний прием в Кремле, на котором была Кира Ивановна, состоялся 5 мая 1940 года, кажется, в честь Дня печати. Меня Сталин не забыл после посещения нашей дачи в день рождения отца. И я была приглашена. Это был первый (и последний. — Б.С.) кремлевский прием, на котором довелось мне присутствовать. Все там было шикарно. Огромные стерляди на блюдах. Марочные вина, коньяки, водки. Приготовленные искуснейшими кулинарами закуски. Много света. Зал переполнен людьми, один другого знаменитее! Я была на седьмом небе. Ни ко мне, ни к Кире Ивановне Сталин не проявил никакого внимания, даже не подошел. Сидел на своем обычном месте в окружении членов Политбюро. Скользнул раз-другой взором в нашу сторону, ну, может быть, на секунду задержался, не дольше. А может быть, мне это показалось, а он смотрел так же, как и на всех. Не знаю. Не могу утверждать. Только это был последний прием в жизни Киры Ивановны. Через два дня она исчезла».
Сам Кулик на суде в августе 1950 года об исчезновении супруги сообщил следующее: «Однажды меня вызвал Сталин и сказал, что имеются сведения о том, что моя жена связана с итальянцами, и предложил мне с ней разойтись. После этого я с Симонич был на первомайском параде, а 5 мая (1940 года. — Б.С.) в 11 часов дня она исчезла. Я предполагал, что ее арестовали, но когда я зашел к Берии, он мне сказал, что нет. После этого я сразу заявил в ЦК».
Очевидно, Валентина Григорьевна Кулик-Осипенко за давностью лет датой приема в Кремле по ошибке назвала дату исчезновения Киры Ивановны. Интересно, что Григорий Иванович сразу же догадался, что имел место так называемый «негласный арест», применявшийся НКВД и НКГБ в отношении лиц, факт задержания которых органы предпочитали не обнародовать, чтобы не вспугнуть возможных сообщников или не скомпрометировать раньше времени связанных с арестованными лиц, занимающих видное общественное положение. О том, что же в действительности случилось с Кирой Ивановной Симонич, стало известно только в 1953 году во время следствия и процесса по сфабрикованному делу «о заговоре Берии» (об этом деле я подробно расскажу в очерке, посвященном Лаврентию Павловичу). Летом 53-го один из подчиненных Берии бывший князь О.Ш. Церетели, входивший в предназначенную для выполнения наиболее деликатных заданий особую группу при наркоме внутренних дел, сообщил следователям: «Вместе с Влодзимирским и Гульстом я участвовал в тайном изъятии жены Маршала Советского Союза Кулика. Выполнялось это по указанию Берии. Для чего была изъята эта женщина и что с ней случилось потом — мне неизвестно (на последующих допросах Церетели чудесным образом вспомнил, что же именно случилось с Кирой Симонич. — Б. С.). Летом или в начале осени 1940 года меня вызвал Берия и объявил, что я вхожу в состав группы из четырех человек, которым поручается произвести секретный арест жены маршала гражданки Кулик.
Согласно намеченному плану задержание гражданки Кулик должно было произойти на улице, без огласки. Для этого были выделены две легковые машины, в них дежурила вся группа. Засада была устроена недалеко от дома, где находилась квартира маршала Кулика. На второй или третий день, когда гражданка Кулик вышла из дома одна и пошла по пустынному переулку, она была нами задержана и доставлена во двор здания НКВД СССР. Всей этой операцией руководил Меркулов, он приезжал, проверял засаду».
В свою очередь, бывший заместитель начальника 1-го отдела по охране НКВД Вениамин Наумович Гульст, которому, в отличие от Церетели, посчастливилось проходить свидетелем, а не обвиняемым, на допросе показал: «В 1940 году меня вызвал к себе Берия. Когда я явился к нему, он задал мне вопрос: знаю ли я жену Кулика? На мой утвердительный ответ Берия заявил: «Кишки выну, кожу сдеру, язык отрежу, если кому-то скажешь то, о чем услышишь!» Затем Берия сказал: «Надо украсть жену Кулика, в помощь даю Церетели и Влодзимирского, но надо украсть так, чтобы она была одна».
В районе улицы Воровского в течение двух недель мы держали засаду, но жена Кулика одна не выходила. Каждую ночь к нам приезжал Меркулов проверять пост, он поторапливал нас и ругал, почему мы медлим. Но однажды она вышла одна, мы увезли ее за город в какой-то особняк. Слышал, что Кулик объявлял розыск своей жены, но найти ее не мог…»
Четверо подготовленных чекистов без труда справились с беззащитной женщиной, совершенно не ожидавшей ареста. Но тогда, в мае 40-го, они совсем не думали, что тринадцать лет спустя придется держать ответ за похищение и убийство «жены маршала гражданки Кулик».
26 августа 1953 года недавно назначенный Генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко допрашивал Берию об обстоятельствах похищения жены Кулика.
— Церетели Шалву Отаровича вы знаете? — вкрадчиво осведомился прокурор.
— Церетели знаю примерно с конца 1922 года по совместной работе в Грузии, — осторожно ответил Лаврентий Павлович, не зная еще, откуда ждать подвоха. — Знаю его с положительной стороны, как человека храброго (большая храбрость нужна, конечно, чтобы похитить беззащитную женщину. — Б.С.). Использовался он по борьбе с бандитизмом.
Руденко решил взять быка за рога:
— Для какой цели вы намерены были привлечь Церетели в 1941 году, незадолго до Великой Отечественной войны?
Берия понял, что следствие знает если не все, то очень многое, и начал рассказывать:
Не помню, в 1940 или в 1941 году Церетели намечался мною на работу в спецгруппу для осуществления специальных заданий, т. е. избиения, тайного изъятия лиц, подозрительных по своим связям и действиям. Так, например, имелось в виду применить такую меру, как уничтожение Литвинова, Капицы. В отношении режиссера Каплера намечалось крепко избить его.
Лаврентий Павлович надеялся ограничиться случаями, когда «мокрухи» не было. Убивать вышедшего из доверия бывшего наркома иностранных дел М.М. Литвинова и отказавшегося работать над атомным проектом академика П.Л. Капицу Сталин раздумал, а киносценариста А. Каплера, имевшего несчастье влюбить в себя дочь вождя Светлану Аллилуеву, только сильно поколотили и отправили в лагерь. Но Руденко интересовали более серьезные дела с трагическим исходом. И он спросил в лоб:
— Тайное похищение и убийство Кулик-Симонич было совершено по вашему личному указанию?
— Так, — упавшим голосом отозвался Берия, понимая, что пули от бывших соратников по Политбюро ему не избежать. — Я не могу вспомнить, кому я дал распоряжение о тайном изъятии и уничтожении Кулик-Симонич, но мне помнится, что ее допрашивали. Было ли решение Особого совещания по ее делу, я не помню. Не помню также, обращался ли Кулик ко мне с заявлением о том, что исчезла его жена. Не помню, объявлялся ли всесоюзный розыск Кулик-Симонич.
На судебном же процессе, проходившем с 18 по 23 декабря 1953 года, Берия, или человек, похожий на Берию (познакомившись с заключительным очерком книги, читатели поймут, почему я так говорю), дал гораздо более подробные показания по делу Киры Симонич и, о чудо, вспомнил имена исполнителей: «Я получил небольшую сводку о Кулик. Вернее, я попросил, чтобы мне дали о ней сводку. Получив сводку, показал ее. Мне было приказано изъять Кулик-Симонич и так, чтобы никто об этом не знал. Получив такие указания, я вызвал Меркулова и Влодзимирского и поручил произвести операцию».
Также и в ответе бывшего начальника следственной части по особо важным делам Льва Емельяновича Влодзимирского на вопрос председателя Специального Судебного Присутствия маршала И.С. Конева, принимал ли он участие в пытках, похищениях и убийствах советских людей, мы находим новые подробности истории исчезновения Симонич: «В 1939 году, в июне или в июле, меня вызвали в кабинет Берии. Там находился Меркулов и еще кто-то. Берия дал указание Меркулову создать опергруппу из 3–4 человек под руководством Гульста и произвести секретный арест жены Кулика. Я был участником этой группы. Меркулов разработал план, как устроить засаду, и предложил жену Кулика снять секретно. Ордера на арест жены Кулика не было».
Тут Иван Степанович позволил себе риторическую сентенцию: «Значит, вы тайно похитили человека ни в чем не виновного, т. е. без всяких оснований?»
— Была ли она виновата или нет, не знаю, — честно признался Лев Емельянович. — Я считал, что ее снимают незаметно, так как не хотят компрометировать ее мужа.
— Вы похитили жену Кулика, а что вы с ней сделали? — поинтересовался Конев, хотя сам уже отлично знал, как именно поступили с несчастной Кирой Ивановной.
— Мы привезли ее в здание НКГБ и сдали. Я больше ничего не делал. Через полтора месяца меня вызвал Кобулов, приказал выехать в Сухановскую тюрьму, получить там жену Кулика и передать ее Блохину. Я понял, что если жена Кулика передается коменданту Блохину (тому самому, что расстреливал Тухачевского, Якира и их товарищей. — Б.С.), то значит для исполнения приговора, т. е. расстрела. Я только теперь узнал, что ее допрашивали Берия и Меркулов».
Последние штрихи дорисовал бывший нарком госбезопасности В.Н. Меркулов, заявивший на суде: «Получив указания Берии, я ознакомился с материалами на Симонич-Кулик, но материалы были незначительные. Я доложил об этом Берии. Он волновался, очень спешил и сказал мне, что нужно быстрее изъять Симонич-Кулик. По указанию Берии мною был разработан плац ареста Симонич-Кулик, устроена засада, я выезжал проверять, как идет выполнение операции, на место. Кулик-Симонич я допрашивал вместе с Берией, правильнее сказать — допрашивал ее Берия, а я вел запись протокола. Никаких показаний о своей шпионской работе она нам не дала и была нами завербована в качестве агента».
На прямой же вопрос члена Специального Присутствия Михайлова: «За что же была убита Кулик-Симония?» — Всеволод Николаевич испуганно выкрикнул: «Я ее не убивал. Берия сказал мне, что о ее расстреле есть указание свыше. У меня не было никаких сомнений в том, что такое указание действительно было получено».
Заместитель же Меркулова Богдан Захарович Кобулов 26 сентября 1953 года сообщил следствию о том, как было принято решение о похищении и убийстве Киры Ивановны: «Примерно в 1939 году Берия, сославшись на имеющееся указание «инстанции», распорядился произвести секретный арест гражданки Симонич-Кулик и содержать ее под стражей в загородной Сухановской тюрьме. Примерно через месяц или полтора после негласного ареста жены маршала меня вызвал Берия и сказал, что имеется указание «инстанции» о ликвидации Симонич-Кулик. Но сделать это нужно таким образом, чтобы, кроме Влодзимирского, об этом никто не знал. Тут же Берия вызвал Влодзимирского и проинструктировал его, как надо это сделать: «Поедете с Мироновым в Сухановку и возьмете там женщину, которую надо привезти сюда, во внутреннюю тюрьму, и здесь ликвидировать. Для того, чтобы она при транспортировке не крикнула и чтобы никто из надзирателей не услышал ее крика, скажите ей, что вы везете ее для освобождения. Да и вообще лучше, если никто лица ее не увидит, обмотайте ей голову платком.
Тут же Берия позвонил начальнику Сухановской тюрьмы, что приедет за «той самой» арестованной Влод-зимирский, и вы ее ему отдайте. В ожидании приведения в исполнение его распоряжения о расстреле Симонич-Кулик Берия очень нервничал, считая, что дело затягивается, и поручил мне проверить причину задержки. Однако когда я прибыл, Влодзимирский и Блохин мне доложили, что задание выполнено».
Влодзимирский на следствии вспомнил, как вместе с Мироновым привез Симонич в здание НКВД в Вар-санофьевском переулке (здесь располагалась также знаменитая лаборатория ядов, которые испытывали на заключенных): «Нас там встретил во дворе комендант Блохин, который вместе с Мироновым отвел ее во внутреннее помещение нижнего этажа здания. Я с ними прошел в первое помещение и остался там, а Блохин с Мироновым провели гражданку Кулик в другое помещение, где ее и расстреляли. Через несколько минут мы вышли уже во двор с Мироновым и Блохиным. К нам подошли прокурор Бочков и заместитель наркома внутренних дел СССР Кобулов. Я хорошо помню, как Блохин при мне доложил им, что приговор приведен в исполнение. Бочков тогда выругал Блохина, сделав ему строгое замечание, что он привел приговор в исполнение, не дождавшись его и Кобулова». В отличие от Блохина и Миронова, Льву Емельяновичу самому убивать людей не приходилось. Не мог он смотреть, как человеку стреляют в упор в затылок. Вот и остался ждать, когда комендант вернется доложить, что «объект» ликвидирован. Прокурор же Бочков усмотрел единственное нарушение социалистической законности в том, что невинного человека расстреляли, не дождавшись его, прокурора, прибытия.
Вместе с Влодзимирским Киру Ивановну к месту казни сопровождал Церетели. Чтобы не допустить малейшей утечки информации, Берия привлек к ликвидации Симонич только тех людей, которые ранее участвовали в ее похищении. На допросе Шалва Отарович показал: «Через месяц или полтора после задержания гражданки Кулик мне поручили с начальником внутренней тюрьмы Мироновым съездить в Сухановскую тюрьму, взять одну арестованную (фамилия не называлась), которую нам там выдадут. Привезти ее в здание НКВД и передать коменданту Блохину. Когда мы приехали в Сухановскую тюрьму, то нам выдали арестованную, в которой я опознал жену Кулика.
Гражданку Кулик мы с Мироновым доставили в здание НКВД, что в Варсанофьевском переулке. Нас там встретил комендант Блохин, который вместе с Мироновым отвел ее во внутреннее помещение нижнего этажа здания. Где ее и расстреляли».
Бывшего коменданта НКВД Василия Михайловича Блохина, проходившего свидетелем, следователи расспрашивали о последних минутах жизни жены Кулика. Он охотно сообщил: «Симонич-Кулик я не знаю по фамилии. Такой никогда не слышал. Могу вместе с тем рассказать следующее. Меня вызвал заместитель наркома Кобулов (тут память подвела Блохина: в 1940 году Кобулов был начальником одного из главных управлений НКВД, но не заместителем наркома. — Б.С.) и сказал, что начальник следственной части Влодзимир-ский привезет ко мне женщину, которую надо расстрелять. При этом Кобулов запретил мне спрашивать эту женщину о чем-либо, а сразу же после доставки ее расстрелять. В тот же день Влодзимирский вместе с начальником внутренней тюрьмы Мироновым привел ко мне женщину и сказал, что это ее надо расстрелять. Я выполнил указание Кобулова и ее расстрелял. Кто была эта женщина, я не знаю. Никаких документов на эту женщину ни Кобулов, ни Влодзимирский не представили, и точно так же и я о произведенном расстреле никаких документов не составлял. Насколько я помню, кроме Влодзимирского и Миронова, при этом расстреле никто не присутствовал».
Таким образом, Киру Ивановну Симонич-Кулик тайно арестовали и еще более тайно расстреляли, позаботившись, чтобы ни одной бумаги с ее фамилией не осталось в архивах НКВД, кроме фальшивого, ведшегося для отвода глаз дела о всесоюзном розыске без вести пропавшей жены маршала. Самого Григория Ивановича в 50-м выводили в расход с куда меньшими предосторожностями. Какая же страшная тайна была связана с женой маршала?
А досье на Киру Ивановну на Лубянке существовало, но после ее Смерти было уничтожено. Бывший начальник секретариата Берии Степан Соломонович Момулов (ему посчастливилось избежать расстрела) на следствии в 53-м показал: «За женой Кулика было установлено наблюдение с применением оперативной техники (т. е. подслушивающих устройств. — Б. С). Она встречалась с режиссером Мордвиновым, который позднее был арестован. Жена Кулика бесследно исчезла. Были приняты меры к ее розыску, но безрезультатно. Кулик подозревал органы НКВД в какой-то заинтересованности в исчезновении его жены (вряд ли Григорий Иванович был настолько наивен, чтобы не понимать: без санкции Сталина органы бы Киру Ивановну и пальцем не тронули. — Б.С.) и высказывал эти свои подозрения. Были докладные записки в ЦК партии на имя Сталина об исчезновении жены Кулика и принятых мерах по ее розыску. Подписывал эти записки Берия».
На вопрос же: «Были ли в материалах какие-либо данные о связях Кулика, его исчезнувшей жены и Мордвинова с заграницей?» — Степан Соломонович честно ответил: «Нет, таких данных в материалах не было. Разговор шел только о бытовых вопросах их жизни». Кобулов тоже подтвердил: «Никаких конкретных данных о ее шпионской работе не было».
По условиям игры, принятой обеими сторонами, ни в ходе следствия, ни на суде имя Сталина не называлось. Вместо него фигурировали эвфемизмы: «указания свыше» и «инстанция». Ясно, что Меркулову и Берии никто, кроме Сталина, приказов отдавать не мог. И только по распоряжению Иосифа Виссарионовича могли они похитить, а потом расстрелять жену Кулика. Зачем же Сталину понадобилось убивать жену «давнишнего друга»? Владимир Васильевич Карпов убежден: раз чары Киры Симонич были неотразимы, под них не мог не попасть и вождь, встречавшийся с ней на кремлевских приемах и банкетах. А там — либо ревность, либо гнев отвергнутого кавалера. Честно говоря, мне эта версия не кажется убедительной. Почему бы в этом случае не избрать мерой наказания строптивицы заключение в лагерь, чтобы посидела и одумалась? Почему непременно надо действовать по известному принципу: «Так не доставайся ж ты никому!»? Тем более что жена в лагере — это действенный способ держать «на крючке» «друга» Кулика. Ведь именно для этой цели отправил Сталин в лагерь жен своих соратников по Политбюро Калинина и Молотова. Но в отношении Киры Иосиф Виссарионович предпочел почему-то секретный арест и столь же секретное убийство, даже не оформленное расстрельным приговором Особого совещания. Значит, по крайней мере в тот момент, компрометировать Кулика он не собирался. Наоборот, через три дня после загадочного исчезновения Киры Симонич в газетах появился указ о присвоении Григорию Ивановичу Кулику звания Маршала Советского Союза. Следовательно, в тот момент «давнишний друг» все еще был в фаворе и пользовался доверием у Сталина. Но зачем же тогда всемогущему диктатору понадобилась жизнь молодой и красивой женщины? Может быть, Кира Ивановна на самом деле была иностранной шпионкой?
Некоторые факты как будто свидетельствуют, что подобные подозрения у Сталина и Берии могли быть. С началом финской войны Кира Ивановна стала хлопотать о том, чтобы мужу ее сестры художнику Храпковскому разрешили отправиться на фронт. Там он хотел сделать батальные зарисовки. Однако против командировки Храпковского в действующую армию категорически возражал начальник ГлавПура Л.З. Мехлис. Может быть, сомневался Лев Захарович, что рисунки художника будут идеологически выдержанными и надлежащим образом прославят подвиг красноармейцев, штурмующих линию Маннергейма. А возможно, были у него и иные резоны не доверять Храпковскому. Но Кулик был человек упрямый и верил, что дружба со Сталиным будет для него надежной защитой. Через голову Мехлиса он дал распоряжение Московскому горвоенкомату направить художника на фронт. И вдруг — гром среди ясного неба! Храпковский разоблачен как шпион. Работники горвоенкомата тотчас полетели со своих постов, а Кулика в апреле 40-го вызвал на воспитательную беседу Сталин и потребовал немедленно развестись с Симонич. Григорий Иванович отказался бросить женщину, которую любил, да и в виновности Храпковского усомнился. Потом был первомайский парад и исчезновение Киры. Неужели и вправду оказалась она матерой итальянской шпионкой? Ох, вряд ли. Если уж сам Меркулов в 53-м году на суде заявил, что материалов в досье жены Кулика было крайне мало, то можно не сомневаться, что ни в чем, кроме наличия родственников в Италии, чекисты Киру Ивановну обвинить не могли. Ведь тот же Всеволод Николаевич был бы весьма заинтересован убедить Специальное Судебное Присутствие, будто Кулик-Симонич была настоящей шпионкой. Это могло бы хоть как-то оправдать ее похищение и убийство. Но Меркулов, как мы помним, никаких фактов на сей счет так и не смог привести.
Так почему же похитили Киру Симонич? Мне кажется, что разгадка лежит во фразе, оброненной мужем Валентины Григорьевны Кулик-Осипенко в беседе с Карповым: «Сталин все советовал своему сыну Василию, смотри, какая у Кулика дочка красавица!..» У Иосифа Виссарионовича на самом деле существовала идея женить своего сына-гуляку на какой-нибудь маршальской дочке: надеялся, что тесть-маршал наставит Василия Иосифовича на путь истинный. Все-таки иногда Сталин был поразительно наивен! Неужели нашелся бы в Красной Армии маршал, который рискнул бы командовать сыном всесильного диктатора! Главный маршал авиации А.А. Новиков раз попробовал задержать представление Василия Сталина к очередному званию и вскоре очутился на Лубянке. Когда, уже после войны, сталинский план осуществился и Василий женился на дочери маршала Тимошенко Екатерине, это никак не отразилось на частоте и длительности его загулов. Вполне возможно, что перед войной Иосиф Виссарионович думал посватать младшего сына за Валентину. Кулик, но этому противилась Кира Ивановна, да и Кулик, зная характер потенциального зятя, от подобной перспективы был не в восторге. Дочь он любил и собственную карьеру с помощью династического брака устраивать, похоже, не собирался. В итоге Василий все равно женился по любви в 1940 году на Галине Бурдонской, чьи родители, кажется, никакого отношения к армии не имели. И в августе того же года 18-летняя Валя Кулик вышла замуж за Героя Советского Союза комбрига Осипенко. Григорий Иванович сначала был против этого брака. Не потому, что Александра Степановича не считал достойным женихом, а потому что считал дочь слишком юной для замужества. Но когда Валя тайком убежала к любимому в Кишинев, Кулик смирился и благословил новобрачных: «Ну что поделаешь! Живите, будьте счастливы!»
Я не исключаю, что похищение Симонич было последней попыткой уломать несговорчивую жену Кулика согласиться на брак приемной дочери с сыном вождя. Протоколы допросов Киры Ивановны были уничтожены. Загадочна и фраза Меркулова о том, что они с Берией завербовали жену маршала в качестве секретного агента. Согласно существовавшему порядку, чекисты не имели права вербовать сексотов среди представителей высшей партийно-правительственной номенклатуры и членов их семей. Маршал Кулик, безусловно, принадлежал к номенклатуре такого рода. Может быть, Меркулов и Берия выбили из несчастной женщины согласие развестись с Куликом? Это больше похоже на правду. Но Сталин, вероятно, решил, что в случае освобождения Киры Ивановны, даже если взять с нее подписку о неразглашении, дело все равно не удастся утаить. И жену Кулика расстреляли без приговора.
Хочу обратить внимание читателей на еще одну деталь. Если Берия и его люди в 53-м, чувствуя дыхание близкой смерти, не путались в хронологии, то получается, что летом 39-го, еще до визита на день рождения Григория Ивановича, Сталин планировал похищение его супруги. Следовательно, история с художником Храпковским не могла быть причиной для «изъятия» Симонич.
Официально связь с Симонич вменили в вину Кулику только десять лет спустя после ее похищения. В обвинительном заключении, составленном 2 августа 1950 года, среди прочих прегрешений Григория Ивановича, отмечалось: «На протяжении многих лет Кулик поддерживал тесную связь с враждебными элементами из числа родственников своих жен и, злоупотребляя своим служебным положением, оказывал им всяческое содействие. Женившись в 1930 году на Симонич К.И., являвшейся агентом иностранной разведки, Кулик поставил ее в известность об имевшихся на нее в соответствующих органах компрометирующих материалах, а также покровительствовал родственникам Симонич, репрессировавшимся при Советской власти».
Объявленный 9 мая 1940 года всесоюзный розыск Киры Ивановны Симонич был прекращен только 8 января 1952 года. Но маршал Кулик быстро догадался, в чьих руках оказалась его вторая жена, и вряд ли сомневался в ее смерти. И очень быстро нашел себе третью жену. Вот что Валентина Григорьевна рассказала о третьей женитьбе отца писателю Владимиру Карпову: «Прошло несколько месяцев, никаких надежд на то, что Киру Ивановну найдут, не было, как в воду канула. Отец постоянно находился на работе, в Наркомате, на учениях, на полигоне, тогда испытывалось много новых образцов оружия, а он как раз как заместитель наркома и занимался вопросами вооружения Красной Армии. Он постоянно в кругу своих сослуживцев, домой приходил поздно, а часто вообще на много дней уезжал в командировку. В общем, не было у него таких возможностей, чтобы встретить, вернее, даже не встретить, а выбрать себе новую жену. И вот, наверное, поэтому, произошла очень удивительная, можно сказать, сенсационная случайность.
Я училась в школе, и ко мне приходили подруги из тех, кто учился со мной в одном классе. Мы готовили уроки, болтали, заводили патефон. Отец, встречая моих подруг, не обращал на них внимания: так, мельком посмотрит, пошутит по поводу наших музыкальных увлечений или болтовни и уходит или отдыхать, или заниматься своим делом. Но вот однажды в числе других подруг ко мне пришла Оля Михайловская, она бывала у меня не часто и после этого визита тоже несколько дней не появлялась. Но, видно, отцу она чем-то запомнилась. Да не чем-то, а она была очень красивая, хорошо сложенная девушка. После этого отец как-то мне говорит: «Ну что это ты приводишь таких некрасивых подружек? Вот одна у тебя красивая, Оленька, и ту ты не приглашаешь. Пригласи ее, пожалуйста». Я приглашать специально не стала, ничего в этом особенного не усмотрела, и в следующий раз Оля пришла как обычно — так сложилась обстановка, и она зашла. На этот раз папа, когда пришел домой, побеседовал с ней более внимательно. А потом я стала замечать, что у них завелись какие-то свои, особые отношения. Видно, он взял у нее номер телефона, и они уже разговаривали, а может быть, даже встречались где-то помимо нас. Дело кончилось сенсационной неожиданностью: папа женился на моей подруге Ольге Яковлевне Михайловской! Разница в возрасте у них была тридцать два года, но это не озадачило ни моего отца, ни Олю. Понятное дело, что мне уже в этом доме оставаться было невозможно. Если мы с мамой смирились и вынуждены были жить вместе с Кирой Ивановной пока не получили отдельное жилье, то уж с моей подружкой жить вместе было просто невозможно. Все это очень меня потрясло, ведь Оля бывала у нас в доме давно, еще при Кире Ивановне, она моя ровесница, девчонка. И вдруг стала моей мачехой! Это была одна из причин, почему я так быстро, тоже еще в десятом классе, решилась выйти замуж за Александра Степановича, за своего сокола».
Свадьбу Григорий Иванович и Оля сыграли в октябре 40-го. Гуляли на широкую ногу: вино из Молдавии и с Кавказа, царские сорта сибирских и дальневосточных рыб, фрукты из Средней Азии. На свадьбе был сам Сталин. Он пожелал дорогому другу Григорию Ивановичу и его молодой жене долгой и счастливой жизни, крикнул «Горько!». Всем гостям казалось, что Иосиф Виссарионович благоволит маршалу. Но не был ли этот нежданный визит на куликовскую свадьбу явлением в написанной и поставленной Сталиным дьявольской пьесе, финалом которой должна была стать смерть жениха? Ведь так же играл Иосиф Виссарионович с Михаилом Ефимовичем Кольцовым, перед самым арестом наградив редактора «Огонька» орденом Ленина и санкционировав его избрание в Академию наук. Может быть, и звание маршала, и Золотая Звезда Героя, и подчеркнутое внимание к Кулику на свадьбе должны были только оттенить дальнейшее падение, которое было предрешено уже тогда, в 40-м? Мне лично эта версия кажется фантастической, годной только для исторического триллера. Не стал бы Сталин делать заместителем наркома обороны и начальником Главного Артиллерийского управления, ответственного за вооружение Красной Армии, человека, которому не доверял. Кулик — это не Михаил Кольцов, заменить редактора даже очень популярного журнала легче и безопаснее, чем одного из руководителей Красной Армии. Хотя, конечно, Иосиф Виссарионович был глубоко убежден, что незаменимых людей нет, будь то редактор или маршал. На Кулика же компромат начали активно собирать в самый канун и в первые дни Великой Отечественной войны.
В рамках начавшего раскручиваться в мае 41-го «дела авиаторов» был арестован нарком вооружения БЛ. Ванников. Под давлением следователей НКВД, пригрозивших как следует его поколотить, Борис Львович признался, что состоит в заговорщической организации, членом которой назвал и Кулика. За несколько дней до нападения Германии на Советский Союз был арестован заместитель Кулика по политической части Г.К. Савченко. 28 июня 1941 года Георгий Косьмич, явно под диктовку следователя НКГБ Голенищева, показал: «Кулик говорил, что нужно в работе Артиллерийского управления создавать внешнюю шумиху, показывать мнимые успехи, а на деле принимать возможные меры к ослаблению обороноспособности страны.
Единственная реальная сила, говорил Кулик, которая может нам помочь изменить существующее положение в стране, это война с Германией. Эта война неизбежна, и к ней надо готовиться с таким расчетом, чтобы обеспечить поражение Красной Армии в первых же боях. Соглашаясь с Куликом, я рассказал ему о своей прошлой заговорщической связи с Гиттисом (ком-кором, расстрелянным в 1938 году. — Б.С.). В итоге мы договорились о совместном проведении вредительской работы в системе Артиллерийского управления». Сталин срочно искал кандидатов в виновники сокрушительных поражений Красной Армии в первых же боях с немцами.
В протоколах допросов Савченко отразились не только фантастические признания об их с Куликом вредительской работе, но и реальные разговоры, которые вел начальник Артиллерийского управления со своим заместителем. «— Скажи, Георгий Косьмич, до каких пор я буду втолковывать всем наверху, что никакой я не диверсант, не вредитель, что мне просто не с кем работать?» — сетовал Кулик.
«— Это не работа, а одна нервотрепка», — соглашался Савченко. — «Неужели не ясно, что нельзя одной рукой дыры в собственном костюме делать, а другой штопать, чтобы незаметно было».
«— Мне кажется, что мы куда-то не туда едем», — продолжал делиться крамольными мыслями Григорий Иванович. — «Слишком много людей по тюрьмам рассовали. Не с кем будет воевать, если придется. Что-то с Советской властью не то происходит. Не за то мы воевали».
«— Что же делать?» — спросил ошеломленный Георгий Косьмич.
«— Обстановка сложная. С протестом не больно вылезешь»,— помрачнев, ответил Кулик. — «Вон Тухачевский и Уборевич вылезли. Где они сейчас?»
И Савченко с Куликом, взяв в союзники еще одного «испанца» — недавно назначенного начальником Авто-бронетанкового управления Дмитрия Григорьевича Павлова, — решились на опрометчивый шаг, о котором впоследствии им пришлось горько пожалеть. В 1938 году они написали письмо Сталину, где просили остановить репрессии в „армии. Вдова Павлова Александра Федоровна в письме на имя Н.С. Хрущева 20 апреля 1956 года, где просила реабилитировать мужа, рассказала о злополучном письме: «Я считаю, что в обвинении Павлова и его уничтожении (напомню, что Дмитрия Григорьевича расстреляли в июле 41-го, обвинив в поражении Западного фронта. — Б. С.) был кое-кто заинтересован. Возможно, Берия, и вот почему: Павлов Д.Г. выступал против арестов 1937–1938 годов.
В 1938 году летом Павлов Д.Г., Аллилуев Павел Сергеевич (комиссар Автобронетанкового управления) и Кулик Г.И. (начальник Арт. управления) подали лично товарищу Сталину петицию с просьбой прекратить массовые аресты старых кадровых командиров. Из этих трех человек — не знаю, жив ли Кулик Г.И., а что касается Аллилуева, то он скоропостижно скончался в том же году, на другой день после приезда с курорта. Но о факте подачи петиции лично Сталину, вероятно, известно К.Е. Ворошилову. Я предполагаю это потому, что перед тем как пойти к тов. Сталину, Аллилуев и Павлов ездили на дачу к К.Е. Ворошилову (лето 1938 года)».
Здесь Александра Федоровна ошиблась только в двух пунктах. Вместе с Куликом и Павловым письмо с просьбой остановить репрессии в Красной Армии подписал не только комиссар Автобронетанкового управления П.С. Аллилуев, но и комиссар Артиллерийского управления Г. К. Савченко. Ошибка эта вполне объяснима. Савченко Александра Федоровна вообще могла не знать. И вдова Дмитрия Григорьевича, вероятно, зря грешила на Берию. Лаврентий Павлович возглавил НКВД только в ноябре 38-го, несколько месяцев спустя после письма Кулика, Павлова и Савченко. К тому же Берия как раз и призван был уменьшить размах репрессий, достигший апогея при Ежове. Новый нарком освободил некоторых из тех, кто был арестован его предшественником. Петиция четырех как будто укладывалась в рамки борьбы с «перегибами ежовщины» и сама по себе не могла быть поставлена в вину подписавшим ее военным руководителям. К аресту же и расстрелу Павлова в 1941 году Берия не имел отношения.
Сам же Дмитрий Григорьевич на скоротечном следствии в июле 41-го показал: «В 1938 году на заседании Главного Военного Совета в присутствии членов Политбюро я поддержал выступление комиссара Артиллерийского управления Савченко о развале дисциплины в армии из-за арестов командного состава. После этого мне и Савченко было предложено написать письменный документ на сей счет. Основным автором документа являлся Кулик. Содержание документа мы обсуждали в группе руководящего состава (мнимого антисоветского заговора. — Б.С.) в лице меня, Кулика, Савченко и Мерецкова.
За дело взялся Кулик, он пригласил меня, Аллилуева и Савченко к себе и предложил написать документ совместно. Мы составили документ в виде письма (вчетвером) и направили его в адрес Ворошилова. Из секретариата Ворошилова вскоре сообщили, что наше письмо нарком не читал и велел забрать его обратно. Тогда Кулик в один из выходных дней снова собрал нас всех четверых, и, перередактировав письмо, мы направили его в адрес Генерального секретаря ЦК, а второй экземпляр — снова в адрес Ворошилова.
Содержание письма сводилось к тому, что основные силы контрреволюции в армии ликвидированы, но, несмотря на это, аресты комсостава продолжаются и принимают настолько обширные размеры, что в армии может начаться разложение, поскольку красноармейцы начинают критиковать действия командиров и политсостава, подозревая в них врагов. Это обстоятельство, как мы указывали в заключение, может пагубно отозваться на боеспособности армии в военное время и просили в связи с этим принять соответствующие меры. Мы полагали, что на основании нашего заявления правительство примет соответствующее решение о сокращении арестов и таким образом нам удастся сохранить от провала заговорщические кадры. При составлении письма Кулик клеветнически отзывался о политике Советского правительства, которое якобы попустительствовало арестам. Он заявлял, что существующие порядки необходимо изменить. Оскорбительно отзывался о Ворошилове. Я эту точку зрения разделял».
В справке, составленной в ЦК КПСС в июне 1964 года в связи с проверкой дела Тухачевского и других военачальников, репрессированных в 1937–1941 годах, было подтверждено существование петиции, о которой упоминала Александра Федоровна: «Ввиду того, что создавшееся положение могло отрицательно сказаться на обороноспособности страны, военные работники Аллилуев, Савченко, Кулик и Павлов направили в августе 1938 года письмо на имя Сталина и Ворошилова, в котором высказывали свое отрицательное отношение к массовым арестам среди военнослужащих и указывали на те пагубные последствия, которые влекут за собой необоснованные репрессии. Однако на это письмо никто не среагировал». Но тут же авторы записки сами себе противоречат, поскольку тут же отмечают, что «позже Савченко, Павлов и Кулик оказались сами в числе незаконно репрессированных».
В действительности письмо, собственно, и было инспирировано Сталиным, чтобы иметь повод для смещения Ежова. Как раз в августе он назначил в заместители Николая Ивановича Берию с явным прицелом заменить им не оправдавшего надежд «стального наркома». Другое дело, что своими критическими выступлениями на Главном Военном Совете будущие «подписанты» сами напросились на то, чтобы написать письмо, в конечном счете оказавшееся для них роковым. Сталин не терпел инициативы от подчиненных в вопросах большой политики. А тут еще Павлов показал, что Кулик посмел не только о старом царицынском соратнике Ворошилове непочтительно отзываться, но и прямо намекал, что к незаконным арестам причастен не только Ежов, но и руководство в целом. Да еще говорил о необходимости изменить существующие порядки. Уж не о военном ли перевороте думал? Выходит, не так уж недалек и угодлив был Григорий Иванович и не считал, как это утверждал Воронов, что «большая политика — не нашего ума дело!» (Такими словами маршал будто бы прокомментировал данные об усиленном сосредоточении советских войск у советских границ).
Иосиф Виссарионович на письмо среагировал, да еще как круто. Причем дважды. Сначала убрал Ежова, назначил Берию и умерил размах репрессий. А потом, с трехлетней задержкой, вывел в расход и авторов письма Осторожный Мерецков письмо подписывать не стал. Может быть, поэтому его только арестовали, но расстреливать не стали. Сталинскому свояку Аллилуеву просто повезло, что он вскоре помер и не успел познакомиться с подвалами Лубянки. Иначе его наверняка ждала та же самая участь, что и трех других «подписантов».
Интересно, что незадолго до смерти Аллилуев виделся в Сочи с маршалом Блюхером, догуливавшим на свободе последние дни. Племянник Павла Сергеевича Владимир Станиславович Аллилуев вспоминал о дяде: «Был он человеком искренним, с открытой, но строгой душой, если чувствовал несправедливость, всегда вступался. Но и принципами не поступался. Может быть, поэтому авторитет Павла был очень высоким.
В свою последнюю осень 1938 года он отдыхал в Сочи. Ясным октябрьским днем он заехал к В.К. Блюхеру, и было это за несколько дней до ареста маршала. В.К. Блюхер, как писала потом его супруга Глафира, был недоволен этим приездом. Мол, «еще один приезжал прощупать Блюхера». Только много лет спустя, продолжает вспоминать Глафира, я узнала, что П.С. Аллилуев приезжал совсем не затем, а просто он хотел помочь В.К. Блюхеру.
Так ли это, мне сегодня судить трудно — Павел вернулся в Москву 1 ноября 1938 года, а вечером 2 ноября в кабинете моего отца (наркома внутренних дел Казахстана С.Ф. Реденса. — Б. С.) в нашей алма-атинской квартире зазвонил телефон. Трубку сняла моя мама, Анна Сергеевна. Она что-то ответила и вдруг страшно закричала. Из Москвы сообщили о скоропостижной смерти ее старшего брата Павла Сергеевича Аллилуева. Ему было только 44 года. И он лишь вчера вернулся из санатория».
В обвинительном заключении по делу Кулика в 1950 году одним из преступлений, инкриминируемых бывшему маршалу, как раз и было обращение к вождю с просьбой уменьшить размах репрессий: «Расследованием установлено, что в 1938 году Кулик Г.И. установил преступную связь с участниками антисоветского военного заговора: бывшим командующим Западным фронтом Павловым (в действительности в ту пору Дмитрий Григорьевич возглавлял Автобронетанковое управление. — Б. С.) и бывшим заместителем начальника Главного Артиллерийского управления Красной Армии Савченко, с которыми вел вражеские разговоры и вместе с ними принимал меры к тому, чтобы сохранить от ареста уцелевшие еще кадры заговорщиков». Сталину очень не понравилось, что Кулик, Савченко и Павлов посмели высказать собственные суждения по такому политическому вопросу, как борьба с «врагами народа», и поставить под сомнение обоснованность репрессий. Самостоятельно мыслящие военачальники Иосифу Виссарионовичу всегда были очень подозрительны. Именно письмо 38-го года послужило истинной причиной неприятностей, обрушившихся на Кулика, Савченко и Павлова в 1941–1942 годах.
Война началась для Кулика довольно неудачно. 23 июня 1941 года он прибыл в район Белостока, где находились 3-я и 10-я армии, составлявшие ударную группировку Западного фронта. Как отмечала в цитировавшемся выше письме Хрущеву А.Ф. Павлова, ее мужу «Верховное Командование не разрешило выезжать на линию фронта, а послали маршала Кулика Г.И., который попал в окружение». Возможно, Сталин надеялся, что, быстро отразив немецкие атаки, главные силы фронта двинутся в наступление к Висле, и рассчитывал поставить маршала или во главе основной группировки, находившейся в Белостокском выступе, или вообще заменить им Павлова на посту командующего Западного фронта. Но уже к исходу второго дня войны, когда провалились контрудары советских механизированных корпусов, Красной Армии пришлось надолго забыть о наступлении.
Кулик оказался в окружении и две недели вместе с охраной и присоединившейся к нему группой бойцов и командиров 10-й армии выходил к своим. Чтобы противник не узнал о присутствии среди окруженных маршала и заместителя наркома обороны, Григорию Ивановичу пришлось сменить маршальский мундир на крестьянскую одежду. За то, что попал в окружение, никакого наказания Кулику не последовало. Хотя на первом суде в феврале 42-го председатель Специального Присутствия Военной коллегии Верховного Суда В.В. Ульрих ехидно спросил Григория Ивановича: «Никакой преступной связи с немецким командованием у вас, значит, не было?»
«— Категорически нет», — подтвердил Кулик. — «Было только одно — в разведке имелись данные о том, что немцы меня искали, так как считали, что я остался в окружении и стал командовать партизанским отрядом. Еще припоминаю — в одной деревне меня опознал кто-то из местной интеллигенции, наверное, сельский учитель. Он меня спросил: «Вы Кулик?» Я ответил: «Нет!» После этого сразу мы удрали из деревни».
«— В какой точно деревне, районе это было?» — осведомился Василий Васильевич.
«— Где-то в Белоруссии», — неопределенно ответил маршал. — «Точно не знаю».
«— А с немецкими солдатами вы не встречались?» — ласково поинтересовался армвоенюрист.
«— В одном месте натолкнулись на немецкие танки», — признался Кулик. — «Сразу назад и удрали. Ни с одним немецким солдатом я не встречался, ни с кем из немцев не разговаривал».
«— Сколько пробыли в окружении?» — уточнил Ульрих.
«— Дней двенадцать».
«— Были переодеты?»
«— Да, переоделся в крестьянскую одежду», — не стал скрывать Григорий Иванович.
«— Партбилет, другие документы, ордена при вас были?» — продолжал допрос Ульрих, надеясь, что удастся уличить подсудимого в уничтожении партбилета и потере орденов. Но тут Василия Васильевича ждало разочарование.
«— Нет, при мне никаких документов не было», — честно заявил Кулик. — «Я еще из Москвы вылетел без документов. Выходить было трудно. Дорогой я так натер себе ноги, что не мог идти. Я даже хотел застрелиться». Если бы Григорий Иванович в отчаянии так и сделал, не пришлось бы ему принимать двукратное унижение неправедного судилища и позорную смерть в лубянском подвале.
В письме Сталину, написанном вскоре после первого суда, в феврале 42-го, Кулик тоже затронул тему своего пребывания в окружении: «Я знаю, что, когда я был в окружении, распространялись слухи, что я сдался немцам, и, наконец, мне говорят и сейчас, что я в связи с немцами. Прошу вас, тов. Сталин, назначить специальную комиссию ЦК ВКП и расследовать все обвинения против меня. Если я вредитель и веду какую подпольную работу, то меня нужно немедленно расстрелять. Если же нет, то строго наказать клеветников, вскрыть, кто они и чего они хотят. Пусть они знают, что никакая травля на меня не повлияет, я был, есть и умру большевиком».
Расстрелять бывшего друга Иосиф Виссарионович решился только через восемь лет и возможности умереть большевиком ему не оставил. Еще до ареста Кулика исключили из партии.
Но, только что выбравшись из «белостокского котла», Григорий Иванович не предвидел, что скоро судьба сделает новый трагический поворот.
Маршала направили командовать 54-й армией под Ленинград, поставив задачу прорвать блокаду города. Эта армия была значительно усилена артиллерией и имела целых восемь дивизий — больше, чем другие армии Ленинградского фронта. 54-я армия подчинялась непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования, т. е. действовала на правах отдельной. Так что ее командующий по правам практически не отличался от командующего фронта. Сталин придавал большое значение деблокаде Ленинграда. Неслучайно оказавшимися в кольце войсками командовал бывший начальник Генштаба генерал армии Г.К. Жуков, а действовавшей с внешней стороны кольца 54-й армией — заместитель наркома обороны Кулик. Однако разомкнуть кольцо осенью 41-го так и не удалось.
Сохранилась запись телеграфных переговоров между Жуковым и Куликом, состоявшихся в ночь с 14-го на 15-е сентября 1941 года:
«Жуков: Приветствую тебя, Григорий Иванович! Тебе известно о моем прибытии на смену Ворошилову? Я бы хотел, чтобы у нас с тобой побыстрее закипела работа по очистке территории, на которой мы могли бы пожать друг другу руки и организовать тыл Ленинградского фронта. Прошу коротко доложить об обстановке. В свою очередь, хочу проинформировать, что делается под Ленинградом.
Первое. Противник, захватив Красное Село, ведет бешеные атаки на Пулково, в направлении Лигова. Другой очаг юго-восточнее Слуцка — район Федоровского. Из этого района противник ведет наступление восемью полками общим направлением на г. Пушкин с целью соединения в районе Пушкин — Пулково.
Второе. На остальных участках фронта обстановка прежняя. Южная группа Астанина в составе четырех дивизий принимает меры к выходу из окружения.
Кулик: Здравия желаю. Георгий Константинович! Очень рад с тобой вместе выполнять почетную задачу по освобождению Ленинграда. Так же жду с нетерпением момента встречи. Обстановка у меня следующая.
Первое. В течение последних двух-трех дней я веду бой на своем левом фланге в районе Воронова, т. е. на левом фланге группировки, которая идет на соединение с тобой. Противник сосредоточил против основной моей группировки за последние два-три дня следующие дивизии. Буду передавать по полкам, так как хочу знать, нет ли остальных полков против твоего фронта. Начну справа: в районе Рабочего поселка № 1 появился 424-й полк 126-й пехотной дивизии, ранее не присутствовавший на моем фронте. Остальных полков этой дивизии нет. Или они в Шлиссельбурге, или по Неве и действуют на запад против тебя, или в резерве в районе Шлиссельбурга.
Второе. В районе Синявина и южнее действует 20-я мотодивизия, вместе с ней отмечены танки 12-й танковой дивизии.
Третье. На фронте Сиголово — Турышкино развернулась 21-я пехотная дивизия. Совместно с ней в этом же районе действует 5-я танковая дивизия в направлении Славянка — Вороново. В течение последних трех дней идет усиленная переброска из района Любани на Шипки — Турышкино — Сологубовки мотомехчастей и танков. Сегодня в 16.30 замечено выдвижение танков (более 50) в районе Сологубовки на Сиголово и северо-восточнее Турышкина. Кроме того, появилась в этом же районе тяжелая артиллерия. Сегодня у меня шел бой за овладение Вороновым. Это была частная операция для предстоящего наступления, но решить эту задачу не удалось. Правда, здесь действовали незначительные соединения. Я сделал это умышленно, так как не хотел втягивать крупные силы в эту операцию: сейчас у меня идет пополнение частей.
Линия фронта, занимаемая 54-й армией, следующая: Липка — Рабочий поселок № 8 — Рабочий поселок № 7 — поселок Эстонский — Тортолово— Мышкино — Поречье — Михалево.
Противник сосредоточивает на моем правом фланге довольно сильную группировку. Жду с завтрашнего дня перехода его в наступление. Меры для отражения наступления мною приняты, думаю отбить его атаки и немедленно перейти в контрнаступление. За последние четыре дня нами уничтожено минимум 70 танков. Во второй половине 13 сентября был сильный бой в районе Горного Хандрово, где было уничтожено 28 танков и батальон пехоты, но противник все время, в особенности сегодня, начал проявлять большую активность. Все.
Жуков: Григорий Иванович, спасибо за информацию. У меня к тебе настойчивая просьба — не ожидать наступления противника, а немедленно организовать артподготовку и перейти в наступление в общем направлении на Мгу.
Кулик: Понятно. Я думаю, 16-17-го.
Жуков: 16—17-го поздно! Противник мобильный, надо его упредить. Я уверен, что, если развернешь наступление, будешь иметь большие профессии. Если не сможешь все же завтра наступать, прошу всю твою авиацию бросить на разгром противника в районе Поддолово — Корделево — Черная Речка — Аннолово. Все эти пункты находятся на реке Ижора, в 4–5 километрах юго-восточнее Слуцка. Сюда необходимо направлять удары в течение всего дня, хотя бы малыми партиями, чтобы не дать противнику поднять головы. Но это как крайняя мера. Очень прошу атаковать противника и скорее двигать конницу в тыл противника. У меня все.
Кулик: Завтра перейти в наступление не могу, так как не подтянута артиллерия, не проработано на месте взаимодействие и не все части вышли на исходное положение. Мне только что сообщили, что противник в 23 часа перешел в наступление в районе Шлиссельбург — Липка — Синявино — Гонтовая Липка. Наступление отбито. Если противник завтра не перейдет в общее наступление, то просьбу твою о действиях авиации по пунктам, указанным тобою, выполню.
Жуков: Противник не в наступление переходил, а вел ночную силовую разведку! Каждую разведку или мелкие действия врага некоторые, к сожалению, принимают за наступление.
Ясно, что вы прежде всего заботитесь о благополучии 54-й армии и, видимо, вас недостаточно беспокоит создавшаяся обстановка под Ленинградом. Вы должны понять, что мне приходится прямо с заводов бросать людей навстречу атакующему противнику, не ожидая отработки взаимодействия на местности. Понял, что рассчитывать на активный маневр с вашей стороны не могу. Буду решать задачу сам. Должен заметить, что меня поражает отсутствие взаимодействия между вашей группировкой и фронтом. По-моему, на вашем месте Суворов поступил бы иначе. Извините за прямоту, но мне не до дипломатии. Желаю всего лучшего!»
Не пожалел Георгий Константинович язвительных слов в адрес Григория Ивановича! Словно забыл, что когда-то именно Кулик двигал его к верхним ступеням военной иерархии. На последнем в своей жизни судебном процессе, уже глядя в лицо смерти, Григорий Иванович признал: «У меня были хорошие отношения с Жуковым. Он был моим выдвиженцем. Я его представил к выдвижению во время боевой операции на Халхин-Голе. Жуков там себя проявил очень хорошо и быстро пошел на выдвижение». Тогда, в августе 50-го, Жуков был в глубокой опале, и подсудимому, обвиняемому по расстрельным статьям, не было резону что-либо придумывать о своем покровительстве Жукову в прошлом, только ухудшая тем самым собственное положение.
Но вернемся в сентябрь 41-го, под Ленинград. Ни Ворошилов, ни Жуков, ни Сталин не знали, что еще 6 сентября Гитлер отдал «Директиву № 35», объявляющую Ленинград «второстепенным театром военных действий». Командующий группы армий «Север» фельдмаршал риттер Вильгельм фон Лееб должен был ограничиться блокадой города и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» обе танковые группы и значительную часть авиации для предстоящего генерального наступления на Москву. Штурм Ленинграда потребовал бы больших жертв и значительного времени, которого у Гитлера в преддверии зимы уже не было. Он решил постараться захватить главную стратегическую цель — Москву, рассчитывая овладеть Ленинградом позднее, когда его защитники будут истощены блокадой. Правда, 12 сентября фюрер издал новую директиву, в развитие предыдущей, где указывалось, что «авиационные и танковые силы не должны перебрасываться до установления полной блокады. Поэтому определенная «Директивой № 35» дата переброски может быть отложена на несколько дней». Фактически она была отложена до 17 сентября. Ранее этого срока все равно не было возможности начать выдвижение на московское направление соединений группы «Центр», задействованных на Украине. Ленинградскому фронту оставалось продержаться всего несколько дней, после чего натиск неприятеля, захватившего пригороды Ленинграда, неизбежно должен был ослабеть.
Жуков, повторяю, не мог знать об этих директивах Гитлера и полагал, что главной целью группы армий «Север» по-прежнему остается захват города. Он сосредоточил основные силы для отражения немецкого наступления в районе Пулковских высот. 17 сентября, в день, когда немцы вывели из сражения за Ленинград основные силы 3-й и 4-й танковых групп и 8-й авиационный корпус, появился грозный жуковский приказ: «Военный Совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного Совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу». По свидетельству главного маршала авиации А.Е. Голованова, Жуков сам проводил в жизнь этот приказ — заставлял пулеметчиков стрелять по отходящим батальонам.
Лееб продолжал наступление на ближних подступах к Ленинграду, теперь уже только с целью отвлечь побольше сил Ленинградского фронта с любаньского направления, где им навстречу с целью прорыва блокады наступала 54-я армия маршала Кулика. Жуков же полагал, что враг все еще стремится овладеть городом, и концентрировал основные силы на обороне ближних подступов к «колыбели пролетарской революции», а не на прорыве. Даже когда после 16 сентября под Ленинградом перестали действовать танковые соединения и резко упала активность люфтваффе, Георгий Константинович продолжал контратаковать в районе Пулкова, а не у Невской Дубровки, навстречу 54-й армии. Для прорыва блокады он использовал только одну стрелковую дивизию, подкрепленную одной бригадой. Этих сил было явно недостаточно для наступления. Однако днем 14-го сентября, буквально накануне разговора с Куликом, Жукову, к сожалению, удалось убедить начальника Генерального штаба маршала Шапошникова в своей правоте. Командующий Ленинградского фронта заявил: «Удар во взаимодействии с Куликом буду готовить, но провести его мы сможем только после ликвидации красносельской группировки противника». И Борис Михайлович с готовностью согласился: «Сейчас, конечно, центр внимания должен быть направлен на ликвидацию красносельского прорыва, а затем на взаимодействие с Куликом».
Задача, поставленная перед 54-й армией, была в тех условиях объективно невыполнима. Наступать предстояло на узком участке фронта, в лесисто-болотистой местности, где противник имел достаточно сил для организации обороны, а численное превосходство советских войск не могло быть реализовано.
На Кулика наседал не только Жуков, но и Сталин. 16 сентября Иосиф Виссарионович говорил маршалу по прямому проводу: «Надо не задерживать подготовку к наступлению, а вести его решительно, дабы открыть сообщение с Жуковым. В своем разговоре с вами 15 сентября Жуков обрисовал вам положение фронта, поэтому вашу операцию затягивать нельзя. Мы очень рады, что у вас имеются успехи. Но имейте в виду, что если вы завтра ударите как следует на Мгу, с тем чтобы прорвать или обойти оборону Мги, то получите от нас две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю вам слово, что вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады.
— Постараюсь выполнить Ваши указания и обязательно получить Вами обещанное», — бодро отрапортовал Кулик.
Перед нами какой-то театр абсурда. Резервы и подкрепления даются командующему как награда за хорошее поведение, а не по соображениям оперативной целесообразности. Начнешь наступление в срок — получишь две свежие дивизии. Не начнешь — не получишь ничего. Почему-то Сталину не приходило в голову самое простое решение — если не доволен командующим армии, сомневаешься в его способностях, не лучше ли его заменить? Верховный предпочитал играть с Куликом, как кошка с мышкой. С командования пока не снимал, но и обещанных дивизий так и не дал.
Войска 54-й армии захватить Мгу не смогли. Кулика Сталин крепко отругал, за то что тот так и не сумел разорвать кольцо блокады. Вот какой разговор по прямому проводу состоялся у них 20 сентября:
«Сталин, В эти два дня, 21-го и 22-го, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно (Иосиф Виссарионович все еще верил, что в самое ближайшее время немцы попытаются взять город штурмом. — Б. С). Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы будете еще запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами.
Кулик, Только вернулся из боя. Целый день шел сильный бой за взятие Синявина и за взятие Воронова. Противник переходил несколько раз в контратаки, несмотря на губительный огонь с нашей стороны (я применил сегодня оба РС (только что появившиеся на фронте реактивные установки залпового огня «катюши». — Б. С), ввел все резервы), но успеха не имел.
Сталин, Новые дивизии и бригада даются вам не для взятия станции Мга, а для развития успеха после взятия станция Мга. Наличных сил вполне достаточно, чтобы станцию Мга взять не один раз, а дважды.
Кулик. Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей станции Мга не взять».
Григорий Иванович оказался абсолютно прав: сил и средств для взятия злополучной станции, отрезавшей Ленинград от Большой земли, было недостаточно. Но высочайшего гнева не избежал. 29 сентября Кулика отозвали из Ленинграда в Москву.
После Ленинграда Сталин направил Кулика как представителя Ставки в Ростов, приказав не допустить захвата противником «ворот на Кавказ». По поручению Верховного маршал, прибывший в Ростов 11 октября, сформировал новую, 56-ю, армию, в октябре брошенную на оборону подступов к городу. Но ночью 10 ноября раздался внезапный звонок Сталина.
Следующая командировка Кулика оказалась для его карьеры роковой. В ноябре немецкие войска прорвались в Крым через перекопские укрепления и устремились к Севастополю и Керченскому полуострову. Сталин отправил Кулика в Керчь спасать положение. О том, как развивались события, мы можем узнать из стенограммы судебного процесса, состоявшегося 16 февраля 1942 года. Военная коллегия Верховного Суда судила Григория Ивановича за то, что он санкционировал отход советских войск с Керченского полуострова без разрешения Верховного Главнокомандования.
«— Где вы находились в ночь на 10 ноября?» — спросил председательствующий В.В. Ульрих.
«— В Ростове», — ответил Кулик.
«— Кто передал вам приказ вылететь в Керчь?» — продолжал допрос Ульрих.
«— Мне лично звонил товарищ Сталин», — сообщил суду маршал.
«— Что товарищ Сталин вам сказал?» — ласково осведомился председательствующий.
И Кулик рассказал, как было дело: «Насколько помню, товарищ Сталин мне сказал по телефону: «Прошу, поезжайте в Керчь. Помогите Левченко (вице-адмиралу, командующему войсками Крыма. — Б. С.) навести там порядок. Нужно не допустить противника на Кавказ и удержать Керченский район. Вам дается 302-я дивизия. Как можно скорее продвигайте ее». Отмечу, что на суде Григорий Иванович некоторые детали из разговора со Сталиным предпочел опустить. В объяснительной же записке по поводу сдачи Керчи, написанной на имя Верховного в конце января 42-го, Кулик процитировал этот разговор гораздо более подробно: «Иосиф Виссарионович тогда сказал еще: «Для усиления 51-й армии передается 302-я горная дивизия, расположенная по северокавказскому побережью, нужно скорее ее собрать и форсированным маршем двинуть к Керченскому проливу. Примите меры к ее правильному использованию. Да, еще. У нас имеются сведения, что вы беспробудно пьянствуете и ведете развратный образ жизни. Это недопустимо». Тогда это прозвучало грозным предостережением. Пил-то Кулик не больше и не меньше большинства советских генералов и маршалов. Но раз сам Иосиф Виссарионович обвиняет тебя в пьянстве и моральном разложении, то это признак грозный. Так просто подобные обвинения не выдвигают. Значит, Сталин решил от него изба-виться или, в лучшем случае, отодвинуть далеко в тень.
Судей очень интересовала точная хронология путешествия Кулика из Ростова в Керчь. Выяснилось, что из Ростова маршал вылетел 10 ноября примерно в час дня и в тот же день прибыл в Краснодар. Из Краснодара же Григорий Иванович продолжил путь на автомобиле, так как погода была нелетная. Это обстоятельство показалось Ульриху подозрительным, и он спросил:
«— На каком самолете прилетели?»
«— На «Дугласе»», — ответил Кулик, не видя подвоха.
«— Погода могла измениться. Самолетом скорее можно было добраться. Почему выехали машиной?» — продолжал допытываться многоопытный армвоенюрист.
«— Погода тогда была нелетная», — упрямо продолжал твердить Григорий Иванович. — «Самолет я в тот же день послал со своим адъютантом подполковником Валюшкиным в Свердловск за своей женой».
Кулик и не заметил, как попал в ловушку. Какая тут нелетная погода, если в Свердловск самолет спокойно улетел? И Ульрих продолжал топить вконец запутавшегося маршала:
«— Вам самим самолет разве не мог понадобиться?»
«— Он был неисправен», — неуверенно пролепетал Кулик, уже понимая, что говорит чушь: выходит, в Керчь неисправный самолет посылать нельзя, а в Свердловск, находящийся от Краснодара гораздо дальше, — можно?
Тут Василий Васильевич нанес решающий удар: «— Посылали какой-либо груз с самолетом?» «— Продовольствие», — признался Кулик.
И как было не признаться, когда в распоряжении суда имелись документы, свидетельствовавшие, что Маршал Советского Союза Г.И. Кулик получил через начальника Краснодарского военторга Санадэе на 85 898 руб. 72 коп. продовольствия, в том числе почти на 6 тысяч рублей продуктов было отправлено самолетом «в направлении Москвы» (очевидно, в Свердловск), а еще на 31 тысячу — в личном вагоне маршала из Сочи тоже «в направлении Москвы». Да, питался в суровое военное время Григорий Иванович со вкусом и жену снабжать деликатесами не забывал. Подполковник же Г.А. Валюшкин на следствии показал, что «10 ноября по распоряжению Кулика Г.И. на его самолете полетел в Свердловск. В Свердловске находилась в то время эвакуированная жена маршала и моя семья. Посылая меня в Свердловск, маршал разрешил мне побыть у своей семьи дня три, а потом возвратиться самолетом же в Краснодар и привезти туда жену маршала. Расчет был такой, что, пока я летаю в Свердловск и обратно, пройдет дней 6–7, за которые сам маршал успеет закончить свои дела в Керчи, возвратится в Краснодар и там встретит свою жену. Однако вышло иначе. От Краснодара до Свердловска я летел фактически 13 суток, так как по условиям погоды самолет с ряда аэродромов по целым дням не выпускали. Когда я летел из Краснодара в Свердловск, то маршал просил предобл-исполкома Тюляева послать что-нибудь туда своей семье, что Тюляев и сделал. В самолет ко мне было загружено 7 ящиков яблок, ящик колбасы, 2 ящика кефали, мука, крупа, масло, сахар и еще ряд продуктов. Какова была стоимость этих продуктов, я не знаю, не знаю также, платились ли за них деньги (следствие установило, что, конечно же, не платились. — Б. С.). Отправку по указанию Тюляева производил некто Са-надзе, какой-то работник военторга». Некоему Н.Н. Санадзе, интенданту 2-го ранга, и пришлось просить Тюляева распорядиться, «за счет каких средств и статей списать» 80 231 рубль — Кулик-то не заплатил ни копейки.
Адъютант маршала майор М.Е. Канашевич с готовностью сообщил следователям: «Никаких закупок продуктов в Краснодаре я не производил, но знал, что в бытность там маршал вел разговор с председателем крайисполкома Тюляевым, чтобы он отпустил продуктов для него. Разговора при этом об оплате не шло, на просьбу Кулика Тюляев лишь ответил «организуем», поэтому когда маршал, окончив дела в Краснодаре, улетел в Москву, а я сюда возвратился с вагоном, по распоряжению Тюляева он был для Кулика загружен продуктами: муки белой 3 мешка стандартных, по мешку риса, гречневой крупы, ящиков 40–50 мандаринов, свыше 1000 штук лимонов, орехов 5 мешков, коньяку 200 бутылок, портвейна 100 бутылок, шампанского 10 бутылок, колбасы украинской килограммов 40–50, копченой колбасы столько же примерно, сахару мешок, баранины и свинины точно не знаю, но не меньше 200–250 кг, икры зернистой 18 банок, паюсной — кило 20–25, рыбы кефали 2 ящика, консервов свыше 100 банок, сала более 50 кг. Кроме того, были конфеты, чай, компоты разных сортов, варенье, килограммов 40, и прочие продукты, — в общем, вагон был загружен почти полностью.
Когда мы были еще в Краснодаре, после отлета в Москву Кулика, Тюляев, «организуя» продукты для него, сказал мне, что можно с вагоном съездить из Краснодара в Сочи и там кое-что достать.
Туда я и ездил с помощником Тюляева — Бонгард, и привезли в Краснодар мандаринов 2 тонны, чернослива 20 мешков, 20 мешков орехов и компот, лимоны и варенье. Большую часть этих продуктов Тюляев выгрузил в Краснодаре, а потом загрузил вагон продуктами другими (председатель облисполкома о маршале помнил, но и себя не забывал. — Б. С.), и с ними я приехал в Москву. Я привез их все полностью в Москву, доложил об этом подробно маршалу, по его указанию продукты перевезли на квартиру к нему и пошли в личное пользование».
Григорий Иванович полагал, что война затянется на несколько лет, и, как кажется, хотел обеспечить любимую жену всем необходимым впрок, вплоть до дня победы. И не задумывался, можно ли сохранить такую прорву продуктов в домашних условиях. А может, полагал, что Ольга сможет успешно реализовать привезенные скоропортящиеся деликатесы, яблоки и цитрусовые на рынке, и тем поправить тяжелое материальное положение? Известно ведь, как трудно жилось в Советском Союзе маршальским женам!
Но шутки в сторону. В деле успешного самоснабжения продовольствием Кулик не слишком отличался от других советских генералов и маршалов. Впечатляет, например, перечень деликатесов и напитков, которые Военный Совет Западного фронта вручил командующему 20-й армии генералу А.А. Власову в качестве подарка на Новый, 1942-й год: 0,5 кг икры, 1,0 кг балыка, 5 коробок шоколадных конфет, 5 плиток шоколада, 1 коробка какао, бутылка вина, 6 флаконов коньяка, банку лимонов в сахаре, 10 коробок папирос и прочее, и прочее, вплоть до 2 пар шерстяного белья и одной — шелкового. Да и посылки с продовольствием и одеждой обеим своим женам (ни одна из них не знала о существовании соперницы, будучи уверенной, что является единственной законной супругой генерала) Андрей Андреевич регулярно отправлял, пока не попал в окружение со 2-й ударной армией. До поры до времени страсть к дармовым коньякам, шампанскому, икре и балыку сходила с рук, зато если военачальник чем-либо проштрафился в глазах Верховного, то продовольственные прегрешения выступали весомым (в буквальном смысле — на многие сотни килограммов, если не на тонны) довеском к более серьезным обвинениям в заговоре, измене, трусости или неисполнении боевого приказа.
Эпизод же с посланным в Свердловск самолетом доказывает, что Кулик, отправляясь в Крым, еще недооценивал трагичность сложившегося там положения, поэтому не слишком торопился и надеялся, что за неделю сможет благополучно решить сложившиеся там проблемы. Даже личный самолет отослал за тридевять земель, полагая, что без него обойдется. Теперь же из маршала сделали козла отпущения за сдачу Керчи, и присущая Григорию Ивановичу любовь пожить на широкую ногу пришлись весьма кстати.
Вернемся к судебному заседанию 16 февраля 1942 года. Ульрих продолжал допытываться у Кулика, когда и при каких обстоятельствах он добрался до Керчи. Григорий Иванович объяснил: «Выехал на машине до Темрюка, где и заночевал. Ночью ввиду бездорожья ехать нельзя было. Утром 11-го выехал на Тамань, куда прибыл во второй половине того же дня. По дороге из Краснодара на Тамань видел бегущую армию (тех бойцов и командиров 51-й Отдельной армии, которым уже посчастливилось удрать с Керченского полуострова на Таманский. — Б. С.). Сформировал из отдельных подразделений и военнослужащих 6–7 заградительных отрядов. В Тамани занялся организацией обороны Таманского полуострова и установлением связи с Левченко и Батовым».
«— Когда прибыли в Керчь?» — повторил председатель суда.
«— Днем 12 ноября», — признался маршал.
«— Когда улетел «Дуглас» из Краснодара?» — уточнил Ульрих.
«— Я сейчас не помню точно», — заюлил Кулик. — «Он вскоре сел из-за неисправности на Кубани».
Тут в разговор вступил член Суда армейский комиссар 1-го ранга Е.А. Щаденко, ведавший в Наркомате обороны кадрами, с вполне резонным замечанием: «До Краснодара могли долететь, а почему не могли лететь дальше сами и не посылать самолет с продуктами за женой?»
«— Я прошу этот вопрос не увязывать с общим вопросом», — взмолился Григорий Иванович. Но Ефим Афанасьевич был неумолим: «Почему вы считали, что самолет был годен для полета до Свердловска, когда сами здесь же сказали, что он был неисправен?»
«— Погода была нелетная», — затянул старую песню Кулик.
«— Когда точно прибыли в Керчь 12 ноября?» — не унимался Ульрих.
«— Во второй половине дня», — после паузы ответил маршал.
«— Сколько пробыли в Керчи?» — задал председатель новый вопрос.
«— Около 3 часов», — честно ответил маршал.
«— Как добрались с Тамани до Керчи?» — забрасывал Ульрих подсудимого градом невинных с виду вопросов.
Григорий Иванович с гордостью заявил: «Я никому не сказал и выехал на катере. Меня могли потопить самолеты противника».
Но гордиться, по мнению Щаденко, было нечем: «Вы же ехали на быстроходном катере. Как же могли в него попасть с самолета?»
«— Нет, могли попасть», — неуверенно возразил Кулик.
«— А немцы разве знали, что это едет именно Кулик?» — съехидничал Ефим Афанасьевич.
«— В Керченской бухте», — утверждал Григорий Иванович, — «я ехал под обстрелом с обеих сторон».
Что тут имел в виду маршал, понять невозможно. То ли, что его обстреливали не только немцы с Керченского полуострова, но и, по ошибке, свои — с Таманского. То ли, что его обстреливала как немецкая артиллерия из Крыма, так и вражеские самолеты. В принципе, маршал сильно преувеличивал опасность, которой подвергался. В быстроходный катер штурмовику или бомбардировщику действительно попасть очень непросто.
Суд перешел к рассмотрению конкретных действий Кулика за время его трехчасового пребывания в Керчи. В связи с этим Григорий Иванович сообщил:
«— Левченко и Батов (исполнявший обязанности командующего Керченского оборонительного района. — Б. С.) доложили мне обстановку на фронте. Из их доклада мне стало ясно, что они обстановки не знают, так как когда подъезжал к Керчи, то уже видел другое положение».
«— Вы сразу приняли решение об эвакуации?» — осведомился Ульрих.
«— Да, я принял решение на отход», — признал Кулик.
«— Левченко и Батов вам возражали?» — уточнил председатель.
«— Они уже сами без меня перебросили часть войск на Таманский полуостров», — заметил маршал. — «А я решил на отход только в отношении остатков. Там держали себя по-командирски Батов и член военного совета Николаев, а Левченко раскис и фактически готовился к сдаче в плен».
«— А для чего вы-то приехали?» — со скрытой издевкой поинтересовался Щаденко.
«— Фактически я отстранил Левченко от командования и поручил ему обеспечить перевозку материальной части и людей на Тамань, а непосредственное командование обороной возложил на Батова».
«— В вашем распоряжении были курсантская бригада и два полка из запасной бригады, которые вы взяли из Краснодара», — наседал на Кулика Щаденко.
«— Их тогда еще не было», — оправдывался Григорий Иванович. — «Они должны были прибыть».
«— Какими силами прикрывалась Керчь?» — поинтересовался Щаденко.
«— Ее держали 2 горных полка, в каждом по 5 рот», — сообщил Кулик. — «На самом левом фланге было 500–600 бойцов — остатки от трех дивизий. Еще была 106-я дивизия в составе 700 штыков».
«— Кроме этих сил, державших Керчь трое суток», — уточнил Щаденко, — «два артполка и две с половиной тысячи бойцов из 13-й запасной бригады. Взяли вы их в Краснодаре».
«— Нет. Это не так», — возразил Григорий Иванович.
«— Я вам передал приказ товарища Сталина не брать с собой войска. Вы этот приказ нарушили?» — уличал один заместитель наркома другого во лжи.
«— Да, не выполнил», — согласился Кулик. — «Но ведь Таманский-то полуостров был оголен».
«— В вашем распоряжении должно было быть, кроме частей, оборонявших Керчь, еще свыше 7 тысяч хорошо снаряженных бойцов», — не унимался Ефим Афанасьевич.
«— Тамань фактически была оголена», — повторил маршал, все более терявший надежды на благоприятный для себя исход дела. — «Эти 7 тысяч тогда еще не прибыли».
«— Зачем вы тащили части из Краснодара, если думали оставлять Керчь?» — дожимал подсудимого Щаденко.
«— Они все равно бы не подошли», — усталым голосом твердил свое Григорий Иванович.
Тут Ефим Афанасьевич придал своему вопросу угрожающую формулировку, подводя Кулика под статью об измене: «Вы решили немцам сдать Керчь?»
«— Правильно», — потрясенно согласился маршал. И только после паузы добавил: — «Мне нечем было отстоять Керчь. Там собралась потрепанная бражка — просто банда».
«— Вы клевещете на войска Керчи, называя их бандой», — патетически воскликнул Ефим Афанасьевич. — «Эти 2600 советских бойцов ведь, как вы сами говорили, трое суток держали Керчь».
«— Это только лучшие из них дрались за каждый домик в Керчи», — сделал существенное уточнение Кулик.
Далее в допрос вступил еще один из судей — командующий Московского военного округа генерал-полковник П.А. Артемьев, ранее служивший в войсках НКВД: «Как вы оценивали силы противника и на основании каких данных?»
«— Я имел возможность с одной из господствующих над всей местностью высот наблюдать за всеми подступами к Керчи. Пробыл на этой высоте два часа. С юга наступало до двух мотомехполков противника. Наших в обороне было до батальона. Артиллерии у противника было мало, но много минометов».
«— Сколько минометов?» — уточнил Артемьев.
«— Минимум 50–60», — доложил Кулик.
«— Сколько у нас с этой стороны было орудий?» — поинтересовался Павел Александрович.
«— Минимум 50–60», — признался маршал.
«— Значит, у нас было огневое преимущество?» — заключил Артемьев.
«— Соотношение было в пользу наших», — без воодушевления согласился Григорий Иванович.
«— Какую задачу поставили 50 орудиям?» — ласково осведомился генерал-полковник у маршала.
«— Противник навалился на наши батареи и уничтожил их прямой наводкой», — вынужден был признать Кулик.
«— Со стороны Джарджавы какие были силы противника?» — продолжал допытываться Артемьев.
«— Наступали две дивизии», — ответил подсудимый.
«— А с нашей стороны?» — все настойчивее интересовался Артемьев.
«— В обороне находилось до двух рот», — отозвался Кулик.
«— Где еще был противник?» — продолжал допрос генерал-полковник.
«— Со стороны Катерлеза», — Кулик не мог понять, куда клонит Артемьев.
«— Чем здесь располагал противник?» — вопросы генерал-полковника не отличались оригинальностью.
«— До одной дивизии», — коротко ответил Кулик.
«— Прошу сделать вывод, подсудимый Кулик, на основании чего вы приняли решение об оставлении Керчи?» — вернулся к основному пункту обвинения Артемьев. Ему вторил Щаденко:
«— Вам как было приказано: сдавать или держать Керчь во что бы то ни стало?»
«— Приказано было держать Керченский полуостров», — монотонным эхом отозвался маршал, которому совсем недолго осталось носить маршальские петлицы.
«— Не находите ли, что вы, не дав правильной оценки всей обстановке на фронте, приняли решение об отходе?» — спросил Артемьев, стремясь продемонстрировать академическую объективность.
«— Нельзя же потрепанные части, остатки от разбитых дивизий равнять с боеспособными частями», — возмутился Григорий Иванович. — «От двух полков что там осталось? В одном на 100 процентов был перебит командный состав».
«— Вы же сами первый удрали из Керчи», — бросил тяжкое обвинение соратнику по Первой Конной Щаденко.
«— Я не трус. Не удирал», — словно не выучивший урок двоечник, оправдывался Кулик.
В этот момент в допрос опять включился Ульрих: «— Что вам доложили Левченко и Батов о силах противника?»
«— На фронте у противника было до четырех дивизий и в тылу одна-полторы дивизии», — утверждал Кулик.
Здесь следует отметить, что в самом начале процесса он говорил, что «противник наседал на нас 5 дивизиями», на что Артемьев возразил: у немцев было только 2 дивизии. «Как же так — 2 дивизии? Разве мог он своими 2 дивизиями разбить наши 6 дивизий». Теперь же, когда судебное заседание подходило к концу, Ульрих напомнил Григорию Ивановичу: «На следствии вы так показывали: «Точных данных у Левченко и Батова о силах противника не было. Однако, лично наблюдая картину боя, я определил соотношение сил — как один к трем в пользу противника»».
«— Да», — подтвердил Кулик, — «у них точных данных не было».
Прервем на минуту цитирование судебной стенограммы и обратимся к тем фактам, которые стали твердо известны только после окончания войны. Выяснилось, что в оценке немецких сил на Керченском полуострове ошибались как Григорий Иванович, так и его судьи. Первый численность неприятеля преувеличивал, а вторые — преуменьшали. В действительности 6 советским дивизиям на Керченском полуострове (четырем из состава 51-й Отдельной армии и одной из состава Отдельной Приморской, а также срочно переброшенной с Кавказа перед самым началом эвакуации 306-й горно-стрелковой дивизии и 9-й бригаде морской пехоты) противостоял 42-й немецкий армейский корпус в составе трех пехотных дивизий — 73-й, 46-й и 170-й. Даже с учетом того, что дивизии 51-й армии понесли тяжелые потери при прорыве немцами в конце октября перекопских и юшуньских позиций, общий численный перевес в районе Керченского полуострова, равно как и превосходство в артиллерии, оставались на советской стороне. Однако красноармейцев еще до приезда Кулика охватила паника, а командовавшие ими вице-адмирал Г.И. Левченко и генерал-лейтенант П.И. Батов выпустили из рук управление и смирились с мыслью, что придется отступать на Тамань, куда уже самовольно переправлялись многие бойцы и командиры. 10 ноября, когда Кулик еще только готовился вылететь из Ростова, Левченко, Батов и член Военного Совета войск Крыма корпусной комиссар А.С. Николаев прислали в Москву Сталину телеграмму: «Положение исключительно тяжелое, части совершенно деморализованы и небоеспособны. Они не в состоянии удержать Керченский полуостров. В связи с тем, что имеющимися силами удержать Керчь нет возможности, необходимо или усилить дополнительно это направление двумя дивизиями, или же решить вопрос об эвакуации войск из района Керчи». Правда, тут же содержалось заверение, что командование требует «от войск прочного удержания Керченского и Севастопольского плацдармов». Однако новые части из Закавказья для удержания Керчи можно было перебросить только через 12–15 суток, и не было никакой надежды, что деморализованные остатки 51-й армии, даже подкрепленные двумя боеспособными полками 302-й дивизии, продержатся в городе еще две недели.
На суде Щаденко гневно бросил в лицо Кулику:
«— Вы исходили не из правильной оценки сил противника. Нужно говорить напрямик — вы просто струсили».
«— Нет, я не струсил», — оправдывался Григорий Иванович. — «Я ведь ехал на катере днем под обстрелом и не трусил».
«— Получается так, что ни у вас, ни у местного командования и приблизительно точных данных о силах противника не было?» — резюмировал Ульрих.
«— Я считал, что соотношение было один к трем», — заявил на это маршал.
«— Вы сказали, что вы с одной высоты могли свободно наблюдать всю картину боя на подступах к Керчи. Все кругом было видно. Почему не установили там орудий и пулеметов?» — уличил Григория Ивановича в некомпетентности Артемьев.
«— Огневое превосходство у наших войск было. И поливали бы с высоты противника», — вторил ему Щаденко. Что ж, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
«— Уже поздно было», — настаивал на своем Кулик. — «Под минометным огнем противника нельзя было сделать этого».
«— Был у вас план обороны Керчи?» — поинтересовался Ульрих.
«— Я отдал приказ — ни шагу назад», — ушел от прямого ответа Кулик. Плана-то у него никакого не было: маршал сразу же по прибытии в Керчь понял, что город не удержать.
«— А где проходил этот рубеж, от которого «ни шагу назад»?» — опять съехидничал Артемьев.
«— Он был указан в приказе Батова», — дипломатично ушел от ответа Кулик.
Тогда Ульрих обратился к материалам дела: «Вы на следствии показывали: «приехав в район Керчи, я не только не организовал оборону, но и не принял к этому мер. Был ли план обороны у командования направления (Левченко, Батов), я не знаю, об этом я их не спрашивал. Приехав в Керчь, я сразу же принял решение на отход, санкционировав уже происходящую эвакуацию».
«— Это не касается жесткой обороны», — растерявшийся Кулик запутывался все больше и больше.
«— Если «ни шагу назад», то, значит, жесткая оборона», — уточнил Артемьев. — «Что вы приказали командиру дивизии, уезжая с командного пункта?»
«— Я приказал контратаковать противника», — честно признался Кулик.
«— Как двумя ротами контратаковать два полка? Это по меньшей мере идиотство», — возмутился Павел Александрович.
«— Другого выхода не было», — с горечью ответил Кулик. — «Надо было спасать войска от пленения».
«— Что же вы сделали для ликвидации паники?» — поинтересовался Артемьев.
«— Я считал, что в Керчи дать боя мы не сможем», — пытался Григорий Иванович убедить судей в правильности принятого им решения. — «Нужно было отходить на Таманский полуостров, там приводить части в порядок и организовать оборону. А здесь — только мелочь».
«— Керчь — мелочь?» — возмутился присутствовавший на заседании прокурор СССР Бочков.
Артемьев повторил свой вопрос: «Что вы сделали для ликвидации паники?»
«— Что я сделал?» — размышлял Григорий Иванович. — «Я Батову приказал организовать оборону и вообще организовать всех, кто еще может драться. Левченко приказал заняться с начальником флотилии перевозкой войск с Керчи на Тамань. Начальнику штаба и начальнику Особого отдела поручил принимать перевозимых на Таманском полуострове и организовать там оборону».
«— Какое вы лично приняли участие в этом?» — задал каверзный вопрос не унимающийся Артемьев.
«— Сам я тогда уехал в Тамань», — простодушно сообщил суду Григорий Иванович, не догадываясь, что этот факт могут истолковать как проявление трусости. Хотя, если разобраться, что было делать маршалу в тот момент в Керчи? Поднимать в контратаку роту? Так не маршальское это дело — толковый капитан или старший лейтенант гораздо лучше справится. Два полка приведенной Куликом 302-й горно-стрелковой дивизии дела, конечно же, поправить не могли. Однако судьи маршала подобными вопросами не задавались. Приговор был известен заранее. Его явно продиктовал сам Верховный Главнокомандующий, не забывший «давнишнего друга». Ульриху и его коллегам оставалось только довести судебную комедию до конца.
«— Вы отчетливо себе представляли, на чем мог противник перебросить свои силы через пролив?» — обратился к Кулику Артемьев, в феврале 42-го уже хорошо знавший, что в ноябре 41-го у немцев в Крыму практически не было десантно-высадочных средств и высадиться на Тамани они тогда при всем желании не могли. Но Кулик-то об этом в дни боев за Керчь не знал. Наоборот, с самого начала войны советское командование в Крыму, тот же Левченко, Батов и предшественник Батова на посту командующего 51-й армии Ф.И. Кузнецов, опасались морских и воздушных десантов, отчего и бросили половину сил на охрану побережья.
«— Я считал, что противник может выбросить десант на Таманский полуостров», — не стал лукавить Григорий Иванович. Здесь он для себя опасности не чувствовал. Тем более что сам Сталин в телефонном разговоре требовал «не допустить противника на Кавказ».
Члены суда продолжали донимать Кулика неприятными вопросами. Очевидно, генералы становились выше в собственных глазах благодаря тому, что могли теперь безнаказанно издеваться над опальным маршалом.
«— А не считали ли вы, что поспешным перенесением своего командного пункта на Таманский полуостров вы могли еще больше деморализовать наши войска?» — это Артемьев продолжал уличать Григория Ивановича в трусости. Ему вторил Щаденко: «Ведь вы появились в Керчи, пробыли около трех часов, из них два постояли на высоте и сразу назад».
«— В общем, давай катер и драпай дальше?» — подытожил Артемьев.
«— Я считал, что там больше мне делать нечего», — резал правду-матку Кулик. — «Там уже вопрос решен. Нужно было драться на Таманском полуострове, чтобы не пропустить противника на Северный Кавказ».
«— Но вы же получили приказ народного комиссара обороны — держать Керчь?» — Артемьев изобразил удивление.
«— Я считал, что Батов в Керчи сам справится. Самое трудное я видел в том, чтобы остановить войска на Таманском полуострове и там организовать из них оборону», — объяснял свое решение Григорий Иванович.
Судьи наседали. Темп вопросов нарастал. Артемьев: «Как вы расцениваете свой поспешный отъезд из Керчи?» Кулик: «Правильным». Щаденко: «А получили вы разрешение на это народного комиссара обороны?» Кулик: «У меня другого выхода не было». Ульрих (перебивая подсудимого): «Приказ Ставки ясно ставил задачу». Щаденко (перебивая председателя): «Вы же получили приказ лично от товарища Сталина». Помимо прочего, генералы торопились засвидетельствовать свое трепетное отношение к Верховному и благородное негодование по поводу невыполнения сталинского приказа.
Кулик сдался: «Я виновен в том, что превысил свою власть и не выполнил приказ об обороне Керчи. Но это не от трусости, а потому, что хотел обеспечить оборону Таманского полуострова».
«— Вы же сами удрали и фактически дали приказ всем удирать», — демонстрировал праведный гнев Щаденко. Ефим Афанасьевич опасался, что ему еще могут припомнить былую близость к ныне совершенно явно впавшему в опаду маршалу.
«— Я удрал?» — возмутился Кулик.
«— А кто же? Я, что ли?» — парировал Щаденко.
«— Вы нарушили приказ?» — присоединился к хору обличителей Ульрих.
«— Да, нарушил», — упавшим голосом ответил Кулик.
«— Присягу нарушили. Нашу боевую присягу», — кипятился Щаденко.
«— Нарушил, но не из-за паникерства или злого умысла», — каялся Григорий Иванович.
Щаденко наставительно заметил: «Речь идет о выполнении боевого приказа. Как вы оцениваете такого солдата, командира, который не выполняет боевого приказа?»
«— Расстрелять его нужно, если он нанес вред стране», — дал вполне ожидаемый ответ Кулик. Однако тут же добавил: — «Но у меня бегства не было, а была драка, там Батов был».
«— Что тут говорить — было ваше бегство», — подвел итог первой половины судебного заседания Ща-денко.
После перерыва Артемьев вернулся к теме путешествия Кулика с Кавказа в Крым: «Какое расстояние от Краснодара до Керчи?»
«— Километров двести с лишним», — ответил Кулик.
«— А потратили больше двух суток?» — укорил маршала Артемьев.
«— Дорога была просто непроходимая», — сетовал Кулик. — «Машины пришлось бросать. Тягачами вытягивали».
«— В Тамани зачем задержались?» — резко бросил Артемьев.
«— Там я сознательно остался для организации обороны», — едва ли не с гордостью заявил Григорий Иванович.
«— И что вы там сделали?» — продолжал допрос Артемьев.
«— Принял меры, чтобы не допустить высадки противником десанта», — в который уже раз повторил Кулик.
«— Как вы расцениваете действия генерала, не только не выполняющего боевого приказа, но даже не делающего попыток к его выполнению?» — упорно подводил Артемьев маршала под расстрельную статью.
«— Я тогда считал, что настоящей обстановки Ставка не знает», — не очень уверенно ответил Кулик.
«— Вам ведь Ставка вторично подтвердила свой приказ об активной обороне Керчи?» — настаивал Павел Александрович.
«— За что меня и судят», — мрачно заметил Григорий Иванович. — «Я не выполнил приказа, но не по злому умыслу». Однако от многократного повторения аргументы маршала не стали для судей более убедительными.
«— Выходит, что вы не хотели удержать Керчь, вам было ведь ясно сказано: умри, но обороняй», — констатировал неумолимый Артемьев.
«— Я отошел не по трусости», — взмолился Григорий Иванович. — «Я считал, что в Керчи дать генеральное наступление не смогу, а потому принял решение об отходе».
«— Одно из двух, подсудимый Кулик: или вы трус, или изменник», — резюмировал неумолимый Артемьев.
Григорий Иванович понимал, что лучше признать себя трусом, чем изменником, но продолжал стоять на своем. Он попросил допросить командиров оборонявших Керчь дивизий, чтобы «установить, что я принял все возможные меры, и благодаря этому наши в Керчи продержались трое суток».
Судьи с маршалом не согласились и командиров в суд вызывать не стали, не желая затягивать процесс. Зато они зачитали Кулику директивы Ставки, где говорилось о необходимости упорной обороны на Керченском полуострове. Вот одна из них, датированная 14 ноября 1941 года и подписанная начальником Генерального штаба маршалом Б.М. Шапошниковым: «Удержание района Керчи нужно ставить не в зависимость от перевозки обозов и тяжелой артиллерии на Таманский полуостров, а от решения держать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять этот район. В этих видах Вам необходимо обратить внимание прежде всего на оборону Керчи, перебросив для этого, если нужно, остальные части 302-й дивизии на Керченский полуостров». Эта телеграмма была ответом на обращения Кулика и Левченко, поступившие 13 ноября. Кулик докладывал: «Усиленным темпом идут бои на линии мыс Тархан, высоты 131,7 и 62,4, гора Высокая, Скасиево-Фонтан, Джарджава и южная окраина Керчи.
Усиленными темпами перебрасываем на Таманский полуостров обозы, артиллерию, технику. Обороной на западном берегу Таманского полуострова занят мыс Литвин, кордон Малый Кут, гора Горелая — стрелковая бригада, вооруженная мной за счет ВУЗов в Краснодаре, Тамань, высота 63,4. Кроткое, и далее по южному берегу вплоть до Благовещенской обороняет 302 дивизия без двух полков. По наличию перевозочных средств составлен план перевозок армии на два дня. Принимаю меры сдержать противника на занимаемом рубеже». Левченко же информировал Сталина о фактически начавшейся эвакуации Керчи: «Войска Керченского направления последнее время понесли большие потери, а ведущие бои крайне устали. Фронт сдерживается исключительно двумя полками вновь прибывшей 302 дивизии и группой устойчивых бойцов, оставшихся в дивизиях (51-й армии. — Б.С.).
Противник давит минометами и живой силой. Войска, не имея достаточного количества автоматического оружия и минометов, потеряли всякую сопротивляемость.
Сегодня мною принято решение на переправу с Керченского на Таманский полуостров: ценной техники, тяжелой артиллерии, специальных машин, излишнего автотранспорта».
Что ж, технику у нас всегда ценили больше, чем людей. Гордей Иванович Левченко, наверное, понимал, что без тяжелой артиллерии пехота держаться не будет, и в душе уже смирился с потерей Керченского полуострова. Оставалось только как-то поделикатнее подготовить вышестоящее начальство к осознанию неприятного факта. Ведь приходилось нарушать распоряжение Ставки от 7 ноября, подписанное Сталиным, наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым и Шапошниковым, требующее организовать активную оборону Керченского полуострова, и указание Сталина, переданное 9 ноября Шапошниковым: вести в Керчи жесткую оборону. Многомудрый Борис Михайлович Шапошников, поняв из телеграмм Левченко и Кулика, что эвакуация на Тамань идет уже полным ходом, решил отправить такое послание, где одновременно было и разрешение на эвакуацию, и требование упорно оборонять Керченский полуостров. Когда в половине третьего ночи 15 ноября Кулик доложил о низкой боеспособности 51-й армии, малочисленности ее дивизий, а также о том, что неприятель уже ворвался в Керчь, Григорий Иванович полагал, что надо отводить войска на Тамань. Вот тогда Шапошников и направил ему ответ, достойный царя Соломона: «Ставка Верховного Главнокомандования считает, что сначала нужно вывезти артиллерию и технику с Керченского полуострова, а затем отводить стрелковые части, которые должны крепко держаться в восточной части полуострова. Получение подтвердить. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Б. Шапошников».
Понимай как знаешь: то ли отводи все войска на Тамань (все равно пехота без артиллерии драться не сможет), то ли продолжай удерживать Керченский полуостров до последнего человека. В зависимости от того, как в конце концов на сдачу Керчи посмотрит Сталин, начальник Генштаба мог указать на тот или другой пункт своего послания. Пока же 16 ноября Кулик донес в Ставку: «В ночь на 16.XI.41 г. главные силы частей 51-й армии переправляются на Таманский полуостров. Артиллерия и вооружение вывезены». Тогда ему сдачу Керчи в вину не ставили. Теперь же, в феврале 42-го, Кулика за это судили.
Григорий Иванович заявил, что знаком был только с последней директивой от 14 ноября, которой Шапошников требовал «держать Керчь во что бы то ни стало». Кулик, правда, признал, что «имел личный приказ товарища Сталина. Когда я получил четвертую, для меня первую, директиву (от 14 ноября. — Б.С.), то к тому времени для меня уже было ясно, что удержаться в Керчи мы уже больше не сможем».
«— Почему же вы посчитали возможным не выполнить категорические приказы Ставки?» — грозно вопрошал Ульрих.
— Да, я в этом виноват», — признал Григорий Иванович. — «Но у меня не было сил для обороны Керчи».
«— Нет! У вас было достаточно войск для жесткой обороны Керчи», — возразил Щаденко.
Тут Кулик невольно проговорился: «Я не хотел идти на то, чтобы попасть в окружение с частями, которые, того и жди, сдадутся в плен противнику». В плен попадать Григорий Иванович, естественно, не хотел.
Щаденко не унимался: «Вы знали, что вам категорически приказано держать Керчь. Вас вызвал и лично говорил с вами по телефону Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин. Для вас было ясно, что основная цель вашей поездки — это оборонять Керчь?»
«— Да, для меня было ясно, что целью моей поездки было удержать Керчь», — потерянно повторил Кулик.
«— Вы ехали очень долго», — завел старую песню Ефим Афанасьевич, несмотря на наличие у вас «Дугласа». Вы вполне могли 10-го же ноября прилететь в Керчь».
«— Нет, не мог», — твердил свое Кулик. — «Погода была нелетная».
«— Вы проволынили около трех суток», — продолжал выговаривать маршалу Щаденко. — «Только 12-го приехали в Керчь, вместо того чтобы быть там 10-го же. А когда приехали, то ничего для обороны не сделали, а дали приказ об отходе. Ясно ли для вас, что этот ваш приказ был не в интересах Родины? Если это, как вы утверждаете, не трусость, то это предательство». И после паузы вкрадчиво добавил: «Вы ведь действовали сознательно?»
«— Нет, не трусость и не предательство», — уверял судей Григорий Иванович. — «Просто я не видел другого выхода. Действовал сознательно».
«— А когда вы снова получили категорический приказ Ставки оборонять Керчь — вы опять его проигнорировали. Что это — не сознательное предательство?» — давил на маршала Щаденко.
«— Я не хотел идти на то, чтобы пожертвовать всеми войсками. Решил хоть часть, но вывести», — наконец-то приоткрыл Кулик истинный мотив своих действий.
«— Давно ли вы связаны с немцами?» — неожиданно включился в допрос прокурор Бочков, прямо обвинив Кулика в шпионаже.
«— Что за глупости?» — вспылил Григорий Иванович.
«— Повторяю», — зловеще прищурившись, вперил взор в маршала Бочков, — «давно ли вы связаны с немцами?»
«— Я понятия не имею» — не очень внятно ответил Кулик.
«— Чем же тогда объяснить, что немцы рассылали по всем фронтам ваши фотокарточки?» — выложил прокурор главный козырь.
«— Откуда я знаю?» — удивился Григорий Иванович (и действительно, почему он должен отвечать за действия немцев?). — «Мне только известно, что немцы считали, что я со своим адъютантом и женой нахожусь у них в тылу и командую якобы партизанским отрядом. Этими данными якобы располагала наша разведка».
Тут Бочков применил старый следовательский прием, призванный запугать подсудимого и заставить его сознаться: «Подтверждаю, что нам все точно известно. Предлагается вам рассказать все искренне, честно» (чтобы потом со спокойной душой можно было бы к стенке ставить! — Б. С.).
«— Откуда?» — продолжал удивляться Кулик. — «Говорю честно. Разве я могу быть с немцами?»
«— А почему сознательно сдали Керчь немцам?» — уколол маршала Щаденко.
«— Я здраво оценил силы нашего сопротивления и из этого исходил, принимая решение на отход», — парировал Кулик.
Бочков никак не мог успокоиться: «В третий раз предлагается вам честно все рассказать о своих связях с немцами».
«— Хоть в тысячный», — Григорий Иванович нашел-таки силы съязвить, — «Говорю честно — нет».
После нового перерыва Ульрих обратился к материалам предварительного следствия и попросил подтвердить следующие показания: «Приняв по приезде в Керчь решение на отход, я объективно ничего не изменил в создавшейся там обстановке, внеся лишь плановость и порядок в сам отход на Тамань». Кулик охотно подтвердил: «Я взял в жесткие руки эвакуацию и прикрытие. Я возглавил этот отход».
Ульрих ухмыльнулся: «Далее в ваших показаниях записано: «Признаю, что я нарушил приказ и свой воинский долг и, вместо того, чтобы организовать оборону Керчи и ее районы, без разрешения Ставки принял решение об эвакуации. В этом моя вина». Правильно записано?»
«— Правильно», — вынужден был согласиться Кулик. — «Я приказ нарушил. Я был тогда поставлен перед тем, что операция уже проиграна. Я не мог сделать иного, так как оставшиеся войска уже были малобоеспособны».
«— У вас из Керчи была связь с Москвой?» — поинтересовался Ульрих.
Кулик объяснил: «Только 13-го была установлена проволочная связь. А до этого удалось установить связь по радио. Я просил тогда Ставку отстранить Левченко от должности и разрешить мне организовать оборону Тамани» (которую немцы в тот момент и не собирались захватывать. — Б.С.)».
«— Не правда ли, что вы переоценили силы противника?» — оседлал любимого конька Артемьев. Эту тему тотчас подхватил Щаденко: «Вы ободрали две бригады. У вас силы было много».
«— В оценке сил противника и наших я не заблуждался», — стоял на своем Кулик.
«— Вы говорите об организации вами жесткой обороны. Но вы сами-то уехали из Керчи?» — продолжал уличать маршала в трусости Щаденко.
«— Я дал приказ — ни шагу назад!» — Кулик от волнения не понимал комического эффекта этой фразы. Получалось: другим приказал стоять до последнего, а сам тотчас эвакуировался на безопасную пока Тамань. Ефим Афанасьевич не замедлил воспользоваться этим обстоятельством и съехидничал: «А сами удрали?»
«— Я считал, что мое место в Темрюке», — несколько смешался Кулик.
«— Вы получили разрешение Ставки на свой выезд из Керчи?» — как обычно, ровным, спокойным голосом спрашивал Ульрих.
«— Нет», — не стал лукавить Кулик, понимая, что суду это все равно известно. — «Я уехал без разрешения Ставки. Но это дало мне возможность организовать оборону Таманского полуострова».
«— Лично сами уехали из Керчи вечером двенадцатого?» — уточнил Ульрих.
«— Да», — подтвердил Кулик.
«— А эвакуация закончилась с 15-го на 16-е?» — продолжал Василий Васильевич.
«— Да, Митридат был занят немцами вскоре после моего отъезда, а 15-го дрались уже в самом городе», — рассказал Кулик об обстоятельствах, при которых проходила эвакуация на Тамань. Еще 17 ноября в последнем докладе о боях на Керченском полуострове он сообщал по телефону в Ставку: «Части 51-й армии Керченского направления полностью переправились на Таманский полуостров во второй половине дня 16. 11. Переправа проходила в тяжелых условиях штормовой погоды при морозе в 12°».
Ульрих захотел уточнить некоторые детали: «Уезжая из Керчи, кого оставили старшим начальником?» Кулик ответил, что «начальником укрепрайона оставил Батова, а комиссаром — Николаева».
«— Левченко кому подчинялся?» — задал председатель суда немаловажный вопрос. Дело в том, что вице-адмирал Левченко в ноябре 42-го формально оставался командующим войсками Крыма и начальником Батова, а у Кулика не было полномочий смещать его. Григорий Иванович объяснил, как он вышел из положения: «Левченко я поставил задачу обеспечить эвакуацию, а Батову — оборону. Оба непосредственно подчинялись мне».
«— Никакой преступной связи с немецким командованием у вас, значит, не было?» — вернулся Ульрих к наиболее опасному для подсудимого вопросу.
«— Категорически нет», — заверил Кулик. Далее судьи еще раз поинтересовались, сколько маршал пробыл в окружении в Белоруссии, встречался ли там с немцами и, получив отрицательный ответ, после десятиминутного перерыва объявили судебное следствие законченным и предоставили подсудимому последнее слово. Тяжело далось оно маршалу. Григорий Иванович чувствовал, что продиктованный свыше обвинительный приговор предрешен, но попытался еще раз собрать вместе все аргументы в свою защиту: «Принял решение на отход сознательно. Я взвесил всю обстановку. Я считал, что противник легко может переправиться на Кавказ. Знал, что там, на Таманском полуострове, фактически наших войск нет. Остатки же 51-й армии измотаны, часть без оружия, поражены паникой. Такие войска можно было приводить в христианский вид только после отхода на Тамань. Исходя из всего этого, я и решил оставить Керчь и оборонять Таманский полуостров. Если бы у меня была связь с Москвой, то я бы получил на это разрешение Ставки. Доказал бы, что это единственно правильный выход — иначе противник будет на Северном Кавказе.
Первую задачу — оборонять Керчь — не выполнил я. За это меня и судят. Но вторую, не менее важную, задачу — остановить армию и оборонять Кавказ с Таманского полуострова — выполнил. Так я по возвращении и доложил товарищу Сталину. Он меня поругал.
Я обеспечил артогнем с косы Чушка прикрытие отхода наших частей с Керчи, и противник встретил здесь уже крепкую оборону. Я превысил свои права не потому, что был изменником или трусом, а потому, что решил предотвратить занятие противником Северного Кавказа. Ведь от Тамани на восток все было голо».
Щаденко не вытерпел и, против всех обычаев и правил, прервал последнее слово подсудимого: «Неправда! На Северном Кавказе тогда было 12 бригад».
Кулик, однако, лучше помнил, как обстояло дело в середине ноября 41-го, и твердо отстаивал свою позицию: «Нет! Тогда войск там не было. Считаю, что в условиях той обстановки мое решение было единственно правильным. Я не видел другого выхода.
Я считал и сейчас считаю, что другого решения принять нельзя было. Но я виноват, что не выполнил приказ Ставки об обороне Керчи. Утверждаю, что если бы я прибыл в Керчь дней на 5—10 раньше, то тогда я смог бы удержать Керчь. А то я прибыл к шапочному разбору.
Прошу при решении моего дела учесть, что у меня и мысли никогда не было изменить Родине, изменником Родины я не могу быть. Никакой связи с немцами у меня никогда не было.
Знаю, что на меня была уйма показаний врагов («уйма показаний» была всех других военачальников, в том числе на Тимошенко, Щаденко, даже на легендарного Буденного; но только сам Сталин решал, против кого дать ход имеющемуся компромату, как правило, сфабрикованному в НКВД. — Б. С.). Откуда они все взяли — понятия не имею! В Испании работал с врагами народа, не зная, что они враги (в той же Испании и с теми же врагами работал и другой герой Керченской эпопеи, Батов, но ему это в вину не ставили. — Б. С.).
Вспомнил, раз был у меня разговор с германским военным атташе в Москве. Фамилия его, кажется, Кес-линг (в действительности — Кестринг. — Б. С.). На банкете во время финской войны он меня спросил, как работает у нас автоматическое оружие при минус 40. Он говорил по-русски. Больше ни с кем из иностранцев не говорил».
«— Что вы ответили немецкому атташе?» — мигом навострил уши бдительный Ульрих. Но Кулик его успокоил: «Ответил: ничего, работаем, воюем. Я прошу заявление прокурора о том, что я предатель, хорошенько разобрать. Я предателем не могу быть. Трусом я тоже не был. Немцев считал всегда серьезным противником. Особенно боялся их химии, но никогда перед ними не преклонялся. Пораженческих настроений не имел. У немцев один козырь — танки, самолеты и минометы. Остальное у них ерунда. Чуть нажмешь — удирают в десять раз быстрее наших (тут перед нами чистой воды поэтическая фантазия, поскольку Григорию Ивановичу видеть, как немцы бегут, да еще в десять раз быстрее русских, никогда ранее не приходилось. — Б. С.).
Политически я чист, никогда ни к каким антипартийным группировкам не примыкал. Перед товарищем Сталиным я очень виноват. Товарищ Сталин меня, крестьянина, сделал членом ЦК, Маршалом Советского Союза.
Чего, спрашивается, смотрел Генштаб? Ведь он обстановку не знал. Противник согнал к Керчи со всего Крыма армию. Она стала бандой. Да, бандой! Пьянствовали, женщин насиловали. Разве с такой армией я мог удержать Керчь? Приехал я уже поздно — спасти положение уже нельзя было».
Артемьев с видом знатока изрек: «Забываете про пролив и переоцениваете силы противника».
Кулик возразил: «Немцам сделать наводку через пролив легко можно было (тут Григорий Иванович явно переоценил возможности германских инженерных войск — даже в 43-м году, когда вермахт контролировал Таманский полуостров, строительство подвесной канатной дороги заняло более четырех месяцев, переправочными же средствами немцы на Керченском полуострове в ноябре 41-го не располагали, замерз же Керченский пролив лишь через полтора месяца после эвакуации войск 51-й армии. — Б. С.). Повторяю — я приехал уже к шапочному разбору.
Я разве отрицаю, что нарушил боевой приказ? Но нарушил его не по злому умыслу».
«— Какие вы сами-то меры приняли?» — задал вопрос под занавес Артемьев.
«— Одним сказал — уходи, не мешай другим, а остальным — ни шагу назад, прикрывай эвакуацию!» — очень лаконично изложил свою позицию Кулик.
«— Это и до вас уже сделали», — пренебрежительно бросил Павел Александрович.
«— Нет», — возразил маршал, — «до меня Батов и Левченко только грызлись между собой. Снова повторяю: я хотел одного — не пустить противника на Северный Кавказ. Правда, разрешение на отход из Керчи я не имел».
«— У вас все?» — прервал Кулика Ульрих.
«— Да», — подтвердил Григорий Иванович.
Суд удалился на совещание. Впрочем, приговор был известен заранее. Гневные обвинения в измене Родины пока что призваны были только попугать Кулика. В итоге Григорию Ивановичу вменили только статью 193 пункт 21 «б» УК РСФСР (воинское должностное преступление) — невыполнение боевого приказа. Суд ходатайствовал перед Президиумом Верховного Совета СССР о лишении Григория Ивановича Кулика званий Героя Советского Союза и Маршала Советского Союза, а также всех правительственных наград. 19 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета принял соответствующее постановление. Григория Ивановича разжаловали в генерал-майоры. Спасибо, хоть ордена три месяца спустя вернули (за исключением Золотой Звезды Героя).
Давайте подумаем, что бы изменилось, если бы Григорий Иванович не отослал самолет в Свердловск и прибыл бы в Керчь 11-го, а не 12 ноября? Да ничего! 51-я армия к тому времени уже потеряла боеспособность, а Левченко и Батов были настроены на эвакуацию еще 10-го числа. И, думается, не о безопасности Тамани думал в первую очередь Кулик. Оборона Северного Кавказа — это была отговорка перед судьями, позволявшая ссылаться на вторую часть сталинского приказа. Не такой дурак был маршал, чтобы не понимать: так просто немцам через Керченский пролив не перебраться, подготовка десанта потребует времени значительно большего, чем 15 суток, за которые должны были подойти к Тамани свежие дивизии из Закавказья. Но маршал на суде невольно проговорился, когда сказал, что хотел эвакуировать 51-ю армию для того, чтобы на Тамани привести ее в христианский вид. Не мог он прямо сказать, что двигало им христианское милосердие. Григорий Иванович не желал бессмысленной гибели солдат и видел единственное их спасение в эвакуации. Прибывшие с маршалом немногочисленные свежие части не могли спасти положения. Их пришлось вводить в бой разрозненно, лишь увеличивая общее число жертв со стороны Красной Армии. Отход же на Тамань спас от гибели и плена 11,5 тысячи бойцов и командиров и 2000 орудий. И под Ленинградом, организуя наступление для деблокады города, Григорий Иванович людей берег и не хотел бросать их в плохо подготовленные атаки. За что и удостоился гневной отповеди от Жукова, придерживавшегося совсем других принципов насчет сбережения солдатских жизней. На совещании высшего комсостава в декабре 1940 года Кулик в запальчивости утверждал: «Там, где лес рубят, там щепки летят. Но надо, чтобы щепок было поменьше. Плакать над тем, что где-то кого-то пристрелили, не стоит». Однако сам Григорий Иванович действительно старался сделать так, чтобы щепок было поменьше, чтобы красноармейцы не гибли зря. За что, вероятно, в конечном счете и пострадал. Сталина чрезмерная забота о людях раздражала — ведь незаменимых-то у нас нет.
Сначала же Кулику казалось, что за Керчь он отделался сравнительно легко. Когда 18 ноября 1941 года маршал доложил в Ставку о том, как размещаются войска, отведенные на Таманский полуостров, и поставил вопрос о замене Левченко Батовым, то подчеркнул: «Армией с 12.11. фактически командую я». Сталин согласился с Куликом и Левченко сместил. Более того, 1 декабря Гордея Ивановича арестовали. Вице-адмиралу инкриминировали измену Родине из-за невыполнения приказа Ставки об удержании Керчи. Морально сломленный за месяц пребывания в застенке, Левченко на допросе 1 января 1942 года показал: «Моя преступная деятельность выразилась в том, что я, не выполнив приказа Ставки, сдал противнику город Керчь. Одним из обстоятельств, ускоривших сдачу врагу этого важного в стратегическом отношении города, является приезд в штаб фронта уполномоченного Государственного Комитета Обороны Кулика, который, вместо того чтобы подсказать или поправить меня в тех преступных действиях (здорово сказано: «поправить меня в преступных действиях»! — Б.С.), которые я допускал, своими пораженческими настроениями и действиями их усугубил».
Может быть, Гордей Иванович просто пытался переложить свою вину на другого военачальника? Но последующий вопрос следователей Павловского и Лихачева, попросивших остановиться на роли Кулика более подробно, доказывает, что именно они подсказали, какого рода показания надо дать против Кулика. Вряд ли вице-адмирал рискнул бы прямо обвинять маршала, заместителя наркома обороны и уполномоченного ГКО, да еще считавшегося личным другом Сталина, если бы не был уверен в благосклонном отношении следователей к обвинениям такого рода.
Левченко показал, что Кулик 12 ноября пробыл в Керчи всего два с половиной часа: «После того как Кулик ознакомился с обстановкой, я попросил его послать нам в помощь остальные части дивизии, данной мне до этого Ставкой (речь идет о 302-й горнострелковой дивизии. — Б.С.). На мою просьбу Кулик ответил: «Никаких частей я давать вам больше не буду, положение на фронте безнадежно, спасайте технику».
Этим самым Кулик, вместо того чтобы вмешаться и навести порядок в войсках, дабы ликвидировать растерянность и панику, дал явно пораженческое указание, направив наше внимание не на организацию обороны города, а на его сдачу противнику (как будто и до приезда Кулика внимание Левченко и Батова не было направлено на эвакуацию! — Б. С.). В соответствии с этим Кулик предложил нам составить план эвакуации материальной части из Керчи в Тамань. Разработав план и ознакомив с ним Кулика, я получил указание немедленно приступить к его выполнению с таким расчетом, чтобы вывоз техники закончить в два дня. Видя, что вывоз из Керчи материальной части окончательно подорвет сопротивляемость войск, я стал просить Кулика отдать приказ о сдаче Керчи врагу».
«— И что же на это ответил Кулик?» — поинтересовался следователь.
Левченко в ответ признал: «Письменного приказа о сдаче Керчи я от Кулика не получил, но он заявил мне: «План у вас есть, по нему и действуйте». Это указание Кулика я понял так, что после вывоза из Керчи материальной части город надо сдавать».
В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что Керчь была сдана 15 ноября, через три дня после получения соответствующего указания от Кулика. С санкции Левченко Батов отдал приказ войскам отойти на Тамань. На прямой же вопрос, почему не был выполнен приказ об удержании Керчи, Гордей Иванович ответил так: «Я признаю, что сдал противнику Керчь самовольно, вопреки указаниям Ставки. Причиной этого явилось то обстоятельство, что находившиеся в городе войска в результате проявленных мною паники и растерянности, а также моих пораженческих настроений оказались в состоянии небоеспособности и, будучи предоставлены сами себе, не могли противостоять даже незначительному натиску врага. Немалую роль в этом преступном акте сыграло также и указание Кулика, которое я беспрекословно, несмотря на его вредность, выполнил».
О том, что Левченко поддался панике и потерял управление войсками, говорил и Кулик на суде. Послушать Гордея Ивановича, так получается, что, не будь Кулика, он бы, несмотря на панику и пораженческие настроения, Керчь все же удержал бы. Чудеса да и только!
25 января 1942 года Левченко за сдачу Керчи был осужден Военной коллегией Верховного Суда на 10 лет лишения свободы. Через шесть дней Президиум Верховного Совета СССР заменил тюремное заключение отправкой на фронт и снизил Гордея Ивановича в звании до капитана 1-го ранга. Левченко был назначен командиром Кронштадтской военно-морской базы. Его судьба сложилась гораздо более счастливо, чем судьба Кулика. Уже в 1944 году Левченко был восстановлен в звании вице-адмирала и в должности заместителя наркома ВМФ. Можно предположить, что все дело с виновниками потери Керченского полуострова было затеяно главным образом для того, чтобы свалить Кулика, которому уже не дано было вновь подняться на высшие ступеньки военной иерархии. Вероятно, Сталин решил, что по той или иной причине «давнего друга» пора выводить в расход — то ли за протест против репрессий 37—38-го годов, то ли за стремление не бросать безоглядно войска на убой.
Показаниям Левченко против Кулика тотчас был дан ход. 26 января, на следующий день после суда над незадачливым командующим войсками Крыма, Берия направил Сталину копию протокола допроса Левченко от 1 января. В сопроводительном письме Лаврентий Павлович отметил, что «Левченко показал, что генерал-полковник Кузнецов своими действиями, выразившимися в последовательной сдаче Перекопо-Ишуньских позиций без оказания врагу серьезного сопротивления и, не организовав строительства обороны в глубину, создал условия для захвата противником территории Крыма.
Маршал Кулик, являясь уполномоченным Государственного Комитета Обороны, как показывает Левченко, вместо принятия мер к обороне города Керчи, своими пораженческими настроениями и действиями способствовал сдаче врагу этого важного в стратегическом отношении города».
На этом документе сохранилась резолюция: «Т-щу Кулику. Прошу представить свои объяснения письменно. И. Сталин. 27. I. 42 г.» Почему объяснения по поводу сдачи Керчи затребовали только через два с половиной месяца после того, как наши войска оставили Керченский полуостров? Тут, очевидно, сыграло роль еще одно событие, связанное с именем Кулика: 21 ноября 1941 года немцы захватили Ростов. Переписка по поводу ростовских событий показывает, что решение расправиться с Куликом созрело у Сталина в конце ноября — начале декабря. Сдача «ворот на Кавказ» стала весомым дополнением к сдаче Керчи, хотя на суде над Куликом фигурировали только крымские события. И это вполне объяснимо. Ведь уже 29 ноября части 56-й армии отбили Ростов у противника, причем это наступление готовилось под непосредственным руководством Кулика. Неудобно было судить Григория Ивановича за сдачу города, который всего через неделю и при его активном участии был взят обратно.
В связи со сдачей Ростова 1 декабря 1941 года Сталин направил шифрограмму первому секретарю Ростовского обкома ВКП(б) Б.А. Двинскому, где, в частности, указал: «Теперь можно считать доказанным, что ростовские военные и партийные организации оборону Ростова вели из рук вон плохо и преступно-легко сдали Ростов. Оборонительная линия перед Ростовом была уступлена противнику без сколько-нибудь серьезного сопротивления. В самом Ростове не было сделано необходимых заграждений. Чердаки, крыши, верхние этажи домов не были использованы для уничтожения противника ручными гранатами, пулеметным и ружейным огнем. Никакого сопротивления рабочих в Ростове Вами организовано не было (Иосиф Виссарионович все еще мыслил категориями времен Гражданской войны, не задумываясь, что бы могли сделать необученные и плохо вооруженные рабочие против танков Клейста и нанесли бы этим танкам хоть какой-нибудь урон ружейно-пулеметный огонь с верхних этажей. — Б.С.). Все это надо немедля исправить, чтобы не повторилось еще раз позорной сдачи Ростова. Мы хотели бы также выяснить, какую роль играл во всей этой истории сдачи Ростова Кулик. Как он вел себя — помогал защите Ростова или мешал?»
Тон сталинского послания подсказывал Двинскому, что Кулик больше не в фаворе. Ведь Иосиф Виссарионович прямо намекал, что маршал мог мешать обороне Ростова. Но поскольку Григорий Иванович все еще оставался заместителем наркома обороны и уполномоченным ГКО, ростовский секретарь предпочел ответить насчет его осторожно, без резких и однозначных определений и формулировок. Кто его знает, как еще дело повернется. Вдруг Сталин вернет Кулику свою благосклонность. И Двинский написал так: «Город был окружен с трех сторон, по всем направлениям сил не хватало, наступление 37-й и 9-й армий страшно запоздало, и у нас не было ни одного человека в резерве во время внутригородской обороны. Грозило беспрепятственное открытие дороги на другой берег.
Нынешний успех удался, так как враг был сильно истощен борьбой за Ростов, и нам было чем ударить с юга. В самом Ростове дрались, и крепко. Были и заграждения, устроенные по указанию военных специалистов, с учетом, что в город войдут полевые части. Теперь их считают недостаточными. Среди рабочих мы проводили подготовительную работу, но все оружие (винтовки, пулеметы и т. д.) было отдано полевым частям. Рабочих, которые еще оставались в городе, нечем было вооружить. Коммунисты и лучшие рабочие заранее, еще до эвакуации предприятий, были организованы в полк народного ополчения, прошли заблаговременно обучение и получили главным образом старое оружие (около тысячи человек). (Как показывает опыт, обучение народных ополченцев в годы Великой Отечественной войны было весьма условным, а вооружались они нередко учебными винтовками со сточенным бойком, которые можно было использовать разве что в рукопашном бою. — Б.С.). Они сражались честно внутри города всюду, где могли.
Новые отряды рабочих нечем вооружить. Прав я или нет, но считаю, по нашему опыту, что город может быть защищен главным образом полевой армией, ибо, когда враг уже на окраинах или частично внутри города, все, как показал опыт, страшно дезорганизуется (связь, свет, перевозки и т. д.) и вышибить врага тогда трудно. И надо обязательно иметь под рукой резервы, так как в процессе городского боя возникают тысячи неожиданностей.
Маршал Кулик руководил всей операцией, для чего мы и считали его призванным, рассматривая как безусловный военный авторитет. Я считаю, что он несколько суматошный человек, работает вразброс. В дальнейшем, в случае необходимости, следует послать другого, поспокойнее и рассудительнее. Ремезов и Мельников (командующий и член Военного совета 56-й армии. — Б.С.) во всем без спора следовали за Куликом».
Характеристика Кулика здесь довольно противоречивая. С одной стороны, «безусловный военный авторитет» и «руководил всей операцией» (т. е. как обороной Ростова, так и подготовкой последующего контрнаступления). С другой стороны, человек суматошный и работающий вразброс, которого лучше бы заменить. Двинский, безусловно, учитывал, что 28 ноября, в самый канун освобождения Ростова, Сталин отозвал Кулика в Москву. Значит, Верховный по каким-то причинам не хотел, чтобы с именем маршала связывалось одно из первых успешных контрнаступлений Красной Армии.
Сразу после Ростова Кулика направили выправлять положение под Тихвином. Немецкие войска еще 8 ноября 1941 года овладели этим городом, стремясь блокировать Ладожскую «дорогу жизни» и окончательно замкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда. Однако в ходе контрнаступления, начавшегося 19 ноября, дивизии Ленинградского и Волховского фронтов после упорных боев 9 декабря вновь овладели Тихвином, отбросив неприятеля на исходные позиции. Однако этот успех в глазах Сталина не перевесил вины Кулика за сдачу Керчи и Ростова. Интересно, что и позднее советские историки и мемуаристы предпочли вообще не упоминать о роли Кулика в Тихвинской операции. Почитать воспоминания К.А. Мерецкова, командовавшего в то время 4-й армией, дравшейся под Тихвином, Кулика там вообще не было. Хотя именно после приезда Григория Ивановича наступление советских дивизий ускорилось и Тихвин наконец был взят.
В конце декабря маршал был отозван из Тихвина в Москву. Там уже полным ходом шли керченские и ростовские разборки.
В своих объяснениях по поводу сдачи Керчи, датированных 30 января 1942 года, Григорий Иванович утверждал: «Когда я прибыл в город Керчь, ознакомился с обстановкой, лично объехал фронт, посмотрел действия своих войск и противника, я пришел к выводу, что отстоять Керчь и пристани этими войсками при создавшейся обстановке невозможно, так как господствующие высоты непосредственно над городом с юга, юго-запада, с запада и северо-запада уже были заняты противником, сам же город не укреплен. Взять обратно эти высоты, так как без овладения ими немыслима оборона города и пристани, было невозможно этими войсками, они были настолько деморализованы, что не в состоянии были обороняться, а о наступлении этими войсками и речи не могло быть. Привести их в порядок под непосредственным воздействием противника, который нахально наступал, было невозможно. Нужно было бы, чтобы решить задачу удержать пристани, город и плацдарм для дальнейшего контрнаступления на Крым, минимум три стрелковых дивизии свежих.
Правильно было принято мной решение не дать добить остатки армии и ни в коем случае не отдать противнику артиллерии и вооружения, организованно переправить армию на Таманский полуостров и выполнить Вашу основную задачу не допустить противника овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северный Кавказ. Эту задачу я выполнил. Фактически с этого момента руководил остатками армии и организацией обороны на Таманском полуострове я, так как Левченко настолько раскис, что он не мог провести эту довольно серьезную работу в довольно сложной обстановке. Армия была переброшена, вооружение и артиллерия были спасены, и полностью разгромить армию противнику не удалось. Если некоторые «стратеги» считают, что удержанием города Керчи с гаванью прикрыто движение противника на Северный Кавказ, т. е. на Таманский полуостров, то они глубоко ошибаются и не понимают обстановки. Когда противник занял Керченскую крепость, он мог переправляться на Тузлускую косу (на косу Тузла. — Б. С.) и занять южный отрог Таманского полуострова, а это равноценно занятию всего Таманского полуострова и окружению города Керчи. Поэтому с теми силами, которыми мы располагали, решить две задачи были не в силах, т. е. удержать Керчь с гаванью и плотно занять Таманский полуостров. Несмотря на то, что я взял без Вашего разрешения 12-ю стрелковую бригаду и один стрелковый батальон с запасного полка, этих сил хватило только для занятия обороны на Таманском полуострове.
Самое главное преступление делает командир, если он отдает войскам заведомо невыполнимый приказ, войска его выполнить не в силах, гибнут сами, а приказ так и остается невыполненным. В отношении же моей личной трусости я даже до сих пор не знал, что я трус, хотя воюю уже шестую войну в своей жизни. У меня к Вам, товарищ Сталин, одна просьба: прикомандируйте тех, кто называет меня трусом. Пусть они побудут при мне несколько боев и убедятся, кто из нас трус.
Я не знаю, почему довели до такого состояния армию, в каком я ее встретил, но я считаю, что руководить армией Левченко не мог, так как он совершенно ничего не понимал в сухопутной армии. Он представлял из себя раскисшего политрука, много говорящего, но никто его не слушал. Его назначение командующим была большая ошибка.
В отношении т. Батова, я его знаю более 10 лет, лично наблюдал его в боях в Испании, где он хорошо действовал, наблюдал его, когда он командовал 13-м корпусом против финнов. В финскую войну он также руководил хорошо. Он хорошо подготовленный командир, боевой, с большой силой воли. Когда я начал выяснять причину, почему он не взял на себя главную роль по командованию, мне говорили, что Левченко вмешивался и мешал ему командовать»;
В послевоенных мемуарах Н.Г. Кузнецов совсем иначе характеризует действия «раскисшего политрука» Левченко на Керченском полуострове: «По решению Ставки именно Г.И. Левченко принимал меры, чтобы задержать врага на Керченском полуострове. Превосходство противника в силах не позволило это сделать. Но и отступая, советские войска наносили гитлеровцам весьма ощутимые удары. Из таких вот ударов складывался будущий успех, а затем и полная победа. Г.И. Левченко сделал все от него зависящее. Оборона Одессы, Николаева и Севастополя неразрывно связана с его именем». Все чинно и благородно, так что читатель ни за что не догадается, что за сдачу Керчи Гордей Иванович был судим и разжалован. Кстати, и в последующем Левченко лавров флотоводца не стяжал. Командуя Кронштадтской военно-морской базой, он прославился только провальным десантом на остров Соммерс в июле 42-го, когда вчетверо сильнейший отряд десантников не смог справиться с немецким гарнизоном в 60 человек и понес большие потери. Кузнецов по этому поводу даже специальный приказ издал, чтобы другие на ошибках Гордея Ивановича учились. Но Левченко оставался человеком наркома, и Николай Герасимович способствовал его возвращению из опалы в 44-м и в мемуарах написал о вице-адмирале только хорошее.
А что же Павел Иванович Батов, которого Кулик считал хорошим, волевым командиром? Нашел ли он в мемуарах добрые слова про Григория Ивановича? Ничуть не бывало. Вот как Батов описывает действия Кулика в Керчи: «На Тамани находился представитель Ставки маршал Кулик. Числа девятого на мой КП прибыли тт. Левченко и Николаев, а вскоре — неожиданно для всех — представитель Ставки. Но странное дело, вместо того чтобы оказать помощь (от него во многом зависело обеспечение Керчи боеприпасами), вместо того чтобы вселить уверенность, тов. Кулик приехал браниться. В грубой, оскорбительной форме он требовал от вице-адмирала Левченко ответить, почему «преступно оставляете Крым». Разговор прервали немецкие автоматчики: они просочились на гору Митридат, под которой расположился КП, и стали бросать вниз гранаты. Находившиеся на командном пункте офицеры с бойцами охраны ушли в контратаку, а мы усадили Кулика на машину и отправили в порт, откуда он отбыл на Тамань.
После отъезда Кулика вице-адмирал Левченко будто забыл о неприятной встрече. Он спокойно обсуждал со мной и Николаевым положение на фронте, сказал в заключение, что необходимо оборонять Керчь до последней возможности. Больше всего мне нравилось в Левченко, что он ни на минуту не терял уверенности в нашей победе. Эта уверенность исходила от человека, который сам едва держался на ногах от усталости. Признаюсь, что именно во время разговора в этой накаленной до предела обстановке авторитет вице-адмирала очень высоко поднялся в моих глазах. Как ни горьки были наши неудачи, беседа с Левченко придала мне новые силы.
Вице-адмирал делал все возможное для обороны Керчи. Он оказал наземным войскам помощь силами морской пехоты, обеспечил огневую поддержку с кораблей. Но атаки врага усиливались с каждым днем. После трехдневных боев гитлеровцы подтянули из резерва свежую дивизию 30-го армейского корпуса (в действительности все дивизии этого корпуса наступали на Севастополь и в боях за Керчь не участвовали. — Б.С.). Стало ясно, что удержать город нам не удастся. Поэтому по распоряжению Ставки Верховного Главнокомандования начался отвод войск из-под Керчи на Таманский полуостров».
Лукавит, ох, лукавит Павел Иванович! Неслучайно он заставил Кулика прибыть в Керчь уже 9 ноября. Тогда отправленную на следующий день Левченко и Батовым телеграмму, где говорилось о возможной эвакуации Керчи можно было бы объяснить «дурным влиянием» со стороны маршала. На самом деле Гордей Иванович в тот момент думал не о том, как оборонять Керчь до последней возможности, а пытался узаконить уже начавшуюся стихийную эвакуацию на Тамань.
Кулик пытался оправдаться, забрасывая Сталина письмами. 6 февраля 1942 года появилось постановление ГКО о привлечении его к суду за сдачу Керчи. Потрясенный Григорий Иванович 8 февраля писал Сталину: «Считаю себя виноватым в том, что я нарушил приказ Ставки и без Вашего разрешения сдал город Керчь противнику. Весь мой рост был под Вашим личным руководством, начиная с 1918 года, поэтому я и считаю, что моя вина в тысячу раз усугубляется. Поверьте, т. Сталин, что это я сделал не по злому умыслу и не потому, чтобы игнорировать Ваш приказ, нет, а потому, что мне на месте казалось, что я не смогу дать генеральный бой на Керченском полуострове и потопить противника в проливе, не допустив его на Таманский полуостров».
Покаявшись, Кулик попробовал оправдаться: «Правда, докладываю Вам, что там была исключительно тяжелая обстановка и быстро меняющаяся и, к моему сожалению, когда я приехал в г. Керчь, не работала связь с Москвой и мы только связались через сутки после принятия моего решения на отход. В этот момент было в Керчи 11400 человек, из них дралось не более 2500–3000 штыков, да плюс артиллеристы, остальные представляли из себя сброд специалистов, тыловиков, дезертиров, и более 20 000 человек уже было переправлено на Тамань, неуправляемая масса, которую мы впоследствии ловили и организовывали.
Прошу ЦК ВКП и лично Вас, т. Сталин, простить мне мое преступление, и даю честное слово большевика, что я больше никогда не нарушу приказа и указания ЦК ВКП и лично Ваши, а также прошу Вас, т. Сталин, дать мне возможность искупить мою тягчайшую вину перед партией и лично перед Вами, поручить мне в боевой обстановке самую ответственную боевую задачу — я ее выполню».
Сталин не простил и, как мы увидим дальше, так никогда и не предоставил Кулику возможность отличиться, чтобы загладить свою мнимую вину в сдаче Керчи. 10 февраля прокурор СССР В.М. Бочков составил обвинительное заключение по делу Кулика. Теперь на него, а не на Левченко возлагалась ответственность за потерю Керченского полуострова. При этом утверждалось, что вице-адмирал, как свидетельствуют документы Генштаба, «объективно доносил Ставке о положении в войсках». Правда, тогда Гордея Ивановича реабилитировать не стали, и ему еще два года пришлось побыть капитаном 1-го ранга.
19 февраля Кулик был выведен из состава членов ЦК и снят с поста заместителя наркома обороны, а Президиум Верховного Совета СССР оставил в силе приговор суда о разжаловании Григория Ивановича в генерал-майоры. В постановлении Политбюро также утверждалось, что «Кулик во время пребывания на фронте систематически пьянствовал, вел развратный образ жизни и, злоупотребляя званием Маршала Советского Союза и зам. наркома обороны, занимался самоснабжением и расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей из средств государства». Получив проект постановления, 18 февраля он отправил письмо Сталину, где отрицал предъявленные обвинения. Но постановление приняли в отсутствие Кулика без каких-либо изменений. Бывший маршал об этом не знал. 21 февраля Григорий Иванович послал Сталину свое последнее письмо, где пытался объясниться по поводу Керчи и Ростова: «Я виновен в отношении нарушения выполнения приказа, но не в отношении воинского долга в отношении Родины. Все то, что возможно было сделать в тех условиях и с теми силами, которые я застал в г. Керчи, я сделал. Все силы, которые были способны драться, вели в очень тяжелой обстановке жестокий бой при минимум троекратном превосходстве противника, причем в тактически невыгодных условиях, так как противник захватил командные высоты над городом и своим прицельным огнем наносил тяжелые. потери нашим войскам.
Мы пытались взять главную высоту, господствующую над городом, — наше наступление было отбито (речь, несомненно, идет о той контратаке на гору Митридат, которую описывает П.И. Батов. — Б. С.). Мы могли только продержаться Здня, и мною была доложена Ставке 14. 11. 41 г. через дежурного генерала обстановка, что мы сможем продержаться еще сутки. Я просил доложить т. Шапошникову и Вам лично и сказал, что я жду у аппарата ответа. Я получил ответ только 16. 11. 41. Прошу телеграмму прочесть, где т. Шапошников указывал план перевоза техники, артиллерии на Тамань, а стрелковые части оставить на восточном берегу Керченского полуострова. Этой директивой фактически была санкционирована сдача г. Керчи. Оставить стрелковые части на восточном берегу Керченского полуострова было невозможно, так как мы уже перешли (через пролив. — Б.С.), а главное, что главные прикрывающие силы 2 полка 302-й дивизии понесли потери за 4—З дня боя и у них осталось в одном полку 15–18 процентов, а во втором 25–30 процентов активных штыков, других сил у нас не было. Я просил следствие и суд допросить командиров, которые дрались, мне было отказано. Суд же происходил на основе материалов, директив Ставки, показаний Левченко и карательных органов.
В проекте говорится, что я своим пораженческим поведением в г. Керчи и Ростове усилил пораженческое настроение армии и деморализовал ее в среде командования. Это неправильно. Никто никогда не видел и не слыхал от меня упаднического настроения ни слова. Пусть хоть один человек из этих обеих армий скажет, что я проявил трусость или паникерство. Это сплошная выдумка от начала до конца.
В отношении Ростовской операции: я просил, чтобы прокурор разобрал этот вопрос, так как в постановлении Комитета Обороны меня обвиняют также в сдаче Ростова. Я просил т. Бочкова допросить Военный совет 56-й армии, командиров и комиссаров дивизий, он отказался. Сказал, что никакого обвинения юридически мне предъявить не может.
Тов. Сталин! Я Вас убедительно прошу разобрать Ростовскую операцию, только обязательно с допросом Военного совета 56-й армии, командиров и комиссаров дивизий. Вы тогда убедитесь, кто же разбил группу Клейста. Это сделала 56-я армия, а не Южный фронт».
Не обошел Григорий Иванович и обвинений в моральной нечистоплотности: «Относительно предъявленного мне обвинения в пьянстве систематическом и развратном образе жизни — это гнуснейшая интрига. Когда Вы позвонили мне в город Ростов по этому вопросу, я просил Вас расследовать эту провокацию, направленную против меня. В городе Ростове мы жили все коммуной в одной квартире с Военным советом, адъютантами и охраной. Прошу допросить этих лиц. В Краснодаре я был около 3 дней, жил в даче крайкома, всегда обедал и ужинал вместе с секретарем обкома и председателем крайисполкома. Прошу также допросить, что я там делал.
В Тамани жил 6 дней у колхозника, где находился со мной председатель Краснодарского крайисполкома т. Тюляев. Прошу допросить этих лиц, чтобы избегнуть позорного провокационного обвинения».
Действительно, трудно предположить, чтобы маршал занимался развратом в присутствии адъютантов, охраны и членов Военного Совета. И пьянствовать, очевидно, он мог только вместе с тем же Двинским, Тюляевым и руководством 56-й армии. Но никому из тех, кто был вместе с Куликом, обвинений в пьянстве и разврате не предъявляли.
Пытался Григорий Иванович оправдаться и по поводу обвинений в самоснабжении и злоупотреблении маршальским званием: «В Ростове мы жили все вместе и питались с одной кухни. Питание организовывал интендант 56-й армии, прошу его допросить. В Краснодаре организовывал питание крайисполком. В Тамани организовывал питание начальник тыла Дунайской флотилии, прошу их допросить, какие я давал распоряжения. Они сами меня питали. Я посылал продукты, главным образом фрукты, в Свердловск, мне дали в Краснодаре. В отношении снабжения моего вагона: я просил снабдить крайисполком Краснодара, а вино и фрукты мне прислали из Грузии товарищи. Никаких моих злоупотреблений по превышению власти в этом отношении никогда не было».
Мы уже убедились, что как раз самоснабжением Кулик, как и многие другие генералы и маршалы, грешил. Но вот бездарным полководцем, трусом и развратником, похоже, не был. Только Сталина это обстоятельство ничуть не волновало. Он уже выбрал Григория Ивановича в качестве жертвы, решив списать на него керченскую неудачу. 2 марта 1942 года Сталин приказом по Красной Армии объявил о разжаловании Кулика в связи с самовольным оставлением Керчи и Ростова, когда маршал якобы «вел себя как трус, перепуганный немцами», а также за пьянство, самоснабжение и «развратный образ жизни». Но ведь еще в разгар сражения за Ростов командующий 56-й армии Ремезов докладывал Шапошникову: «Очень нехорошо, с нашей точки зрения, ведет себя Григорий Иванович, сегодня его жизнь неоднократно была на волоске». А секретарь Ростовского обкома Двинский, уже после разжалования Кулика, в записке Сталину от 22 февраля 1942 года сообщал: «17 октября меня как секретаря обкома партии вызвали в штаб СКВО, и Кулик, только что приехавший с поля боя, заявил мне, что силы наши после упорного сражения под Таганрогом истрачены, что противник идет на Ростов, что задержать противника до города нельзя, будем давать городской бой, а я, как секретарь обкома, должен вывести безоружное население из города, чтобы не мешали бою и не гибли зря. Так и было сделано». Значит, Кулик сам не гнушался появляться непосредственно на поле сражения, заглядывал в глаза смерти, хотя маршалу, наверное, находиться на передовой позволительно лишь в исключительных случаях. Может, Григорий Иванович решил, что тогда под Ростовом и был этот исключительный случай. Понимал, что за сдачу Ростова Сталин по головке не погладит. И, хочу еще раз подчеркнуть, Кулик позаботился об эвакуации мирного населения, чтобы оно не гибло в предстоящих уличных боях.
Нельзя сказать, что Григорий Иванович безоглядно рисковал собственной жизнью. Из окружения в Белоруссии выходил переодетым, избегая встреч с немцами. В обреченной Керчи пробыл лишь три часа, понимая, что там уже делать нечего. И под Ростовом в конце концов сумел не только отвести из города 56-ю армию без больших потерь, но и разработать план контрнаступления, завершившегося полным успехом уже после отъезда маршала. Нет, мне все больше кажется, что Кулик был отнюдь не бездарным полководцем! Но даже этот успех Сталин в приказе от 2 марта 1942 года ухитрился поставить Григорию Ивановичу в вину: «Дальнейшие боевые события на Южном и Крымском фронтах, когда в результате умелых и решительных действий наших войск Ростов и Керчь вскоре же были отбиты у противника, со всей очевидностью доказали, что имелась полная возможность отстоять эти города и не сдавать их врагу». Хороша логика. Раз Керчь и Ростов удалось захватить вновь, значит, и удержать их ранее можно было без труда. Как будто не изменилась обстановка за эти несколько недель, как будто не пришлось организовывать для освобождения Керчи специальную десантную операцию с привлечением сил двух свежих армий, как будто не были ослаблены к концу ноября силы Клейста под Ростовом, а армия Ремезова не получила подкреплений!
Чтобы закончить разговор о событиях в Керчи и Ростове, нам придется перенестись сразу в 1957 год, когда Кулика полностью реабилитировали и восстановили посмертно в званиях Маршала и Героя Советского Союза. В записке от 4 января 1957 года заместитель министра обороны И.С. Конев и Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко сделали следующий вывод: «На основании материалов изучения дела и оперативных документов, относящихся к боевым действиям на Керченском направлении, Генеральный штаб пришел к заключению, что к 11–15 ноября 1941 года силы противника на этом фронте количественно превосходили наши войска в несколько раз (действительно, если учесть, что у немцев было три более или менее полнокровных дивизии, а советских войск в Керчи уже к 11 ноября осталось 11,5 тыс. человек, то получается, что противник обладал трехкратным превосходством, и даже прибудь Григорий Иванович в Керчь не 12-го, а 11-го, ничего изменить он бы не смог. — Б.С.) и что в сложившихся условиях командование войсками Керченского направления, а также бывший Маршал Советского Союза Кулик с наличными и притом ослабленными силами и средствами удержать город Керчь и изменить ход боевых действий в нашу пользу не могли. Таким образом, за оставление города Керчи Кулик Г.И. был осужден необоснованно».
Григорий Иванович пребывал в резерве до весны 43-го. В марте у него состоялся разговор с Г.К. Жуковым. Георгий Константинович обещал лично переговорить о нем со Сталиным и добиться его назначения командующим армии. Такой разговор состоялся и возымел действие. В апреле Григория Ивановича произвели в генерал-лейтенанты и назначили командующим 24-й армии Воронежского фронта. Жуков позаботился об усилении армии, вскоре переименованной в 4-ю гвардейскую, свежими дивизиями и артиллерией. Армия Кулика участвовала в наступлении на Харьков и в срыве немецкого контрудара под Ахтыркой. Жуков ходатайствовал о производстве Кулика в генерал-полковники и присвоении ему звания Героя Советского Союза. Однако у Григория Ивановича произошел конфликт с членом Военного Совета Воронежского фронта Н.С. Хрущевым. Никита Сергеевич добился в сентябре 43-го снятия Кулика с должности «за несработанность с командующим фронтом». На этом полководческая карьера бывшего маршала завершилась. В январе 1944 года Кулика назначили заместителем начальника Главного управления формирования и укомплектования войск. На этой канцелярской должности Григорий Иванович пробыл до весны 45-го, когда на него обрушились новые несчастья. 12 апреля Кулик был снят с должности «за бездеятельность». Тогда же его понизили в звании до генерал-майора и исключили из партии.
Истинной причиной новой опалы была, конечно же, не бездеятельность. Наоборот, Григорий Иванович работал весьма активно, постоянно мотался в командировках по фронтам. И нередко при этом вел вредные разговоры, о которых бдительные особисты не забывали докладывать куда следует. Например, во время одной из первых командировок в Рославль в начале 44-го Кулик говорил своему порученцу полковнику И.Г. Паэгле в связи с поражением, которое потерпели советские войска под Оршей и Витебском в схватке с группой армий «Центр» фельдмаршала Эрнста Буша: «У нашего Верховного командования одно на уме: «Только вперед!» Техники с гулькин нос, боеприпасы не подвезены, но в Москве рот на одной ноте увяз: «В атаку, вперед!» У нас, бывает, пехоту сначала всю положат, а затем наступление начинается». Григорий Иванович также вспомнил, как еще перед войной председатель Госплана Н.А. Вознесенский вынес на обсуждение правительства проект постановления, согласно которому размер приусадебного участка колхозника определялся количеством выработанных трудодней: «Я возражал, потому что цель этого проекта — вообще лишить колхозника земли, чтоб на общем поле от зари до зари вкалывал. Куда клонил Вознесенский? Будто земли у нас, как в Иерусалиме, в обрез. А ее у нас — бери не хочу. Сама просится в руки. Все боимся, как бы кому в карман лишняя копейка не попала. Сколько земли, а все нормируют, нормируют. Проклятый Госплан».
18 апреля 1945 года Кулика вызвали в Комитет Партийного Контроля, где обвинили в том, что он «ведет с отдельными лицами недостойные члена партии разговоры, заключающиеся в восхвалении офицерского состава царской армии, плохом политическом воспитании советских офицеров, неправильной расстановке кадров высшего состава армии». Поводом для нового дела послужили заявления генералов И.Е. Петрова и Г.Ф. Захарова, соответственно от 10 и. 17 апреля, написанные по предложению начальника военной контрразведки «Смерш» В.С. Абакумова. Григорий Иванович, в свою очередь, не считал, что разговоры с генералами содержали какой-либо криминал, и в своем заявлении от 23 апреля требовал «свести меня с Петровым и Захаровым и точно выяснить, что никакими мы антипартийными делами не занимались». Но никто его слушать не стал, равно как и устраивать очные ставки между генералами. К тому же начальник Главупрафор-ма генерал-полковник И. В. Смородинов и член Военного Совета Управления генерал-майор Колесников направили министру Вооруженных Сил Н.А. Булганину письмо, где обвинили Кулика в «моральной нечистоплотности и барахольстве, потере вкуса и интереса к работе».
Григорий Иванович ожидал самого худшего. Но Сталин решил еще немного поиграть с давним другом в кошки-мышки. В июле 45-го Кулик был назначен на последнюю в своей жизни должность — заместителя командующего Приволжского военного округа. Командовал округом генерал-полковник Герой Советского Союза В.Н. Гордов. Приволжский округ, где войск было немного, а границы — далеко, традиционно считался местом почетной ссылки для впавших в немилость военачальников. Иногда пребывание там превращалось в короткую остановку на пути в лубянские подвалы. Именно так случилось, как мы помним, с Тухачевским. Гордое, Кулик и начальник штаба округа генерал-майор Ф.Т. Рыбальченко повторили его печальную судьбу. Все трое оказались несдержанны на язык. В мае — июне 46-го две комиссии Министерства Вооруженных Сил проверяли состояние боевой и политической подготовки в войсках Приволжского округа и вынесли неудовлетворительную оценку. Григорию Ивановичу вменили в вину еще и утиную охоту, довольно необычную: бывший маршал лично расстреливал уток из пулемета, установленного на самолете У-2. В июне 46-го Гордова, Кулика и Рыбальченко уволили в запас. Генералы считали свое увольнение несправедливым, и в частных беседах высказывались резкие суждения о министре Булганине, армейских политработниках и даже самом генералиссимусе, не подозревая, что люди Абакумова записывают эти разговоры на пленку В январе 1947 года всех троих арестовали. Позднее на суде Кулик признал: «Будучи разжалованным за сдачу Керчи, я, вместо того чтобы пережить это как большевик, озлобился. Мою злобу еще больше усилило то обстоятельство, что меня стали разыгрывать мои старые товарищи. Я тогда затаил злобу против партии и правительства.
Вторая моя вина в том, что, когда я был в Германии по подготовке боевой операции (очевидно, речь идет о последнем наступлении на Берлин. — Б. С.), ко мне приехал Жуков, который после осмотра позиций пригласил к себе обедать. Во время обеда завязался разговор о методах ведения войны, и Тимошенко вновь начал разыгрывать меня, высказав при этом, что всех нас, стариков, отстранили от командования и в ход пошла молодежь. Что война сейчас идет не качеством, а количеством. Я с этим высказыванием Тимошенко соглашался, разделял его высказывания, принимал участие в критике обиженных лиц руководства Главного Командования.
Затем моя вина состоит в том, что, когда сняли Жукова, я, встретившись с ним, высказал ему свое сочувствие. После того как меня сняли вторично с командования армией, я добился приема у Сталина, где он мне сказал, что я устал воевать и поэтому нужно принимать Главупраформ. Это меня сильно обидело, так как я еще хотел воевать.
Однажды после этого ко мне зашел мой старый адъютант Хейло, который являлся мне близким человеком, так как я с ним воевал в Гражданской войне, и мы с ним были женаты на сестрах. Во время разговора я высказал ему свое озлобление, что нас, стариков, обижают и не дают воевать, и в этом разговоре я высказал свою мысль, что война идет за счет крестьян и что колхозы после войны не восстановят, так как все хозяйство колхозов разрушено. Видимо, мне придется построить себе домик и жить до старости, ничего не делая».
Много лет спустя вернувшийся из лагерей Андрей Иванович Хейло в беседе с писателем Владимиром Васильевичем Карповым вспоминал, как из него выбивали показания о заговорщической деятельности Кулика, Гордова и Рыбальченко: «Вот мне били по ногтям. На стол руку положат и по ногтям. Сначала левую, потом правую. А руку держат, чтобы не отдергивал. А потом и по ногтям на ногах. Садисты, знают, где больнее. Ну и, конечно, резиновые шланги и прочее, это уже по спине, по почкам. Поместили в карцер. Сняли с меня одежду. Холодно, сыро, темно. А потом меня еще в стоячий карцер, в бокс. В конце концов уже ничего не соображал, хотелось одного — прекратить эти муки».
Показания Хейло о якобы многочисленных антисоветских беседах между тремя опальными генералами Кулик на суде отверг. Григорий Иванович настаивал, что лишь однажды слышал от Гордова нечто антисоветское: «Гордое допустил злобное высказывание, что якобы при царе пахали сохой и лошадью, а при Советской власти пашут на людях». Припомнил Кулик, что Василий Николаевич однажды прошелся и насчет Иосифа Виссарионовича: «Сталин обеспечивает только себя, а нас не обеспечивает». Но на антиправительственный заговор все эти высказывания никак не тянули. Признал Кулик и разговоры с Паэгле, а также свою вину в том, что, «находясь в Смоленской области, я однажды зашел в дом учительницы, которая жила очень бедно и имела пять человек детей, я задал ей вопрос — почему она имеет такой маленький огородик в то время, когда кругом много свободной необработанной земли? Учительница мне ответила, что ей больше земли не дают, так как она приравнена к категории служащего, и в присутствии Паэгле я высказал возмущение в озлобленной форме на существующие у нас порядки по обработке земли». Повинился бывший маршал и в чересчур откровенных беседах с Петровым и Захаровым: «В начале 1945 года на квартире генерала армии Петрова, у которого находился генерал Захаров (маленький), во время выпивки зашел разговор, что Петров однажды послал Ворошилову вагон мебели и лошадь, но, несмотря на это, Петров дважды снимался и вместо него назначали других лиц. Мы тогда говорили о чести мундира и о занимаемом нами положении. От Петрова я вместе с Захаровым зашел к нему на квартиру, и во время выпивки я поднял тост за Жукова. Здесь же у нас зашел разговор о назначении Булганина первым заместителем Главкома. Мы высказали свое мнение, что Главкому необходим комиссар и, видимо, назначение Булганина с этим и связано».
Председательствующий генерал-лейтенант юстиции Чепцов зачитал показания Кулика, данные на предварительном следствии: «Петров высказал мне недовольство снятием его с должности командующего 4-м Украинским фронтом. Как говорил Петров, его — заслуженного генерала — Ставка проработала за то, что он позволил себе вывезти из Румынии для личного пользования мебель и другое имущество. При царском строе, по словам Петрова, такое обвинение генералу не предъявили бы.
Вскоре Захаров, проживавший этажом ниже, пригласил нас перейти в его квартиру. Мы согласились. Разговорившись, я стал жаловаться на несправедливое, на мой взгляд, отношение ко мне Сталина. В этой связи я заявил, что правительство изгоняет из Красной Армии лучшие командные кадры и заменяет их политическими работниками, не сведущими в военном деле. Из основных военных работников в руководстве армией оставался лишь один Жуков, но и его «отшивают», назначив первым заместителем наркома обороны Булганина, ничего не смыслящего в делах армии. Я поднял тост за Жукова, предложил группироваться вокруг него».
Григорий Иванович категорически отрицал, что предлагал группироваться (это уже походило на заговор) и что возмущался политработниками, ничего не смыслящими в военной науке. Говорил, что показания «были даны вынужденно» (вероятно, с применением тех же методов, что и в отношении Хейло). Признал Кулик только, что произнес тост за Жукова, так как считал, что «никого лучше Жукова нельзя найти на должность первого заместителя наркома обороны». Он честно заявил суду: «Я считал, что Жукова «отшили» люди, которые окружают Сталина, и конкретно я думал, что это сделал Берия. Этот вопрос о моем высказывании в отношении Жукова разбирался ЦК ВКП(б), Шкирятовым, и за это меня исключили из партии. У меня были хорошие отношения с Жуковым. Я его представил к выдвижению во время боевой операции на Халхин-Голе. Зная хорошо Жукова и его характер, я предполагал, что он мог допустить какую-нибудь резкость при разговоре со Сталиным, за что он и был снят. Я, конечно, виноват, что допустил такую критику, в этом моя вина.
Мой второй разговор с Жуковым имел место в то время, когда я был Главупраформом. Я также высказал Жукову свое сожаление, что не он был назначен первым заместителем наркома обороны, а Булганин. Я чувствовал, что Жуков очень переживает это обстоятельство».
Подтвердил Кулик и несколько антисоветских высказываний Гордова — насчет существования «правительственной кучки тиранов» и «черт знает, довели страну до нищего состояния». И в последнем слове Григорий Иванович покаялся, хотя, видно, чувствовал, что это его уже не спасет: «Я был озлоблен против Советского правительства и партии, чего не мог пережить как большевик, и это меня привело на скамью подсудимых. Я допускал антисоветские высказывания, в чем каюсь, но прошу меня понять, что врагом Советской власти я не был и Родину не предавал. Все время честно работал. Я каюсь и прошу суд поверить, что я в душе не враг, я случайно попал в это болото, которое меня затянуло, и я не мог выбраться из него. Я оказался политически близоруким и не сообщил своевременно о действиях Гордова и Рыбальченко».
Суд не поверил, и приговор его был предрешен. За измену Родине, за то, что, «являясь активным врагом Советской власти, группировался с враждебными элементами, был сторонником реставрации капитализма в СССР и вместе со своими сообщниками Гордовым и Рыбальченко высказывал угрозы по адресу руководителей ВКП(б) и Советского правительства» Военной коллегией Верховного Суда СССР бывший Маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик 24 августа 1950 года был приговорен к расстрелу. В ночь с 24-го на 25-е августа приговор был приведен в исполнение. Остается добавить, что, по ходатайству его вдовы Ольги Михайловской, тоже побывавшей в лагерях, полностью реабилитировали Кулика, восстановив в маршальском звании указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.
Что же привело Кулика к гибели? Думаю, два обстоятельства. Григорий Иванович был одним из немногочисленных советских военачальников, кто пытался воевать «не количеством», щадить солдатские жизни и не бросать их в безнадежные атаки. Определенное рациональное зерно было и в его предложениях использовать танки главным образом для непосредственной поддержки пехоты. Да и артиллерия на конной тяге в первые годы войны, когда еще не было поставленных по ленд-лизу «студебеккеров», была единственной реальной альтернативой для Красной Армии. Советские войска на протяжении всей войны уступали вермахту по уровню боевой подготовки и образования бойцов и командиров. В этих условиях для них более рациональной была бы стратегия истощения, а не сокрушения, более простые оборонительные, а не наступательные действия, использование танков не большими массами, которыми было очень трудно управлять на марше и в бою, а мелкими группами для непосредственной поддержки стрелков. Подобная стратегия и тактика не только уменьшили бы советские потери, но и, возможно, позволили бы быстрее выиграть войну. Однако Сталин и его маршалы твердо верили в стратегию сокрушения, которую проводили, не считаясь с потерями, стараясь буквально завалить противника трупами красноармейцев. Кулик здесь выглядел «белой вороной» и неизбежно должен был быть низвергнут с высот, на которые вознесся к 1940 году.
Последнее падение разжалованного маршала весной 45-го было связано с начавшейся кампанией против маршала Жукова. О близости Кулика и Жукова было хорошо известно, и неслучайно смещение Григория Ивановича с поста заместителя командующего Приволжского округа совпало со смещением Георгия Константиновича с поста главкома Сухопутных войск и его ссылкой во второстепенный Одесский округ. Сталин опасался, что Жуков может сгруппировать вокруг себя недовольных и обиженных генералов, и провел чистку как непосредственного Жуковского окружения, так и тех военачальников, кто с явной симпатией относился к Георгию Константиновичу. Среди последних оказался Кулик, давно уже впавший в немилость вождя. И Иосиф Виссарионович не пощадил «давнего друга».
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ ПАЛАЧ, ТЕХНОКРАТ, РЕФОРМАТОР
Лаврентий Павлович Берия был последним из расстрелянных маршалов. И, благодаря занимаемой должности, остался в народной памяти самым одиозным из них. В отличие от других товарищей по несчастью, о которых идет речь в этой книге, Лаврентий Павлович почти не выступал в роли полководца. Единственное исключение — его участие в битве за Кавказ в 1942–1943 годах в качестве представителя Ставки. Но орден Суворова 1-й степени, высшую полководческую награду, Берия получил в 1944 году не за это, а за «образцовое выполнение специального задания правительства» — организацию депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар и других народов Северного Кавказа и Крыма.
29 (а по старому стилю — 17) марта 1899 года в горном селении Мерхеули в Абхазии, недалеко от Сухуми, в семье Павле Берии и Марты Джакели родился сын Лаврентий. Отец был крестьянином, уроженцем Мингрелии, грузинской области, пограничной с Абхазией. Однако Павле оказался замешан в беспорядках, и ему пришлось переселиться в Мерхеули. Хоть и находилось село в Абхазии, но жили там одни мингрелы (теперь, после грузино-абхазской войны 1990-х годов, уже не живут). Это — особая этническая группа грузин, к которой собственно грузины относятся свысока. Марта тоже была мингрелка, но из дворян — приходилась дальней родственницей князьям Дадиани, прежним феодальным властителям Мингрелии. Однако род Джакели давно разорился, и Марта была столь же бедна, как и ее муж. Павле Берия крестьянствовал, но так и не выбился из нужды. Марта Джакели подрабатывала шитьем — и это постепенно стало главным средством существования для их семьи. Внуку Серго Марта потом рассказывала, что покорил ее, рано овдовевшую, Павле храбростью и красотой. К дочери и сыну от первого брака вскоре прибавилось трое детей. Но судьба всех троих сложилась несчастливо. Старший сын в два года умер от оспы. Дочь Анна после перенесенной болезни навсегда осталась глухонемой. Все надежды родители связывали со вторым сыном, Лаврентием. Чтобы дать ему образование, отец даже продал половину своего дома. Будущего шефа НКВД определили в Сухумское реальное училище. В 15 лет Лаврентий окончил его с отличием. Чтобы он смог поступить в Бакинское механико-строительное техническое училище, отцу пришлось продать вторую половину дома и переселиться в убогую хибару. Мальчик был талантлив, и Павле надеялся, что в жизни сын далеко пойдет. Ведь Лаврентий очень рано обнаружил способности к рисованию и интерес к архитектуре. Но стать архитектором ему не довелось. Еще в октябре 1915 года, как отмечал Берия в автобиографии, написанной 27 октября 1923 года, он с группой студентов Бакинского технического училища организовал нелегальный марксистский кружок, просуществовавший до Февральской революции. В марте 17-го Берия с несколькими товарищами организовал в училище большевистскую ячейку. В июне 1917 года его в качестве техника-практиканта армейской гидротехнической школы направляют на Румынский фронт. После развала фронта осенью Лаврентий возвращается в Баку, где в 1919 году заканчивает техническое училище. В автобиографии он писал: «Начиная с 1917 года, в Закавказье я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, которая перебрасывает меня с места на место, из условий легального существования партии (в 1918 г. в г. Баку) в нелегальное (19 и 20 гг.) и прерывается выездом моим в Грузию».
В 1919 году по заданию подпольной коммунистической партии Азербайджана Берия поступает на службу в контрразведку мусаватистского правительства. Позднее, на процессе 53-го года, этот факт расценили как предательство. Однако в архиве сохранилась объяснительная записка старого большевика И.П. Павлуновского, в 1919–1920 годах являвшегося заместителем начальника Особого отдела ВЧК, в 1926–1932 годах — председателем Закавказского ГПУ, а с 32-го года — заместителем наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Она датирована 25 июня 1937 года и адресована лично Сталину. Павлуновский писал, что перед назначением его на работу в Закавказье имел беседу с Дзержинским: «Т. Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью т. Берия при мусаватистах работал в мусаватистской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в какой мере не смущает и не настораживает против т. Берия, так как т. Берия работал в контрразведке с ведома ответственных т.т. закавказцев и что об этом знают он, Дзержинский и т. Серго Орджоникидзе». В Тифлисе Орджоникидзе подтвердил Павлуновскому, что Берия работал в мусаватистской контрразведке по поручению партии и об этом известно не только ему, Орджоникидзе, но и Кирову, Микояну и тогдашнему секретарю Кавказского бюро партии А.М. Назаретяну. Павлуновский заключил свою записку следующими словами: «Года два тому назад т. Серго как-то в разговоре сказал мне: а знаешь, что правые уклонисты и прочая шушера пытаются использовать в борьбе с т. Берия тот факт, что он работал в мусаватистской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет. Я спросил у Серго, а известно ли об этом т. Сталину. Т. Серго Орджоникидзе ответил, что об этом т. Сталину известно и что об этом он т. Сталину говорил».
В своей записке Павлуновский сообщил также об отношении Орджоникидзе к Берии: «В течение двух лет работы в Закавказье т. Орджоникидзе несколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит т. Берия как растущего работника, что из т. Берия выработается крупный работник и что такую характеристику т. Берия он, Серго, сообщил и т. Сталину». Интересно, что на судьбу самого Павлуновского эта записка никак не повлияла. Сталин методически уничтожал людей из окружения Орджоникидзе. В конце июня, буквально через пару дней после подачи записки о Берии, Павлуновский был на пленуме выведен из кандидатов в члены ЦК, исключен из партии, вскоре арестован и 30 октября 1937 году расстрелян. Очевидно, что у него не было никаких мотивов, чтобы искажать биографию Лаврентия Павловича или приукрашивать отношение к нему Орджоникидзе. Сталин же, несмотря на конфликт с Серго и самоубийство последнего, согласился с его характеристикой деловых качеств Берии. Иосиф Виссарионович всегда ценил Орджоникидзе как опытного хозяйственника и рекомендацию, данную Берии, воспринял очень серьезно. Тем более что о Лаврентии Павловиче хорошо отзывался и Микоян. Через два месяца после записки Павлуновского Берия был вызван в Москву и назначен заместителем Ежова.
Сам Берия никогда не утаивал факт своей службы в мусаватистской контрразведке. В частности, в автобиографии 1923 года можно прочесть: «Осенью того же 1919 года от партии Гуммет поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Мусеви. Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Мусеви, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю в Бакинской таможне». Из контекста этого сообщения становится ясно, что в контрразведке Берия работал как тайный большевистский агент, и вынужден был спешно покинуть службу в контрразведке после разоблачения и гибели своего сообщника.
В 1920 году Лаврентия Павловича направили на нелегальную работу в Грузию, где у власти находилось меньшевистское правительство. Берия выехал туда по фальшивым документам на имя Лакербайя. Арестованный после Второй мировой войны грузинский эмигрант Ш. Беришвили, живший в Париже, во время следствия в 53-м году показал: «Когда однажды, в 1928 или 1929 году, я и мой дядя Ной Рамишвили — бывший министр внутренних дел при меньшевиках — прочитали в тбилисской газете «Коммунист» (а газету мы выписывали) о назначении Берии на какую-то должность, то Рамишвили вспомнил в моем присутствии об аресте Берии в 1920 году меньшевистским правительством. Рамишвили сказал, что Берия был арестован начальником особого отряда Меки Кедия в 1920 году, когда Берия из Баку приехал в Грузию по какому-то заданию от большевиков. Рамишвили тогда же сказал мне, что Берия после ареста все рассказал ему о своих заданиях и связях. Я удивился, а Рамишвили велел мне напомнить об этом, когда к нему придет Кедия Меки. Последний к нам вообще приходил часто.
Когда к нам пришел Меки Кедия, то мы спросили его об аресте Берии в 1920 году и о том, как Берия вел себя на допросах. Кедия подтвердил, что Берия после ареста плакал и всех выдал, после чего был освобожден».
Показания Беришвили как будто подтверждает и двоюродный брат самого Лаврентия Павловича Герасим Берия. На его квартире Лаврентий останавливался в 1920 году, когда приехал в Тифлис. Герасим сообщил следователям, что нашел брата в тюрьме под его настоящей фамилией, а не под вымышленной Лакербайя. Он также подтвердил, что на его квартире после ареста Лаврентия особым отрядом был произведен обыск.
Интересно, а что писал об этом эпизоде сам Лаврентий Павлович? В автобиографии 1923 года о пребывании в Грузии в 1920 году рассказано так: «С первых же дней после Апрельского переворота в Азербайджане (так коммунисты именовали занятие Баку частями 11-й советской армии. — Б. С.) краевым комитетом компартии большевиков от регистрода (регистрационного, т. е. разведывательного отдела. — Б.С.) Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. В Тифлисе связываюсь с краевым комитетом в лице тов. Амаяка Назаретяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрод г. Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам Г. Стуруа с Ноем Жордания (главой грузинского правительства. — Б.С.) освобождают всех с предложением в 3-дневный срок покинуть Грузию».
Далее Берия сообщил, что ему тогда удалось остаться в Грузии и под вымышленной фамилией Лакербайя поступить на службу в представительство РСФСР, которое возглавлял Киров. В мае 20-го Берия выехал в Баку за директивами в связи с заключением мирного договора между Россией и Грузией (большевики соблюдали его всего несколько месяцев), но на обратном пути его арестовали. Кирову не удалось вызволить Берию, и Лаврентия Павловича отправили в Кутаисскую тюрьму, отличавшуюся суровым режимом. Он провел там больше двух месяцев. В августе в результате голодовки политзаключенных Берия и другие заключенные большевики были освобождены и в августе 1920 года высланы в Баку. Там Лаврентий Павлович сразу же был назначен управляющим делами ЦК компартии Азербайджана. Вряд ли ему доверили бы столь ответственный пост, если бы имелись сведения о его недостойном поведении в тюрьме.
Замечу, что Герасим Берия наверняка имел в виду первый арест брата, когда тот действительно содержался в Тифлисской тюрьме под своей настоящей фамилией. В Кутаисской же тюрьме Лаврентий Павлович находился под именем Лакербайя и так и не был опознан грузинскими властями. Предположение же следователей в 1953 году, что Берия был освобожден из тюрьмы потому, что выдал грузинской контрразведке сеть советской агентуры, вряд ли основательно. Ведь первый раз его арестовали вместе с большой группой членов ЦК Грузинской компартии, но быстро освободили благодаря хлопотам Г.Ф. Стуруа, представлявшего советскую сторону в Грузии. Во второй же раз Лаврентия Павловича взяли тогда, когда он еще не успел добраться до Тифлиса, и в Кутаисской тюрьме брат навещать его никак не мог. Очевидно, Шалва Беришвили, уже находившийся в заключении, готов был дать необходимые следователям показания против Берии и вольно или невольно соединил два ареста будущего шефа НКВД в один.
Кроме того, возникает вопрос, почему грузинские эмигранты не использовали впоследствии против Берии имевшийся на него компрометирующий материал? Если верить Беришвили, Лаврентий Павлович выдал всю свою агентуру, а этот факт мог положить конец его чекистской и партийной карьере. Однако грузинские меньшевики никак не пытались шантажировать могущественного главу закавказских чекистов, а впоследствии — руководителя Закавказской парторганизации. А ведь могли хотя бы для того, чтобы облегчить участь своих арестованных товарищей. Но никаких фактов такого рода даже весьма пристрастному следствию в 1953 году установить не удалось. Не логичнее ли предположить, что ничего против Берии у бывшего шефа грузинского МВД Ноя Рамишвили и не было?
Кстати, хочу обратить внимание читателей, что меньшевистская Грузия была все-таки демократическим государством, и осудить человека даже на тюремное заключение, а тем более на смерть, там можно было, лишь имея против него веские улики. Такими уликами против Берии грузинская контрразведка, вероятно, не обладала. К тому же мнимый Лакербайя был, как-никак, сотрудником советской дипломатической миссии, а с Советской Россией в то время поддерживался хрупкий, но мир. Этим обстоятельством, а также вызвавшей большой общественный резонанс голодовкой политзаключенных и объясняется, скорее всего, освобождение Лаврентия Павловича из Кутаисской тюрьмы.
Насчет участия самого Лаврентия Павловича в знаменитой голодовке сохранилось не слишком лестное для него свидетельство. В характеристике, данной Берии в 20-е годы комиссией ЦК компартии Грузии, отмечалось: «В тюрьме не подчинялся постановлениям парторганизации и проявлял трусость. К примеру: не принимал участия во время объявления голодовки коммунистов». Но безоговорочно верить этому утверждению нельзя. Мы не знаем, следствием каких интриг и борьбы за власть в недрах грузинского ГПУ стала вышеуказанная характеристика, где Берия также обвинялся в уклонах к левизне, бюрократизму и карьеризму и признавалось невозможным использовать его на более ответственной работе.
Ранее же Лаврентий Павлович получил в Баку в высшей степени превосходную характеристику. Этому предшествовали следующие события, изложенные в автобиографии: «На этой должности (управляющего делами ЦК компартии Азербайджана. — Б. С.) я остаюсь до октября 1920 года, после чего Центральным Комитетом назначен был ответственным секретарем Чрезвычайной Комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я и т. Саркис (председатель Комиссии) проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации Комиссии (февраль 1921 года). С окончанием работы в Комиссии мне удается упросить Центральный Комитет дать возможность продолжить образование в институте, где к тому времени я числился студентом (со дня его открытия в 1920 году). Согласно моим просьбам ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через БакСовет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требование в Кавбюро откомандировать меня на работу в Тифлис, своим постановлением назначает меня в АзЧека заместителем начальника секретно-оперативного отдела (апрель 1921 г.) и уже вскоре — начальником секретнооперативного отдела — заместителем председателя АзЧека». В 1923 году секретарь ЦК Азербайджанской компартии Рухулла Ахундов выдал Берии удостоверение-характеристику: «Удостоверение дано сие ответственному партийному работнику тов. Берии Л.П. в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма. Работая управделами ЦК Азербайджанской компартии, чрезвычайным уполномоченным регистро-да Кавказского фронта при Реввоенсовете 11-й армии и ответственным секретарем Чрезвычайной Комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих, он с присущей ему энергией, настойчивостью выполнял все задания, возложенные партией, дав блестящие результаты своей разносторонней деятельности, что следует отметить как лучшего, ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве». Автор характеристики был арестован и расстрелян в 1938 году, в бытность Берии во главе коммунистов Грузии. Лаврентий Павлович не смог или не захотел чем-либо помочь несчаст-ному.
Столь же лестную характеристику дал Берии в 1924 году первый секретарь Закавказского крайкома партии А.Ф. Мясников: «Берия — интеллигент. Заявил себя в Баку как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретнооперативной части. Ныне начсот (начальник секретнооперативной части. — Б.С.) Грузинской ЧК».
В Азербайджанской ЧК Берия трудился не покладая рук. С гордостью отмечал в автобиографии, что активно участвовал в разгроме мусульманской организации «Иттихат» и ликвидации Закавказской организации правых эсеров. За эту последнюю операцию Лаврентий Павлович 6 февраля 1923 года был отмечен специальным приказом коллегии ВЧК: «За энергичное и умелое проведение ликвидации Закавказской организации партии социал-революционеров начальник секретно-оперативной части Бакинского губотдела тов. Берия и начальник секретного отдела тов. Иоссем награждаются оружием — револьвером системы «Браунинг» с надписями, о чем занести в их послужные списки». Кроме того, 12 сентября 1922 года Совнарком Азербайджана отметил заслуги Берии похвальным листом.
В Грузии, где с осени 22-го Лаврентий Павлович возглавлял секретно-оперативную часть и являлся заместителем начальника местного ЧК, он тоже неплохо проявил себя. В автобиографии Берия отмечал: «Принимая во внимание всю серьезность работы и большой объект, отдаю таковой все свои знания и время, в результате в сравнительно короткий срок удается достигнуть серьезных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы: такова ликвидация бандитизма, принявшего было грандиозные размеры в Грузии, и разгром меньшевистской организации и вообще антисоветских партий, несмотря на чрезвычайную закон-спирированность. Результаты достигнутой работы отмечены Центральным Комитетом и ЦИКом Грузии в виде награждения меня орденом Красного Знамени». Особенно ярко проявился сыскной талант Берии при подавлении меньшевистского восстания в январе 1924 года. Вот что рассказывает об этом со слов отца сын Лаврентия Павловича Серго: «В 1924 году отец, заместитель начальника Грузинской ЧК, узнает, причем заблаговременно, о том, что готовится меньшевистское восстание. Учитывая масштаб будущих выступлений, отец предлагает любыми политическими мерами предотвратить кровопролитие. Орджоникидзе (в честь которого и был назван Серго Лаврентьевич. — Б. С.), в свою очередь, передает его информацию в Москву. Ситуация тревожная: разведке достоверно известно, что разработан полный план восстания, готовятся отряды, создаются арсеналы. Выступления вспыхнут по всей республике, и пусть они в действительности не будут носить характера всенародного восстания, но выглядеть это будет именно так.
Отец понимал, что эта авантюра изначально обречена на провал, на большие человеческие жертвы. Необходимы были энергичные меры, которые бы позволили предотвратить кровопролитие. И тогда он предложил пойти на такой шаг — допустить утечку полученной информации. Его предложение сводилось к тому, чтобы сами меньшевистские руководители узнали из достоверных источников: Грузинская ЧК располагает полной информацией о готовящемся восстании, а следовательно, надеяться на успех бессмысленно. Орджоникидзе, видимо, получив согласие Москвы, не возражал: в той непростой обстановке это было единственно верным решением. Но меньшевики этой информации не поверили и расценили ее всего лишь как провокацию.
В Грузию был направлен один из лидеров меньшевистского движения, руководитель национальной гвардии Джугели. О его переброске отец узнал заблаговременно от своих разведчиков и, разумеется, принял меры: Валико Джугели был взят под наблюдение с момента перехода границы. Но всего лишь под наблюдение — арестовывать одного из влиятельных лидеров меньшевиков не спешили. Само пребывание Джугели в Грузии решено было использовать для дела. По своим каналам отец предупредил Джугели, что для Грузинской ЧК его переход границы не секрет и ему предоставлена возможность самому убедиться, что восстание обречено на провал.
К сожалению, и эта информация была расценена как провокация чекистов. Джугели решил, что ГрузЧК просто боится массовых выступлений в республике (так оно во многом и было. — Б.С.) и неспособна их предотвратить, поэтому пытается любыми средствами убедить меньшевистское руководство в обратном.
Джугели все же был арестован, но из-за досадной случайности — его опознал на улице кто-то из старых знакомых — его официально задержали. Уже в тюрьме Джугели ознакомился с материалами, которыми располагала разведка ГрузЧК, и он написал письмо, в котором убеждал соратников отказаться от выступления. Ни за границей, ни в самой Грузии к нему не прислушались. Восстание меньшевики все же организовали, но, как и следовало ожидать, армия его подавила, а народ понес бессмысленные жертвы, которых вполне можно было избежать. Если бы Орджоникидзе вмешался, кровопролития еще можно было не допустить, потому что в первые же часы все руководители восстания были арестованы, склады с оружием захвачены. По сути, армия громила неуправляемых и безоружных людей».
Казалось бы, сыну выгодно представить отца в выгодном свете. Вот и придумал красивую сказку про Лаврентия Павловича — гуманиста, всеми силами стремившегося не допустить напрасного кровопролития. Тем более что существуют слухи (только слухи, документов на сей счет до сих пор не опубликовано), будто как раз своей жестокостью при подавлении грузинского восстания Берия заслужил внимание и благосклонность Сталина. Однако существует документ, который заставляет с большим доверием отнестись к сообщению Серго Лаврентьевича. В конце уже цитировавшейся автобиографии 1923 года, написанной накануне восстания, Берия просит ЦК предоставить ему возможность продолжить образование в техническом институте, поскольку видит свое призвание именно в этой отрасли знаний и имеет уже законченное специальное техническое образование и сможет отдать свой опыт и знания советскому строительству именно в этой области, а партия сможет после завершения учебы использовать его там, где сочтет нужным. Дело в том, что к моменту своего отъезда из Баку в Тифлис в 22-м году Лаврентий Павлович успел закончить два курса Бакинского технического института, в который было преобразовано прежнее техническое училище в 1920 году. Учился Берия, надо полагать, достаточно формально, поскольку был поглощен работой в ЧК и ЦК, но экзамены и зачеты видному чекисту ставили весьма либерально. В 1921 году Лаврентия Павловича даже собирались командировать в Бельгию для изучения технологии нефтедобычи, но потом передумали и направили на оперативно-чекистскую работу, где он к концу 23-го достиг немалых успехов. И вдруг Берию охватывает тяга к техническим знаниям с вероятным последующим переходом на хозяйственную работу. Ради этого он готов оставить так успешно начавшуюся чекистскую карьеру. Не странно ли? Думаю, что единственное логичное объяснение здесь следующее. Лаврентий Павлович осенью 23-го знал о готовящемся восстании и не сомневался, что оно будет потоплено в крови. Вероятно, ему не хотелось участвовать в бессмысленном уничтожении земляков-грузин. Поэтому и пытался предотвратить выступление, хотя и понимал, что шансов на это мало: не было у меныпе-виков доверия к чекистам. А заодно пробовал вернуться в Баку в институт, чтобы не участвовать в будущей расправе над повстанцами. Не получилось.
Если бы старшие товарищи удовлетворили тогда просьбу Лаврентия Павловича, его судьба сложилась бы гораздо счастливее. Стал бы Берия со временем видным руководителем нефтяной промышленности, со временем, наверное, дорос бы до заместителя или даже первого заместителя главы правительства, а во времена Брежнева тихо ушел на покой персональным пенсионером союзного значения. Не было бы рокового выстрела в бетонном бункере штаба Московского военного округа в 53-м, завершившего его жизнь, но не было бы в той жизни и руководства карательным ведомством после Ежова и атомным проектом. Не стал бы Берия маршалом и не вошел бы в Большую Историю, пусть, по мнению многих, и со знаком минус.
Рискну высказать и совсем крамольную мысль. Лаврентий Павлович понимал, что чекистская работа — дело грязное, и у молодого студента в ту пору не очень лежала к ней душа. Вот и попытался перейти на работу более чистую, к которой имел склонность еще до революции. Но стать инженером-нефтяником не удалось. А потом власть развратила юношу, да и выйти из системы он уже не мог. А когда попытался в 53-м эту систему реформировать, слишком поздно понял, что плата за выход — жизнь.
С несостоявшейся поездкой в Бельгию связана женитьба Берии. Вот что рассказала об этом в годы перестройки его вдова Нина Теймуразовна Гегечкори: «Я родилась в семье бедняка. Особенно трудно стало матери после смерти отца. Росла я в семье родственника — Александра Гегечкори, который взял меня к себе, чтобы помочь моей маме. Жили мы тогда в Кутаиси, где я училась в начальной женской школе. За участие в революционной деятельности Саша часто сидел в тюрьме, и его жена Вера ходила встречаться с ним. Я была еще маленькая, мне все было интересно, и я всегда бегала с Верой в тюрьму на эти свидания. Между прочим, тогда с заключенными обращались хорошо (это свидетельство, очевидно, противоречит утверждению самого Берии в автобиографии 23-го года, будто в Кутаисской тюрьме были невыносимые условия. — Б.С.). Мой будущий муж сидел в одной камере с Сашей. Я не обратила на него внимания, а он меня, оказывается, запомнил.
После установления Советской власти в Грузии Сашу, активного участника революции, перевели в Тбилиси, избрали председателем Тбилисского ревкома. Я переехала вместе с ними. К тому времени я была уже взрослой женщиной, отношения с матерью (имеется в виду приемная мать — жена Саши Вера. — Б. С.) у меня не сложились.
Помню, у меня была единственная пара хороших туфель, но Вера не разрешала мне их надевать каждый день, чтобы они подольше носились. Так что в школу я ходила в старых обносках, старалась не ходить по людным улицам — так было стыдно своей бедной одежды.
В первые дни установления Советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовала в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного брандспойта, попало и мне — вымокла с головы до ног. Мокрая, я прибежала домой, а жена Саши Вера спрашивает: «Что случилось?» Я рассказала, как дело было. Вера схватила ремень и хорошенько меня отлупила, приговаривая: «Ты живешь в семье Саши Гегечкори, а участвуешь в демонстрациях против него?»
Однажды по дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления Советской власти в Грузии он часто ходил к Саше, и я его уже неплохо знала. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал:
«Хочешь не хочешь, но мы обязательно должны встретиться и поговорить».
Я согласилась, и позже мы встретились в тбилисском парке Недзаладеви. В том районе жили моя сестра и зять, и я хорошо знала парк.
Сели мы на скамеечку. На Лаврентии было черное пальто и студенческая фуражка. Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж.
Тогда мне было шестнадцать с половиной лет. Лаврентию же исполнилось двадцать два года.
Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто единственное требование — Лаврентий должен жениться.
Я подумала и согласилась — чем жить в чужом доме, пусть даже с родственниками, лучше выйти замуж, создать собственную семью. Так, никому ничего не сказав, я вышла замуж за Лаврентия. И сразу же поползли слухи, будто Лаврентий похитил меня. Нет, ничего подобного не было. Я вышла за него по собственному желанию».
Для Нины Теймуразовны это, несомненно, был брак по расчету. Хоть и из дворянского рода была Нина, но бедность давно уже заставила позабыть аристократические предрассудки. К тому же после революции дворянское происхождение требовалось скрывать, а не афишировать. Да и Лаврентий Павлович, похоже, женился не только под влиянием романтического чувства, но и исходя из трезвой оценки реальности: для поездки за границу срочно требовалось обзавестись супругой. Может быть, Берия в чем-то тяготился этим браком и оттого часто заводил мимолетные связи на стороне?
В Тифлисе Берия в августе 1924 года возглавил секретно-оперативную часть полномочного представителя ОГПУ в Закавказской Федерации, в 1927 году стал председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ Закавказья, а в 1929 году возглавил, наряду с грузинскими, и всех закавказских чекистов, сделавшись одновременно полномочным представителем ОГПУ по Закавказью. На высоких чекистских постах Лаврентий Павлович оставался до ноября 1931 года, когда его сделали первым секретарем компартии Грузии и вторым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). На следующий год он стал един в трех лицах, возглавив парторганизации Закавказья, Грузии и Тбилиси. Тогда же, в 1932 году, по случаю десятилетия Грузинской ЧК председатель ОГПУ В.М. Менжинский издал специальный приказ, где с большим удовлетворением отметил, что «огромная напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под бессменным руководством тов. Берии, сумевшим с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи, и в то же время личным примером заражать сотрудников, передавая им свой организационный опыт и оперативные навыки, воспитывая их в безоговорочной преданности Коммунистической партии и ее Центральному Комитету». К ордену Красного Знамени Грузинской ССР на груди Лаврентия Павловича добавились такие же ордена РСФСР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В 1934 году на XVII съезде партии его сразу же избирают полноправным членом ЦК.
Когда познакомились Берия и Сталин, достоверно неизвестно. Некоторые историки относят это событие ко времени подавления грузинского восстания 24-го года. Сын Лаврентия Павловича Серго о времени знакомства отца со Сталиным ничего не пишет, отмечает только тот очевидный факт, что «глава партии и государства санкционировал его назначение на пост руководителя Грузии и последующий перевод в Москву». Неясно, однако, знал ли Иосиф Виссарионович Берию к 1931 году лично или полагался на рекомендации своих соратников — Орджоникидзе и Микояна. Скорее последнее, ведь тот же Серго Лаврентьевич утверждает, что уже в бытность главой коммунистов Закавказья отец «еще при жизни Серго Орджоникидзе направил через него ряд писем Сталину, в которых не скрывал своей позиции: НКВД ведет планомерное уничтожение грузинской интеллигенции, грузинского народа». Раз письма вождю Лаврентию Павловичу приходилось передавать только при посредничестве члена Политбюро Орджоникидзе, то скорее всего непосредственного личного контакта, а тем более тесных, доверительных отношений между Берией и Сталиным еще не существовало. Они появились только с переездом Лаврентия Павловича в Москву. Примечательно, что этот переезд произошел уже после конфликта Сталина и Орджоникидзе и самоубийства последнего в феврале 37-го. Значит, здесь сыграл свою роль и другой покровитель Берии — Анастас Иванович Микоян, вместе с которым они работали в начале 20-х годов. Именно Микоян курировал НКВД в бытность главой органов Ежова и скорее всего предложил Сталину подходящую замену для чересчур активного и грозящего стать неуправляемым «стального наркома». Провинциал, не имевший прочных связей в центре и в аппарате НКВД, но с опытом чекистской работы, Берия оказался вполне подходящей кандидатурой.
В Закавказье Лаврентий Павлович принял активное участие в терроре 37–38 годов, широко применял санкционированное Ежовым и Сталиным избиение подследственных. На февральско-мартовском Пленуме 1937 года он сообщил, что только за последний год в Грузию вернулось почти полторы тысячи меньшевиков, дашнаков и мусаватистов, причем «за исключением отдельных единиц, большинство из возвращающихся остаются врагами Советской власти, являются лицами, которые организуют контрреволюционную, вредительскую, шпионскую, диверсионную работу. Мы знаем, что с ними нужно поступить, как с врагами».
Но вскоре на долю Берии выпала задача умерить размах репрессий. В августе 38-го Лаврентия Павловича назначили первым заместителем наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова, вместо М.П. Фриновского, поставленного во главе второстепенного Наркомата Военно-Морского Флота. И Михаилу Петровичу, и Николаю Ивановичу вскоре действительно предстояло «потонуть» (недаром Ежов незадолго до прихода Берии был назначен наркомом водного транспорта). Прежние руководители НКВД сделали отчаянную попытку свалить Лаврентия Павловича. В покаянном письме Сталину в конце ноября, уже после своего удаления из НКВД, Ежов признался: «Переживал назначение т. Берия. Видел в этом элемент недоверия к себе, однако думал, все пройдет. Искренне считал и считаю его крупным работником, я полагал, что он может занять пост наркома. Думал, что его назначение — подготовка моего освобождения (правильно думал! — Б. С.). Фриновский советовал: «Держать крепко вожжи в руках. Не хандрить, а взяться крепко за аппарат, чтобы он не двоил между т. Берия и мной. Не допускать людей т. Берия в аппарат». Фриновский в начале 30-х работал председателем ГПУ Азербайджана и часто конфликтовал с главой Закавказского ГПУ Берией. Теперь Михаил Петрович предупреждал Ежова, какой опасный это враг. Решено было представить Сталину компрометирующий материал на Берию — данные о его службе в мусаватистской контрразведке. Однако Сталин уже был в курсе, как обстояло дело в действительности (вспомним письмо Павлуновского), да и судьбу Ежова он давно предопределил. Поняв, что его песенка спета, Николай Иванович, по русскому обычаю, ушел в запой. 23 ноября 1938 года он подал прошение об отставке. 24 ноября Политбюро освободило Ежова от должности наркома внутренних дел, сохранив за ним уже ничего не значившие посты секретаря ЦК, председателя Комитета Партийного Контроля и наркома водного транспорта. В апреле 39-го Николая Ивановича арестовали, а в феврале 40-го арестовали. Преемником Ежова стал Берия.
Лаврентий Павлович начал с постановки на ключевые посты в Наркомате своих людей. По его инициативе еще 17 ноября 1938 года, когда Ежов оставался формальным главой НКВД, было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об аресте, прокурорском надзоре и ведении следствия». 1 декабря по представлению Берии Совнарком и ЦК приняли еще одно постановление, касавшееся НКВД, — «О порядке согласования арестов». Но не стоит преувеличивать роль Лаврентия Павловича. В данном случае он выполнял волю Сталина, решившего уменьшить масштаб репрессий, поток которых уже начинал выходить из-под его контроля и грозил затопить страну (Ежов незадолго до своего падения предлагал арестовать половину членов партии как скрытых «врагов народа»). Однако вспомним, что в 53-м году, при своем возвращении в МВД, Берия, уже после смерти Сталина, провел мероприятия по реабилитации ранее осужденных по политическим статьям и упразднению внесудебных органов, в частности Особого совещания при МВД СССР (впервые он предлагал сделать это еще в 45-м). Думаю, что Лаврентий Павлович действительно был противником «большого террора», считая его делом нерациональным и вредным.
Члены ЦК и правительства в одночасье прозрели. В постановлении от 17 ноября утверждалось: «Массовые операции по разгрому и выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные НКВД в 1937–1938 годах, при упрощенном ведении следствия и суда не могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и прокуратуры. Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической агентурно-осведомительной работы и так вошли во вкус упрощенного порядка производства дел, что до самого последнего времени возбуждают вопросы о предоставлении им так называемых «лимитов» для производства массовых арестов». Был осужден сам упрощенный порядок расследования, когда «следователь ограничивается получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботится о подкреплении этого признания необходимыми документальными данными», а «показания арестованного записываются следователями в виде заметок, а затем, спустя продолжительное время, составляется общий протокол, причем совершенно не выполняется требование о дословной, по возможности, фиксации показаний арестованного. Очень часто протокол допроса не составляется до тех пор, пока арестованный не признается в совершенных им преступлениях». Теперь НКВД и прокуратуре запрещалось осуществлять массовые операции по арестам и выселению. Любые аресты разрешалось производить только с санкции прокуратуры или по постановлению суда. Ликвидировались также судебные тройки, выносившие приговоры по упрощенной процедуре без участия защиты и обвинения. Все дела от троек передавались в суды или в Особое совещание при НКВД СССР. От следователей потребовали соблюдения уголовнопроцессуальных норм, а именно: завершать расследование в установленные законом сроки, допрашивать арестованных не позднее чем через 24 часа после их задержания и составлять протокол сразу же после окончания допроса.
26 ноября одним из первых приказов Берия в качестве главы НКВД подписал приказ о порядке осуществления постановления от 17 ноября. В рамках этого приказа из тюрем было освобождено немало арестованных, на которых не было других улик, кроме выбитых следователями признаний, а также многие из тех, кто так и не признал свою вину. В 1939 году Берия издал ряд приказов о снятии с должностей и преданию суду работников НКВД, виновных в фальсификации уголовных дел. 9 ноября 1939 года появился приказ «О недостатках в следственной работе органов НКВД», предписывавший освободить из-под стражи всех незаконно арестованных и установить строгий контроль за соблюдением уголовно-процессуальных норм. Разумеется, репрессии не коснулись бериевских выдвиженцев, до этого активно участвовавших в проведении «ежовщины» — братьев Амаяка и Богдана Кобуловых, занявших ответственные посты на Украине и в Москве, С.А. Гоглидзе, ставшего главой Ленинградского НКВД, нового наркома внутренних дел Грузии А.А. Папавы, В.Н. Меркулова, ставшего первым заместителем Лаврентия Павловича и начальником Главного управления государственной безопасности, а с января 41-го — наркомом Государственной безопасности СССР, П.Я. Ме-шика, назначенного помощником начальника Следственной части НКВД СССР, а позднее — главой украинских чекистов, В.Г. Деканозова, ставшего начальником Иностранного отдела НКВД и некоторых других, работавших вместе с Берией в Закавказье. Сам Лаврентий Павлович после XVIII съезда партии в марте 1939 года был избран кандидатом в члены Политбюро.
Точные данные о числе освобожденных Из тюрем в 1938–1941 годах в рамках так называемой «бериевской оттепели» до сих пор не опубликованы, как и о числе арестованных в этот же период по политическим обвинениям. Серго Берия полагает, что первых было 750–800 тысяч, вторых — 20–25 тысяч. В точности этих цифр позволительно усомниться. Скорее всего порядок был не таким, что выпускали сотни тысяч, а сажали лишь десятки тысяч. Во всяком случае, в период с 1 января 1939 года по 1 января 1941 года численность осужденных за контрреволюционную деятельность, находящихся в исправительно-трудовых лагерях, сократилась только на 34 тысячи человек. До этого за один только 1938 год она возросла почти в два с половиной раза — с 185 до 454 тысяч. Число заключенных в тюрьмах сначала тоже уменьшилось — с января по сентябрь 39-го с 351 до 178 тысяч. Зато уже с сентября их число вновь стало расти — пошел поток арестованных с «освобожденных территорий» — Западной Украины и Западной Белоруссии, а позднее — Прибалтики и Бессарабии. Кроме того, в тюрьмы с лета 40-го стали помещать заключенных на срок от 2 до 4 месяцев за опоздание на работу, выпуск недоброкачественной продукции, прогулы и т. п. Таких к 1 декабря 1940 года насчитывалось 133 тысячи. В результате в январе 41-го тюремное население достигло максимума — 488 тысяч, чтобы опять сократиться к маю до 333 тысяч. К тому времени многих арестованных успели осудить с помощью особых троек и отправить в лагеря. Всего же из исправительно-трудовых лагерей в 1939–1940 годах было освобождено 540 тысяч заключенных. Для сравнения: в 1937–1938 годах лагеря покинуло 644 тысячи человек. Наибольшее число зэков обрело свободу в 41-м году — 624 тысячи, однако здесь мощным фактором явилась война. Значительная часть мужчин из лагерей досрочно освободили, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несла Красная Армия на фронте. Кроме того, большинство освобожденных имело не политические, а уголовные статьи, и освобождалось в связи с истечением срока заключения, а не из-за реабилитации или амнистии. О числе реабилитированных в тот период узников имеются лишь отрывочные сведения. Так, на 1 января 1941 года на Колыме находилось 34 тыс. освобожденных из лагерей, из них 3 тысячи считались полностью реабилитированными. Ясно, однако, что общее число реабилитированных и амнистированных могло составить десятки, но никак не сотни тысяч человек.
Вот количество расстрелянных с приходом Берии действительно уменьшилось на порядок. За весь период 1921–1953 годов к смертной казни по политическим статьям было приговорено 786 098 человек. Из этого числа на 1937–1938 годы приходится 681 692 расстрелянных, из них 631 897— по приговорам внесудебных троек. Таким образом, почти половина из 1 372 тыс. арестованных в период «ежовщины» была казнена. А всего за два с небольшим года пребывания в НКВД печальной памяти Николая Ивановича было расстреляно почти семь восьмых от общего числа приговоренных к смерти по политическим статьям за три десятилетия сталинского правления. Но наивно было бы думать, что в прекращении террора заслуга Берия. Решения принимал не он, а Сталин. Однако столь же неосновательно за позднейшие репрессии возлагать ответственность на одного Лаврентия Павловича. Ее с ним по справедливости должны разделить Сталин и другие члены высшего политического руководства страны.
В целом «бериевская оттепель» не повлияла сколько-нибудь существенным образом на численность заключенных, в том числе и политических. Тем не менее освобождение нескольких тысяч уцелевших при Ежове представителей партийной и военной элиты отразилось в общественном сознании и породило миф о массовом освобождении политических из лагерей. На самом деле более или менее значительное количество освобожденных политических заключенных было лишь из тюрем, где сидели те, кому еще не успели вынести приговор. Отменять прежние судебные и внесудебные решения Сталин, за редкими исключениями, не позволил, чем и объясняется ограниченный характер «бериевской оттепели».
Среди жертв незаконных репрессий при Берии было немало выдающихся людей — режиссер В.Э. Мейерхольд, журналист М.Е. Кольцов, писатель И.Э. Бабель и др. Были расстреляны также крупные партийные руководители — Р.И. Эйхе, С.В. Косиор, В.Я. Чубарь. А.В. Косарев, М.С. Кедров и др. (часть из них была арестована еще при Ежове). Справедливости ради следует сказать, что деятели такого уровня репрессировались по инициативе Сталина, а не Ежова или Берии. НКВД лишь по поручению Иосифа Виссарионовича фабриковало материал против тех, на кого он указывал.
К вновь арестованным применялись те же незаконные методы следствия, которые ЦК формально осудило в ноябре 38-го. В мае 39-го был арестован старый большевик М.С. Кедров, которому предъявили вымышленные обвинения в шпионаже, сотрудничестве с охранным отделением и проведении вредительства в годы Гражданской войны. Кедров безуспешно взывал к ЦК, настаивая на своей невиновности. 19 августа 39-го года он писал, не зная, что его письма не пойдут дальше Следственной части НКВД: «Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку.
Я невинно страдаю. Поверьте. Время покажет. Я не агент-провокатор царской охранки, не шпион, не член антисоветской организации. Пятый месяц тщетно прошу на каждом допросе предъявить мне конкретные обвинения, чтобы я мог их опровергнуть, тщетно прошу следователей записать факты из моей жизни, опровергающие указанные выше обвинения. Напрасно.
И с первых же дней нахождения моего в суровой Сухановской тюрьме начались репрессии: ограничение времени сна 1–2 часами в сутки, лишение выписок продуктов, книг, прогулок, даже отказ в медпомощи и лекарствах, несмотря на мое тяжелое заболевание сердца.
С переводом меня в Лефортовскую тюрьму круг репрессий расширялся. Меня заставляли стоять часами, до изнеможения, в безмолвии в кабинетах следователей, ставили, как школьника, лицом в угол, трясли за шиворот. Хватали за бороду, дважды сажали в карцер, вернее, погреб. Совершенно сырое и холодное помещение с замурованным наглухо окном. С начала августа следователи гр. гр. Мешик, Адамов, Албогачиев начали меня бить. На трех допросах меня били по щекам за то, что я заявляю, что я честный большевик и что никаких фактов моей преступной работы у них нет и не может быть».
Кедрову еще повезло, что его не били резиновыми дубинками. А вот Мейерхольду не повезло. Всемирно известный режиссер в письмах Берии, Молотову и в прокуратуру подробно рассказал, как его били. Прокурору А.Я. Вышинскому Всеволод Эмильевич подробно описал, как проходили истязания: «Меня клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам (сверху, с большой силой) и по местам от колен до верхних частей ног; когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу» Александра Януарьевича, как и Лаврентия Павловича, подобным удивить было трудно. На суде, состоявшемся 1 февраля 1940 года, Мейерхольд утверждал, что «врал на себя благодаря лишь тому, что меня избивали всего резиновой палкой. Я решил тогда врать и пойти на костер».
Лаврентию Павловичу предстояло отправить «на костер» не сотни тысяч, как при Ежове, но многие тысячи невинных людей. Берия творил добро, отнюдь не порывая со злом. Да и странно было бы ожидать увидеть в большевике с более чем 20-летним стажем и кадровом чекисте сторонника правового государства. Избиения не хуже тех, что пришлось испытать Мейерхольду, и сегодня практикуются в органах внутренних дел нашей страны, которая вроде бы считается демократической.
В бытность Берии наркомом НКВД осуществило решение Политбюро о расстреле пленных польских офицеров и интернированных гражданских лиц польской национальности из числа интеллигенции и имущих классов — всего почти 22 тысячи человек. По утверждению Серго Лаврентьевича Берии, его отец на заседании Политбюро, состоявшемся 5 марта 1940 года, выступил против казни поляков: «Свою позицию на заседании Политбюро он объяснял так: «Война неизбежна. Польский офицерский корпус — потенциальный союзник в борьбе с Гитлером. Так или иначе, мы войдем в Польшу, и, конечно же, польская армия должна оказаться в будущей войне на нашей стороне». Реакцию партийной верхушки предположить нетрудно — отец за строптивость едва не лишился должности. Но и это не заставило отца подписать смертный приговор польским офицерам».
На решении о расстреле поляков подписи Берии нет — он был лишь кандидатом в члены Политбюро и не имел права решающего голоса. Предложение НКВД о расстреле поляков подписано Берией. Однако такое предложение скорее всего оформлялось задним числом. На этом постановлении стоят подписи членов Политбюро, но есть одно примечательное исправление: в составе тройки, которая должна была проштамповать смертные приговоры полякам, первоначально стоявшая в машинописном тексте фамилия Берии вычеркнута и чернилами вписана фамилия Б.З. Кобулова. Это можно расценить как доказательство того, что предложение за подписью главы НКВД составлялось не им и уже после принятия решения Политбюро. Не стал бы сам Лаврентий Павлович предлагать самого себя в состав тройки, чтобы потом самого же себя и вычеркивать. Вероятнее всего, Берия действительно был против казни поляков и согласился поставить свою подпись только при условии, что его имя будет вычеркнуто из числа тех, от лица которых формально будут вынесены смертные приговоры. Принимая во внимание послевоенную позицию Берии относительно объединения Германии в единое буржуазно-демократическое государство, рассказ Серго о возражениях отца против расстрела поляков представляется вполне правдоподобным.
Кроме поляков, в 1939–1941 годах было уничтожено несколько десятков тысяч представителей прибалтийской, западноукраинской и западнобелорусской национальной элиты. За эти, как и многие другие преступления против человечества, Берия несет ответственность как шеф НКВД и член высшего руководства страны. Из западных районов Белоруссии и Украины было депортировано в 1940 году 140 тысяч польских крестьян, так называемых «осадников», переселившихся сюда после 1920 года. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны была осуществлена также массовая депортация «неблагонадежных элементов» из Прибалтики и Бессарабии.
К моменту прихода Берии НКВД представляло собой не только карательный, но и мощный хозяйственный механизм. Узники ГУЛага трудились на многочисленных стройках. В 1940 году НКВД выполнило 13 % всех капитальных работ в народном хозяйстве страны. На 1941 год организации Наркомата должны были освоить капитальных вложений на 6,8 млрд, рублей и выпустить промышленной продукции на 1,8 млрд, рублей. Реализоваться этих «планов громадье» должно было благодаря подневольному труду почти двух миллионов заключенных.
В период Великой Отечественной войны роль НКВД в экономике еще больше возросла. В 1941–1944 годах на долю ведомства Берии пришлось почти 15 % всего капитального строительства. Зэки построили 612 полевых и 230 постоянных аэродромов, авиационные заводы в районе Куйбышева, авиазавод в Омске, 3 доменных печи с годовой мощностью почти в 1 млн. т чугуна. 16 мартеновских и электроплавильных печей, выпускавших в год до полумиллиона тонн стали, прокатные станы на 542 тыс. т стали, ввели в строй десятки шахт и разрезов, где в год добывали до 7 млн. т угля (рубили уголек те же зэки), 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности, завод нитроглицериновых порохов и многое, многое другое. На предприятиях НКВД за тот же период было добыто 315 т золота, 9 млн. т угля, 6 млн. т черновой меди, 407 тыс. т нефти, 1 млн. т хромовитой руды, произведено 30 млн. мин, выработано 90 млн. куб. м леса и дров. Сталин был доволен успехами НКВД на экономическом фронте, и это стало одной из главных причин перевода Берии вскоре после окончания войны на хозяйственную работу. Сбылось то, о чем мечтал Лаврентий Павлович, мечтал еще в начале 20-х. Может быть, еще тогда, в Баку, чувствовал, что чекистский труд слишком неблагодарен и что чем выше поднимешься по карьерной лестнице карательного ведомства, тем больнее будет падать. Иное дело — хозяйственная работа. Здесь есть серьезный шанс уцелеть и на самой верхушке пирамиды. Вот только отрасль предстояло курировать Лаврентию Павловичу весьма специфическую — проектирование и производство атомной и водородной бомб. Для строительства атомных объектов планировалось широко использовать ГУЛаг, а для ускорения научно-технических разработок — добыть с помощью разведки американские и английские атомные секреты. Берия имел опыт и в том, и в другом, да еще какое-никакое, но техническое образование. Поэтому выбор пал на него.
Сыграло свою роль и то, что Лаврентий Павлович создал в системе ГУЛага сеть научно-исследовательских учреждений — так называемых «шарашек», где над проектами оборонного значения трудились ученые-заключенные. Часто их и арестовывали только затем, чтобы посадить работать в «шарашке» над темами, интересующими военное и карательное ведомства. Там трудились, в частности, знаменитые конструкторы А.Н. Туполев и С.П. Королев. Одному из сотрудников «шарашки», итальянскому авиаконструктору графу Роберту Оросу ди Бартини, неосмотрительно приехавшему в 20-е годы в СССР строить социализм, а теперь доказывавшему, что ни в чем не виноват, Лаврентий Павлович с веселым цинизмом ответил: «Конечно, знаю, что ты не виноват. Был бы виноват — расстреляли бы. А так: самолет — в воздух, а ты — Сталинскую премию и на свободу».
Подробнее о работе Берии над атомной бомбой мы скажем чуть позже. Пока же возвратимся в предвоенные годы. В 1940-м Берия преподнес Сталину большой подарок — организовал убийство Троцкого. К крупному же провалу советской разведки, не сумевшей узнать о плане германского нападения на СССР, Лаврентий Павлович, строго говоря, прямого отношения не имел. С января 1941 года разведка была передана в ведение нового Наркомата государственной безопасности СССР, который возглавил Меркулов. Тогда же Берии было присвоено звание генерального комиссара госбезопасности, эквивалентное маршальскому званию в армии, а с февраля 41-го он стал заместителем председателя Совнаркома, курирующим органы безопасности.
С началом войны НКГБ был вновь слит с НКВД, во главе которого остался Лаврентий Павлович. Берия был назначен также членом Государственного Комитета Обороны (с 16 мая 1944 года он стал заместителем председателя ГКО) и курировал в этом качестве оборонную промышленность страны. 30 сентября 1943 года за успехи в области производства вооружения и боеприпасов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Надо признать, что энергия Лаврентия Павловича немало способствовала тому, что Красная Армия имела в избытке танки и самолеты, мины и снаряды. Хотя и здесь не обходилось без приписок и есть основания подозревать, что на бумаге производство некоторых видов вооружений было завышено в полтора-два раза.
После приземления немецкого самолета «Юнкерс-52» на Красной площади в мае 41-го, в самый канун войны и в первые ее дни, было арестовано несколько генералов, связанных с авиацией и ПВО, а также бывший начальник Генштаба К.А. Мерецков и нарком вооружений Б.Л. Ванников. Двум последним повезло. Продержав несколько месяцев в тюрьме и заставив признаться в заговоре и шпионаже в пользу Германии, Кирилла Афанасьевича и Бориса Львовича выпустили и восстановили в генеральских званиях. Другим повезло меньше. По представлению Берии Сталин санкционировал расстрел Г.М. Штерна, П.В. Рычагова, А.Д. Локтионова, Я.В. Смушкевича и других арестованных по «делу авиаторов». Это представление, как и в случае с поляками, Лаврентий Павлович писал по указанию Хозяина. Несчастных расстреляли в Куйбышеве 28 октября 1941 года по ложным обвинениям в том, что они являлись заговорщиками и немецкими агентами. Большинство из них во время следствия не выдержали избиений и покаялись в преступлениях, которые не совершали. Только командующий Прибалтийского округа генерал-полковник А.Д. Локтионов стойко вынес пытки и ни в чем не признался, что, однако, не спасло его от пули.
Трижды Берия выезжал на фронт. Два раза — в августе — сентябре 1942 года и в марте 1943 года на Кавказ в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования. Третий раз ему довелось сопровождать Сталина во время поездки в район Ржева на Калининский фронт в августе 1943-го. В качестве полководца Лаврентию Павловичу пришлось действовать лишь один раз в своей жизни — осенью 42-го на Кавказе. О том, сколь успешны были его действия, существовали диаметрально противоположные мнения, причем рубежом между ними закономерно стал день ареста Берии. Еще в 1950 году некий М.И. Барамия защитил кандидатскую диссертацию на тему «Выдающаяся роль т. Берии в обороне Кавказа» (издать ее отдельной книгой помешал арест в следующем году по так называемому «мингрельскому делу»). О полководческом искусстве Лаврентия Павловича в битве за Кавказ писал и генерал армии Герой Советского Союза И. И. Масленников, в 1939 году выдвинутый Берией на пост командующего пограничных войск и заместителя наркома внутренних дел, а в 1942–1943 годах командовавший Северной группой войск Закавказского фронта и Северо-Кавказским фронтом. В 1952 году в августовском номере журнала «Военная мысль» появилась статья Завьялова и Калядина «Битва за Кавказ». По поводу этой статьи Масленников направил специальное письмо начальнику Военно-научного управления Генерального штаба, где отмечал: «На странице 56, характеризуя мероприятия Ставки Верховного Главнокомандования СССР, авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия (в последние месяцы жизни Сталин охладел к Берии, и его имя реже, чем прежде, упоминалось в прессе. — Б. С.), создавший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно трудное положение, сложившееся на кавказских фронтах к августу 1942 года. Подобная характеристика деятельности товарища Л.П. Берии не дает исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берии.
Л.П. Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером показал образцы большевистского, государственного, военного, партийно-политического и хозяйственного руководства Закавказским фронтом (август 1942 — январь 1943 гг.), блестяще претворил указание товарища Сталина».
В ходе следствия по делу Берии генералы, вполне естественно, о военных талантах поверженного маршала отзывались совершенно иначе. Генералы Генерального штаба Покровский и Платонов написали специальный доклад для следователей «К вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Кавказа». Там, в частности, утверждалось: «Для выполнения задачи обороны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана Северная группа войск Закавказского фронта, командующим которой, видимо, по настоянию Берии был назначен генерал Масленников, до этого неудачно командовавший армией на Калининском фронте… Генерал Масленников, несомненно, пользуясь покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом и своими действиями задержал перегруппировку войск».
А генерал-лейтенант С.М. Штеменко, ездивший вместе с Берией на Кавказ во главе оперативной группы офицеров Генштаба, показал: «В действиях Берии было много такого, что не только не способствовало обороне Кавказа, но, наоборот, дезорганизовывало оборону. Прежде всего, Берия создал параллельно штабу фронта особую оперативную группу, возглавлявшуюся генералом из НКВД. В эту группу входили люди, малокомпетентные в военном деле.
Вторым действием Берии, дезорганизовывавшим оборону Кавказа, была замена ничем не опорочившего себя командующего 46-й армией генерала Сергацкова генералом Леселидзе. Такая ненужная замена командующего в напряженной обстановке никак не могла способствовать упрочению обороны. При пребывании Берии на Кавказе военное командование было фактически отстранено им от руководства. Берия в своей деятельности стремился опираться на сотрудников НКВД, большинство из которых было совершенно некомпетентным в военном деле.
По существу все эти действия Берии, связанные с обороной перевалов Главного Кавказского хребта, как главной задачей в тот период, наносили вред этой обороне и создавали благоприятные условия для противника и тем самым усиливали угрозу проникновения немцев в Закавказье».
Штеменко вторил бывший командующий Закавказского фронта генерал армии И.В. Тюленев: «В Зак-фронт прибыли войска НКВД. Эти войска были на особом учете и в распоряжении Берии. Поэтому они не были использованы для боевых активных действий.
Я поставил перед Ставкой вопрос о передаче в распоряжение командования Закфронта хотя бы части войск НКВД, находившихся на территории Закфронта (15–20 полков). И.В. Сталин одобрил мою мысль, но присутствовавший при этом Берия резко воспротивился этому, допуская грубые выпады в адрес командования фронта. Из 121 тысячи войск НКВД, которые в большинстве своем бездействовали, Берия согласился передать в распоряжение Закфронта всего лишь 5–7 тысяч, и то по настоянию И.В. Сталина».
А ведь Тюленева командующим фронта назначили по рекомендации Берии! 1 сентября 1942 года Лаврентий Павлович телеграфировал Сталину: «Командующим Закавказским фронтом считаю нужным назначить Тюленева, который, при всех недостатках, более отвечает этому назначению, чем Буденный. Надо отметить, что в связи с его отступлениями авторитет Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности, безусловно, провалит дело». Бывшего командарма Первой Конной Берия ставил невысоко, да и на его бывшего подчиненного конармейца Тюленева не возлагал слишком больших надежд. И, кажется, в своей оценке не ошибся.
Штеменко же, описывая позднее свою месячную командировку в Закавказье, хоть и не упоминает ни словом Берию (его функции он передает начальнику Оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанту П.И. Бодину), но и не находит как будто никаких следов дезорганизации советской обороны. Вот как он описывает в мемуарах предшествовавший командировке вызов к Верховному Главнокомандующему: «Обратите особое внимание на бакинское направление, — сказал Сталин, обращаясь к Бодину. — Этих полковников надо будет взять с собой, когда поедете».
Дальше, по словам Сергея Матвеевича, события развивались следующим образом: «Лишь через несколько дней после вызова в Ставку, а именно 21 августа, Бодин объявил мне: «Подготовьтесь, завтра в 4 часа поедете со мной на аэродром. Возьмите шифровальщика и нескольких направленцев». Утром в назначенное время поехали в машине Бодина на Центральный аэродром. Там нас уже ждал самолет Си-47. Бодину представился командир корабля полковник В.Г. Грачев.
Летели в Тбилиси через Среднюю Азию. Прямой путь туда был уже перекрыт немцами. В Красноводске приземлились вечером, а когда стемнело, пошли через Каспийское море на Баку, Тбилиси.
В Тбилиси сели почти в полночь и прямо с аэродрома направились в штаб фронта. Город еще не спал. Многие улицы были ярко освещены и полны людей.
П.И. Бодин немедленно заслушал доклад начальника штаба фронта А.И. Субботина и объяснил, с какими задачами мы прибыли. Их было немало: уточнить на месте обстановку, наметить дополнительные меры по усилению обороны Закавказья и провести их в жизнь, создать резервы из войск, отошедших и отходящих в Закавказье с севера, а также за счет мобилизации новых контингентов из местного населения и, наконец, ускорить подготовку оборонительных рубежей, прежде всего на бакинском направлении. В заключение Бодин обратился к командующему фронтом: «Известно ли Вам, что союзники пытаются использовать наше тяжелое положение на фронтах и вырвать согласие на ввод английских войск в Закавказье? Этого, конечно, допу-стать нельзя. Государственный Комитет Обороны считает защиту Закавказья важнейшей государственной задачей, и мы обязаны принять все меры, чтобы отразить натиск врага, обескровить его, а затем и разгромить. Надежды Гитлера и вожделения союзников надо похоронить (с чего это вдруг начальник Оперативного управления Генштаба начинает говорить от имени ГКО? И почему генерал-лейтенант, ничуть не смущаясь, делает выговор командующему фронта маршалу Буденному? Да потому, что этот монолог в действительности произнес не Бодин, а Берия, в этом у меня нет никаких сомнений; генеральный комиссар госбезопасности мог не то что выговор маршалу закатить, а при необходимости стереть его в лагерную пыль, как это Лаврентий Павлович и проделал с маршалом Блюхером. — Б.С.).
Практически наша деятельность здесь началась с того, что уже 24 августа в Закавказье было введено военное положение. Все войска, организованно отходившие с севера, сажались в оборону на Тереке, в предгорьях Кавказского хребта, на туапсинское и новороссийское направления. А те части и соединения, которые оказались обескровленными в предшествовавших боях, утеряли органы управления или вооружение, отводились в тыл. На главном, бакинском, направлении 28 августа стала формироваться 58-я армия. В районе Кизляра сосредоточивался сводный кавалерийский корпус.
После того как мы тщательно разобрались с обстановкой, было решено создать оборонительные районы оперативно важных центров. Всего таких районов насчитывалось три: Бакинский особый, Грозненский и Владикавказский. Начальники их получили права заместителей командующих армий, оборонявших подступы к этим районам.
На оборону Военно-Грузинской дороги целиком была поставлена стрелковая дивизия. Главные силы ее запирали вход в районе Орджоникидзе. Туда же перебрасывалась еще одна дивизия из Гори.
Много хлопот доставило бакинское направление. При выезде на место мы установили, что строительство оборонительных рубежей идет там очень медленно. Сил для этого явно не хватало. 16 сентября Государственный Комитет Обороны по представлению военных (точнее — Берии. — Б. С.) принял специальное постановление о мобилизации на оборонительное строительство в районах Махачкалы, Дербента и Баку по 90 тысяч местных жителей ежедневно. После этого дело пошло полным ходом. Днем и ночью строились окопы, противотанковые рвы, устанавливались надолбы. Помимо того, 29 сентября Ставка приказала осуществить здесь еще ряд мер по упрочению обороны и направила сюда целевым назначением 100 танков.
Не менее тревожная обстановка сложилась на Таманском полуострове и в Новороссийске. 1 сентября на базе Северо-Кавказского фронта там была создана Черноморская группа войск, подчиненная Закавказскому фронту. Через несколько дней в командование этой группой вступил генерал-лейтенант И.Е. Петров. Командующим 47-й армии и всем Новороссийским оборонительным районом Военный совет фронта предложил назначить генерал-майора А.А. Гречко (обоснованным считает замену прежнего командующего 47-й армией и член Военного Совета Закавказского фронта Л.М. Каганович, утверждавший, что «в верхушке 47-й армии не было духа уверенности». — Б.С.), а руководителем обороны самого города Новороссийска — контр-адмирала С.Г. Горшкова (фактически эти кандидатуры выбрал Берия. — Б. С.). Это предложение Ставка утвердила. Результаты сказались немедленно. 10. сентября советские войска остановили врага в восточной части Новороссийска между цементными заводами и заставили его перейти к обороне.
Главный Кавказский хребет не входил в зону действий ни Черноморской, ни Северной групп. Оборонявшая его 46-я армия по идее должна была находиться в непосредственном подчинении командования фронта. Но потом при штабе фронта появился особый орган, именовавшийся «штабом войск обороны Кавказского хребта». Возглавлял его генерал Г.Л. Петров из НКВД. Надо прямо сказать, что это была совершенно ненужная, промежуточная инстанция. Фактически этот штаб подменял управление 46-й армии.
С обороной гор дело явно не клеилось. Командование фронта слишком преувеличивало их недоступность, за что уже 15 августа поплатилось Клухорским перевалом. Вот-вот мог быть взят и Марухский перевал, вследствие чего создалась бы угроза выхода немцев на юг, к. Черному морю. Допущенные оплошности исправлялись в самом спешном порядке. Срочно формировались и направлялись на защиту перевалов отряды из альпинистов и жителей высокогорных районов, в частности сванов. Туда же, на перевалы, подтягивались дополнительные силы из кадровых войск. В районе Красной Поляны и к востоку от нее занял оборону крупный отряд полковника Пияшева, преградив противнику путь к морю. В горы выдвигались также воо-1 руженные рабочие отряды. Против врага поднялась вся многонациональная семья народов Кавказа. На боевых рубежах и в тылу противника шла гибельная для непрошенных гостей борьба».
Получается, что все мероприятия по обороне Закавказья, принятые во время пребывания там Берий, Штеменко, очень квалифицированный генштабист, и сорок пять лет спустя считал правильными. Сергею Матвеевичу не понравилось только создание штаба генерала НКВД Г.Л. Петрова (может, у него с этим генералом просто не сложились отношения?). И назначение генерала К.Н. Леселидзе не считает ошибкой. Может, потому и назвал его фамилию следователям, что Константин Николаевич умер в 44-м и ничем повредить ему, Штеменко, не мог. Так же, как и заменять Берию на Бодина было совершенно безопасно. Павел Иванович, оставленный начальником штаба Закавказского фронта, 1 ноября 1942 года вместе с группой офицеров попал под бомбежку в районе Орджоникидзе и на следующий день умер от полученных ран (во время той бомбежки был тяжело ранен и член Военного Совета фронта Л.М. Каганович). А ведь имел возможность свалить все ошибки и неудачи на Берию. Ведь поминал же Лаврентия Павловича в мемуарах маршал Жуков, разумеется, только в черных красках. Сергей Матвеевич, однако, предпочел бывшего шефа НКВД по имени не называть, но зато некоторыми деталями ясно показал людям посвященным, кто же в действительности летал вместе с ним на Кавказ. Потому что люди осведомленные знали, например, что полковник В.Г. Грачев был личным пилотом Берии.
Выходит, лукавил Штеменко перед следователями в 53-м, когда клеймил «врага народа» Берию за предательскую роль в обороне Кавказа. Наверняка опасался, что могут обвинить в близости с Лаврентием Павловичем и притянуть к его делу. Ведь многие военачальники, быть может, не без оснований считали Сергея Матвеевича «человеком Берии». Вот и бывший начальник Генштаба маршал А.М. Василевский в 1976 году так характеризовал Штеменко в беседе с Константином Симоновым: «Это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами. Когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генерального штаба ему взять с собой, и мы ему порекомендовали Штеменко как молодого и способного штабного работника; он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении».
Теперь послушаем, как запомнилась поездка в Закавказье Серго Берии, который летел вместе с отцом в качестве радиста (вероятно, он и был шифровальщиком, о котором пишет Штеменко): «Ярче всего отложилась в моей памяти оборона Кавказа. Мой отец был направлен туда как представитель Ставки, а я попал на Северный Кавказ с группой офицеров Генерального штаба, оказавшись в непосредственном подчинении Сергея Матвеевича Штеменко как начальник радиостанции.
Из Москвы мы вылетали на самолете отца. Штеменко, он тогда еще был полковником, генерал-лейтенант Бодин, еще несколько офицеров.
Еще в Москве, за несколько часов до отлета, отец приказал собрать с разных фронтов военнослужащих грузинской национальности — средний командный состав. Скажем, командиров полков. Эти люди, считал отец, со своим боевым опытом, прекрасным знанием местных условий при формировании частей, которые должны были оборонять Кавказ, были просто незаменимы. Даже с нами уже летело несколько таких офицеров.
Летели через Баку. И здесь не обошлось без неприятностей. Самолет загорелся, и лишь мастерство полковника Грачева, личного пилота отца, позволило сбить пламя в воздухе. Ночью мы благополучно приземлились в Тбилиси. Не теряя времени, наша группа отправилась в Моздок, на подступах к которому уже шли бои.
Там отца уже ждал генерал-полковник Масленников, начальник погранвойск, заместитель наркома внутренних дел. По приказу отца незадолго до этого его вместе с несколькими пограничными частями перебросили по воздуху в этот район, где пограничники, не имея ни танков, ни противотанковой артиллерии, должны были встать на пути танковой армии Клейста.
Еще в Москве отец договорился со Сталиным, что части, которые в свое время были направлены в Иран, будут возвращены в Союз и использованы для обороны Кавказа. Отдельные противотанковые мобильные соединения из состава «иранских» частей должны были прибыть на место дней через десять, но это время надо было продержаться. Сил же для настоящей обороны было явно мало.
Первоочередной задачей отец считал закрытие перевалов. Их сразу же перекрыли пограничные части и горно-стрелковая дивизия.
Все эти две недели, пока немцы не были остановлены и обстановка не стабилизировалась, отец находился там. И лишь когда убедился, что оборона надежна, уехал в Новороссийск.
Еще более тревожная ситуация сложилась на Южном фронте. Штаб фронта полностью утратил управление войсками и был деморализован. По согласованию со Ставкой и ГКО отец тут же освободил от должности командующего фронта Семена Буденного.
Я видел Буденного, находящегося, как мне показалось, в состоянии прострации. Когда отец приехал к нему, тот начал убеждать: «Незачем эти мандариновые рощи защищать, надо уходить!» Отец, хотя и знал, что, как военачальник, представлял собой маршал Буденный, был поражен. Командующий фронта не мог внятно объяснить, где какие части находятся, кто ими командует. Когда он докладывал отцу об обстановке, тот сразу понял, что больше говорить не о чем. Прервав разговор, отец начал вызывать к себе командиров всех рангов и выяснять, что же там происходит в действительности.
На моих глазах делали карту боевых действий, а маршал Буденный сидел в сторонке с отсутствующим взглядом. Мне показалось, что он вообще толком не понимает, о чем идет речь.
Командующими армий тогда же отец назначил двух молодых командиров. Оба, насколько я тогда понял, произвели на него хорошее впечатление своей компетентностью и решительностью. Речь — о Константине Николаевиче Леселидзе (командующем 46-й армии. — Б.С.) и о втором выдвиженце отца, Андрее Антоновиче Гречко (командующем 47-й армии, а в середине октября возглавившем под Новороссийском 18-ю армию, где начальником политотдела был будущий генеральный секретарь Л.И. Брежнев. — Б. С.)
В районе Новороссийска, а бои шли в самом городе, мы пробыли неделю. Отец использовал это время с максимальной отдачей. Помню один разговор, состоявшийся у него в штабе Южного фронта (вероятно, в действительности — Черноморской группы войск Закавказского фронта. — Б. С.) сразу же по приезде. Отец поинтересовался соотношением сил воюющих сторон. Тут и выяснилось, что бойцов вполне достаточно, но во втором эшелоне. Просочились, доложили, из первого. Что ж, на войне всякое бывает, но где же командиры? Словом, кое-кому досталось, но порядок навели».
В целом рассказ Серго Лаврентьевича не противоречит свидетельству Штеменко. То, что предшественники Берии, что называется, «проспали» перевалы, признает в своих мемуарах и Иван Владимирович Тюленев: «Анализируя сейчас причины захвата врагом этих важных перевалов, следует сказать, что в этом была немалая доля вины командования и штаба Закавказского фронта, опрометчиво решивших, что перевалы сами по себе недоступны для противника. Некоторые из нас считали главной задачей войск фронта оборону Черноморского побережья, где были развернуты основные силы 46-й армии. А она, в свою очередь, неправильно организовала оборону перевалов и попросту «проспала» их. Врага нужно было встретить на склонах гор, а не ждать, пока он поднимется». Сам Тюленев был хорошо знаком Берии, поскольку командовал Закавказским округом в 1938 году, сменив Егорова, как раз в то время, когда Лаврентий Павлович был первым секретарем компартии Грузии. Становится также понятным назначение Леселидзе — Берия при обороне Кавказа собирался опереться прежде всего на грузин, потому и подбирал кадры грузинских офицеров, которыми должен был командовать грузинский генерал. Тут было не только вполне понятное национальное чувство Лаврентия Павловича, но и трезвый расчет. Многолетний опыт работы в Закавказье убедил Берию, что относительно более лояльны Советской власти из местных народов именно грузины. Сталин делал соотечественникам определенные послабления — меньше забирал из Грузии производимой продукции, больше давал поставок из централизованных фондов. В результате уровень жизни здесь был повыше, чем в Азербайджане и Армении, не говоря уж о горских республиках Северного Кавказа. К тому же немало грузин гордилось, что их земляк стал главой бывшей Российской империи. Поэтому и дезертиров в грузинских частях было меньше, чем в армянских и азербайджанских. Как раз накануне командировки Берии на Кавказ, 20 августа, Сталин отдал директиву командованию Закавказского фронта, потребовав изъять из 61-й стрелковой дивизии и направить, как неблагонадежных, в запасные части 3767 армян, 2721 азербайджанца и 740 представителей «дагестанских народностей».
Что же касается обвинений, будто Берия с вредительскими намерениями не давал на фронт находившиеся в его ведении дивизии НКВД, то на процессе в декабре 53-го сам Лаврентий Павлович (или человек, на него похожий) так ответил на вопрос председательствующего маршала И.С. Конева: «Почему вы, имея в своем распоряжении более 120 тысяч человек войск НКВД, не дали их использовать для обороны Кавказа?» — «Я утверждаю, что недостатка в войсках там не было. Перевалы были закрыты. Я считаю, что мы провели большую работу по организации обороны Кавказа. Я раньше не говорил, почему я не давал войск НКВД для обороны Кавказа. Дело в том, что предполагалось выселение чеченцев и ингушей».
Что ж, здесь с резонами Берии нельзя не согласиться. Красная Армия и без НКВД имела на Кавказе войск с избытком, только вот войска все норовили, не ввязываясь в бои, поскорее отойти во второй эшелон. Дивизии же НКВД не были обучены боевым действиям на фронте против регулярной неприятельской армии. О планировавшейся же высылке северокавказских народностей Берия, конечно же, не мог ничего сказать командующему Закавказского фронта Тюленеву, поскольку эта операция готовилась в большой тайне. Да и без подготовки к депортации (отложенной в конце концов на 44-й год) войскам НКВД дел на Кавказе хватало. Приходилось бороться с партизанскими отрядами ингушей и чеченцев, а также других местных народов, не прекращавших свои вылазки все годы Советской власти и видевших в немцах своих освободителей не только от Сталина, но и от Российской империи. В программных документах Особой партии кавказских борцов, объединявшей 11 народов Кавказа, но действовавшей преимущественно в Чечено-Ингушетии, ставилась цель борьбы «с большевистским варварством и русским деспотизмом», выдвигался лозунг «Кавказ — кавказцам!» (что предусматривало выселение русских и евреев) и ставилась задача «обеспечить полную дезорганизацию тыла, остатков советской военщины на Кавказе, ускорение гибели большевизма на Кавказе и действовать во имя поражения России в войне с Германией», а впоследствии «создать на Кавказе свободную братскую Федеративную республику — государство братских народов Кавказа по мандату Германской империи». Еще в самом начале войны; 8 июля 1941 года, Берия санкционировал войсковую операцию «для ликвидации чеченских банд», укрывшихся в Хильдихароевском и Май-стинском ущельях Грузии, силами 6 полков внутренних войск, подкрепленных несколькими отрядами НКВД. Особенно усилилось повстанческое движение летом 42-го, с приближением к Главному Кавказскому хребту немецких войск. В дни пребывания Берии на Кавказе, в конце августа, чеченские отряды ликвидировали колхозы и советские органы в ряде селений горной Чечни и вступали в бой с расположенными в райцентрах войсковыми гарнизонами. В конце сентября — начале октября вспыхнуло крупное восстание в Веденском и Чеберлоевском районах, в подготовке которого участвовали немецкие парашютисты. Всего на территории Чечено-Ингушской республики действовало до 25 тысяч повстанцев. Кстати, боролся с повстанцами нарком внутренних дел Чечено-Ингушетии капитан госбезопасности С.И. Албогачиев, как кажется, тот самый, что безуспешно пытался выбить признание у М.С. Кедрова в августе 39-го. В сентябре 43-го Албогачиева заподозрили в связях с руководителем повстанцев и создателем Особой партии кавказских братьев Хасаном Исраило-вым (Терлоевым), между прочим, выпускником Коммунистического Университета трудящихся Востока, и отозвали в резерв. Албогачиев обратился к Сталину с письмом, где просил «использовать меня на самом остром участке, где работа была бы видна народному комиссару» (т. е. Берии). Письмо было направлено Лаврентию Павловичу со сталинской визой. Мы не знаем, как дальше был использован по службе Албогачиев и как отнесся он к последующей депортации своих земляков, но, похоже, его не репрессировали.
Против Советской власти боролись также карачаевцы и балкарцы, да и в Дагестане было неспокойно. В этих условиях Берия не решался отправлять части НКВД на фронт, опасаясь, что Северный Кавказ затопит волна восстаний. Единственный путь ликвидации повстанческого движения Берия видел в немедленной депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, иначе немцы, если бы им удалось прорваться через Главный Кавказский хребет, получили бы пополнение в десятки тысяч бойцов — убежденных противников Советской власти. Однако окружение германской группировки в Сталинграде в конце ноября 42-го резко изменило общую стратегическую обстановку в пользу Советского Союза, в том числе и на Кавказе, что позволило с депортацией повременить.
А как оценивались события на Кавказском театре военных действий с немецкой стороны в конце августа и сентябре 1942 года, когда там находился Берия? В дневнике начальника Генерального штаба германских сухопутных сил генерал-полковника Франца Гальдера на фронте группы армий «А», действовавшей на Кавказе, в этот период отмечаются в основном лишь «местные успехи». Единственным крупным достижением вермахта стало занятие Новороссийска. Немецкие войска ворвались в город 6 сентября, а к 10-у числу фронт стабилизировался на восточной окраине города в районе цементного завода «Октябрь». Однако советские войска дёржали под обстрелом город и Цемесскую бухту, что так и не позволило немцам пользоваться Новороссийским портом. Падение же Новороссийска было предопределено еще до прибытия Берии. С Керченского полуострова над городом нависала мощная германорумынская группировка в 4 дивизии с достаточным количеством высадочных средств. Двигавшиеся от Ростова немецкие войска еще 16–18 августа вышли к Темрюку и станции Крымской, а 23 августа взяли Темрюк. Падение Новороссийска было предопределено, но главной стратегической цели — прорваться в Закавказье — немцы достичь так и не смогли. Как раз 9 сентября Гитлер уволил в отставку командующего группы армий «А» фельдмаршала Вильгельма Листа и принял решение в ближайшее время заменить Гальдера. Это было связано в первую очередь с остановкой наступления на Кавказ.
Справедливости ради, стоит сказать, что миссия Берии по стабилизации фронта облегчалась тем, что у немцев уже не оставалось сил для продолжения наступления к бакинской нефти, поскольку все больше войск поглощал Сталинград. Фельдмаршал Лист еще в середине августа докладывал Гитлеру, что «не может с имеющимися у него силами и при столь растянутых коммуникациях достичь поставленной ему Верховным командованием оперативной цели» — захвата нефтеносных районов. Но, во всяком случае, со своей задачей Лаврентий Павлович справился и к Баку немцев не пропустил.
В 1944 году Берии пришлось заниматься давно задуманной депортацией северокавказских народностей. За эту полицейскую операцию он был удостоен полководческого ордена Суворова 1-й степени. Итог для «репрессированных народов» был трагичен. Всего в 44-м было выселено около 873 тысяч карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар, а также греков, болгар и армян Крыма. Из них к октябрю 45-го в местах ссылки в Казахстане и Средней Азии в живых осталось только 741,5 тыс. человек. Не меньшие жертвы понесли и сотни тысяч немцев Поволжья, Украины и Крыма, депортация которых была осуществлена еще в 41-м году.
Об операции по переселению чеченцев и ингушей Берия докладывал Сталину, что в ней участвовало 19 тысяч оперативных работников НКВД-НКГБ и «Смерш» и около 100 тысяч солдат и офицеров войск НКВД, «стянутых с различных областей». Вот откуда, вероятно, взялись цифры в 120 тысяч военнослужащих в дивизиях НКВД на Кавказе в 42-м году, фигурировавшие во время суда над Берией. Между тем Тюленев, как мы помним, говорил лишь о 15–20 полках войск НКВД, в которых, даже с учетом других отдельных частей, вряд ли насчитывалось более 40–50 тыс. бойцов и командиров.
Операция по депортации была проведена Лаврентием Павловичем по-чекистски грамотно. Накануне ее начала он сообщил Сталину основные идеи своего плана: «Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской АССР Моллаеву о решении правительства о выселении чеченцев и ингушей и о мотивах, которые легли в основу этого решения. Моллаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны в связи с выселением. Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созваны 9 руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым и было объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах выселения. 40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев и ингушей нами прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2–3 человека для агитации. Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-Ингушетии высшими духовными лицами Б. Арсановым, А.-Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они вызвались оказать помощь через мулл и других местных авторитетов.
Выселение начинается с рассвета 23 февраля с. г., предполагалось оцепить районы, чтобы воспрепятствовать выходу населения за территорию населенных пунктов. Население будет приглашено на сход, часть схода будет отпущена для сбора вещей, а остальная часть будет разоружена и доставлена к местам погрузки».
На следующий день нарком внутренних дел с удовлетворением доложил Верховному Главнокомандующему, что «выселение проходит нормально. Заслуживающих внимания происшествий нет. Имели место 6 случаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. Из намеченных к изъятию в связи с операцией арестовано 842 человека».
Выполнив незавидную роль козлов-провокаторов, ведущих стадо на бойню, религиозные авторитеты и представители партийно-советского актива разделили участь соплеменников, только неделей позже. 1 марта Берия доносил Сталину: «Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые использовались при операции».
9 июля 1945 года Лаврентий Павлович Берия был удостоен высшего воинского звания Маршал Советского Союза, правда, не за военные победы, а за успехи на хозяйственном и карательном фронте. В конце года он формально оставил службу в НКВД, а в марте следующего, 46-го, стал полноправным членом Политбюро. Однако еще раньше дела родного Наркомата отошли для него на второй план. После победы над Германией Лаврентию Павловичу предстояло в кратчайший срок создать советскую атомную бомбу, чтобы ликвидировать американскую монополию и развязать Сталину руки в международной политике. Берия широко привлекал к строительству атомных объектов заключенных. Сколько из них сгинуло на урановых рудниках, неведомо и по сей день. Ходят слухи, что счет идет на десятки тысяч жертв.
Еще в 1944 году в недрах Наркомата госбезопасности был создан специальный отдел «С», занимавшийся атомными проблемами. Возглавлял его близкий Берии человек — один из организаторов убийства Троцкого генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов, занимавшийся по совместительству террором и диверсиями. В начале 1945 года научный руководитель «Уранового проекта» И.В. Курчатов написал Берии письмо, что возглавляющий проект Молотов неповоротлив и медлителен и до сих пор не смог организовать геологические изыскания урановых руд. Лаврентий Павлович и до этого опекал Игоря Васильевича. В конце 1943 года Курчатов был избран в Академию наук на специально созданное под него дополнительное место. Позднее Берия говорил заместителю Судоплатова по науке профессору Я.П. Терлецкому о Курчатове: «Это ми его сдэлали акздэмиком!» Теперь Лаврентий Павлович немедленно доложил Сталину о курчатовской жалобе на Молотова. Иосиф Виссарионович решил сделать ответственным за супербомбу заместителя председателя ГКО Берию, посчитав, что, раз тот отвечает за производство вооружений, самое мощное оружие должно целиком проходить по его епархии. 28 февраля 1945 года за подписью главы НКГБ Меркулова на стол Берии легла докладная записка о ходе работ по созданию атомной бомбы в США, которую Лаврентий Павлович в своей резолюции оценил как «важное». В документе подчеркивалось: «Проведенные силами ведущих научных работников Англии и США исследовательские работы по использованию внутриатомной энергии для создания атомной бомбы показали, что этот вид оружия следует считать практически осуществимым и проблема ее разработки сводится в настоящее время к двум основным задачам:
1. Производство необходимого количества расщепляемых элементов — урана-235 и плутония.
2. Конструктивная разработка приведения в действие бомбы».
Теперь Берия занимался главным образом ядерны-ми проблемами. Генерал Петр Семенович Мотинов, доставивший в Москву из Канады образцы урана, полученные от советского агента физика Аллана Нана Мэя, вспоминал; «На аэродроме меня встречал сам Директор (глава армейской разведки генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов. — Б.С.). С большими предосторожностями я достал из-за пояса драгоценную ампулу с ураном и вручил ее Директору. Он немедля отправился к черной машине, которая стояла тут же, на аэродроме, и передал ампулу в машину.
— А кто там был? — спросил я потом Директора.
— Это Берия, — прошептал Директор.
Через четыре дня появилось сообщение, что Берия стал маршалом. Возмущению фронтовиков не было предела, но протестовали все шепотом».
Ну, рядовым солдатам, думаю, было все равно кого Сталин решил произвести в маршалы — Жукова, Берию или Мерецкова, которого, как и Ванникова, Лаврентий Павлович допрашивал «с пристрастием» летом 41-го. А генералам и маршалам действительно было обидно, что одинаковую с ними форму носят генералы, а теперь вот и маршал карательного ведомства, не нюхавшие пороха.
Основная информация по атомной бомбе поступила от талантливого немецкого физика Клауса Фукса, придерживавшегося левых убеждений и работавшего на Москву по идейным соображениям. Фукс передал схему американского атомного устройства, которое тщательно скопировали советские ученые. Сталин категорически запретил им заниматься здесь какой-либо самодеятельностью, а то вдруг не взорвется. Фукс также передал многие собственные разработки водородной бомбы, которые советским ученым удалось воплотить в жизнь даже быстрее своих американских коллег. Были у Берии и другие агенты в американском атомном центре в Лос-Аламосе, например, механик Дэвид Грин-гласс, работавший со знаменитым советским резидентом и своим шурином Юлиусом Розенбергом. Позднее Юлиуса сделали главным «козлом отпущения» за утечку американских ядерных секретов и вместе с женой Этель казнили на электрическом стуле.
Были и еще неизвестные солдаты той великой битвы за советское ядерное оружие, правда о которых выходит на свет только в последние годы. Вот в 1992 году эмигрировал в Англию бывший архивариус КГБ Василий Митрохин, тайно ненавидевший советский строй и копивший загодя секретный материал (который тайно выносил с работы то ли в ботинках, то ли в носках). Пока британские агенты нашли тайники на митрохин-ской даче и переправили их диппочтой из Москвы в Лондон, пока контрразведка разбиралась с коллекцией Митрохина, прошло семь лет. И только в 1999 году узнала британская и мировая общественность, что некая Мелита Норвуд, которой в 1999 году, когда последовало разоблачение, было 87 лет, в 40-е годы, будучи секретаршей руководителя английского ядерного проекта, передала советской разведке бесценные сведения об атомной бомбе.
На Лаврентия Павловича, очевидно, большое впечатление произвели данные о том, что «первый опытный «боевой» взрыв ожидается через 2–3 месяца». Он оценил всю важность самого мощного на тот момент оружия, которое вот-вот должно было родиться на свет. Возглавив проект по созданию атомной бомбы, он сразу становился самым влиятельным членом правительства, самым необходимым для Сталина министром. Уже с начала 30-х годов, после разгрома всех и всяческих оппозиций, центр власти из Политбюро фактически переместился в Совнарком, члены которого контролировали отдельные важнейшие отрасли хозяйства и силовые ведомства. Разумеется, ни о какой оппозиции Сталину речи не шло, но за степень близости к диктатору между членами руководства шла подспудная борьба. Ранее атомный проект курировал Молотов, но никаких практических подвижек в этом деле, за исключением сбора разведданных, до февраля 45-го не было. Теперь Лаврентий Павлович решил выйти на сцену, где вскоре должны были разгореться нешуточные атомные страсти. Сразу после капитуляции Германии заместитель Берии генерал-лейтенант А.П. Завенягин отправился в Берлин разыскивать немецких физиков, участвовавших в германском урановом проекте. В СССР в добровольно-принудительном порядке были доставлены специалист по диффузионному разделению изотопов Нобелевский лауреат Густав Герц, конструктор электронно-оптических приборов Манфред фон Арденне, специалист по металлургии урана Николай Риль (ему потом присвоили звание Героя Социалистического Труда) и др. Они внесли лепту в создание советской атомной бомбы, в частности, сконструировав сверхскоростную центрифугу для разделения изотопов урана.
Потом была атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которая заставила, наконец, Сталина признать создание ядерного оружия главным приоритетом Советского государства. Как вспоминал Я.П. Терлецкий, Сталин прореагировал на это событие очень нервно: «Оказывается, после взрыва атомной бомбы в Хиросиме Сталин устроил грандиозный разнос, он впервые за время войны вышел из себя: стучал кулаками, топал ногами. Ведь рушилась мечта о распространении социалистической революции на всю Европу, мечта, казавшаяся столь близко осуществимой после капитуляции Германии и как бы перечеркнутая нерадивостью наших атомщиков во главе с Курчатовым». Как свидетельствует Яков Петрович, опыты и выводы Курчатова и его команды были повторением американских и английских разработок, полученных с помощью отдела «С»: «При этом теоретики поражались невероятной интуиции Курчатова, который, не будучи теоретиком, точно «предсказывал» им окончательный результат.
Это вряд ли вызывает восторг у тех, кто вслед за Игорем Николаевичем Головиным создал наивный миф о сверхгениальном физике, якобы определившем все основные направления атомной проблемы, который якобы один соединил в своем лице гений Ферми, таланты Бете, Сцилларда, Вигнера, Оппенгеймера и многих других».
В результате 20 августа 1945 года по инициативе Лаврентия Павловича постановлением ГКО был образован Специальный комитет. На него возлагалось «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана: развитие научно-исследовательских работ в этой области; широкое развертывание геологических разведок и создание сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и других странах); организацию промышленности по переработке урана, производству специального оборудования и материалов, связанных с использованием внутриатомной энергии; а также строительство атомноэнергетических установок и разработку и производство атомной бомбы». Председателем Спецкомитета назначили Берию. По этой линии, как член Спецкомитета, ему подчинялся даже Г.М. Маленков, второй человек в партийном руководстве после Сталина.
На атомный проект Сталин не жалел ни денег, ни людей. Для него в тот момент это была главная задача, сравнимая по своему значению только с победой над Германией. Но и спрос с участников, это Лаврентий Павлович хорошо понимал, будет особый. Если не удастся быстро сделать бомбу, то полетят головы, и его в первую очередь. Объявят американским или даже турецким шпионом, заговорщиком, умышленно затягивающим создание столь нужного СССР ядерного оружия — и пожалуйте на тот свет вслед за Генрихом Ягодой и Николаем Ежовым.
Лаврентий Павлович успел, прежде всего благодаря достижениям советской научно-технической разведке, подчинявшейся в тот период ему лично. Ведь 13-й пункт постановления о Спецкомитете гласил: «Поручить тов. Берии принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА (Разведывательное Управление Красной Армии — хороша аббревиатура! — Б. С.) и др.)». Тем же постановлением, по предложению Лаврентия Павловича, создавалось Первое Главное управление, практически координировавшее деятельность различных ведомств, участвовавших в атомном проекте, и контролировавшееся только Спецкомитетом. Вскоре появилось и Второе Главное управление, занимавшееся разработкой и производством ракетного оружия — будущего средства доставки атомных и водородных зарядов. Его деятельность также курировал Берия.
В постановлении о создании ПГУ особо подчеркивалось: «Никакие организации, учреждения и лица без особого разрешения ГКО не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность Первого управления, его предприятий и учреждений или требовать справок о его работе или работах, выполняемых по заказам Первого Главного управления. Вся отчетность по указанным работам направляется только Специальному Комитету при ГКО».
Главой Спецкомитета Берия рекомендовал тогдашнего наркома боеприпасов генерал-полковника БЛ. Ванникова, которого сам же допрашивал в 41-м по «делу авиаторов». Борис Львович во всем признался, хотя ни в чем и не был виноват. Но, в отличие от Штерна, Смушкевича, Локтионова и других генералов, которых ждала пуля в куйбышевском подвале, Ванников уцелел. Сталин решил, что такой ценный специалист еще пригодится. Ванникова выпустили, и он успешно трудился всю войну на посту заместителя наркома вооружений, а потом — наркома боеприпасов. Берия для Бориса Львовича навсегда остался человеком, чуть было не отправившим его на тот свет. Генерал понимал, что малейшая оплошность может привести к последствиям гораздо худшим, чем в 41-м, и требованиям Лаврентия Павловича подчинялся беспрекословно. Правда, по возможности старался переложить ответственность на других. По воспоминаниям участников атомного проекта, Борис Львович часто заболевал перед важными испытаниями. А уж интриговать против Лаврентия Павловича у него и мысли не было. Что-что, а кадры подбирать Берия умел.
Строили ядерные объекты заключенные и солдаты, чье положение мало отличалось от положения заклю-ценных. Бойцы строительных частей рекрутировались в основном из бывших пленных и жителей оккупированных территорий. При Сталине они считались людьми второго сорта, чья жизнь не стоила практически ничего. В годы войны призывников с оккупированных территорий невооруженными бросали в истребительные лобовые атаки на немецкие позиции. После войны уцелевшим предстояло участвовать в лобовой атаке на другом фронте — советского атомного проекта. О строительстве радиохимического комбината под Кышты-мом (Челябинск-40) на Урале (нынешнее НПО «Маяк») вспоминал один из оставшихся в живых, В. Вышемир-ский: «Жили на стройке и под открытым небом, и в палатках, и в землянках, хотя зимой морозы достигали сорока градусов. Кострами жгли мерзлую землю, кирками долбили скальный грунт. Кормили мороженой картошкой и капустой. Чтобы получить дополнительный паек — лишний черпак баланды и сто граммов хлеба, — нужно перевыполнить норму, которую и осилить-то было невмоготу. Условия мало чем отличались от лагерных, случались среди солдат и самоубийства». Другой уцелевший, А. Осипов, свидетельствует: «Люди умирали десятками, сотнями — от недоедания и тяжелого, изнурительного труда».
А вот как описывает условия на Кыштымской стройке бывший солдат стройбата А. Харитонов: «Жили мы там в землянках, куда входила целая рота (в одну землянку. — Б. С). Работали по 11 часов — с 8 утра до 7 вечера.
Однажды приехало множество генералов — все такие красивые и пузатые. Я подумал: что же они едят, если такие пузатые? (Интересно, не было ли среди тех генералов Лаврентия Павловича, у которого тоже имелось изрядное брюшко? — Б. С.).
Мы вечно ходили голодные, питания не хватало, вторая норма не рассчитана на этот каторжный труд, иногда после работы просто падали.
С 1949 года задымила труба нашего объекта, вокруг лес стал мертвым. На следующий год нас демобилизовали, но не выпустили, только через год я вырвался из этого ада. Мало наших осталось в живых, может, о них хоть вспомнит правительство?» Но правительство ни тогда, ни теперь не вспоминает ни о живых, ни о мертвых. Так уж повелось в России, что все новое, начиная с имперской столицы Санкт-Петербурга, строилось на костях.
Н. Лапыгин, офицер, трудившийся на строительстве Челябинска-40, удивляется, сколь низка была механизация работ: «Поражала насыщенность примитивной рабочей силой на стройке — если по нормам мастеру положено руководить полсотней рабочих, то здесь было двести и больше. Людей нагнали массу, чтобы взять числом, а не уменьем. Ведь техническое оснащение было убогим — ни подъемной техники, ни землеройных машин, все делалось вручную с небольшим применением малой механизации.
Вручную загружали ковши тяжелым скальным грунтом, оставшимся после большого взрыва, для образования котлована под реактор. Вручную делали опалубку и заполняли ее тысячами кубометров бетона. Толщина стен была огромная — для защиты от радиации.
Деньги тратились на что угодно, только не на то, чтобы облегчить и механизировать солдатский труд.
Впрочем, однажды на объекте «А» техники появилось жуткое количество — откуда только нагнали ее? К моему изумлению, бульдозерами, грейдерами стали засыпать траншеи, в которые еще не окончили укладывать коммуникации, — оказывается, приехал Берия, и для него уж холуи постарались.
В другой раз мне велели за ночь построить шатер из сборных элементов и обить его шелком. Не пожалели роты солдат и крановщицу Таню. К пяти утра шатер стоял, а в шесть прибыл туда Курчатов и поинтересовался у меня:
— Не устали?
— Фронтовики все выдерживают.
— Да, для вас это вторая война.
А бывало и такое: на оперативке монтажники заявили, что у них кончаются нержавеющие болты. Бывший тут же замминистра звонит в Москву и велит заводу-изготовителю отправить машину с болтами в аэропорт, чтобы погрузить в самолет. А утром машина от нас пошла в аэропорт Челябинска. Болты прибыли вовремя, но стали почти «золотыми».
Думаю, что Лаврентий Павлович в тот раз туфту с техникой заметил — глаз-то был наметанный. И «золотые болты» его не радовали — практичный ум Берии наверняка противился столь нерациональной трате дефицитного авиабензина. Да и каторжный труд, как понимал председатель Спецкомитета, слишком неэффективен и на самом деле существенного влияния на сроки завершения атомного проекта не оказывает. Сроки-то определялись в первую очередь успехами разведки и мозгами ученых. Осознание этого и привело Берию после смерти Сталина к идее широкой амнистии, почти вдвое уменьшившей население ГУЛага. Труд заключенных в атомную эру стал ненужен.
Средств не жалели, об экономии не думали. По воспоминаниям заместителя директора Кыштымского комбината В. Филиппова, за излишнюю заботу об эффективности производства глава ПГУ Ванников грозил подчиненным теми же карами, которыми когда-то ему самому грозили в НКВД: «Ванников выходил из кабинета к столу, снимал пиджак и аккуратно вешал на стул. Из заднего кармана вынимал пистолет и клал его на стол. Открывая совещание, он провозглашал: «Ну, ебена мать, докладайте!» Вел оперативку напористо, с большим высокомерием, в выражениях не стеснялся.
Я «докладал» первым. Однажды я сообщил, что из-за изменений проекта задерживается изготовление резервуаров. Ванников тут же прервал меня: «Когда я был наркомом вооружений и мой главный инженер изменил свое решение на более экономичное, я велел его расстрелять».
Старшему монтажнику Нафту за нарушение графика Ванников запросто сказал, достав из обоймы патрон с пулей: «За это на тебя жалко истратить даже маленький кусочек свинца».
Что ж, с кем поведешься, от того и наберешься.
Сам Лаврентий Павлович тоже и крепкое слово мог ввернуть, и к стенке пригрозить поставить. Впрочем, он-то понимал, что расстрелами и репрессиями в данном случае не поможешь. Если вывести в расход тех же И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона, кто же бомбу делать будет?
Тот же Юлий Борисович Харитон, отец советской атомной бомбы, вспоминал о Берии в общем неплохо: «Берия, надо сказать, действовал с размахом, энергично, напористо. Часто выезжал на объекты, разбирался на месте, и все задуманное обязательно доводилось до конца.
Никогда не стеснявшийся нахамить и оскорбить человека, Берия был с нами терпим и, трудно даже сказать, крайне вежлив (интересно, а откуда тогда уважаемый академик знал о хамстве Берии, если ему самому Лаврентий Павлович ни разу грубого слова не сказал? Может быть, грубость и хамство Берии — это миф, родившийся после падения «лубянского маршала» в 53-м? Вот и Серго Берия утверждает, что в его присутствии отец никогда никого не материл; впрочем, при сыне Лаврентий Павлович мог и воздерживаться от непарламентских выражений. — Б. С.). Если интересы дела требовали пойти на конфликт с какими-либо идеологическими моментами, он, не задумываясь, шел на такой конфликт. Если бы нашим куратором был Молотов, таких бы впечатляющих успехов, конечно, не было бы».
С ним согласен заместитель Курчатова профессор И.В. Головин, вообще-то склонный в своих воспоминаниях Лаврентия Павловича представлять демоническим злодеем, повторять существующие вокруг его имени мифы и всячески умалять вклад бывшего шефа НКВД в создание советской атомной бомбы: «Берия был прекрасным организатором — энергичным и въедливым. Если он, например, брал на ночь бумаги, то к утру документы возвращались с резонными замечаниями и дельными предложениями. Он хорошо разбирался в людях, все проверял лично и скрыть от него промахи было невозможно».
С учеными Лаврентий Павлович был вежлив и предупредителен. Зато ведавших организацией работ офицеров и генералов МВД и госбезопасности мог иной раз и припугнуть (этих-то заменить было гораздо легче). Академик А.Д. Сахаров вспоминал, как однажды Берия отчитал генерала госбезопасности И.Е. Павлова, по нерадивости сорвавшего производство важного компонента водородной бомбы: «Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы Вас не будем наказывать, мы надеемся, что Вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в турме места много!»
И вот настал долгожданный день первых испытаний советской атомной бомбы — 29 августа 1949 года. Взрыв произошел на полигоне под Семипалатинском. Вот как этот день запомнил Харитон: «Бомбу поднимали на башню лифтом, людей хотели доставить туда отдельно, но Зернов не стерпел, стал рядом с бомбой, и так они вдвоем поднялись на вышку, потом туда прибыли Щел-кин и Ломинский. Они же уходили последними.
На их пути было устройство, к которому надо было подключить провода, передававшие сигнал для срабатывания бомбы — был такой автомат, включавший устройство для подрыва инициаторов, расположенных по периферии заряда, чтобы образовалась сходящаяся волна. Кнопку этого устройства нажимал Щелкин, дальше уже все делалось автоматически — заряжались конденсаторы, в которых накапливалась энергия подрыва инициаторов, срабатывали детонаторы и т. д. И от этого момента нажатия кнопки до самого взрыва проходило, помнится, секунд сорок.
Ну вот, через эти сорок секунд все осветилось ярчайшей вспышкой. Мы ее наблюдали через открытую (с задней стороны) дверь наблюдательного пункта, расположенного в десяти километрах от эпицентра. А через тридцать секунд после вспышки пришла ударная волна и можно было выйти наружу и наблюдать последующие фазы взрыва.
Берия тоже находился с нами, он поцеловал Игоря Васильевича (Курчатова. — Б.С.) и меня — в лоб (Лаврентий Павлович понимал, что неудача — а была вероятность в 5–6 %, что устройство не взорвется, — могла сразу же сделать его, Харитона и Курчатова «врагами народа» со всеми вытекающими последствиями. — Б. С.). Ярчайший свет и мощная ударная волна лучше всего засвидетельствовали, что мощность взрыва была вполне достаточной.
Однако в «воспоминаниях» некоторых людей, которых там и в помине не было, описаны такие подробности, что просто диву даешься. Например, пишется, что в последние секунды вдруг начал увеличиваться поток нейтронов (это повышало вероятность того, что взрыва не произойдет. — Б.С.), и все заволновались. Счетчик нейтронов действительно был, и он передавал сигналы на НП, но никакого усиления потока не было. Это все измышления, как и многие другие «детали» тех событий».
Харитон явно имел в виду «воспоминания» Головина, на испытаниях не присутствовавшего, но описавшего все происшедшее куда подробнее Юлия Борисовича, аж на семи страницах книжного текста. По принципу — все, что было не со мной, помню. Здесь я приведу лишь те фрагменты головинских «мемуаров», которые непосредственно относятся к Берии, чтобы читатели могли проследить, как конструировался миф о Лаврентии Павловиче — злодее и дураке, ничего в порученном деле не смыслившем, и оказавшемся на коне лишь благодаря героям-ученым и своим толковым заместителям из военно-промышленного комплекса, которым посчастливилось уцелеть после 53-го года: «Тележку с изделием медленно выкатывают через ворота во мрак ночи на платформу лифта.
— Так и пойдет вверх без сопровождения? — восклицает Берия.
— Нет, нет, — Зернов делает шаг, не предусмотренный графиком работ, встает на платформу лифта и, держась одной рукой за перекладину, в живописной позе уезжает вверх.
Давыдов уже начал отсчитывать минуты, когда пришел Берия со своим сопровождением. Курчатов взял себя в руки и остановился рядом с Флеровым, наблюдая фон нейтронов. Два-три нейтрона за пятнадцать секунд. Все хорошо.
И вдруг при общем молчании за десять минут до «часа» раздается голос Берии:
— А ничего у вас, Игорь Васильевич, не получится!
— Что вы, Лаврентий Павлович! Обязательно получится! — восклицает Курчатов и продолжает наблюдать, только шея его побагровела и лицо сделалось мрачнососредоточенным.
На третьей минуте до взрыва вдруг фон нейтронов удвоился, на второй минуте стал еще больше. Флеров с Курчатовым тревожно переглянулись — опасность хлопка вместо взрыва резко возросла. Но автомат пуска работает равнодушно, ускорить ничего невозможно, и во власти Курчатова только отменить взрыв (в действительности решение об отмене взрыва мог бы принять только Берия, и то только предварительно согласовав его со Сталиным. — Б.С.).
— Десять секунд, пять секунд, три, две, одна, пуск! Курчатов резко повернулся лицом к открытой двери. Небо уже померкло на фоне освещенных холмов и степи. Курчатов бросился вон из каземата, взбежал на земляной вал и с криком «Она!» широко взмахнул руками, повторяя: «Она, она!» — и просветленье разлилось по его лицу.
Столб взрыва клубился и уходил в стратосферу. К командному пункту приближалась ударная волна, ясно видимая по траве. Курчатов бросился навстречу ей. За ним рванулся Флеров, схватил его за руку, насильно увлек в каземат и закрыл дверь.
В каземат врывались остальные — разрядившиеся, ликующие. Председатель (Берия. - Б. С.) обнял и расцеловал Курчатова со словами: «Было бы большое несчастье, если б не вышло!» Курчатов хорошо знал, какое было бы несчастье.
Но теперь все тревоги позади. Курчатов и его команда решили все научные задачи, с успехом прошли через все трудности организации (выходит, Лаврентий Павлович к организации работ отношения не имел, все тянул на себе Игорь Васильевич? — Б.С.). С лица Курчатова мгновенно слетело напряжение. Он стал сразу мягким и как будто смущенным.
Но Берия вдруг забеспокоился. А такой ли был взрыв у американцев?
Немедленно приказал соединить его по телефону с Мещеряковым, посланным для наблюдения за взрывом на северный наблюдательный пункт. В 1947 году он был по приглашению американцев на Бикини и видел там американский подводный ядерный взрыв.
— Михаил Григорьевич! Похоже на американский? Очень? Мы не сплоховали? Курчатов нам не втирает очки? Все так же? Хорошо! Хорошо! Значит, можно докладывать Сталину, что испытание успешно? Хорошо! Хорошо!
Берия дал команду чем-то смущенному генералу, дежурившему у телефона, тотчас же соединить со Сталиным по ВЧ. В Москве подошел к телефону Поскребышев.
— Иосиф Виссарионович ушел спать, — ответил он.
— Очень важно, все равно позовите его.
Через несколько минут Берии ответил сонный голос: — Чего тебе?
— Иосиф, все успешно. Взрыв такой же, как у американцев.
— Я уже знаю и хочу спать, — ответил Сталин и положил трубку.
Берия взорвался и набросился с кулаками на побледневшего генерала: «Вы и здесь суете мне палки в колеса, предатели! Сотру в порошок!..»
Легко убедиться, что все детали, придуманные Головиным и отсутствующие в рассказе Харитона, вполне соответствуют мифологическому образу жестокого и мнительного злодея, которым рисовала Берию советская пропаганда после его падения. Лаврентий Павлович предпринимает совершенно бессмысленные действия. На всякий случай побуждает одного из присутствовавших сопровождать «изделие» на башню, стоя в нелепой позе на платформе лифта. Хотя толку от такого сопровождения никакого, один только напрасный риск для сопровождающего. Потом Берия постоянно не доверяет Курчатову, боится, что испытание сорвется, в последний момент теряет веру в успех. Тут по законам плохой пьесы возникает реальная опасность провала из-за роста нейтронного фона, чтобы потом весомее ощущался успех. Когда все позади, Берия целует Курчатова, но это поцелуй иудин, поскольку Лаврентий Павлович все еще сомневается — а настоящий ли это взрыв? Не надул ли его Курчатов? А пока Берия затевает дурацкую проверку, Сталин звонит по ВЧ, узнает от дежурного генерала, что бомба благополучно взорвалась и идет спать. Злодей Берия посрамлен: ему не удалось первым доложить генералиссимусу об историческом событии, и тут же от вежливости не остается и следа: Лаврентий Павлович набрасывается с кулаками на ни в чем не повинного генерала. Вот так и рождались легенды о Берии, очень мало общего имевшие с действительностью.
После создания атомной бомбы Лаврентий Павлович в качестве главы Спецкомитета продолжал руководить водородным проектом. К концу жизни его маршальский мундир, кроме Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, украшали пять орденов Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени и три ордена Красного Знамени союзных республик — Грузии, Армении и Азербайджана. Но положение Лаврентия Павловича наверху в начале 50-х пошатнулось. В 1951 году был арестован ряд руководителей Грузии, ранее близких к Берии, которых обвинили в создании «мингрело-националистической группы». Тогда же арестовали племянника Лаврентия Павловича Теймураза Шавдию, который в начале войны попал в плен, записался в грузинский легион СС, а потом дезертировал оттуда и сражался в рядах французских партизан. Шавдие дали 25 лет за измену Родине, и дядя ничем не смог ему помочь. Но Берию Сталин трогать не стал — он был нужен как главный надзирающий за термоядерным проектом. Вот когда и эпопея с водородной бомбой благополучно завершится, тогда придет пора вспомнить, что незаменимых у нас нет. Лаврентий Павлович это чувствовал. По утверждению Серго Берии, отец в 51-м году говорил ему: «Сталин принял решение о моем аресте и только ждет, чтобы закончили работу над водородной бомбой».
Отец советской водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал свою первую встречу с Берией тет-а-тет в 50-м году во время работы над водородным проектом: «Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал: «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?»
Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил: «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?»
Берия ответил мне прагматически: «Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной «Электросиле». А у американцев сотни фирм с мощной базой». (Лаврентий Павлович под конец жизни начал понимать, какая сила заключена в присущей капитализму конкуренции множества производственных фирм и научных коллективов. — Б.С.)
Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову, и я держался совершенно свободно».
Подозреваю, что страшным человеком Берию академик, как и подавляющее большинство советских граждан, стал считать только после 53-го года. Поэтому и казалось Андрею Дмитриевичу в ту пору, когда работал над мемуарами, что рука у собеседника была холодная, как у дьявола.
В марте 53-го, когда подготовка к испытаниям советской водородной бомбы вступила в заключительную стадию, внезапно скончался Сталин. В стране на короткое время пришло коллективное руководство в составе формального преемника Сталина Г.М. Маленкова, ставшего председателем Совета Министров, Н.С. Хрущева, возглавившего работу секретариата ЦК, и двух первых заместителей председателя правительства — В.М. Молотова, занявшего также пост министра иностранных дел, и Л.П. Берии, возглавившего МВД, поглотившее МГБ. Берию и Маленкова ранее связывали дружеские отношения. В первые месяцы после смерти Сталина их блок противостоял блоку двух других членов правящей четверки — Хрущева и Молотова. Берии с помощью Маленкова удалось провести реабилитацию осужденных по «делу врачей», по делу о вредительстве в авиационной промышленности в 46-м году, по делу работников Главного Артиллерийского управления в 51-м. Все эти дела были в свое время инспирированы противниками Маленкова и Берии. В записке, предлагавшей реабилитировать главного маршала авиации А.А. Новикова, А.Н. Шахурина и других руководителей авиационной промышленности, Берия указал, что от арестованных выбили заявления, в которых делалась попытка «оклеветать тов. Маленкова». Реабилитирован был и брат Лазаря Моисеевича Кагановича Михаил, бывший нарком авиапромышленности, покончивший с собой после обвинений в заговоре с целью установления в СССР фашистского правительства! Лаврентий Павлович также предложил реабилитировать членов Еврейского Антифашистского Комитета. Он установил, что известный режиссер Соломон Михоэлс не погиб под колесами грузовика в Минске в 1948 году, а был убит офицерами МГБ по приказу тогдашнего министра госбезопасности В.С. Абакумова, действовавшего, несомненно, по поручению Сталина. Берия предложил Президиуму ЦК (так тогда называлось Политбюро) лишить участников убийства полученных за это преступление орденов и отдать под суд. Глава МВД арестовал бывшего своего ставленника Л.Ф. Цанаву, в качестве министра госбезопасности Белоруссии непосредственно организовавшего покушение на Ми-хоэлса. Уже после падения Берии Президиум ограничился тем, что отнял у убийц ордена. Цанава же скончался во время следствия, которое обвиняло его уже в участии в заговоре Берии!
Лаврентий Павлович предложил провести широкую амнистию заключенных. Это предложение было принято Президиумом ЦК. 27 марта 1953 года был издан указ, подписанный председателем Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошиловым, поэтому в народе амнистия 53-го года называлась «ворошиловской». Из 2 526 402 заключенных и подследственных, находившихся в тот момент в тюрьмах и лагерях, подлежал освобождению 1 181 264 человека, не представлявших особой общественной опасности. В их число входили лица, осужденные на срок 5 и менее лет, осужденные на больший срок за должностные, хозяйственные и воинские преступления, пожилые и больные заключенные, беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет, а также несовершеннолетние. Берия предлагал еще более широкую амнистию, которая затронула бы большинство политических заключенных (у них срок обычно был не меньше 8 лет), но коллеги по Президиуму ЦК его не поддержали. Одновременно Лаврентий Павлович добился отмены ограничений на прописку в большинстве городов и пограничных местностей. Кроме закрытых военно-промышленных городов, режимными остались Москва, Ленинград, Владивосток, Севастополь и Кронштадт. Делалось это для того, чтобы амнистированные вернулись в родные места и могли легче адаптироваться к жизни на воле. Берия подчеркивал: «Установленные ограничения для свободного перемещения и проживания на территории СССР вызывают справедливое нарекание со стороны граждан. Следует отметить, что такой практики паспортных ограничений не существует ни в одной стране. Во многих капиталистических странах — США, Англии, Канаде, Финляндии и Швеции — у населения паспортов вообще не имеется, о судимости никаких отметок в личных документах граждан не делается».
Разумеется, пребывание в тюрьме никого лучше не делает, и многие безобидные бытовики или осужденные по печально знаменитому закону «семь-восемь» (от 7 августа 1932 года) за то, что подбирали колхозные колоски, в лагерях приобрели вполне уголовные наклонности. И Берии пришлось откликаться на жалобы с мест о бесчинствах амнистированных. Так, 21 мая 1953 года он писал в Управление внутренних дел Краснодарского края: «В г. Кропоткине много случаев бандитизма, воровства и других уголовных проявлений, вследствие чего местные жители опасаются ходить по городу в позднее время. Примите необходимые меры к усилению борьбы с уголовной преступностью и охраны общественного порядка в г. Кропоткине. О результатах доложите».
Новый старый шеф МВД давно уже понял неэффективность подневольного труда зэков и постарался разгрузить ГУЛаг. Новые сложные виды вооружений требовали квалифицированного труда. Одновременно с амнистией, 21 марта, Берия направил предложение о закрытии более 20 крупных строек, на которых трудились главным образом заключенные. Прекратились работы на Главном Туркменском канале, канале Волга — Урал, на гидроузлах на Нижнем Дону, железной дороге Чум — Салехард — Игарка и БАМе и др. Все эти проекты были экономически неэффективны и вредны для местной экологии.
Но Лаврентий Павлович замышлял еще более глобальные реформы. Опасаясь, что центробежные тенденции в долгосрочной перспективе могут развалить Советский Союз, он предложил хоть частично удовлетворить национальные чувства жителей республик. По замыслу Берии, руководителями компартий и основных ведомств должны были стать представители коренной национальности. Предполагалось сформировать национальные армии, учредить национальные ордена (например, в Грузии — Шота Руставели, на Украине — Тараса Шевченко и т. д.), перевести делопроизводство на национальные языки, больше внимания уделять национальной интеллигенции. Опыт войны убедил Лаврентия Павловича, что далеко не все советские народы готовы были идти в бой «за Родину, за Сталина!» Его сын, побывавший на Западной Украине, подтвердил, что жители вновь присоединенных территорий отнюдь не рады своему вхождению в «семью братских народов». Серго Лаврентьевич вспоминал: «Именно там (на Украине. — Б.С.) я узнал, что такое повстанческое движение в нашем тылу. Жестокость порождала жестокость. Помню, как один из отрядов националистов штурмовал погранзаставу, где были задержаны их люди. Когда советское подразделение прибыло на выручку, спасать уже было некого — весь личный состав был вырезан. Когда фронт ушел на запад, для борьбы с повстанцами переодевали наших солдат и выдавали такие подразделения за отряды бандеровцев.
Очень сильное впечатление произвели на меня захваченные повстанцы. Многие из них были мои ровесники. Грамотные, убежденные в своей правоте молодые люди. Нередко среди них встречались студенты. Когда я рассказал об увиденном в Западной Украине отцу, он отреагировал так: «А чему ты удивляешься? Эти люди воюют за самостоятельную Украину. И в Грузии так же было, и в любом другом месте может быть. Оружием их на свою сторону не зазовешь».
Лаврентий Павлович надеялся завлечь народы возможностями сохранять и развивать национальные языки и культуры, служить в национальной армии, подчиняться соплеменникам, а не людям, присланным из Москвы. Надеялся привлечь на сторону центра национальные элиты, дав им реальную власть в республиках. Ведь до 53-го года в республиках Средней Азии, в Прибалтике и Белоруссии русские резко преобладали на всех мало-мальски значимых административных постах, вплоть до участковых милиционеров. Да и в остальных республиках их доля на руководящих должностях была значительно выше, чем доля русских в населении соответствующих территорий.
Попытался Берия достичь и некоторой разрядки в международных делах. Он рекомендовал нормализовать отношения с югославским руководством, возглавляемым Иосипом Броз Тито, и добиваться объединения Германии в качестве буржуазного, но нейтрального государства. Однако все его инициативы были обречены на провал.
Прежде всего партийный аппарат восстал против намеченных Лаврентием Павловичем кадровых перестановок в руководстве республик. На Пленуме ЦК КПСС в начале июля 53-го, когда участники смело клеймили уже арестованного Берию, глава коммунистов Белоруссии Н.С. Патоличев поведал страшную историю, как поверженный глава МВД попробовал подорвать вековую дружбу русского и белорусского народов: «Это была самая настоящая диверсия со стороны Берии. Впервые в истории нашего многонационального государства имеет место то, когда опытные партийные, советские кадры, преданные нашей партии, снимаются с занимаемых постов только потому, что они русские.
Начальник Могилевского областного управления МВД тов. Почтенный почти всю жизнь работает в Белоруссии и не менее 20 лет на чекистской работе. Тов. Почтенный снят Берией только за то, что он русский.
Берия одним махом без ведома партийных органов, а в Белоруссии без ведома ЦК Белоруссии, снял с руководящих постов русских, украинцев, начиная от министра МВД Белоруссии, весь руководящий состав министерства и областных управлений. Готовилась также замена до участкового милиционера включительно… Берия изгнал из ЧК всех партийных работников, направленных партией в органы для их укрепления…
Однажды министр МВД товарищ Баскаков был в кабинете первого секретаря ЦК. Ему позвонил Берия и говорит: «Ты где?» — «В ЦК, у первого секретаря». — «Иди к себе, позвони». Товарищ Баскаков доложил мне. что ему было сказано, пошел, позвонил. Ему было дано указание собрать данные о национальном составе партийных, советских и чекистских органов, не докладывая об этом ЦК Белоруссии. Но товарищ Баскаков немедленно доложил ЦК. Он отказался писать записку, тогда его вызвали в министерство в Москву и заставили писать, а затем как негодного прогнали.
Я хочу сказать, товарищи, что Берия, не только в партии, в народе, но и в органах не имел и не мог иметь опоры».
Прав, прав был Николай Семенович. Берия не мог рассчитывать на поддержку не только в партии, но и в родном ведомстве (народ ни его, ни оппонентов не волновал — люди давно уже не могли высказывать своего мнения и влиять на власть). Абакумов успел насадить туда своих людей, да и многие прежние выдвиженцы Берии, вроде Цанавы, успели переметнуться на сторону Виктора Семеновича и усидели на своих местах даже после падения Абакумова. Потом кадры МГБ пополнились людьми нового министра — кадрового партработника С.Д. Игнатьева. Оба заместителя Берии, С.Н. Круглов и И.А. Серов, не могли считаться его безоговорочными сторонниками. Сергей Никифорович больше тяготел к Маленкову, а Иван Александрович — к Хрущеву, с которым хорошо сработался на Украине. Так что как инструмент захвата власти в 53-м году объединенный МВД Лаврентий Павлович использовать никак не мог. Но, похоже, он не особо и стремился иметь лично преданных людей во главе органов внутренних дел и партийных организаций на местах. Ведь предпринятая им механическая замена кадров по национальному признаку совсем не гарантировала лояльности Берии со стороны новых выдвиженцев. Кроме того, в тех республиках, где русская и русифицированная элита была многочисленна и сплочена в единый клан, бериевская реформа стала пробуксовывать еще до падения своего творца. Предупрежденный Баскаковым, Патоличев успел провести соответствующую работу с местными руководителями, и в результате Пленум ЦК компартии Белоруссии отказался менять Николая Семеновича на рекомендованного Москвой белоруса М.В. Зимянина. Последний совсем не был близок к Берии и успешно продолжал партийную карьеру после расстрела «Лубянского маршала». Просто Михаил Васильевич был первым попавшимся под руку членом Президиума, высокопоставленным номенклатурщиком белорусской национальности — все-таки второй секретарь Белорусской компартии. Может быть, как раз осечка в Белоруссии стала важным толчком для формирования антибериевского заговора в руководстве страны.
Конечно, идея бороться с сильнейшей русификацией партийно-государственного аппарата в союзных республиках с помощью своеобразных «процентных норм» ничего общего с демократией не имеет. Но Берия как будто и не собирался строить в СССР демократическое государство по западному образцу. Просто он хорошо понимал: от насаждавшейся сверху чисто административным путем русификации можно избавиться только столь же грубыми, административными методами. В отсутствие демократии это — единственный путь.
Столь же опасным для подавляющего большинства номенклатуры было и предложение Лаврентия Павловича об объединении Германии. На июльском Пленуме Молотов возмущался: «При обсуждении германского вопроса в Президиуме Совета Министров вскрылось, что Берия стоит на совершенно чуждых нашей партии позициях. Он заговорил тогда о том, что нечего заниматься строительством социализма в Восточной Германии, что достаточно и того, что Западная и Восточная Германия объединились как буржуазное миролюбивое государство. Эти речи Берии не могли пройти мимо нашего внимания. Для нас, как марксистов, было и остается ясным, что при существующем положении, т. е. в условиях нынешней империалистической эпохи, исходить из перспективы, будто буржуазная Германия может стать миролюбивым или нейтральным в отношении СССР государством, является не только иллюзией, но и означает фактический переход на позиции, чуждые социализму. Во внесенном Берией проекте постановления Президиума Совета Министров по этому вопросу было предложено признать «ошибочным в нынешних условиях курс на строительство социализма, проводимый в Германской Демократической Республике». В связи с этим предлагалось «отказаться в настоящее время от курса на строительство социализма в ГДР». Этого мы, конечно, не могли принять. Стало ясно обнаруживаться, что Берия стоит не на коммунистических позициях. При таком положении мы почувствовали, что в лице Берии мы имеем человека, который не имеет ничего общего с нашей партией, что это человек буржуазного лагеря, что это — враг Советского Союза.
Капитулянтский смысл предложений Берии по германскому вопросу очевиден. Фактически он требовал капитуляции перед так называемыми «западными» буржуазными государствами. Нам стало ясно, что это чужой человек, что это — человек антисоветского лагеря. (Голоса: «Правильно!..»)».
Молотову вторил Маленков: «Надо сказать, что Берия при обсуждении германского вопроса предлагал не направить курс на форсированное строительство социализма, а отказаться от всякого курса на социализм в ГДР и держать курс на буржуазную Германию. В свете всего, что узнали теперь о Берии, мы должны по-новому оценить эту его точку зрения. Ясно, что этот факт характеризует его как буржуазного перерожденца. Президиум решил снять Берию с занимаемых им постов и исключить из партии. Президиум пришел к выводу, что нельзя с таким авантюристом останавливаться на полпути и решил арестовать Берию как врага партии и народа. (Голоса: «Правильно!» Бурные аплодисменты)».
Соратники Ленина и Сталина не привыкли уступать ни пяди той земли, куда ступила нога советского солдата. Единственное показательное исключение — вывод в 1946 году оккупационных войск из Северного Ирана, и то это произошло только из-за страха перед американской бомбой. Вывод же Советской Армии из Восточной Германии и согласие на реставрацию там капитализма означал не только шаг к окончанию «холодной войны» и отказ от распространения социализма в Западную Европу на штыках советских воинов, но и подспудное признание преимуществ буржуазного строя перед социалистическим. Раз уж не получилось в такой промышленно развитой и, согласно Марксу, вполне созревшей для социализма стране, как Германия, то, значит, что-то не так с самой маркскистско-ленинско-сталинской теорией. Берия, похоже, это понял, но для Маленкова, Хрущева, Молотова, Ворошилова, Микояна, Кагановича и прочих подобное признание было смерти подобно. Жизни для себя в другой общественной системе они просто не мыслили, не видя там для себя достойного места. Лаврентий Павлович был обречен.
Постфактум и Хрущев, и Маленков приписывали каждый себе ведущую роль в аресте Берии. Логика событий заставляет предположить, что ближе к истине здесь Никита Сергеевич. Все-таки Георгий Максимилианович из всех членов Президиума ЦК был наиболее близок к Берии, и не резон ему было бы первым предлагать вывести в расход «дорогого друга Георгия». Поэтому послушаем рассказ Хрущева о том, как готовился арест Берии: «Наступило наше дежурство с Булганиным (у постели больного Сталина. — Б.С.). Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими, доверял ему самые сокровенные мысли и сказал: «Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, что Сталин вскоре умрет. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия?» — «Какой?» — «Он хочет пост министра госбезопасности. Нам никак нельзя допустить это. Если Берия получит госбезопасность — это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!»
Булганин сказал, что согласен со мной. И мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему: «Поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен все понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа».
Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и умчался в Москву с «ближней дачи». Мы решили вызвать туда всех членов Бюро или, если получится, всех членов Президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним: «Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать». — «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» — «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ. Но я-то понял по-другому, понял так, что давно уж все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено. «Ну, ладно, — отвечаю, — поговорим потом».
Вот собрались все. Увидели, что Сталин умер. И вот пошло распределение «портфелей». Берия предложил назначить Маленкова Председателем Совета Министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства, госбезопасности и внутренних дел, в одно Министерство внутренних дел, а Берию назначить министром. Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Булганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее. Ведь я видел настроение остальных. Если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы склочники, дезорганизаторы, еще при неостывшем трупе начинаем в партии драку за посты. Да, все шло в том самом направлении, как я и предполагал.
Молотова тоже назначили первым замом Предсовмина, Кагановича — замом. Ворошилова предложили избрать Председателем Президиума Верховного Совета СССР, освободив от этой должности Шверника. Очень неуважительно выразился в адрес Шверника Берия: сказал, что его вообще никто в стране не знает (святая истинная правда. — Б.С.). Я видел, что тут налицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилова человеком, оформляющим в указах то, что станет делать Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанностей секретаря Московского комитета партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы, его наследники, приступили к самостоятельной деятельности по управлению СССР».
Фактически Никита Сергеевич признался, что еще в последние часы жизни Сталина договорился с Булганиным постараться убрать Берию из руководства страны. Но для этого требовалось согласие Маленкова. Григорий Максимилианович же в тот момент мучительно колебался: попробовать ли вместе с Берией избавиться от Хрущева или, заключив союз с Никитой Сергеевичем, сперва одолеть всесильного председателя Спецкомитета, чтобы потом в союзе с Молотовым вывести из состава коллективного руководства самого Хрущева. В исторический день 5 марта Маленков пока еще склонялся к первому варианту, оттого и говорил с главой московской парторганизации не слишком тепло. Но очень скоро Георгию Максимилиановичу пришлось резко изменить позицию. Дело в том, что Берия не проявил особого стремления бороться против кого-либо из «наследников Сталина». Лаврентию Павловичу самым выгодным было сохранение правящей четверки, где существовала определенная система «сдержек и противовесов» и никто не имел полной власти, «Лубянский маршал» понимал, что занять то положение, какое занимал Сталин, ему не под силу. Для этого у Лаврентия Павловича не было ни авторитета «великого кормчего», ни подходящего аппарата под рукой. Спец-комитет действовал в основном через ПГУ и ВГУ, которые также не являлись мощными бюрократическими структурами, а давали поручения различным министерствам и ведомствам. Задания же Спецкомитета руководителям местных парторганизаций шли через Маленкова. Только в союзе с ним Берия мог надеяться осуществить свои реформаторские планы, да и то если только друг Георгий останется во главе Совмина. Аппарат МВД маршал только-только получил в свое распоряжение, и ему требовалось время для того, чтобы хоть в центре расставить тут несколько своих людей. Поэтому Лаврентий Павлович стремился установить хорошие отношения со всеми членами Президиума ЦК, в том числе и с Хрущевым.
Опять дадим слово «дорогому Никите Сергеевичу»: «Во время похорон Сталина и после них Берия проявлял ко мне большое внимание, выказывал свое уважение. Я этим был удивлен. Он вовсе не порывал демонстративно-дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной».
Никите Сергеевичу дружба с Берией была ни к чему. Он собирался сбросить Лаврентия Павловича с борта корабля власти, чтобы затем отправить в пучину опалы и забвения Маленкова. Берия же выступал не только против культа личности Сталина, но и культа его наследников. Шеф МВД предложил не украшать колонны демонстрантов 1 мая и 7 ноября портретами членов Президиума ЦК и лозунгами в их честь. На июльском Пленуме 53-го года Микоян с возмущением говорил: «В первые дни после смерти товарища Сталина он (Берия. — Б. С.) ратовал против культа личности». Условия коллективного руководства Лаврентий Павлович считал наиболее благоприятными для того, чтобы сохранить и упрочить собственную власть и влияние.
Хрущев так охарактеризовал бериевские предложения по национальному и германскому вопросам и по борьбе с культом личности руководителей: «Я не раз говорил Маленкову: «Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идем к катастрофе. Берия подобрал для нас ножи». Маленков мне: «Ну а что делать? Я вижу, но как поступить?» Я ему: «Надо сопротивляться, хотя бы в такой форме: ты видишь, что вопросы, которые ставит Берия, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать». — «Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу». — «Почему ты думаешь, что останешься один, если начнешь возражать? Ты и я — уже двое. Булганин, я уверен, мыслит так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами, если мы будем возражать аргументированно, с партийных позиций. Ты же сам не даешь возможности никому слова сказать. Как только Берия внесет предложение, ты сейчас же спешишь поддержать его, заявляя: верно, правильное предложение, я «за», кто «против»? И сразу голосуешь. А ты дай возможность высказаться другим, попридержи себя, не выскакивай и увидишь, что не один человек думает иначе. Я убежден, что многие не согласны по ряду вопросов с Берией».
В переводе с партийного языка на общечеловеческий это означало предложение сблокироваться против чересчур прыткого «Лубянского маршала». Георгию Максимилиановичу пришлось еще раз крепко подумать. С одной стороны, с устранением Берии он терял важного соратника в руководстве, контролировавшего одно из двух силовых министерств. Это здорово ослабляло его позиции в предстоящей борьбе за власть. Однако с другой стороны, Берия не проявил желания переходить вместе с Маленковым к конфронтации с Хрущевым, а тем более использовать в этой конфронтации силовые методы. Наоборот, даже заигрывал с Никитой Сергеевичем. Маленков мог подозревать, что если не принять сейчас хрущевское предложение, то Никита Сергеевич попытается сговориться с Берией против него, Маленкова. Тем более что Хрущев прямо дал понять: министр обороны Булганин с ним заодно. К тому же бериевские предложения вызвали недовольство как среди членов Президиума ЦК, так и среди местных партийных и советских руководителей. В конце концов Георгий Максимилианович решил сдать Берию, надеясь в будущем одолеть Хрущева с помощью «старой гвардии» — Молотова, Кагановича, Ворошилова, в последние годы сталинского правления находившихся в загоне. Неслучайно сразу после смерти диктатора по инициативе Маленкова Ворошилов и Каганович подучили важные назначения, а Молотов был произведен в первые заместители Председателя Совета Министров. Кроме того, Маленков учитывал, что его человек, С.Н. Круглов, остается у Берии заместителем и после падения Лаврентия Павловича имеет все шансы возглавить МВД.
Хрущев в мемуарах утверждает, что после беседы с Маленковым им удалось на очередном заседании Президиума провалить предложения Берии. Документальных подтверждений этому нет. Не исключено, что Никита Сергеевич этот эпизод придумал, чтобы действия его и других членов Президиума не выглядели как простой заговор против Берии. Вот, мол, сперва покритиковали Лаврентия Павловича за неправильные предложения, а он не только не образумился, а стал переворот готовить. Ясное дело, пришлось арестовать мерзавца. В действительности же заговорщикам, наоборот, надо было скрывать свои истинные чувства к могущественному шефу МВД до самого последнего момента.
Убедив Маленкова, Хрущев стал склонять выступить против Берии других членов Президиума ЦК. Вот как он описывает этот деликатный процесс в мемуарах: «Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать, и сказал Маленкову, что надо поговорить с другими членами Президиума по этому поводу. Видимо, на заседании такое не получится, и надо с глазу на глаз поговорить с каждым, узнать мнение по коренному вопросу отношения к Берии. Маленков тоже согласился: «Пора действовать».
Приехал я к Ворошилову в Верховный Совет, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как только я открыл дверь и переступил порог его кабинета, он очень громко стал восхвалять Берию: «Какой у нас, товарищ Хрущев, замечательный человек Лаврентий Павлович, какой это исключительный человек!» Никита Сергеевич решил, что как-то неудобно после таких слов сразу же агитировать Ворошилова поскорее убрать из руководства «замечательного человека», и отложил разговор до более подходящего момента. Зато с Молотовым осечки не было. Вячеслав Михайлович и раньше не жаловал Лаврентия Павловича, не без основания видя в нем опасного конкурента (вспомним хотя бы историю с атомной бомбой). Поэтому идею уничтожить Берию встретил с энтузиазмом. Только поинтересовался, а что думает Малёнков. Хрущев успокоил его: «Я разговариваю сейчас с тобой от имени и Маленкова, и Булганина». Тогда Молотов совсем воспрянул духом. Остальные члены Президиума тоже не заставили себя долго уговаривать, только задавали сакраментальный вопрос: «А как Маленков?» Ворошилов согласился после того, как с ним поговорил Георгий Максимилианович, перед самым заседанием Президиума Совета Министров, на котором собирались арестовывать Берию. Тогда же Хрущев обработал Микояна, у которого, по словам Никиты Сергеевича, существовали «наилучшие отношения, они горой стояли друг за друга». Анастас Иванович ответил осторожно: «Берия действительно имеет отрицательные качества, но он не безнадежен, в составе коллектива может работать». Хрущев решил, что осторожный Микоян все равно задуманному помешать не сможет. Анастас Иванович спокойно поехал на аэродром встречать вернувшегося из ГДР Берию. Анастас Иванович не стал предупреждать старого друга об опасности, а повторил заученную со слов Хрущева и Маленкова байку о том, будто собирается экстренное заседание Президиума Совмина по германским делам.
Для ареста Лаврентия Павловича привлекли военных. Впоследствии участвовавшие в этой акции маршалы Г.К. Жуков и К.С. Москаленко по-разному рассказывали, как брали Берию. Каждый стремился приписать себе главную роль. Кому же верить? Неожиданное подтверждение правоты одного из маршалов пришло от Маленкова при обстоятельствах, исключавших неискренность с его стороны.
Когда в июне 1957 года Пленум ЦК громил «антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», Георгий Максимилианович, пытаясь напомнить товарищам о своих былых заслугах, в частности о своей роли в организации ареста Берии, заявил: «Берию разоблачить было не так просто. Мы тогда опирались на военных товарищей в этом деле в самый нужный момент, нам оказал решающую услугу в этом деле товарищ Москаленко. К нему в трудный момент мы обратились с товарищем Хрущевым, мы были без сил и средств». На Пленуме Маленкова не пинал только ленивый. Опровергали его на каждом шагу и с удовольствием. В зале присутствовали и Жуков, и Москаленко, но ни один из них на этот раз с Георгием Максимилиановичем спорить не стал. Значит, утверждение Маленкова о решающей роли Москаленко в создании группы генералов для ареста грозного Лаврентия Павловича — святая истинная правда. Да и как иначе объяснить, почему в команде, арестовывавшей Берию, было так много офицеров и генералов из штаба Московского округа ПВО, который возглавлял Кирилл Семенович. Поэтому рассказу Москаленко мы в основном можем доверять. Его я и хочу процитировать:
«В 9 часов утра (25 июня 1953 года. — Б. С.) мне позвонил по телефону АТС Кремля Хрущев, он спросил: «Имеются в вашем окружении близкие вам люди и преданные нашей партии так, как вы преданы ей?..»
После этого Хрущев сказал, чтобы я взял этих людей с собой и приезжал с ними в Кремль к председателю Совета Министров СССР товарищу Маленкову, в кабинет, где раньше работал Сталин».
Далее Хрущев закодированно намекнул, чтобы взяли с собой оружие: «Он сказал, чтобы я взял с собой планы ПВО и карты, а также захватил сигареты. Я ответил, что заберу с собой все перечисленное, однако курить бросил еще на войне, в 1944 году. Хрущев засмеялся и сказал, что сигареты могут потребоваться не те, которые я имею в виду. Тогда я догадался, что надо взять с собой оружие. В конце разговора Хрущев сказал, что сейчас позвонит Булганину. Я подумал, что нам предстоит выполнить какое-то важное задание Президиума ЦК КПСС.
Вскоре после этого последовал звонок министра обороны маршала Булганина, который сказал, что ему звонил Хрущев и предложил мне сначала прибыть к нему, т. е. к Булганину. Со своей группой я прибыл к министру обороны. Принял меня товарищ Булганин одного. Он сказал, что нужно арестовать Берию. «Сколько у тебя человек?» Я ответил: «Со мной пять человек». На что он ответил: «Очень мало людей. Кого, ты считаешь, можно еще привлечь, но без промедления?» Я ответил: «Вашего заместителя маршала Василевского». Он сразу почему-то отверг эту кандидатуру. Я спросил, кто находится сейчас в министерстве из влиятельных военных. Булганин ответил: «Жуков». Тогда я предложил взять Жукова. Он согласился, но чтобы Жуков был без оружия.
И вот в 11.00 дня 26 июня (а звонок Хрущева был 25. 6.) мы по предложению Булганина сели в его машину и поехали в Кремль. Вслед за нами на другой машине приехали Жуков, Брежнев и др. Всех нас Булганин провел в комнату ожидания при кабинете Маленкова, затем оставил нас и ушел в кабинет к Маленкову.
Через несколько минут вышли к нам Хрущев, Булганин, Маленков и Молотов. Они начали нам рассказывать, что Берия в последнее время нагло ведет себя по отношению к членам Президиума ЦК, шпионит за ними, подслушивает телефонные разговоры, следит за ними, кто куда ездит, с кем члены Президиума встречаются, грубит со всеми и т. д. Они информировали нас, что сейчас будет заседание Президиума ЦК, а потом по условленному сигналу, переданному через помощника Маленкова — Суханова, нам нужно войти в кабинет и арестовать Берию. К этому времени он еще не прибыл.
Примерно через час, т. е. в 13.00 26 июня 1953 года последовал условный сигнал, и мы пять человек вооруженных, шестой товарищ Жуков, быстро вошли в кабинет, где шло заседание. Товарищ Маленков объявил: «Именем советского закона арестовать Берию». Все обнажили оружие, я направил его прямо на Берию и приказал ему поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берию, после чего мы увели его в комнату отдыха Председателя Совета Министров, а все члены Президиума и кандидаты в члены остались проводить заседание, там же остался и Жуков».
Из рассказа Кирилла Семеновича получается любопытная картина. Жукова к операции привлекают только в самый последний момент и на всякий случай оставляют без пистолета. Значит, Хрущев и Булганин ему не вполне доверяют. Почему?
Серго Берия утверждает, что отец дружил с Жуковым, который часто бывал в их доме. Берия разделял мысли Георгия Константиновича о том, что в армии надо ликвидировать институт политработников. Разумеется, Серго Лаврентьевич — лицо заинтересованное. Ему очень хочется сблизить имя отца с именем того, кого сделали ныне национальным героем. Нет ли других свидетельств? Оказывается, есть!
После ареста Лаврентий Павлович забрасывал Маленкова («дорогого Георгия»), Хрущева и других коллег отчаянными письмами, где указывал на свои былые заслуги. 1 июля он писал: «Т.Т. Маленков и Молотов (другой вариант расшифровки — Микоян. — Б.С.) хорошо должны знать, что Жуков, когда его сняли с Генерального штаба по наущению Мехлиса, ведь его положение было очень опасно, мы вместе с вами уговорили назначить его командующим фронтом и тем самым спасли будущего героя нашей Отечественной войны; или когда т. Жукова выгнали из ЦК — всем нам было больно». Если не врал Берия, глядя в глаза скорой смерти, то данное письмо доказывает, что они с Георгием Константиновичем были совсем не в плохих отношениях.
Хрущеву, Маленкову и их сторонникам очень нужен был авторитетный военачальник, присутствие которого подбодрило бы генералов, идущих на лихое и непривычное дело: арестовывать маршала. Правда, среди заговорщиков был министр обороны маршал Булганин, но он популярностью среди генералитета не пользовался. Подготовку команды для ареста Берии Хрущев поручил генерал-полковнику Москаленко, возглавлявшему Московский округ ПВО и хорошо знакомому Никите Сергеевичу по войне. Именно по хрущевской рекомендации Кирилла Семеновича осенью 1943 года назначили командовать 38-й армией, освободившей столицу Украины. Но Москаленко не был сколько-нибудь широко известен. Да и сегодня его чаще всего вспоминают лишь в связи с арестом Берии. Другое дело — Жуков, первый заместитель Булганина. Его присутствие могло произвести впечатление даже на кремлевскую охрану, если бы она вдруг вздумала заступиться за своего шефа. Но Хрущев и Маленков наверняка были осведомлены о контактах Жукова и Берии и опасались — вдруг «маршал Победы» встанет на сторону «лубянского маршала» и, не дай Бог, устроит перестрелку на заседании Президиума. Вот и решили на всякий случай не давать ему пистолета. Но Георгий Константинович быстро сориентировался в обстановке.
В архиве сохранились черновые наброски речи Маленкова, которой он открыл заседание 26 июня, и его конспективные записи прозвучавших там предложений. Георгий Максимилианович обвинил старого друга в том, что «враги хотели поставить органы МВД над партией и правительством» и что сам Берия с поста главы МВД «контролирует партию и правительство», что «чревато большими опасностями». Лаврентия Павловича уличали в том, что он «подавлял коллектив». При этом Микоян предложил освободить Берию от поста первого заместителя правительства и назначить министром нефтяной промышленности (о том же пишет в мемуарах Хрущев). Уже один этот факт рушит все легенды о том, будто Лаврентий Павлович организовал заговор и планировал государственный переворот. Где, в какой стране человека, обвиненного в таких преступлениях. в наказание разжалуют из первых вице-премьеров в простые министры? Если бы на заседании фигурировали какие-то конкретные факты, уличавшие Берию в подготовке переворота, Анастас Иванович никогда бы не рискнул выступить с подобным предложением. Ведь это был бы прямой путь к тому, чтобы быть объявленным бериевским соучастником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Присутствовавшие-то хорошо знали, что Микоян был одним из тех, кто рекомендовал Лаврентия Павловича на работу в Москву.
Сам Микоян в посмертно опубликованных мемуарах утверждал, что еще с начала 30-х годов видел, что Берия — плохой человек. Как следует из записи Маленкова и мемуаров Хрущева, старый кремлевский лис, Анастас Иванович считал Лаврентия Павловича достаточно хорошим для поста министра нефтяной промышленности даже в тот момент, когда большинство членов Президиума ЦК склонялось к тому, чтобы прислонить к стенке слишком шустрого главу МВД. Ну а утверждения Микояна, будто его самого пытались «замазать» в репрессиях, да так и не сумели, оставим на совести бывшего начальника советской внешней и внутренней торговли. Достаточно сказать, что его подпись красуется под решением Политбюро от 5 марта 1940 года о расстреле 22 тысяч поляков. По меркам Нюрнбергского международного трибунала вполне хватило бы для того, чтобы быть повешенным. И нет никаких сомнений, что это не единственный документ, подписанный вождем, о котором говорили: «от Ильича до Ильича — без инфаркта и паралича». А насчет мнения Микояна, будто Берию наверх, в центральный аппарат, двигали таинственные грузины: один из высокопоставленных грузин, А.С. Енукидзе, лишился своего поста секретаря ВЦИК еще в 35-м году, когда Берия оставался в Закавказье и не было речи о его переезде в Москву; другой грузин в советском руководстве, Орджоникидзе, покончил с собой после острого конфликта со Сталиным. Произошло это за несколько месяцев до назначения Лаврентия Павловича первым заместителем наркома внутренних дел. Неужели перед тем, как выдвигать главу коммунистов Грузии на столь ответственный пост, Иосиф Виссарионович не проконсультировался с Микояном, когда-то работавшим вместе с Берией в Закавказье?
После ареста Берии распускались слухи, будто Хрущеву и остальным удалось упредить Берию буквально на один день. Якобы 27 июня Лаврентий Павлович собирался арестовать весь Президиум ЦК на спектакле в Большом театре. Интересно, какой глава заговора согласится накануне «дня X» на 10 дней уехать из страны, чтобы вернуться только накануне? А Берия как раз в середине июня был направлен в ГДР, где нарастали волнения, и уже после его прибытия разразилось восстание против режима Вальтера Ульбрихта. Время для либерализации было уже упущено, и Лаврентий Павлович, нисколько не смущаясь, бросил против практически безоружных демонстрантов пехоту и танки из состава советских оккупационных войск. Сотни убитых, тысячи раненых, выступление рабочих Берлина и других городов Восточной Германии было потоплено в крови. Берия прилетел в Москву только утром 26-го и сразу попал с воздушного корабля на последний в своей жизни «бал» — заседание Президиума ЦК (ему сказали, что не ЦК — а Совмина).
Помещенный после ареста в бункер штаба Московского военного округа, Лаврентий Павлович забрасывал коллег письмами, где умолял пощадить. 28 июня он писал Маленкову: «Дорогой Георгий. Я был уверен, что из той большой критики на Президиуме я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе (возможно, здесь Берия дословно повторил предложение Микояна. — Б.С.). Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно. Считаю необходимым сказать, что всегда был беспредельно предан партии Ленина — Сталина, своей Родине, был всегда активен в работе. Работал в Грузии, в Закавказье, в Москве в МВД, Совете Министров СССР и вновь в МВД, все отдавал работе, старался подбирать кадры по деловым качествам, принципиальных, преданных нашей партии товарищей. Это же относится к Специальному комитету, Первому и Второму главным управлениям, занимающимся атомными делами и управляемыми снарядами. Такое же положение Секретариата и помощников по Совмину. Прошу товарищей Маленкова Георгия, Молотова Вячеслава, Ворошилова Климентия, Хрущева Никиту, Кагановича Лазаря, Булганина Николая, Микояна Анастаса и других — пусть простят, если что и было за эти пятнадцать лет большой и напряженной совместной работы. Дорогие товарищи, желаю всем вам больших успехов в борьбе за дело Ленина — Сталина, за единство и монолитность нашей партии, за расцвет нашей славной Родины.
Георгий, прошу, если это сочтете возможным, семью (жена и старуха мать) и сына Серго, которого ты знаешь, не оставлять без внимания».
Надо отдать должное Лаврентию Павловичу. В этом, по сути предсмертном, письме он не только о себе хлопотал (хотя прямо ничего не просил, намекал только, что за хорошую работу, за атомную бомбу и ракетное оружие можно бы и не расстреливать). И не только о семье, которую Маленков, конечно же, не оставил без внимания: жена Нина и сын Серго были тотчас арестованы. Берия просил как бы и за своих сотрудников, вплоть до помощников и. секретарей. Говорил, что подбирал людей только по деловым качествам, наивно надеясь, что их минует опала. Может, потому, что никакой настоящей вины не чувствовал. Ведь не только государственный переворот не готовил, но даже никого из членов Президиума смещать не собирался.
Через два дня, не имея реакции на первое послание, Берия написал вновь. Теперь он решил, что если покаяться не в настоящих ошибках, а в несуществующих грехах, которые ему инкриминировали, жизнь, может, и сохранят. Узник обращался к «другу Георгию»: «Особенно тяжело и непростительно мое поведение в отношении тебя, где я виноват на все сто процентов». Берия утверждал, что «подверг свои действия самой суровой критике, крепко осуждаю себя». Он напоминал соратникам о былой дружбе: «Никита Сергеевич! Если не считать последнего случая на Президиуме ЦК, где ты меня крепко и гневно ругал, с чем я целиком согласен, мы всегда были большими друзьями. Я всегда гордился тем, что ты прекрасный большевик и прекрасный товарищ, и не раз тебе об этом говорил, когда удавалось об этом говорить, говорил и т-щу Сталину. Твоим отношением я всегда дорожил…
Лазарь Моисеевич и Анастас Иванович. Вы оба знаете меня давно. Анастас меня направил еще в 1920 году из Баку для нелегальной работы в Грузию. Тогда еще меньшевистскую. От имени Кавбюро РКП и Реввоенсовета 11-й армии. Лазарь знает меня с 1927 года, не забуду никогда помощи, оказанной мне по партийной работе в Закавказье, когда Вы были секретарем ЦК. За время работы в Москве можно было многое сказать. Но одно скажу: всегда видел с Вашей стороны принципиальное отношение, помощь в работе и дружбу».
Ответа не было. 2 июля Берия написал последнее письмо, обращаясь уже сразу ко всем «дорогим товарищам» из Президиума ЦК: «Со мной хотят расправиться без суда и следствия, после 5-дневного заключения, без единого допроса, умоляю вас всех, чтобы этого не допустить, прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно.
Дорогие т-щи, настоятельно умоляю вас назначить самую ответственную и строгую комиссию для строгого расследования моего дела, возглавив т. Молотовым или т. Ворошиловым. Неужели член Президиума ЦК не заслуживает того, чтобы его дело тщательно разобрали, предъявили обвинения, потребовали бы объяснения, допросили свидетелей. Это со всех точек зрения хорошо для дела и для ЦК. Зачем делать так, как сейчас делается, — посадили в подвал, и никто ничего не выясняет и не спрашивает. Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после 5 суток отсидки в подвале казнить его.
Еще раз умоляю вас всех, особенно т.т., работавших с т. Лениным и т. Сталиным, обогащенных большим опытом и умудренных в разрешении сложных дел т-щей Молотова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Во имя памяти Ленина и Сталина прошу, умоляю вмешаться, и вы все убедитесь, что я абсолютно чист, честен, верный ваш друг и товарищ, верный член нашей партии.
Кроме укрепления мощи нашей страны и единства нашей великой партии, у меня не было никаких мыслей. Свой ЦК и свое Правительство я не меньше любых т-щей поддерживал и делал все, что мог. Утверждаю, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка и притом подозрительная.
Т. Маленкова и т. Хрущева прошу не упорствовать. Разве будет плохо, если т-ща реабилитируют. Еще и еще раз умоляю вмешаться и невинного своего старого друга не губить».
Лаврентий Павлович в тот момент всерьез опасался, что в самом скором времени, может быть, в ближайшие часы, будет убит прямо в бетонном подвале без. суда и следствия… Теперь он решил все отрицать и настаивать на своей полной невиновности. И от потрясения, связанного с арестом и пятидневным заточением в полной изоляции, как кажется, потерял реальное восприятие действительности. Только этим можно объяснить веру Берии, что его собираются убить злодеи-тюремщики, которые действуют без ведома «старых товарищей» из ЦК. Маленков, Хрущев и другие члены Президиума не хуже арестованного знали, что никакого заговора он не готовил. И потому проводить расследование, а тем более «реабилитировать товарища» никто из них не собирался.
Больше Берия писем не писал. Ему перестали давать карандаш и бумагу.
Серго Берия убежден, что его отца убили сразу после ареста, да и сам арест происходил не в зале заседаний Президиума ЦК, а в особняке на Малой Никитской улице, где жил Лаврентий Павлович: «Примерно в полдень (26 июня 1953 года. — Б.С.) в кабинете Бориса Львовича Ванникова, ближайшего помощника моего отца по атомным делам, раздался звонок. Звонил летчик-испытатель Ахмет-Хан Султан.
«Серго, — кричит, — у вас дома была перестрелка. Ты все понял? Тебе надо бежать, Серго! Мы поможем.
У нас действительно была эскадрилья, и особого труда скрыться, скажем, в Финляндии или Швеции не составляло труда. И впоследствии я не раз убеждался, что эти летчики — настоящие друзья. Но что значит бежать в такой ситуации? Если отец арестован, побег — лишнее доказательство его вины.
Когда мы подъехали (к особняку. — Б.С.), со стороны улицы ничего необычного не заметили, а вот во внутреннем дворе находились два бронетранспортера. Внутренняя охрана нас не пропустила. Отца дома не было. Когда возвращался к машине, услышал от одного из охранников: «Серго, я видел, как на носилках вынесли кого-то, накрытого брезентом». Со временем я разыскал и других свидетелей, подтвердивших, что видели те носилки.
В пятьдесят восьмом я встретился со Шверником, членом того самого суда (над Л.П. Берией. — Б. С.). Могу, говорит, одно тебе сказать: живым я твоего отца не видел. Понимай как знаешь, больше ничего не скажу.
Другой член суда, Михайлов, тоже дал мне понять при встрече на подмосковной даче, что в зале суда сидел совершенно другой человек, но говорить на эту тему он не может.
Почему никто и никогда не показал ни мне, ни маме хотя бы один лист допроса с подписью отца?
Нет для меня секрета и в том, почему был убит мой отец. Считая, что он имеет дело с политическими деятелями, отец предложил соратникам собрать съезд партии или хотя бы расширенный Пленум ЦК, где и поговорить о том, чего давно ждал народ. Отец считал, что все руководство страны должно рассказать — открыто и честно! — о том, что случилось в тридцатые, сороковые, начале пятидесятых годов, о своем поведении в период массовых репрессий. Когда, вспоминаю, он сказал об этом незадолго до смерти дома, мама предупредила: «Считай, Лаврентий, что это твой конец. Этого они тебе никогда не простят».
Предположение Сергея Лаврентьевича о том, что отец был убит в день ареста, легко опровергается сохранившимися в архиве тюремными письмами Берии. А вот насчет протоколов допросов, возможно, как мы увидим ниже, здесь действительно лежит ключ к разгадке тайны смерти Берии. Однако прежде следует подчеркнуть, что фрагменты нескольких протоколов допросов «лубянского маршала» на следствии историки публиковали. Н.А. Зенькович, например, цитирует допросы, происходившие 23 июля и 7 августа и касавшиеся авторства книги «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Берию обвиняли в присвоении чужой рукописи, изданной в 1935 году под его именем. Лаврентий Павлович своей вины не признал. Он настаивал, что «этот доклад (сделанный Берией на собрании Тбилисской парторганизации в июле 35-го. — Б.С.) готовился по моей инициативе, я был главным участником подготовки материалов к докладу, помогал мне в сборе материалов филиал ИМЭЛ города Тбилиси. Принимало участие в подготовке этого доклада около 20 человек, и около 100 человек было принято бывших участников того времени. Я отрицаю, что я делал это с целью втереться в доверие к Сталину. Я считал совершенно необходимым издание такой работы».
На следующем допросе Берию спросили о судьбе одного из создателей доклада бывшего заведующего отделом агитации Закавказского крайкома партии Эрика Бедии, поводом для ареста которого будто бы послужило его заявление во время дружеской вечеринки, что не Берия, а он, Бедия, написал злополучный доклад. Лаврентий Павлович отрицал, что распорядился арестовать Бедию из-за его неосторожного заявления. Отрицал Берия и то, что знал о расстреле Бедии по приговору тройки.
Если посмотреть на это дело с позиций сегодняшнего дня, то ничего необычного в случае с докладом об истории большевистских организаций Закавказья нет. Точно так же книги Сталину, Жданову, Маленкову, Хрущеву и другим партийным вождям писали коллективы «спичрайтеров». И Берии создавать бессмертный доклад помогал не один Бедия, а целый коллектив Грузинского ИМЭЛа. При желании подобное обвинение можно было предъявить любому из обвинителей «Лубянского маршала». Но против Лаврентия Павловича годилось все, что попадалось под руку, поскольку основное обвинение в заговоре даже ложными показаниями подтвердить было довольно затруднительно. Ни прокурор, ни его партийные наставники не смогли даже сколько-нибудь правдоподобно придумать сценарий «бериевского переворота». Расстрелять же Бедию могли вовсе не из-за книги, а, так сказать, по должности, — Сталин и Ежов выводили в расход большинство чиновников уровня зав. отделом республиканского ЦК или обкома партии. Берия же, наверное, не имел никакого желания вычеркивать из расстрельного списка болтливого соратника.
Вспомним, что по делу о похищении и убийстве жены маршала Кулика показания следователям давали не только непосредственные исполнители, но и, 26 августа 1953 года, сам Берия.
В письме Нины Теймуразовны, написанном Хрущеву из Бутырской тюрьмы 7 января 1954 года, ни разу не упоминалось, что во время допросов следователи хоть раз ссылались на показания ее мужа. Вдова Берии утверждала: «Действительно страшным обвинением ложится на меня то, что я более тридцати лет (с 1922 года) была женой Берии и носила его имя. При этом до дня его ареста я была ему предана, относилась к его общественному и государственному положению с большим уважением и верила слепо, что он преданный, опытный и нужный для Советского государства человек (никогда никакого основания и повода думать противное он мне не давал ни одним словом). Я не разгадала, что он враг Советской власти, о чем мне было заявлено на следствии. Но он в таком случае обманул не одну меня, а весь советский народ, который, судя по его общественному положению и занимаемым должностям, тоже доверял ему.
Исходя из его полезной деятельности, я много труда и энергии затратила в уходе за его здоровьем (в молодости он болел легкими, позже почками) (формулировка замечательная: получается, что не любовь двигала Ниной Теймуразовной в ее заботе о муже, а только осознание партийного долга — надо создать надлежащие условия для работы ценного кадра; если тут перед нами не обычная уловка с целью приуменьшить свою «вину» как «члена семьи врага народа», то можно предположить, почему Лаврентий Павлович любил сходить налево. — Б.С.). За все время нашей совместной жизни я видела его дома только в процессе еды или сна, а с 1942 года, когда я узнала от него же о его супружеской неверности, я отказалась быть ему женой (Лаврентий Павлович на следствии показал, что «заразился сифилисом «период войны, кажется, в 1943 году и прошел курс лечения»; может быть, в связи с болезнью жена и узнала о бесчисленных любовных шашнях своего благоверного. — Б.С.) и жила с 1943 года за городом и вначале одна, а затем с семьей своего сына. Я за это время не раз ему предлагала, для создания ему же нормальных условий, развестись со мной, с тем чтобы жениться на женщине, которая, может быть, его полюбит и согласится быть его женой. Он мне в этом отказывал, мотивируя это тем, что без меня он на известное время может выбиться как-то из колеи жизни. Я, поверив в силу привычки, человеку, осталась дома, с тем, чтобы не нарушать ему семью и дать ему возможность, когда он этого захочет, отдохнуть в этой семье. Я примирилась со своим позорным положением в семье, с тем чтобы не повлиять на его работоспособность отрицательно, которую я считала направленной не вражески, а нужной и полезной.
О его аморальных поступках в отношении семьи, о которых мне также было сказано в процессе следствия, я ничего не знала. Его измену мне, как жене, считала случайной и отчасти винила и себя, так как в эти годы я часто уезжала к сыну, который жил и учился в другом городе».
Аморальное поведение Берии стало настоящей находкой для свергнувших его коллег, поскольку ничего весомого в подкрепление версии заговора найти не удавалось. Да и в предыдущей деятельности Лаврентия Павловича особого криминала, по меркам того времени, сыскать не удавалось. На июльском Пленуме секретарь ЦК А.А. Андреев порадовал присутствующих таким откровением: «Берия добивался всячески, чтобы все члены Политбюро были чем-нибудь отмечены, чтобы были с пятнами, а он, видите ли, чист. И на самом деле, смотрите, к нему ничего не предъявишь — чист». Члены ЦК дружно рассмеялись. Они-то догадывались, что Маленкову, Молотову, Хрущеву и прочим не составляло труда искупаться в дерьме и без всякой помощи Лаврентия Павловича.
Искренний, здоровый смех участников Пленума вызвал и Ворошилов, когда привел такое доказательство, что Лаврентий Павлович не пользовался авторитетом у подчиненных: после ареста Берии ни один чекист не написал письмо в его защиту, где говорилось бы: «Что вы сделали с нашим великим вождем, как мы будем обходиться без нашего Берии?..» Партийные руководители хорошо знали, что таких писем не было и тогда, когда арестовывали предшественников Берии: Ягоду, Ежова, Абакумова. Да и вздумай Сталин отправить Климента Ефремовича «в штаб Тухачевского», за него не посмел бы заступиться ни один из командиров и комиссаров Красной Армии.
За Лаврентием Павловичем были и реальные преступления: репрессии невиновных в Грузии в ЗО-е годы, расстрел польских офицеров в 40-м, казнь советских генералов в 41-м, депортация «наказанных народов» в 44-м, тысячи, десятки тысяч загубленных жизней (но все же не сотни тысяч, как у Ежова, и не миллионы, как у «кремлевского горца»). Но ответственность за все эти преступления он делил со Сталиным и другими партийными руководителями. Наследники генералиссимуса пока не готовы были заклеймить за необоснованные репрессии его самого, боясь окончательно подорвать веру народа в коммунизм. Коллеги Берии по Президиуму ЦК чужой крови пролили гораздо больше, чем Лаврентий Павлович. Хрущеву в самый разгар террора довелось возглавлять Московскую парторганизацию, а с января 38-го — Украинскую. В обеих было неизмеримо больше членов, в том числе ответственных работников, чем в подведомственной Берии компартии Грузии. А пресловутые тройки, отправлявшие людей на смерть, обычно состояли из прокурора, начальника НКВД и главы местной парторганизации. Интересно, во сколько десятков раз больше людей было в тех расстрельных списках, что подписывал Никита Сергеевич, по сравнению с теми, что на совести Лаврентия Павловича? Придя к власти, Хрущев, с помощью своего человека во главе КГБ И.А. Серова, постарался эти списки уничтожить. Остались только выступления Никиты Сергеевича, публиковавшиеся в печати. Их стоит перечитать.
Еще в январе 1936 г. в одной из речей Хрущев заявил: «Арестовано только 308 человек; для нашей московской организации — это мало». А 22 августа того же года на московском партактиве коснулся процесса Зиновьева и Каменева: «…Товарищ Сталин, его острый ленинский глаз… всегда метко указывал пути нашей партии, откуда могут выползти гады. Надо расстрелять не только этих мерзавцев, но и Троцкий тоже подлежит расстрелу…» И тотчас призвал к расправе над сыном одного из подсудимых, И.П. Бакаева: «…На одной московской фабрике («Дукат») работал бакаевский змееныш, под своей фамилией. А парторганизация не знает даже таких одиозных фамилий… Раз фамилия Бакаев, то должны осмотреть его под лупой… Где же бдительность?.. Надо уметь организовывать работу, уметь брать человека на прицел, изучить его быстро и довести дело до конца…» Вот и Берию Никита Сергеевич, взяв на прицел, быстро довел до конца, т. е. до расстрела.
В июне 1938 г. на ХIV съезде украинских коммунистов Хрущев призвал добить «врагов народа»: «…У нас на Украине состав Политбюро ЦК КП(б)У почти весь, за исключением единиц, оказался вражеским. Приезжал Ежов, и начался настоящий разгром. Я думаю, что сейчас мы врагов доконаем на Украине…» А в феврале 1940 г., когда «врагов» на воле почти не осталось, призвал не терять бдительности: «Враги у нас не передохли и не передохнут, пока существует капиталистическое окружение. Это надо помнить. Мы на Украине здорово почистили врагов. Но некоторые еще остались. Они чувствуют себя одиноко, боятся голову поднять, но они есть. Поэтому смотреть надо в оба».
О преступлениях Молотова, Ворошилова и Кагановича Никита Сергеевич по необходимости подробно просветил Пленум ЦК в июне 57-го, когда боролся с «антипартийной группой». Близкому к Хрущеву Микояну тоже удалось основательно почистить архивы от следов собственного творчества на ниве искоренения «врагов народа». Но уж одно то, что в 37-м он курировал НКВД и выступал с программной речью на юбилейном торжестве в честь 20-летия ВЧК, говорит о многом.
Обвинения же Берии в половой распущенности, повторяю, были его противникам очень кстати. На следствии Лаврентий Павлович признал: «Я легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи, непродолжительные. Этих женщин привозили ко мне на дом, к ним я никогда не заходил. Доставлял мне их Саркисов (начальник секретариата. — Б.С.) и Надарая (заместитель начальника личной охраны. — Б. С.), особенно Саркисов.
«— По вашему указанию Саркисов и Надарая вели списки ваших любовниц», — уточнил Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко. — «Вы подтверждаете это?»
«— Подтверждаю», — уныло отозвался Берия.
«— Вам предъявляется девять списков, в которых значатся 62 женщины», — изобличал бывшего шефа МВД прокурор.
«Большинство женщин», — показал Берия, — «которые значатся в этих списках, мои сожительницы. Списки составлены за ряд лет».
«— Вы признаете, что превратили свой дом в притон разврата, а свою личную охрану в сводников?»-подсказал подсудимому правильный ответ Роман Андреевич.
«— Дом я не превратил в притон, а что Саркисов и Надарая использовались для сводничества — это факт», — частично признал свою вину Лаврентий Павлович.
В единственном сохранившемся списке, который вел бывший начальник секретариата Берии Саркисов, значились фамилии 39 женщин. Позднее молва увеличила это число до 500 и даже 800, сделав Лаврентия Павловича настоящим сексуальным гигантом. Хотя, вероятно, Берия действительно нравился женщинам. На июльском Пленуме секретарь ЦК КПСС Н.Н. Шаталин утверждал, что в кабинете смещенного министра обнаружены «многочисленные письма от женщин интимно-пошлого содержания». Несомненно, у грозного хозяина Лубянки были свои поклонницы. Но нередко партнерши доставлялись в его особняк насильно, а порой это были обычные проститутки, которым платили по существовавшим рыночным расценкам — от 100 до 250 рублей за визит.
К делу были пришиты исповеди нескольких жертв бериевской похоти. Вот одна из них: «Я пыталась уклониться от его домогательств, просила Берию не трогать меня, но Берия сказал, что здесь философия ни к чему, и овладел мною. Я боялась ему сопротивляться, так как опасалась, что Берия может посадить моего мужа. Только подлец может пользоваться зависимым положением жены подчиненного для того, чтобы овладеть ею». А вот рассказ школьницы, самый жуткий из всех: «Однажды я пошла в магазин за хлебом по улице Малой Никитской. В это время вышел из машины старик в пенсне, с ним был полковник в форме МВД. Когда старик стал меня рассматривать, я испугалась и убежала. На другой день к нам пришел полковник, оказавшийся впоследствии Саркисовым. Саркисов обманным путем, под видом оказания помощи больной маме и спасения ее от смерти, заманил меня в дом по Малой Никитской и стал говорить, что маму спасет его товарищ, очень большой работник, очень добрый, который очень любит детей и помогает всем больным. В 5–6 часов вечера 7 мая 1949 года пришел старик в пенсне, т. е. Берия. Он ласково со мной поздоровался, сказал, что не надо плакать, маму вылечат и все будет хорошо. Нам дали обед. Я поверила, что этот добрый человек поможет мне в такое тяжелое для меня время (умерла бабушка и при смерти мама).
Мне было 16 лет. Я училась в 7 классе. Потом Берия отнес меня в свою спальню и изнасиловал. Трудно описать мое состояние после случившегося. Три дня меня не выпускали из дома. День сидел Саркисов, ночь — Берия». На суде человек, похожий на Лаврентия Павловича, в своем последнем слове признал, что, вступив в интимную связь с несовершеннолетней, совершил преступление, но отрицал, что это было изнасилование.
Бывали и курьезные случаи. Одна из любовниц Лаврентия Павловича будто бы заявила на допросе: «Берия предложил мне сношение противоестественным способом, от чего я отказалась. Тогда он предложил другой, тоже противоестественный способ, на что я согласилась». Этот неразрешимый ребус появился на свет благодаря потрясающему целомудрию советских следователей, так и не решившихся доверить бумаге, какими именно способами секса искушал герой-любовник с Малой Никитской свою пассию. Кстати, некоторые показания бериевских подруг внушают серьезные сомнения. Например, одна из них, артистка Радиокомитета М., которой, кстати сказать, Лаврентий Павлович помог получить квартиру в Москве, утверждала, что последняя их встреча состоялась 24 или 25 июня 1953 года, причем Берия попросил М. на следующую встречу, намечавшуюся через три дня, прийти вместе с подругой. Однако из-за ареста «Лубянского маршала» встреча не состоялась. Но, как мы помним, накануне своего падения Берия десять дней был в братской ГДР, где железной рукой наводил порядок, и возвратился в Москву лишь утром 26-го, отправившись прямо с аэродрома на роковое заседание. Поэтому ни с кем из любовниц накануне он встречаться никак не мог. У него, как говорится, стопроцентное алиби. Возможно, М. что-то напутала, и их свидание в действительности состоялось накануне отлета Лаврентия Павловича в Берлин. Хотя допрашивали артистку всего два-три месяца спустя после драматических событий и так быстро забыть даты было мудрено. Скорее можно предположить, что М., как и другие любовницы Берии, говорили то, что хотели от них следователи, выдумывая все новые и новые похождения злодея-любовника, а допрашивающие даже не задумывались о правдоподобии того, что им сообщали. Кстати, большинство свидетельниц наверняка выставляли себя жертвами насилия, чтобы их не заподозрили в симпатиях к поверженному «врагу народа». Поэтому сегодня трудно сказать, кто из бериевских партнерш отдавался добровольно, а кто — по принуждению.
В любом случае, «аморалка» тянула на статьи за изнасилование и злоупотребление служебным положением, но никак не на государственную измену. А допрашивать Берию по политическим делам было опасно. «Лубянский маршал» слишком много знал. Подозреваю, что допросы прекратились вскоре после того, как мелочи вроде книги о большевиках Закавказья, похищения жены маршала Кулика и амурных похождений Лаврентия Павловича оказались исчерпаны. Впрочем, пока как будто не опубликованы даже выдержки из протоколов допросов на следствии, свидетельствующие, что Берию расспрашивали о подробностях его «аморального поведения».
Прежде чем понять, когда и как умер «лубянский маршал», я хочу предоставить слово его тюремщику — коменданту штаба Московского округа ПВО. Вот что он сообщил в интервью газете «Вечерняя Москва» 28 июля 1994 года: «Вышли из здания (Совмина. — Б. С.) генералы Москаленко, Бакеев, Батицкий, полковник Зуб, подполковник Юферев — адъютант командующего, полковник Ерастов. Среди них Берия. В автомашину слева от Берии сел Юферев, справа — Батицкий, напротив — Зуб и Москаленко. Тронулись. Впереди — «ЗИС-110», за ним — автомашины с пятьюдесятью автоматчиками. Минут через сорок-пятьдесят приехали на гарнизонную гауптвахту.
Двадцать седьмого меня вызвал командующий (К.С. Москаленко. — Б.С.) и сказал, что мне поручен уход за Берией. Я должен готовить пищу, кормить его, поить, купать, стричь, брить и, по его требованию, ходить с дежурным генералом на его вызов. Когда командующий сказал, что я прикреплен к нему, мне сказали: «Несите пищу». Пошли генерал Бакеев, полковник Зуб, и я понес пищу. Хорошая пища, из солдатской столовой. Он сидел на кровати, упитанный такой мужчина, холеный, в пенсне. Почти нет морщин, взгляд жесткий и сердитый (было отчего сердиться! — Б.С.). Рост примерно 160–170 сантиметров. Одет в костюм серого цвета, поношенный. Сперва он отвернулся, ни на кого не смотрел. Ему говорят: «Вы кушайте». А он: «А вы принесли карандаш и бумагу?» «Принесли», — ответил командующий. Он тут же начал писать. Когда я дал ему кушать, он эту тарелку с супом вылил на меня — взял и вылил (для майора Хижняка солдатский суп, наверное, был хорош; Берия же привык к куда более изысканной пище и, скорее всего, воспринимал то, что ему принесли, как лагерную баланду; да и аппетит после всего происшедшего у Лаврентия Павловича, точно, исчез — от переживаний, и произошел нервный срыв. — Б.С.). Все возмутились. Строго предупредили. Но бумагу и карандаш ему оставили. В тот раз есть он вообг ще не стал.
Я был ежедневно, до двенадцати раз в сутки. Скоро его перевели в штаб округа на улице Осипенко, 29. Там мы пробыли три-четыре дня, а потом там же перевели в бункер большой, где был командный пункт, во дворе здания штаба».
На вопрос корреспондента, сколько продолжался суд над Берией, Хижняк ответил: «Больше месяца. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Они работали с 10 до 18–19 часов. Конечно, с перерывом на обед». Бывший комендант опроверг также распространенные слухи, будто перед расстрелом Берия на коленях просил пощады: «Не было этого. Я же с самого начала до конца был с ним. Никаких колен, никаких просьб… Когда его приговорили, мне генерал Москаленко приказал съездить домой (Берия жил на углу улицы Качалова (Малой Никитской. — Б. С.) и Вспольного переулка) и привезти Берии другой костюм (до того он был все время в сером, в каком его арестовали в Кремле). Я приехал, там какая-то женщина. Я сказал, кто я такой. Мне надо костюм. Она мне его подала. Черный.
Я переодел его. Костюм серый я сжег, а в костюм черный переодел. Вот когда переодевал, он уже знал, что это уже готовят его.
С двумя плотниками мы сделали деревянный щит примерно метра три шириной, высотой метра два. Мы его прикрепили к стенке в бункере, в зале, где были допросы. Командующий мне сказал, чтобы я сделал стальное кольцо, я его заказал, и сделали — ввернули в центр щита. Мне приказали еще приготовить брезент, веревку. Приготовил. Готовили весь вечер. Привел я его. Руки не связывали. Вот только когда мы его привели к щиту, то я ему руки привязал к этому кольцу, сзади».
По словам Хижняка, перед казнью Берия вел себя «ничего»: «Только какая-то бледность, и правая сторона лица чуть-чуть подергивалась. Я читал в газетах и книгах, что перед казнью завязывают глаза. И я приготовил полотенце — обычное, солдатское. Стал завязывать ему глаза. Только завязал — Батицкий: «Ты чего завязываешь?! Пусть смотрит своими глазами!» Я развязал. Присутствовали члены суда: Михайлов, Шверник, еще Батицкий, Москаленко, его адъютант, Руденко. Врача не было. Стояли они метрах в шести-семи. Батицкий немного впереди, достал «парабеллум» и выстрелил Берии прямо в переносицу. Он повис на кольце.
Потом я Берию развязал. Дали мне еще одного майора. Мы завернули его в приготовленный брезент и — в машину. Было это 23 декабря 1953 года, ближе к ночи. И когда стал завязывать завернутый в брезент труп, я потерял сознание. Мгновенно. Брыкнулся. И тут же очухался. Батицкий меня матом покрыл. Страшно жалко было Берию, потому что за полгода привык к человеку, которого опекал» (опека, согласимся, несколько своеобразная).
Прежде чем попробовать разобраться, что в свидетельстве Хижняка — правда, а что — нет, я хочу процитировать два документа, касающиеся смерти Берии и тех, кого судили вместе с ним. Вот первый документ:
«Акт 1953 года декабря 23-го дня. Сего числа в 19 часов 50 минут на основании предписания председателя Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР от 23 декабря 1953 года за № 003 мною, комендантом Специального Судебного Присутствия генерал-полковником Батицким П.Ф., в присутствии Генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Руденко Р.А. и генерала армии Москаленко К.С. (за участие в аресте Берии Кирилла Семеновича пожаловали следующим чином. — Б.С.) приведен в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания — расстрелу Берии Лаврентию Павловичу». И подписи: «Генерал-полковник Батицкий. Генеральный прокурор СССР Руденко. Генерал армии Москаленко».
А вот второй документ: «Акт. 23 декабря 1953 года. Зам. министра внутренних дел СССР тов. Лунев, зам. Главного военного прокурора т. Китаев в присутствии генерал-полковника тов. Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора тов. Сопильника привели в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными:
1) Кобуловым Богданом Захарьевичем, 1904 года рождения,
2) Меркуловым Всеволодом Николаевичем, 1895 года рождения,
3) Деканозовым Владимиром Георгиевичем, 1898 года рождения,
4) Мешиком Павлом Яковлевичем, 1910 года рождения,
5) Влодзимирским Львом Емельяновичем, 1902 года рождения,
6) Гоглидзе Сергеем Арсентьевичем, 1901 года рождения,
к высшей мере наказания — расстрелу.
23 декабря 1953 года в 21 час 20 минут вышеуказанные осужденные расстреляны.
Смерть констатировал — врач (роспись)».
Попробуйте, как в известном тесте на внимательность, найти десять или больше значимых различий, кроме фамилий осужденных, между этими двумя однотипными документами. Прежде всего можно сказать, что в одном Хижняк был точно прав — врача при казни Берии не было. Потому что под актом о расстреле Лаврентия Павловича нет подписи доктора, констатировавшего смерть. Это — первая бросающаяся в глаза странность. Как же так, в отношении второстепенных участников заговора позаботились все оформить в полном соответствии с юридическими нормами, честь по чести, а смерть главного заговорщика даже забыли удостоверить врачебной подписью. Неужели только затем, чтобы дать почву для слухов, будто бы расстреляли не Берию, а кого-то другого, тогда как живой Лаврентий Павлович скрывается то ли в Аргентине, то ли в Швеции?
Чувствуется, что акт о Берии составляли торопливо, пропустив, в частности, год рождения осужденного. А ведь это тоже важно для однозначной идентификации личности казненного. Вдруг в стране существуют два Лаврентия Павловича Берии, различающиеся лишь датами рождения!
Вот насчет присутствия при расстреле Берии членов Специального Судебного Присутствия (прости, читатель, за невольный каламбур) Хижняк, думаю, ошибся. Во всяком случае, в акте о приведении приговора в исполнение они никак не упомянуты. Разве только как зрители пришли поглазеть на казнь некогда грозного «лубянского маршала», попросив не заносить их имена в протокол?
Есть и другая странность. Первый акт подписали, кроме непосредственного исполнителя приговора генерала Батицкого, прокурор Руденко и генерал Москаленко. Известно, что двое последних были единственные, кому Президиум ЦК доверил допрашивать Берию во время следствия. Больше никого из прокуроров, следователей и генералов к преступнику, знающему самые большие государственные секреты, во время следствия и близко не допускали. Только майор Хиж-няк ухаживал за Лаврентием Павловичем, как сиделка за больным, но не имел права даже словом с ним перемолвиться. Подпись Генерального прокурора Руденко на акте о расстреле Берии вполне уместна. Не вызывает, казалось бы, вопросов и подпись Москаленко: Кирилл Семенович был одним из членов Специального Судебного Присутствия, судившего Берию. Странно, однако, что акт пришлось подписывать Москаленко, а не председателю Судебного Присутствия маршалу И.С. Коневу. Неужели Иван Степанович отказался? Вроде нет. В архиве сохранилось предписание Конева коменданту Специального Судебного Присутствия генерал-полковнику И.Ф. Батицкому немедленно привести в исполнение приговор в отношении осужденного Л.П. Берии и представить акт. На этой бумаге имеется резолюция: «Приговор приведен в исполнение в 19.50 23.12.53 г. Батицкий». Предписание, что характерно, отпечатано на машинке, а акт о расстреле Берии почему-то написан от руки. Присутствовать же при том, как исполняется его предписание, маршалу почему-то не захотелось. Хотя, вроде, был человек не робкого десятка. Может, бывший подчиненный генерал Москаленко да Генеральный прокурор Руденко настоятельно порекомендовали Коневу поберечь нервы. и не присутствовать при казни?
Вызывает удивление и то, что у Батицкого, Руденко и Москаленко не было времени подождать два часа, чтобы подписать второй акт — о расстреле остальных осужденных. Они предпочли доверить это лицам куда менее значительным — заместителю министра внутренних дел Луневу и заместителю Главного военного прокурора Китаеву. А кто был непосредственным исполнителем приговора над Кобуловым, Меркуловым и др., из текста документа не ясно. То ли расстреливали осужденных сами Лунев и Китаев (что маловероятно — не царское это дело при их должностях), то ли упомянутые во втором акте генералы Гетман, Бакеев и Сопиль-ник, то ли безвестные офицеры комендатуры.
Вспомним, что члены Специального Судебного Присутствия, председатель ВЦСПС Н.М. Шверник (которого, по мнению Лаврентия Павловича, «народ не знает») и секретарь Московского обкома партии Н.А. Михайлов, как утверждает Серго Берия, заверили его, что на суде был не его отец, а совсем другой человек. Справедливости ради отмечу, что еще один член суда, председатель Совета профсоюзов Грузии М.И. Кучава, в беседе с автором книги «Тринадцать «железных» наркомов» генералом МВД В.Ф. Некрасовым заявил, что на судебном заседании присутствовал сам Берия, а не его двойник. Только Лаврентий Павлович был без своего знаменитого пенсне, и обнаружилось, что он страдает косоглазием. Между прочим, если сохранилась медицинская карта бывшего шефа МВД, можно попытаться проверить, действительно ли он косил. Что любопытно: бывший глава грузинских профсоюзов не заметил, чтобы Берия за время пребывания в тюрьме заметно похудел. Это тоже настораживает: неужели Лаврентий Павлович не понимал, что его ждет, и сохранил отменный аппетит, тем более что питаться приходилось из солдатской столовой (а как у нас кормят солдат — известно).
А теперь вернемся опять к рассказу Хижняка. Бывший комендант почему-то уверял корреспондента, что суд на Берией длился больше месяца. И это одна из наиболее существенных ошибок в свидетельстве бывшего тюремщика «лубянского маршала». Ведь в действительности Специальное Судебное Присутствие под председательством Конева уложилось меньше чем в неделю — с 18 по 23 декабря 1953 года. Куда это водили Берию ежедневно в течение месяца с 10 до 19 часов, с часовым перерывом на обед, когда Берию возвращали в бункер, где Хижняк вновь имел счастье его лицезреть (как можно понять из текста интервью, на суде майор не присутствовал)?
Рискну высказать вот какое предположение. Протокол первого из публиковавшихся до сих пор допросов Берии датирован 23 июля, протокол последнего — 26 августа. О существовании более поздних по времени протоколов пока что ничего не известно. Может быть, после 26 августа Берию вообще не допрашивали? Если так, то получается, что допросы Лаврентия Павловича длились чуть больше месяца. Не на суд провожал каждый день в 10 часов утра Хижняк Берию, а на следствие. А когда допросы решили прекратить, Берию расстреляли без всякого суда. И произошло это, скорее всего, в конце августа или в начале сентября.
При таком предположении многие детали рассказа Хижняка получают свое рациональное объяснение. Он утверждает, что Берию расстреляли «ближе к ночи». В акте же, подписанном Руденко, Москаленко и Батицким, стоит не такое уж и позднее время — 19.50. Никак не скажешь, что ближе к ночи. Хижняк утверждает, что приготовления к казни заняли несколько часов, «весь вечер»: пока изготовили деревянный щит и металлическое кольцо, пока съездили за новым костюмом и переодели в него Берию. Между тем судебные приговоры по такого рода делам как правило приводились в исполнение немедленно. Вот и на предписании Конева содержалось требование о немедленном исполнении приговора. Когда год спустя судили коллегу Берии Абакумова (хотя процесс считался открытым, его стенограмма многие десятилетия хранилась под грифом «совершенно секретно»), бывшего шефа МГБ расстреляли буквально тут же после вынесения смертного приговора, сразу как вывели из зала суда. В полдень 19 декабря закончилось последнее заседание, а в 12.15 Виктор Семенович получил пулю в затылок. Он еще на что-то надеялся. Последние абакумовские слова, оборванные выстрелом, были: «Я все, все напишу в Полит» («бюро» закончить не успел). Хрущев и его соратники действительно опасались, что бывший шеф КГБ, узнав о смертном приговоре, может наговорить или, хуже того, написать много лишнего, и тянуть с расстрелом не стали ни одной лишней минуты.
С Берией же, если верить Хижняку (а не верить, вроде, нет оснований) возились несколько часов. Может быть, конечно, щит для расстрела стали мастерить загодя, еще до вынесения приговора. Что ж, ничего невозможного в этом нет. И Руденко, и Москаленко, и другие члены Спецприсутствия прекрасно знали, каким будет приговор. Но вряд ли до вынесения приговора стали бы решать чисто технические детали: как расстреливать Берию — отдельно или вкупе с другими осужденными (щит с кольцом явно был рассчитан только на одного человека). А уж облачать Лаврентия Павловича в другой костюм во время заседания никогда бы не стали. И почему, спрашивается, Москаленко пришла в голову фантазия перед расстрелом переодевать Берию из серого в черное? Не все ли равно, в каком на тот свет идти? Ведь подельников Берии как будто не переодевали, за что же Лаврентию Павловичу такая честь?
А вот за что. Думаю, Хижняк запамятовал одну деталь: не серый костюм ему пришлось сжигать впоследствии, а черный. Запамятовать немудрено: сразу после казни с непривычки майор грохнулся в обморок. Серый костюм же никто не сжигал, ибо он был нужен для человека, которому предстояло сыграть роль Берии на суде. Двойник наверняка имел внешнее сходство с Лаврентием Павловичем, хотя, конечно, не абсолютное. Вот пусть присутствовавшие на суде участники и свидетели ареста Берии убедятся: перед ними тот самый человек, в том же самом сером костюме, в каком его брали на Президиуме ЦК. А чтобы неполное сходство не так бросалось в глаза людям, знавшим Берию, двойника посадили на скамью подсудимых без пенсне. Рассчитывали, что несходство отнесут за счет отсутствия традиционного атрибута внешнего облика «Лубянского маршала». Ведь в очках и без очков человек часто смотрится совсем по-разному. Кстати, Хижняк, возможно, ошибся, когда утверждал, что на второй день после ареста видел Берию в пенсне. Ведь в письме коллегам по Президиуму от 1 июля Лаврентий Павлович жаловался: «Т-щи, прошу прощения, что пишу не совсем связно и плохо в силу своего состояния, а также из-за слабости света и отсутствия пенсне (очков)». Пенсне, очевидно, отобрали, чтобы узник не мог с помощью осколка стекла вскрыть себе вены. Правда, пенсне могли отобрать не в первый день ареста, а на второй или третий.
У Хрущева, Маленкова и других членов Президиума были веские основания не оставлять Берию в живых до суда. Лаврентий Павлович очень много знал такого о каждом из членов высшего партийного руководства, чего они никак не хотели доводить до сведения коллег. Недаром сразу после ареста Берии по распоряжению Хрущева был уничтожен архив бывшего шефа МВД. Специальная комиссия сожгла, не разбирая и не читая, 11 мешков документов, о чем составила соответствующий акт. Но сам Берия наверняка знал содержание многих пикантных бумаг на память и на суде мог попробовать «врага в могилу взять с собой», огласив многие малоприятные факты из биографий «дорогих» Никиты Сергеевича, Георгия Максимилиановича, Вячеслава Михайловича и прочих, вооружив членов Президиума «жареным материалом» против соперников в разгорающейся борьбе за власть. Потому допрашивать плененного хозяина Лубянки Хрущев поручил надежным людям — Руденко и Москаленко, в личной преданности которых не сомневался. Но даже им, как кажется, Никита Сергеевич не доверил расспрашивать подследственного о мнимом заговоре и о деятельности Берии в качестве члена Президиума и главы карательного ведомства по отношению к действующим кремлевским вождям. Вопросы, которые задавали Роман Андреевич и Кирилл Семенович, касались вещей безобидных, не имеющих политической остроты. Речь шла об авторстве книги, посвященной истории большевистских организаций Закавказья, похищении и убийстве жены маршала Кулика (самого маршала три года уж как расстреляли), быть может, любовных похождениях Лаврентия Павловича, его службе в мусаватистской контрразведке. Причем, удивительное дело, на следствии Берия, если верить опубликованным показаниям, все отрицал, а на суде порой признавал даже то, чего в действительности не было. Перед Специальным Судебным Присутствием он покаялся, что «неправильно» поступил, издав книгу о большевиках Закавказья (будто с докладами Хрущева и Маленкова было что-нибудь по-другому!). На процессе Лаврентий Павлович заявил: «Я долго скрывал свою службу в мусаватистской контрреволюционной разведке. Однако даже находясь на службе там, не совершил ничего вредного». Отчего было ему не сказать, что к мусаватистам был послан по заданию Орджоникидзе (это ведь установило проведенное по поручению Сталина расследование) и что никогда он службы в мусаватистской контрразведке не скрывал, честно писал об этом в автобиографии!
Наиболее вероятным мне кажется такое предположение о конце Берии. Лаврентия Павловича застрелили в бункере штаба Московского военного округа в конце августа или начале сентября 1953 года без какого-либо приговора суда. Застрелил его генерал Павел Федорович Батицкий. Не исключено, что в будущем отыщутся протоколы допросов Берии, относящиеся к периоду после 26 августа 53-го года. Тогда время смерти «Лубянского маршала» надо будет датировать на несколько дней позднее последнего допроса. Крайний срок здесь — 17 декабря, потому что 18-го уже начался суд. Но я думаю, что так долго тянуть с Берией не стали.
Почему же суд провели несколько месяцев спустя после смерти главного обвиняемого? Потому, что неведомому двойнику требовалось время, чтобы выучить роль, да и от назначенных Берии в соучастники Кобу-лова, Меркулова и прочих необходимо было получить показания, чтобы хватило материала для судебного спектакля. Они-то больших кремлевских тайн не ведали и опасности не представляли.
Могут возразить: а Абакумова-то благополучно довели до суда и даже процесс назвали открытым (правда, все изъятые у Виктора Семеновича документы, как и документы Берии, тут же уничтожили — от греха подальше, а о том, насколько абакумовский процесс был открытым, я уже говорил). Отвечу: на дворе тогда был конец 54-го, первая острая схватка между наследниками Сталина уже миновала, а для новых еще не настал черед. Год назад расстреляли Берию и близких к нему чинов МВД. Абакумов, основательно или нет, но винил в своем аресте Лаврентия Павловича. Теперь, думал Виктор Семенович, появился шанс выставить виновником всего происшедшего можно будет Берию, а его, Абакумова, как жертву бериевского произвола, не расстреляют. Тем более что процесс открытый (бывший министр МГБ не знал, что вся публика в зале суда «бравая и присяжная»). Вот и не стал Абакумов говорить лишнее, а когда опомнился, было поздно. Только заикнулся о письме в Политбюро, как уже получил пулю в затылок. Берия же до этого сам распоряжался ликвидацией Ежова и хорошо понимал, что обвиненному в заговоре шефу МВД пощады не будет. Хрущев, Маленков, Молотов и другие, у кого руки и так по локоть в крови, миндальничать не собираются. Вот и мог напоследок подложить своим палачам большую свинью, чтобы умирать было не так обидно.
Но если на суде был не Берия, а его двойник, почему же этот двойник отказался признать себя виновным в том, в чем он собственно обвинялся: в заговоре и измене Родине? Остальное-то, вроде книги Берии и амурных дел, было не более чем острой приправой. Ведь заявил же подсудимый в последнем слове: «Я должен сказать Вам, что изменником и заговорщиком я никогда не был и не мог им быть. У меня и в мыслях не было, и я не помышлял даже, чтобы ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм». Думаю, что в данном случае архитекторы процесса пошли по пути наименьшего сопротивления. Сколько-нибудь убедительного сценария «бериевского заговора» они придумать так и не смогли. А в заговоре непременно должны были участвовать и другие подсудимые. Если бы признался их шеф, то они, отрицая свое участие в подготовке переворота, вынуждены были бы задавать Берии вопросы, на которые режиссерам процесса трудно было бы найти сколько-нибудь правдоподобные ответы. Мог получиться конфуз. Хоть процесс был закрытый, но трансляция заседаний суда шла в кабинеты всех членов Президиума ЦК. Чтобы не волновались и собственными ушами услышали: Лаврентий Павлович ничего дурного о них не сказал.
Еще одним важным доказательством того, что Берию расстреляли еще до суда, можно считать следующий факт. Сохранился акт о кремации тел шестерых чекистов, которых судили вместе с человеком, похожим на Берию. Но акта о кремации тела самого Лаврентия Павловича в архивах так и не нашли. Может быть, поэтому в народе возникли слухи, будто тело Берии без остатка растворили в какой-то очень сильной кислоте — чтобы даже горстки пепла не осталось от палача и изменника. Вероятнее всего, дело обстояло гораздо проще, без жуткой экзотики в стиле готического романа и современных «ужастиков». Труп Берии кремировали, но поскольку происходило это значительно раньше, чем 23 декабря, и на погребение осужденного после исполнения законного приговора никак не походило, то оформили всю процедуру как кремацию неизвестного или записали тело на другую фамилию.
Мою гипотезу о том, что Берия был убит еще до суда и на процессе вместо него присутствовал двойник, можно попытаться подтвердить анализом материалов следствия и суда, для чего необходима их полная публикация (или хотя бы свободный доступ исследователей к документам по делу Берии). Удачу может принести и поиск следов человека, который, вероятно, сыграл перед Специальным Судебным Присутствием роль поверженного «лубянского маршала». Если эта гипотеза верна, то проблема реабилитации Берии предстает с совершенно неожиданной стороны.
Разумеется, Лаврентий Павлович не был изменником Родины. Т. е., вернее, по отношению к своей «малой родине» — Грузии Берия может считаться изменником, поскольку он по мере сил способствовал поглощению независимого Грузинского государства Советской империей. Но ведь судили его в декабре 53-го совсем не за эту измену, называли английским шпионом (поскольку-де, мусаватистская контрразведка была тесно связана с англичанами). Сегодня очевидно, что ни азербайджано-мусаватистским, ни грузино-меньшевистским, ни просто британским шпионом Берия никогда не был. Также ясно, что он не планировал никакого государственного переворота. Поэтому Лаврентия Павловича следует признать невиновным в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на суде. Зато бывший глава НКВД виновен в фальсификации уголовных дел и необоснованных репрессиях, в осуществлении депортации «наказанных народов», в массовом уничтожении польских офицеров и интеллигенции, представителей имущих классов и интеллигенции Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии (хотя решения о расстрелах и депортациях принимал не он, а Сталин). Виновен и в преступлениях поменьше — изнасилованиях и злоупотреблении служебным положением. Последнее выразилось в том, что он принуждал к сожительству женщин, пользуясь своим высоким положением шефа НКВД и заместителя главы правительства, и даже, будто бы, прямо угрожая репрессиями им и их близким в случае отказа.
И еще. Лаврентий Павлович в 1947 году, зная о предстоящей денежной реформе, все свои сбережения в размере 40 тысяч заблаговременно поместил в сберкассу, чтобы избежать конфискационной переоценки. Кстати, по тем временам 40 тысяч — сумма небольшая. Ее едва хватило бы на приобретение малолитражного автомобиля. Не много же скопил Лаврентий Павлович за более чем четверть века беспорочной службы. Вот к моменту ареста материальное положение Берии значительно упрочилось. У него изъяли сберегательных вкладов на сумму 363 тысячи рублей. Но легальное происхождение этих денег не вызывает сомнений. В качестве заместителя Предсовмина Берия имел ежемесячно зарплату в 8 тысяч рублей и не облагаемую налогом дотацию в 20 тысяч рублей. Кроме того, в начале 50-х годов за руководство атомным и водородным проектом он был удостоен двух Сталинских премий в 150 и 100 тысяч рублей. Да, к концу правления Сталина партийная верхушка, в отличие от всего советского народа, действительно стала жить зажиточно, не так, как в 30-е и в первую половину 40-х годов.
Наша прокуратура наверняка поступит с делом Берии так же, как поступила с делом Абакумова. Переквалифицирует обвинения с измены Родины и шпионажа на участие в необоснованных репрессиях, добавит к этому изнасилования и злоупотребление служебным положением. И оставит приговор в силе или, как в случае с Абакумовым, заменит расстрел на 25-летнее заключение. Чтобы Лаврентий Павлович мог на том свете порадоваться вместе с Виктором Семеновичем. Хотя судили-то Берию не за Катынь и даже не за изнасилование школьницы. И как смотреть с правовой точки зрения на переквалификацию обвинения в отсутствие обвиняемого, который не может себя защитить, потому что расстрелян? Да и суд неконституционного Специального Судебного Присутствия, проходивший в отсутствие адвокатов, вряд ли можно счесть правым. И это обстоятельство, подчеркну, ставит под сомнение достоверность добытых в ходе процесса доказательств вины подсудимых.
А вот если будет окончательно и твердо установлено, что Лаврентия Павловича Берию расстреляли до суда, то ситуация в правовом отношении кардинально изменится. Хочешь не хочешь, но прокуратуре придется тогда полностью реабилитировать «лубянского маршала». Нельзя же признать законным приговор, вынесенный посмертно на суде, где обвиняемый никак не мог присутствовать, поскольку уже отошел в мир иной. Если же все-таки и в этом случае приговор в отношении Берии оставят в силе, то откроется широкое поле для посмертных судебных процессов. Подсудимых хватит с избытком. Тут и Ленин, и Сталин, и Маленков, и Хрущев, и Дзержинский, и Менжинский, Молотов, Жданов, Микоян, да и на Брежнева, Андропова и Черненко, глядишь, найдется достаточно материала, чтобы приговорить их к высшей мере наказания — пожизненному заключению. То-то покойники порадуются, что смертная казнь у нас отменена. К политическим вождям можно добавить тысячи и тысячи рядовых исполнителей «красного террора», да и обычных уголовников, которым при жизни удалось избежать суда. Хороший сюжет для театра абсурда!
Юридическая реабилитация, если она произойдет, ни в коем случае не будет означать моральной реабилитации. Перед Божьим судом Лаврентию Павловичу есть за что ответить. Я же в заключение хочу поразмышлять, как сложилась бы судьба Советского Союза и самого Берии, если бы затеянная им перестройка удалась. Предотвратил бы маршал распад СССР? Вряд ли.
Бериевские реформы дали бы больше прав республикам и подняли бы роль национальных языков и культур. Это усилило бы центробежные тенденции. В том же направлении действовало бы и предложение Берии посредством перераспределения власти на местах закрепить сложившийся при диктатуре Сталина фактический приоритет союзного Совмина над Президиумом ЦК. Реальные рычаги управления, считал Лаврентий Павлович, должны быть сосредоточены в Сов-минах республик и облисполкомах, а республиканские ЦК и обкомы пусть ведают только идеологией. В условиях коллективного руководства такая реформа могла бы и пройти. Ведь ни один из четырех главных сталинских наследников не обладал всей полнотой власти и не имел безраздельного контроля ни над партийным, ни над советским аппаратом.
Кончилось бы дело тем же, чем и горбачевская перестройка. Советский Союз распался бы лет на тридцать пять раньше, чем это произошло в действительности, и коммунистический строй на его территории прекратил бы свое существование. Партийная бюрократия боролась бы с советской. Часть бюрократов адаптировалась бы к рыночной экономике, другие перешли в оппозицию. Был ли Берия сторонником рынка, и насколько справедливы обвинения его в стремлении реставрировать капитализм? Полагаю, что к концу жизни Лаврентий Павлович, как истинный прагматик. осознал банкротство экономической системы социализма. Берия видел, что и в атомном и в ракетном проектах, которыми ему приходилось руководить, шло копирование, соответственно, американских и немецких образцов. Вспомним, что и в беседе с Сахаровым он признавал превосходство США в деле организации производства. А вот что говорил Берия своим секретарям П.А. Шарии и Г.А. Ордынцеву о ГДР: «Как же мы могли бы создать объединенную Германию из капиталистической Западной Германии и социалистической Восточной? Нужно делать Германию буржуазно-демократической республикой. Не нужно строить социализм в ГДР, не нужно насаждать колхозы, от которых крестьяне бегут на Запад». В разрядке отношений с капиталистическими странами и прекращении «холодной войны» он готов был пойти даже на возвращение Японии Южно-Курильских островов, чтобы способствовать улучшению советско-японских отношений. Вероятно, и в СССР Берия постарался бы как-то преобразовать колхозы, постепенно освободить экономику от идеологических догм.
Ставил ли Лаврентий Павлович своей целью крах СССР? Сомнительно. Слишком уж значительный пост занимал он в Москве, чтобы удовлетвориться постом главы независимой Грузии — единственная должность, на которую он мог бы претендовать, после того как все народы Советского Союза разошлись бы по национальным квартирам. Такой именно путь прошел ближайший соратник Горбачева Э.А. Шеварднадзе, но никто, кажется, не подозревает его в том, что он загодя планировал развалить Советский Союз, чтобы сесть президентом в Тбилиси. Да и власть Берии, даже только как председателя Спецкомитета, была гораздо больше, чем власть грузинского президента.
Если бы в результате бериевской перестройки СССР перестал существовать, это бы стало благом для всех советских народов. На три с лишним десятилетия раньше они освободились бы от пут социализма и начали бы движение к нормальной рыночной экономике с гораздо лучших позиций, чем в 91-м году. Многие, особенно на недавно присоединенных западных территориях, не утратили бы еще капиталистического отношения к труду и предприимчивости, интеллектуальная элита в большей мере сохранила бы связь с дореволюционным прошлым, да и изоляция страны от внешнего мира длилась бы всего тридцать, а не шестьдесят с лишним лет. Наверное, при таком развитии событий и Россия, и Грузия сегодня были бы гораздо более благополучными странами, чем оказалось на самом деле.
По мнению столь компетентного свидетеля, как бывший начальник секретариата МВД и одного из бериевских спичрайтеров академик Грузинской Академии наук П.А. Шария, Лаврентий Павлович был «государственный работник несоветского типа, признающий за основу государственного руководства преимущественно организационную технику и кабинетно-закулисные комбинации в расстановке кадров. Если к этому добавить ограниченность общетеоретического, а стало быть, и политического кругозора Берии, с одной стороны, и безусловные его организаторские способности, с другой стороны, нужно признать логическим последствием всей его предшествующей карьеры то, что он после смерти Сталина зарвался, возомнил себя чуть ли не всемогущим человеком и потерял чувство критического отношения к себе».
С точки зрения академика-диаматчика, «ограниченность общетеоретической подготовки» могла означать только незнание марксистско-ленинских догм или нежеланием им следовать. Сегодня такое Берии скорее бы занесли в актив. Убежден, что подавляющее большинство населения Западной Европы и Северной Америки, не исключая высших государственных руководителей, имеют очень слабое представление о марксистской теории (если вообще имеют) и нисколько от этого не страдают. Ну а насчет своего всемогущества Лаврентий Павлович никогда не заблуждался. Потому и единственный шанс на то, чтобы удержаться в верхнем эшелоне власти, видел в союзе с Маленковым. В итоге Берия, как и в чем-то схожий с ним Троцкий, оказался хорошим администратором (правда, только в тоталитарной системе), но никудышным политиком. На местах власть и при Сталине оставалась в руках партийных секретарей, хотя каждого из них в любой момент могли прислонить к стенке. После смерти диктатора секретари обкомов и республиканских ЦК только воспрянули духом, как Берия затеял основательную перетряску партийного руководства по национальному признаку. Да и друга Георгия он порядком напугал своей неуемной активностью, а Хрущев умело подогрел этот страх, внушив недалекому Маленкову, что Берия метит на его место первого лица государства. В итоге на этом месте оказался сам Никита Сергеевич, которому другие наследники в марте 53-го неосмотрительно уступили контроль над партаппаратом. Георгий Максимилианович же в 57-м оказался в «антипартийной группе» и был низвергнут с Олимпа власти. Но все это произошло потом. А в июне 53-го падение Берии приветствовали и члены Президиума ЦК, и местная партийная элита.
Вот какую оценку Берии дал бывший министр сельского хозяйства Н.А. Бенедиктов: «Да, пороки у него имелись, человек был непорядочный, нечистоплотный — как и другим наркомам, мне от него натерпеться пришлось. Но при всех своих бесспорных изъянах Берия обладал сильной волей, качествами организатора, умением быстро схватить суть вопроса и быстро ориентироваться в сложной обстановке». Думаю, она близка к истине. Добавлю только, что в советской системе прагматизм Берии вкупе с чекистским прошлым обрекли его на гибель.
Возможно, в последние дни жизни, сидя в бетонном мешке, Лаврентий Павлович вспомнил свои слова о том, что «у нас в турме места много», и пожалел о них. Не рой другому яму. Понял Берия, что ощущали те, кого его ведомство отправляло на смерть. Может, и раскаялся в чем-то перед смертью. Только неизвестно — в чем: в том, что загубил немало невинных душ, или в том, что так глупо проиграл в решающей схватке за власть.
БИБЛИОГРАФИЯ
Батов П.И. В походах и боях. 2-е изд. М.: Воениздат, 1966.
Берия С.Л. Мой отец — Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994.
Блюхер В.К. Статьи и речи. М.: Воениздат, 1963.
Бобренев В.А., Рязанцев В.Б. Палачи и жертвы. М.: Воениздат, 1993.
Варецкий Д. Маршал Блюхер // Новый журнал, Нью-Йорк, 1951, № 27.
Волкогонов Д.А. Семь вождей. Кн.1,2. М.: Новости, 1995.
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. Кн. 1,2. М.: Новости, 1989.
Воронов Н.Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963.
Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1, 2. М.: Воениздат, 1971.
Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М.: Воениздат, 1993.
Дайнес В.О. Блюхер: страницы биографии. М.: Знание, 1990.
Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР: Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. М.: Советская Россия, 1992.
Егоров А.И. Героическая эпопея. Сталинград: Книгоиздат, 1937.
Егоров А.И. Львов — Варшава. 1920 год. М. — Л.: Воениздат, 1929.
Егоров А.И. Разгром Деникина. 1919. М.: Воениздат, 1931.
Енборисов Г.В. От Урала до Харбина. Памятка о пережитом. Шанхай, 1932.
Жуматий В.И. Боевые действия Краснознаменного Балтийского флота в советско-финляндской войне (1939–1940 гг.). М.: Военный университет, 1995.
Зайцов А.А. 16 лет РККА // Военная мысль в изгнании: Творчество русской военной эмиграции. М.: Военный университет — Русский путь, 1999.
Земсков В.Н. ГУЛаг (Историко-социологический аспект) // Социологические исследования, М., 1991, №№ 6, 7.
Зенькович НА… Маршалы и генсеки. Смоленск: Русич, 1997.
Зенькович Н.А. Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина. М.: Олма-пресс, 1998.
Иванов Вс. Н. Из неопубликованного. Л.: Редактор, 1991.
Каганович Л.М. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996.
Казаков К.П. Всегда с пехотой, всегда с танками. М.: Воениздат, 1969.
Казанин М.И. В штабе Блюхера. Воспоминания о китайской революции 1925–1927. М.: ГРВЛ «Наука», 1966.
Казарьян А.В. Война, люди, судьбы. Кн. 1. Ереван: Айастан, 1975.
Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т. 1, 2. М.: Политиздат, 1990.
Карпов В.В. Маршал Жуков // Знамя, 1989, №№ 10–12.
Карпов В.В. Расстрелянные маршалы. М.: Вече, 1999.
Катунцев В., Коц И. Инцидент: подоплека хасанских событий // Родина, 1991, № 6–7.
Катынское дело // Военные архивы России. М., 1993. Вып. 1.
М.Н. Тухачевский и «военно-фашистский заговор» Военно-исторический архив. М., 1997, Вып. 1,2.
Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне. М.: Наука, 1977.
Колесник АД. Генерал Власов: предатель или герой? М.: Техинвест, 1991.
Копылов Н.Ю. К биографии Маршала Советского Союза А.И. Егорова // Исторический архив, М., 1962, № 1.
Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Воениздат, 1976. Кузнецов Н.Г. Накануне. М.: Воениздат, 1966.
Лаврентий Берия. 1953: Документы. М.: МФ Демократия, 1999.
Манштейн Э. Утерянные победы. Пер. с нем. М.: ACT — СПб.: Terra Fantastica, 1998.
Мариничев В. На небе не найдешь следа // Нева, Л., 1989, № 6.
Мерецков К.А. На службе народу. 2-е изд. М.: Политиздат, 1971.
Микоян А.И. Так было. М.: Вагриус, 1999.
Молчанов В.М. Борьба на Востоке России и в Сибири // Белая гвардия. Альманах. №№ 1, 2. М.: Посев, 1997–1998.
Муранов А.И., Звягинцев В.Е. Досье на маршала. М.: Андреевский флаг, 1996.
Мусафирова О. Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия. Интервью с СЛ. Берией // Комсомольская правда, 1997, 26 декабря.
Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23–31 декабря 1940 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12(1). М.: Терра, 1993.
Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. История НКВД-МВД от А.И. Рыкова до Н.А. Щелокова 1917–1982. М.: «Версты», 1995.
Ненароков АП. Верность долгу. О Маршале Советского Союза АИ. Егорове. 3-е изд. М.: Политиздат, 1989.
Обзор материалов о банддвижении на территории бывшей ЧИАССР // Кавказские орлы (Библиотека альманаха Шпион. Вып. 1. М., 1993).
«Очень высоко ценит т. Берия». Записка И.П. Павлуновского И.В. Сталину «О т. Берия» // Источник, 1996, № 3.
Пестов С.В. Бомба: тайны и страсти атомной преисподней. СПб.: Шанс, 1995.
Плотников И.Ф. Десять тысяч героев. Легендарный рейд уральских партизан во главе с В.К. Блюхером. М.: Наука, 1967.
Пономарев А.Н. Покорители неба. М.: Воениздат, 1980.
Приказы и директивы наркома ВМФ в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический архив. Вып. 1. М., 1997.
Рапопорт В.Н., Геллер Ю.А (Алексеев Ю.). Измена Родине. М.: Стрелец, 1995.
Ротмистров П.А. Стальная гвардия. М.: Воениздат, 1984.
Самсонов АМ. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М.: Политиздат, 1989.
Сахаров А.Д. Воспоминания. Т. 1–2. М.: Права человека, 1996.
Смирнов Н.Г. Вплоть до высшей меры. М.: Московский рабочий, 1997.
Соколов Б.В. Михаил Тухачевский: жизнь и смерть красного маршала. Смоленск: Русич, 1999.
Соколов Б. В. Правда о Великой Отечественной войне: Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1998.
Сталин И.В. Вопросы ленинизма. 11-е изд. М.: Политиздат, 1939.
Сталин И.В. Выступление на расширенном заседании Военного Совета при наркоме Обороны 2 июня 1937 г. // Источник, 1994, № 3.
Столяров К.А. Палачи и жертвы. М.: Олма-пресс, 1997.
Трехсвятский А. Дело Люшкова // Россия и АТР, Владивосток, 1998, № 1.
Туркул А.В. Дроздовцы в огне; Венус Г.Д. Война и люди. М.: Терра, 1996.
Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Т. 1, 2. М.: Воениздат, 1964.
Тухачевский М.Н. Новые вопросы войны; Трифонов В.А. Контуры грядущей войны. М.: Военная академия Генерального Штаба, 1996.
Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей. 2-е изд. М.: Воениздат, 1979.
Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 1996.
Хрущев Н.С. Воспоминания. М.: Вагриус, 1997.
Чеченцы и ингуши // Шпион, М., 1993, №№ 1, 2. Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М.: Воениздат, 1968.
Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе. М.: Воениздат, 1981.
Янгузов З.Ш. Забвенья нет. Страницы жизни и полководческой деятельности Маршала Советского Союза В.К. Блюхера. Хабаровск: Книжное издательство, 1990.




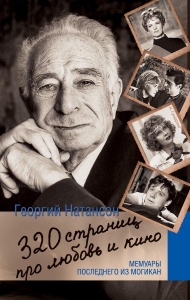






Комментарии к книге «Истребленные маршалы», Борис Вадимович Соколов
Всего 0 комментариев