Сюзанна О'Салливан Мозговой штурм: детективные истории из мира неврологии
Suzanne O’Sullivan
BRAINSTORM
© Банников К.В., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Посвящается Айслинг Келлам и Э. Х.
Знания не убивают ощущения чуда и загадки. Загадок мало не бывает.
Анаис НинМедиальное сечение мозга
Мозговые функции, выполняемые долями
Введение
Мозг – это мир, состоящий из неизведанных континентов и неизвестных протяженных территорий.
Сантьяго Рамон-и-КахальВ клинике на пятьдесят пациентов было три врача. Я была самым молодым из них. Джон был старшим ординатором и работал в соседнем кабинете. Он был опытнее меня, и его знания были куда обширнее. Третий доктор был нашим старшим коллегой и супервизором.
Нам, как всегда, нужно было принять слишком много человек для отведенного на прием времени. Всем приходилось работать гораздо быстрее, чем хотелось.
Каждый сложный случай я должна была обсуждать с Джоном или супервизором. В то время мне казалось, что хороший врач работает быстро и не надоедает старшим коллегам, поэтому я всячески старалась избегать их помощи.
Карты пациентов лежали высокой стопкой на тележке у кабинета супервизора. Они были хорошо видны встревоженным людям в очереди. Все повернулись в мою сторону, когда я взяла несколько карт сверху и пошла в свой кабинет, чтобы с ними ознакомиться. В них было всего по несколько страниц, и я почувствовала облегчение. Толстая карта означала годы болезней и хронические проблемы, которые, возможно, решить не получится. Так много неврологических заболеваний неизлечимы или тяжело поддаются лечению. Тонкая карта чаще всего свидетельствовала о небольшой проблеме, которая могла исчезнуть с момента последней консультации. Однако я тяжело вздохнула, открыв одну из карт. Мужчина до этого был в клинике только один раз, и тогда его принимала тоже я. Анализы, которые я ему назначила, были в норме, следовательно, я так и не нашла источник проблемы. Мне бы хотелось, чтобы его принял другой врач. Возможно, он бы заметил то, что я упустила.
Мужчина жаловался на странные ощущения в правой руке. Я осмотрела его тогда и не нашла ничего подозрительного. Я подумала, что причиной может быть зажатый нерв в шее. Назначила ему исследование нервной проводимости, чтобы проверить целостность нервов, идущих в руку. Они оказались в порядке. Я понимала, что если тому мужчине не стало лучше с нашей первой встречи, то я не знаю, что делать дальше. Надеясь, что он все же выздоровел, я позвала его в кабинет.
– Как у вас дела? – спросила я.
– Все так же, – ответил он, и мое сердце ушло в пятки.
– Хорошо. Итак… Вы не могли бы еще раз рассказать о своей проблеме?
– У меня на правой руке появляется гусиная кожа. Очень сильная. Это все.
Из его уст это прозвучало так, будто только по одному этому симптому можно поставить диагноз, однако то, что он сказал, ни о чем мне не говорило.
– Чувствуете ли вы онемение?
– Нет.
– Между приступами гусиной кожи ваша рука беспокоит вас?
– В целом нет.
Мужчина сжал пальцы в кулак, а потом разжал их и уставился на беспокоящую его руку. Я пыталась понять, в чем может быть дело. Но у меня не получалось.
– Чувствуете ли вы слабость в кисти или предплечье?
– Нет… Наверное, нет… Но, когда возникают мурашки, в руке появляется такое странное ощущение, что если бы я держал ей какой-то предмет, то, наверное, уронил бы его.
– Как часто у вас мурашки?
– Они появляются раз в день на одну-две минуты. Иногда два раза в день.
Мужчине было чуть за тридцать. Он хорошо выглядел и ранее не имел проблем со здоровьем. Я не могла понять, почему его так сильно волновал симп-том, который появлялся всего на минуту в день. То, что он описал, казалось мне чуть ли не пустяком.
– Ну что ж, хорошая новость в том, что по результатам обследования все в полном порядке, – сказала я ему. – Думаю, у вас нет причин для беспокойства.
Я произнесла эту ободряющую речь в надежде, что он ипохондрик, что ему просто хотелось услышать, что с ним все в порядке.
– Но в чем же причина?
О нет. Его голос был встревоженным. Результаты обследования его не успокоили. Он хотел получить больше информации, чем я могла ему дать.
– Не думаю, что описанное вами можно объяснить… Часто необъяснимые симптомы просто исчезают, если не обращать на них внимания. Гусиная кожа? Может, дело в температуре воздуха у вас в офисе? В кондиционере?
Я хваталась за соломинку, и мы оба это знали.
– По-моему, вы меня не понимаете. – Его голос стал выше. – Это мурашки, которые возвышаются над кожей, как муравейники. Это ненормально… Неестественно…
Я быстро краснею, когда чувствую себя не в своей тарелке. В тот момент я ощутила, как краснота ползет от шеи к лицу. У меня самой появилась гусиная кожа.
– Давайте я еще раз взгляну на ваши руки, – предложила я, выигрывая немного времени на размышление.
Я попросила его сесть на кушетку и снять рубашку. Я посмотрела на его мускулы – они казались нормальными. Затем проверила рефлексы неврологическим молоточком. С ними тоже все было в порядке. Я ткнула его руку неострой иглой, чтобы проверить чувствительность. Все было в норме. Измерила мышечную силу его рук. Возможно, захват его правой рукой был не настолько крепким, как левой, но у меня сложилось впечатление, что он просто недостаточно старался. Видимо, он хотел, чтобы я обнаружила у него какую-нибудь проблему.
– Не думаю, что могу объяснить это, – сказала я наконец.
Кажется, он закатил глаза. Я восприняла это как знак, что мне нужна помощь.
– Если вы не против подождать, то я обсужу проблему со своим супервизором, – сказала я.
– Спасибо, – ответил он с заметным облегчением.
У меня внутри все съеживалось, пока я шла по коридору к кабинету старшего коллеги. Я не хотела отвлекать его, только чтобы спросить, почему у мужчины время от времени появляются мурашки.
Я тихо постучала, и дверь открылась.
– Ага, и у тебя что-то пошло не так, – сказал Джон и, смеясь, впустил меня. Он тоже пришел к супервизору, чтобы обсудить пациента.
Он постоянно дразнил меня из-за каждой упущенной мной мелочи и напоминал мне о моих промахах при любой возможности. Я, в свою очередь, никогда не упускала шанса поквитаться с ним. Соперничество – неотъемлемая часть работы в медицине. Здесь ошибки, даже оправданные, обычно не забываются. Но несмотря на это в действительности мы нравились друг другу.
Я закрыла за собой дверь.
– Могу ли я посоветоваться с вами по поводу этого мужчины? – спросила я, указывая на карту в моей руке.
– Сколько там еще пациентов? – спросил в ответ супервизор.
Мы все сидели в своих кабинетах, стараясь работать как можно быстрее, и понятия не имели, сколько пациентов успели принять в общей сложности.
– На тележке довольно большая стопка карт, – сказала я ему, – но вы не могли бы поговорить с парнем, который сейчас в моем кабинете? Я не знаю, что с ним делать. У него гусиная кожа на правой руке, и на этом все. Я направляла его на исследование нервной проводимости, и результаты оказались нормальными. Может быть, назначить ему томографию шеи? Это не что-то дерматомическое. При осмотре не получается ничего выявить.
Соперничество – неотъемлемая часть работы в медицине. Здесь ошибки, даже оправданные, обычно не забываются.
Дерматомы – это одна из многих анатомических структур нервной системы, которые используются неврологами, чтобы определить место в нервной системе, позвоночнике и мозге, с которым связаны симптомы пациента. Это сегменты кожи, к которым подходят нервные волокна из корешков спинномозгового нерва.
Кожа руки разделена на семь дерматомов. Если у вас появились странные ощущения в одном из них, например, над плечом или кистью руки, это говорит о проблеме в определенном нервном корешке. Я не могла понять, что не так с моим пациентом. Его странные ощущения в руке не вписывались ни в один четкий кожный сегмент, и я уже не знала, что делать. Я сфокусировалась на корешках спинномозгового нерва и предполагала, что у него может быть зажат нерв в шее, однако обследование показало, что я была не права.
– Ты обсуждала со мной этого мужчину, когда он приходил сюда в прошлый раз? – спросил супервизор.
– Да.
Я всегда старалась принять как можно больше пациентов. Сложные случаи я обсуждала с супервизором, пока пациент еще сидел в моем кабинете, чтобы у него была возможность его осмотреть. Более легкие случаи мы обсуждали, когда прием был уже завершен. Естественно, рассуждения и выводы супервизора целиком зависели от моего восприятия проблемы и качества предоставленной мной информации.
Мы с супервизором и Джоном пошли в мой кабинет. Кажется, другие пациенты в зале ожидания в этот момент коллективно вздохнули. Они смотрели на стопку карт, до которых очередь еще не дошла. Поскольку никто из нас ничего не взял из стопки, они понимали, что их ожидание затянется.
Супервизор представился моему пациенту.
– Итак, мне сообщили о ваших странных ощущениях в руке. Могли бы вы описать их мне, если не возражаете?
Мужчина не возражал. Казалось, он почувствовал облегчение, когда увидел более серьезного на вид врача.
– По моей руке медленно прокатывается волна мурашек, а затем все проходит.
Он провел рукой по предплечью, указывая на ту область, где это обычно происходило.
– Сколько длятся эти мурашки?
– Думаю, около минуты. Возможно, даже меньше. Это ужасное ощущение. Просто чудовищное.
– Оно каждый раз одинаковое?
– Да.
– Как чувствует себя рука в другое время?
– Не совсем нормально. Я не могу это толком объяснить.
– А все остальное в порядке? Другая рука? Ноги? Есть ли у вас головные боли или что-то еще, о чем мне нужно знать?
– Нет.
Супервизор взял офтальмоскоп и придвинулся к пациенту, чтобы взглянуть на его глазное дно. Затем он проверил мышечную силу и чувствительность его конечностей.
– Левая рука, возможно, чуть сильнее правой? – спросил супервизор, глядя на меня через плечо.
– Я не была в этом уверена, – ответила я.
– Это происходит и днем и ночью? – спросил он пациента.
– Это может случиться в любое время: когда я сплю или иду по улице. Ощущения всегда одинаковые. Вы знаете, в чем причина?
– Сейчас я не могу сказать, вам нужно пройти еще одно обследование. Этот врач направит вас на томографию мозга, и мы посмотрим, прояснится ли ситуация, – заключил супервизор и кивнул в мою сторону.
Он сказал несколько ободряющих слов пациенту и пообещал, что мы очень скоро свяжемся с ним. Выходя из кабинета, он очень тихо, чтобы расслышала одна я, произнес: «Что ж, юная леди, вы искали не в том месте!»
Через неделю я получила результаты магнитно-резонансной томографии мозга. В височной доле этого мужчины была обнаружена опухоль, размеры которой были слишком малы, чтобы провоцировать головные боли. Она раздражала окружающую ее электрически активную кору – серое вещество, которое составляет поверхность головного мозга, и тем самым вызывала нежелательные электрические разряды. Результатом этих бурь внутри мозга были эпилептические припадки, которые проявлялись лишь в виде гусиной кожи.
Быть неврологом – значит быть детективом: вы интерпретируете «улики», а затем двигаетесь в том направлении, на которое они указывают.
Я упустила опухоль мозга. И все из-за двух ошибок. Во-первых, я невнимательно слушала. Обычно в рассказе пациента уже содержатся намеки на диагноз. Его постановка во многом зависит от способности врача обращать внимание на подробности услышанного. Когда мой пациент описывал странные ощущения в руке, я думала, что он говорит о сенсорном нарушении – проблеме, которая в основном связана с нервными путями, передающими информацию о прикосновениях в мозг. Однако гусиная кожа – не сенсорное нарушение, а феномен вегетативной нервной системы. Как часть реакции «бей или беги», мурашки свидетельствуют о страхе и возбуждении. Вегетативная же нервная система – это совершенно иное скопление нервов. Эти нервы не похожи на те, которые передают информацию о боли или прикосновении. Быть неврологом – значит быть детективом. Чтобы найти причину неврологической проблемы, нужно сначала проследить закономерности, а затем искать в правильной анатомической области: вы интерпретируете «улики», а затем двигаетесь в том направлении, на которое они указывают. Неправильно поняв «улики», я оказалась в другом месте.
Моя вторая ошибка заключалась в том, что я забыла, какой сложный орган мозг, как много у него заболеваний и какими разными могут быть проявления его нездоровья. Многие склонны связывать болезни мозга только с наиболее очевидными симптомами: параличом, потерей памяти, головными болями, головокружением. Однако мозг играет важную роль в работе абсолютно каждого органа, каждой мышцы (ее произвольных и непроизвольных движениях), каждой крошечной железы и каждого волосяного фолликула. Когда с ним что-то не так, вполне логично, что это может отразиться на любом участке тела. Это касается не только чего-то значительного, но и мелочей. Заболевание мозга может заявить о себе таким ярким симптомом, как паралич, или проявиться в нарушении какой-нибудь крошечной функции. В случае моего пациента опухоль была настолько маленькой, что она стимулировала лишь центр контроля вегетативной нервной системы. И больше ничего. В итоге единственным симптомом была гусиная кожа.
Неврология остается одной из самых сложных и притягательных медицинских дисциплин.
Для врача неверный диагноз может иметь губительные последствия. Я немного успокаиваюсь, когда напоминаю себе, что в 1980-х годах, когда я только начинала заниматься медициной, опухоль этого мужчины была слишком маленькой, чтобы увидеть ее с помощью доступной в то время техники. Кроме того, гусиная кожа не упоминалась ни в одном из учебников по неврологии, которые у меня были. На протяжении долгого времени практика клинической неврологии была ограничена трудностями обследования мозга. Диагноз был лишь догадкой, и не было никаких доказательств, которые могли бы подтвердить правильность или ошибочность детективной работы невролога. Многие люди не осознают, что во многом так обстоит дело даже сегодня, несмотря на значительные достижения в области технологий. Мозг – вместилище всего, что делает нас людьми, – до сих пор не до конца исследован. А неврология остается одной из самых сложных и притягательных медицинских дисциплин.
* * *
На протяжении истории мозг бросал ученым больше вызовов, чем любой другой орган. Сердце бьется, легкие раздуваются и сдуваются, а мозг не дает никаких подсказок, как он работает. К тому же из-за того, что он находится внутри черепа, к нему невероятно сложно подобраться. Но даже если преодолеть костный барьер, по внешнему виду мозга не определить, за что отвечает каждая его область. Вовлеченный в огромное количество самых сложных процессов, он остается загадкой для невооруженных глаз.
Детальные изображения относительно верного строения мозга стали появляться в XVIII веке. Разумеется, все они были нарисованы по результатам вскрытия. Анатомы разделяли мозг на мозговой ствол, мозжечок и конечный мозг. Конечный мозг, в свою очередь, состоял из четырех долей: лобной, височной, теменной и затылочной. Ученые могли лишь догадываться о функциях этих структур. А возможно, поначалу они и не думали, что у них есть какие-то функции.
Впоследствии ученые предположили, что, поскольку кисти рук и стопы имеют такое искусное строение, чтобы выполнять определенные задачи, с мозгом дело должно обстоять так же. Изучая головной мозг, они пришли к выводу, что «холмы» и «долины» (извилины и борозды) на его поверхности у всех людей очень похожи. Так как конечный мозг был «мягким», а мозжечок – «твердым», ученые решили, что первый отвечает за ощущения, а второй – за моторные функции. Они также предположили, что разные области мозга могут служить разным целям. Но это были лишь догадки, и в то время проверить их можно было, только понаблюдав за психически больными людьми или людьми, получившими мозговую травму.
Многие важнейшие ранние открытия в области неврологии ассоциируются с конкретным человеком – врачом или пациентом. Из всех пациентов самым известным был Финеас Гейдж. Он детскими шажочками подвел нас к пониманию функционирования мозга.
На протяжении долгого времени единственными исследовательскими инструментами для неврологов были военные ранения, попытки суицида, аварии и инсульты.
В 1848 году Гейдж при прокладке железной дороги получил травму. В результате взрыва железный лом прошел сквозь его череп и повредил левую лобную долю. Эта травма привела к значительным изменениям: Финеас превратился из тихого мужчины в склонного к агрессии. Это был первый ключ к пониманию роли, которую лобные доли играют в нашей жизни. Благодаря непреднамеренной лоботомии Гейджа ученые впервые задумались о важности этой части мозга в личности человека.
На протяжении долгого времени военные ранения, попытки суицида, аварии и инсульты были единственными исследовательскими инструментами для неврологов. Врачи собирались вокруг раненых и умирающих, чтобы чему-то научиться. Это был очень неорганизованный способ получения знаний. Со временем ситуация улучшилась благодаря развитию клинико-анатомического анализа – систематического метода выведения общих черт неврологических заболеваний. Неврологи обследовали пациентов при жизни, следили за ними до самой смерти, а затем сравнивали клиническую картину с результатами вскрытия. Путем сопоставления множества пациентов врачи научились отличать признаки заболеваний позвоночника от признаков заболеваний мозга, определять, с чем связана слабость в конечности – с нервным заболеванием или мышечным. Были выявлены первые клинические симптомы. Если человек шаркал ногой и при этом поднимал большой палец ноги, это свидетельствовало о нарушениях в мозге или позвоночнике. Отсутствие рефлекса при ударе в определенную точку говорило о возможной проблеме с периферическими нервами.
Клинико-анатомический анализ положил начало неврологической практике в том виде, в каком она существует сегодня. Благодаря ему неврологи научились распознавать заболевания, основываясь на внимательном поиске клинических симптомов, связывать определенные нарушения с конкретными участками мозга.
Однако система, опирающаяся на несчастные случаи и вскрытия, никогда не даст всех ответов. Необходимо было исследовать живой мозг. В конце XIX века такая возможность появилась в неожиданной форме. И это была не инновация, а, наоборот, нечто древнее – эпилепсия. Она была признана заболеванием мозга в 400 году до н. э. Гиппократом. Понадобилось более двух тысячелетий, чтобы целиком принять это, и еще больше времени, чтобы понять механизм припадков. Однако, как только он был понят, уникальные уроки о функциях мозга, которые преподала эпилепсия, были быстро усвоены.
Эпилепсия дала возможность исследовать живой мозг.
История о том, как эпилепсия стала главным исследовательским инструментом неврологов, началась с итальянского ученого Луиджи Гальвани по прозвищу «Повелитель танцующих лягушек». В XVIII веке он продемонстрировал, что биологическая клетка обладает электрическими свойствами. Гальвани стимулировал лапки лягушек электрическим током, из-за чего их мышцы сокращались. С этого началось исследование электрических сигналов, испускаемых нервами, мышцами и мозгом.
Сто лет спустя невролог Джон Хьюлингс Джексон наблюдал за экспериментом, в ходе которого его коллега стимулировал кору головного мозга обезьяны. Увиденная реакция показалась ему знакомой: она напомнила Джексону об эпилептических припадках. Во время их, как он заметил, конвульсии часто распределяются по телу систематически, начиная с одного места и распространяясь на другое. Здесь Джексон увидел похожую закономерность. Сопоставив одно с другим, он решил, что эпилепсия вызывается внезапным патологическим увеличением силы, распространяющейся по мозгу. Позднее Джексон уточнил, что этой силой являются электрические разряды. Он справедливо считал, что электрический разряд зарождается в коре головного мозга, а затем распределяется по соседним клеткам. Симптомы, возникавшие при распространении разряда, зависели от функций задействованных клеток. Эта теория подтверждала предположение о том, что разные части мозга отвечают за разные части тела и что мозг у всех нас устроен почти одинаково.
Мозг не имеет сенсорных рецепторов: его можно трогать, резать, стимулировать, не боясь причинить человеку боль – он ее не почувствует.
Внезапно эпилептические припадки стали симптомом, а не болезнью. Их особенности указывали на ту часть мозга, на которую воздействовал нежелательный электрический разряд. Если разряд поражал область мозга, контролирующую правую половину лица, то судороги начинались там. Если он затем распространялся на область мозга, отвечающую за правую руку, то судороги переходили на эту часть тела. Таким образом, наблюдение за пациентом во время припадка напоминало анатомическую экскурсию по мозгу.
Эта теория убедила неврологов и нейрохирургов объединить силы, чтобы провести параллели между областями мозга и симптомами припадка. Например, если у пациента были судороги в руке, а в ходе операции обнаружилась опухоль в лобной доле, то предполагали, что этот участок мозга и отвечает за двигательный контроль руки. Врачи искали источник припадка и таким образом изучали функции мозга. Сравнивая пациентов и сопоставляя симптомы с областями мозга, они смогли составить элементарные «функциональные» карты мозга.
Однако у этой техники был тот же недостаток, что и у клинико-анатомического анализа: зависимость от случая. Кроме того, если хирург вскрывал череп и сразу не видел источника проблем, то он понятия не имел, где его искать. Нужен был способ изучить здоровый мозг. Его тоже предоставила эпилепсия. Оказалось, припадки можно воспроизводить искусственно, используя нейростимуляцию.
С конца XIX века ученые электрически стимулировали мозг животных, не нанося при этом видимого вреда испытуемым. Появление анестезии и антибиотиков означало, что эта техника теперь могла применяться и на людях. Сам мозг не имеет сенсорных рецепторов: его можно трогать, резать, стимулировать, не боясь причинить человеку боль – он ее не почувствует. Анестезию хирурги использовали для вскрытия черепа пациентов, находящихся в сознании. После этого они электрически стимулировали кору их головного мозга. Находясь в полном сознании, пациенты в отличие от животных могли сообщить, что они чувствовали при стимуляции той или иной области мозга.
Даже сегодня не существует технологии, которая могла бы объяснить ум, талант или настроение. Ни один томограф не расскажет врачу, как себя чувствует пациент.
У большинства прооперированных пациентов была эпилепсия. Тестируя различные области мозга, хирург пытался воспроизвести симптомы припадка и тем самым найти его источник. Например, если у человека припадок обычно начинался с обонятельных галлюцинаций, то хирург стимулировал разные участки коры головного мозга до тех пор, пока у пациента не появлялись эти галлюцинации. Как только ему это удавалось, считалось, что источник припадков найден. Кроме того, эту область связывали с нормальным восприятием запахов.
Однако врачи не ограничились использованием этой техники только для поиска патологий. Они начали применять ее для изучения функций здоровой мозговой ткани. Систематически стимулируя различные области коры головного мозга и записывая результаты, хирурги смогли гораздо лучше понять устройство мозга. Теперь для новых открытий необязательно было опираться на травмы или заболевания. Нейростимуляция позволила создать более искусные функциональные карты мозга.
Вернемся к моим ранним годам в медицине. Прошло сто лет, и большинство неврологических диагнозов ставились целиком на клинической основе. Большой прорыв произошел в 1970-х годах, когда появились компьютерные томографы. Благодаря им мы впервые смогли взглянуть на живые органы, получили возможность подтверждать клинический диагноз некоторых пациентов на ранней стадии, распознавать опухоли и инсульты, не видимые ранее. Однако и у компьютерных томографов было ограничение: многие патологии в них не просматривались. Мы до сих пор не были даже близки к разгадке тайны мозга. Все строилось на умозаключениях врачей и их способности интерпретировать слова пациентов. Врачи ставили диагноз на основе своих знаний нейроанатомии и карт мозга, а медицинское обследование было лишь дополнением.
Я уже была ординатором-неврологом, когда в середине 1990-х годов в большинстве больниц появились магнитно-резонансные томографы. Они позволили увидеть мозг в деталях и в отличие от компьютерных томографов не облучали рентгеновскими лучами (пациенты не получали дозы радиации). Это означало, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно безопасно применять на одном человеке регулярно. Даже детский мозг, уязвимый и развивающийся, можно было изучать, не боясь последствий. МРТ использовалась не только для поиска патологий, но и для отслеживания изменений в здоровом растущем мозге.
Хотя компьютерные и магнитно-резонансные томографы совершили прорыв в медицине, это были лишь своего рода фотоаппараты. На снимках была видна структурная анатомия мозга, но не его функции. Снимок томографа говорил о работе мозга не больше, чем компьютерная схема об обработке информации компьютером. Все снимки, сделанные магнитно-резонансным томографом, были одинаковыми в независимости от того, что в тот момент делал человек: бодрствовал, спал или занимался сложной умственной работой.
Клиническая оценка все еще превосходит любые результаты обследований.
Только в XXI веке новые технологии позволили изучать не только структуру мозга, но и его функции. Однако даже сегодня не существует технологии, которая могла бы предвидеть или объяснить ум, талант, сострадание или настроение. Ни один томограф не расскажет врачу, как себя чувствует его пациент. Периферическую нервную систему можно анатомически «разобрать», чтобы определить, к какой мышце или к какому органу идет нерв, но проделать то же самое с мозгом не так-то легко. Технологии полезны, но клиническая оценка все еще превосходит любые результаты обследований.
Я окончила медицинский университет в 1991 году, а неврологом стала в 2004-м. Годы моего обучения были очень интересным временем в области нейробиологии. Помимо того что томографы стали точнее и теперь давали более четкое представление о совместной работе различных областей мозга, ученые совершили множество важнейших открытий в области генетики. Все это позволило по-новому взглянуть на неврологические заболевания и работу нервной системы. Появилась возможность поставить некоторые диагнозы с помощью одного анализа крови. Тем не менее эти открытия не так сильно помогли людям с заболеваниями мозга, как можно подумать: врачи не успевали разрабатывать новые методы лечения.
Нам до сих пор неизвестно, что вызывает большинство заболеваний мозга и как их развитие можно остановить. В мозге больше тайного, чем известного. Что влияет на формирование личности? Как обрабатывается информация? Очень сложно интерпретировать заболевания мозга и пытаться их лечить, когда мы до сих пор окончательно не разобрались с базовой биологией.
* * *
Насколько помню, я никогда не сомневалась в том, что неврология – подходящая мне специализация. Нервная система прекрасна. Она сложна. Все крошечные нервы, идущие по конечностям и сквозь позвоночник, сообщаются с мозгом по миллиардам длинных аксонов, похожих на нити. Нервы сливаются в одних местах и разделяются в других, при этом каждый из них несет свое сообщение и идет собственной предопределенной дорогой. Вся эта сложная структура обусловливает изысканность работы человеческого тела. И поэтому же, когда что-то начинает идти не так, неврологические заболевания могут проявлять себя в бесчисленном количестве симптомов. Сантиметр вправо, сантиметр влево – и одна и та же опухоль в позвоночнике или мозговом стволе заявит о себе совершенно по-разному.
Студенты-медики часто считают неврологию пугающей. Если среднестатистический студент зайдет в смотровой кабинет и обнаружит там пациента, недавно резко похудевшего, с ослабленными мышцами руки и нависшим веком, он застопорится. Для начинающего невролога, который уже знает о сложности мозаики нервной системы, это легкая задача. Ему известно, что в области плеча, на верхушке легкого, есть скопление нервов. Среди них есть те, которые проходят по руке, и один нерв, идущий к глазу. Раковая опухоль, растущая в верхней части легкого, может вторгнуться в это нервное сплетение, из-за чего возможны слабость в руке и провисание века. Именно сложностью поиска знаков и симптомов привлекает многих врачей эта специализация. Будучи студенткой, я тоже считала все это пугающим, но мне было очень интересно узнать, как все устроено.
Искусство неврологии никак не изменилось: мы до сих пор делаем то же, что и пионеры в этой области, – пытаемся поставить диагноз на основе рассказов пациентов.
Сейчас я работаю консультирующим неврологом и специализируюсь на эпилепсии. В XXI веке появилось множество новых инструментов, которые позволяют мне изучать функции мозга моих пациентов, но искусство неврологии никак не изменилось. Я до сих пор делаю то же самое, что и пионеры в этой области: на основе рассказов пациентов об их симптомах выясняю, в какой области мозга скрыта проблема, и пытаюсь поставить диагноз. Я интерпретирую истории. Карты мозга, составленные моими предшественниками, сделали этот процесс более точным, однако проблемы многих пациентов до сих пор не вписываются в имеющиеся у нас знания. Врачи всегда учатся. Симптомы заболеваний мозга бесконечны, из-за чего поиск ответов далек от завершения. Пределы заболеваний мозга так же велики, как и пределы здорового мозга.
Поставить неврологический диагноз – все равно что собрать мозаику, в которой недостает деталей. Вам дают десять элементов из сотни и просят угадать, какая в итоге получится картина. Даже сегодня нам неизвестно, как выглядит полная карта мозга, поэтому некоторые мозаики просто невозможно собрать целиком.
Случай с гусиной кожей далеко не самый сложный из тех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Это было лишь начало. В этой книге я поделюсь странными историями людей, которые испытали мои знания. Я расскажу о школьном уборщике, у которого были галлюцинации со сказочными сценами, о балерине, которая постоянно падала, об офисном работнике, потерявшем доверие к любимому человеку, о девочке, которая все время убегала. Жанна д’Арк и Алиса в Стране Чудес тоже будут упомянуты, как и очень храбрые люди, пережившие радикальные операции на мозге, чтобы излечиться от болезни, которую вы при взгляде на них, возможно, не заметили бы. Я покажу, как медицинские достижения сосуществуют со старомодной медициной и целиком от нее зависят. У всех людей, о которых вы прочтете, случались припадки, но одинаковых среди них нет. Эпилепсия зарекомендовала себя как один из главных инструментов для изучения мозга. Истории, описанные в книге, покажут вам, почему это так.
Поставить неврологический диагноз – все равно что собрать мозаику, в которой недостает деталей.
Эта книга об эпилепсии, мозге и человечестве. Она о невероятной силе людей, которые страдают уникальными болезнями. Я уверена, что пациенты из «Мозгового штурма» могут многому нас научить.
1. Вахид
Я хочу обсудить болезнь, называемую «священной». Она, по моему мнению, не является в большей степени божественной или священной, чем другие заболевания, и имеет естественную причину. Ее предположительно божественное происхождение связано с неопытностью человека и его преклонением перед ее странным характером.
«О священной болезни», предположительно ГиппократЯ вышла в зал ожидания и назвала имя Вахида. В одном из углов засуетились: чашки кофе стали накрывать крышками, а пальто и сумки – брать в охапку. Я стояла у открытой двери и ждала. Ко мне направились молодой человек и девушка. Они сделали лишь несколько шагов, как молодой человек побежал обратно к тому месту, где они сидели, – забыл перчатки. Девушка остановилась подождать его. Администратор посмотрела на меня и улыбнулась.
– Я застала вас врасплох, когда вызвала вовремя! – сказала я, когда пара вошла в кабинет. Моя попытка пошутить не возымела успеха: обеспокоенное выражение не исчезло с их лиц.
– Ничего, если я буду с ним? Я его жена, – сказала девушка.
– Конечно, ничего, – ответила я. – Я доктор О’Салливан, кстати.
Прежде чем мы уселись, они еще немного покопошились в сумках. Тонкая медицинская карта Вахида лежала передо мной на столе. Там была лишь одна записка, адресованная мне. В ней говорилось: «Пожалуйста, осмотрите этого молодого человека, которого будили странные приступы с двенадцати лет». Я посмотрела на парня, сидящего передо мной. Внешне он был воплощением здоровья: молодой, высокий, хорошо сложенный, аккуратно одетый. Я взглянула на дату рождения – двадцать пять лет. То, что так давно его беспокоило, никак не отразилось на его наружности.
Большинство консультаций в неврологии основаны на сотрудничестве. Некоторые представляют собой переговоры.
– Итак, Вахид, ваш врач передал мне, что ночью вас будят странные приступы, – сказала я, открывая карту на новой странице, чтобы записывать все, с чем он со мной поделится. – Прежде чем мы начнем, я попрошу вас назвать свой возраст и сказать, правша вы или левша.
Каждый вопрос важен. Поначалу то, как они ответят, интересует меня не менее, чем сам ответ.
– Ему двадцать пять, и он правша, – ответила жена Вахида.
– Вы работаете? Учитесь? – спросила я.
За этим вопросом последовали перешептывания на непонятном мне языке.
– Ш-ш-ш, – сказала его жена и повернулась ко мне: – Он учится в колледже.
– Что вы изучаете?
Они опять начали перешептываться, но я перебила:
– Вы говорите по-английски?
В записке от первого врача не утверждалось обратное, но я должна была спросить.
– У него прекрасный английский, он просто не хочет здесь находиться, – сказала жена Вахида и подняла руку в успокаивающем жесте в тот момент, когда ее муж хотел начать возмущаться.
– У вас эта проблема с детства. Почему вы обратились за помощью только сейчас?
Я думала об этом с того момента, как прочитала записку от предыдущего врача. Я задала этот вопрос именно Вахиду, пытаясь заставить его ответить самостоятельно.
– Это все я, – устало сказала его жена. – Я вынудила его прийти.
– Я не буду заставлять вас делать что-то против вашей воли, – заверила я Вахида.
В неврологии меньше абсолютных понятий, чем в любой другой области медицины. Большинство консультаций основаны на сотрудничестве. Некоторые представляют собой переговоры.
– Давайте пройдемся по вашей истории и посмотрим, чем я могу вам помочь, если помощь вообще требуется. Итак… – Я сделала паузу, не зная, как назвать эти таинственные, еще не зафиксированные события. – Это происходит ночью. Вы помните первый раз, когда это случилось?
Когда пациент приходит на прием, он часто описывает свои симптомы в настоящий момент. Или рассказывает о своем вчерашнем состоянии. Или говорит о своем худшем дне. Он описывает пик своей боли. Врачу нужно знать подробности, однако не менее важно для него понимать, что привело пациента к нему. Первый симптом – это первая деталь мозаики.
– Я помню, как все началось.
Вахид наконец-то заговорил. У него хоть и был акцент, но не кокни, как у жены. Он рассказал, что проблемы начались, когда они с семьей жили в Сомали, где он родился.
– Мне было двенадцать, – продолжил Вахид.
Была ночь. Вахид спал вместе с двумя младшими братьями. Его родители были в соседней комнате. Внезапно Вахид понял, что бодрствует и сидит на своей постели, а его братья таращатся на него. Прежде чем он успел осознать происходящее, его родители вбежали в комнату. Видимо, их позвали младшие мальчики. Вахид смутно осознавал суматоху вокруг, но не мог понять, что происходит.
Включив свет в комнате, отец Вахида спросил, что случилось.
Братья Вахида не могли четко сказать, что их напугало. Они что-то бессвязно лепетали. Было ясно, что Вахид разбудил их, но они были слишком малы, чтобы объяснить, что произошло. Вахид не мог им помочь. Он очень смутился. Он понимал, что случилось нечто странное, но не мог ничего объяснить, поэтому сказал родителям, что понятия не имеет, почему братья их позвали.
– Вы понимали, что происходит, когда родители только вошли в комнату? – спросила я.
– Я чувствовал себя нормально, в том-то и дело. Мне казалось, что все вокруг сошли с ума.
Не менее важно для врача понимать, что привело пациента к нему. Первый симптом – это первая деталь мозаики.
Убедившись, что с детьми все в порядке, родители сделали замечание младшим мальчикам за то, что они всех разбудили, и пошли спать.
Через тридцать минут дети снова закричали, и родители вновь прибежали к ним в комнату. В этот раз братья сказали, что Вахид выглядел напуганным и указывал на угол комнаты. Они решили, что он увидел там что-то, но не понимали что. Вахид все отрицал. Отец осмотрел комнату, пытаясь понять, что так напугало детей. Но ничего не обнаружил. Мальчиков снова отругали и пригрозили им наказанием, если они не вернутся в постель немедленно. Остаток ночи прошел спокойно.
Утром, когда все торопливо собирались кто в школу, кто на работу, никто не обсуждал ночное происшествие. О нем совершенно забыли и не вспоминали до тех пор, пока все то же самое не повторилось ровно через две недели. Мальчики уже час как были в постели. Родители сидели на кухне, когда к ним прибежал младший сын и сказал, что Вахид снова их разбудил. Братья услышали его бормотание и заметили, что он сидит в постели и указывает пальцем на стену. Когда Вахида спросили о том, что произошло, он снова все отрицал. Родители не знали, что делать, поэтому просто запретили мальчикам вставать ночью с постели.
На протяжении следующих четырех месяцев братья Вахида периодически жаловались на то, что он ночами бормочет и указывает на стену, как зомби. Когда родители расспрашивали Вахида об этом, он расстраивался.
– Меня всегда наказывали, хотя в этом не было моей вины, – сказал он мне.
Взволнованная мать отвела его к врачу. Доктор сказал, что Вахид здоров, и предположил, что его просто мучают кошмары. Он дал матери советы по поводу питания Вахида и его режима дня. Она сделала все, как было рекомендовано, но это не помогло. Ситуация лишь усугубилась и стала повторяться раз в неделю.
В итоге родители решили укладывать мальчиков спать в разных комнатах: отец спал в комнате с младшими детьми, а мать – с Вахидом. На третью ночь мать проснулась от шума. Кровать слегка покачивалась. Она повернулась и увидела, что ее старший сын сидит на постели и смотрит через левое плечо. Его левая рука была вытянута, он указывал пальцем на стену. Матери показалось, что он напуган. Она посмотрела на стену, но ничего не заметила. Когда мать снова взглянула на сына, он сидел довольно расслабленно с нормальным выражением лица. Когда она спросила, видел ли он что-то странное в комнате, сын ответил, что нет.
– На что ты тогда указывал? – спросила она.
– Я не знаю, – сказал он.
– Ты делал это осознанно?
– Я в этом не уверен.
В течение недели Вахид дважды будил так свою мать. Она решила снова обратиться к врачу, но тот опять настоял на том, что у ребенка просто кошмары. Когда семья не согласилась с диагнозом, врач сказал, что Вахид просто хочет внимания. Родители были в растерянности. Они снова изменили питание Вахида и время приема пищи. Стали укладывать его спать раньше, а когда это не помогло – позже. Они спросили учителей, не ухудшилась ли его успеваемость. Те ответили, что не заметили никаких проблем.
Родители, чувствуя свою беспомощность, решили обратиться к целителю.
Они подробно описали ему то, что происходило: ребенок просыпается ночью, указывает и смотрит на стену, а затем отрицает это.
– На какую стену он указывает? – спросил целитель.
– На северную, как мне кажется, – ответил отец.
– В ту сторону, где стоит дом Анвара?
– Да.
Целитель сказал, что знает, в чем дело:
– Я уже сталкивался с подобным!
Его версия показалась им весьма правдоподобной: Вахида преследовал призрак. Он намеренно будил его ночью, чтобы привлечь внимание всей семьи. По мнению целителя, Вахид видел его и был вынужден следить за его перемещениями по комнате. Указывая на него, Вахид пытался предупредить о нем остальных. То, что дух стал являться все чаще, означало, что у Вахида было послание, которое он еще не передал или до конца не понял.
– Что это за послание? – спросили родители.
– Похоже, дух очень недоволен, – сказал целитель зловеще. – Думаю, это сам Анвар. Дед.
Дед Вахида умер пятью годами ранее. Всем было известно о разразившейся между членами семьи войне за земли деда. Отец Вахида и его дяди боролись за свои доли. Будучи старшим сыном, отец Вахида завладел всей землей, но его братья были уверены, что ее нужно поделить поровну. Целитель считал, что конфликт и есть причина явления духа Вахиду. То, что мальчик указывал пальцем в направлении земель деда, только сильнее убедило его в этом. Кроме того, Вахид тоже был старшим сыном: любая земля, находящаяся во владении его отца, должна была перейти к нему. Версия целителя хорошо соотносилась с опасениями родителей и их чувством вины. В тот момент с ней легко было согласиться. Целитель предложил передать часть земли брату, который изначально на нее рассчитывал. По его мнению, в этом случае дух успокоился бы. Нехотя семья поступила, как рекомендовал целитель. Однако это не помогло: Вахиду не стало лучше.
Узнав об этом, целитель решил посоветоваться с местным священником. Они пришли к выводу, что дед, судя по всему, до сих пор злится. Очевидно, требовались дополнительные пожертвования. На этот раз семья подарила по живому козлу церкви и целителю. Состояние Вахида осталось прежним.
Все это продолжалось практически без изменений в течение двух лет. Семья Вахида следовала рекомендациям целителя и священника. Они давали сыну множество снадобий, изготовленных из местных растений. Молились богам. Принесли в жертву курицу. Применяли особые техники, которым их научили. Результата не было. Только когда семья уже не могла позволить себе продолжать лечение и когда в их жизни уже нечего было исправлять, они сдались и решили, что Вахиду придется жить так, как есть.
Приступы продолжались. Вахид и его братья научились не обращать на них внимания. К двадцати одному году Вахид стал просыпаться по три раза каждую ночь. Он начал воспринимать это как часть своей жизни. То, что это случалось лишь ночью, позволяло семье игнорировать происходящее, ведь днем с Вахидом было все хорошо.
Неизвестно, к чему бы все это привело, если бы в жизни Вахида не произошли значительные перемены. Он изучал экономику в Сомали, а в двадцать три года поступил в магистратуру в один из лондонских колледжей. Переехав, Вахид стал жить у дяди, чьи дети уже выросли и разъехались.
Переезд в другую страну был тяжелым, но он справлялся. Вахиду все нравилось в Англии, кроме климата и разлуки с семьей и друзьями. Однако со временем он нашел новых друзей среди сокурсников и соседей. Другом, кардинально изменившим его жизнь, стала Сельма.
Сельма прожила в Лондоне всю жизнь. Она работала администратором в больнице. Вахид познакомился с ней, когда его тетя пригласила Сельму и ее родителей на ужин. Семья Сельмы приехала из той же области Сомали, что и Вахид. Молодые люди сразу понравились друг другу. Через десять месяцев они обручились с радостного одобрения обеих семей.
До того как Вахид женился и стал жить с Сельмой, он каждую ночь в одиночестве спал в бывшей спальне своего двоюродного брата. Никто в его новом доме не знал, что происходило с ним по ночам. Для Вахида это было пустяком. Сельме тоже не было об этом известно. Она узнала о приступах в первую ночь, которую они провели вместе.
Сельма еще не успела крепко уснуть, как вдруг почувствовала, что ее муж сидит в постели. Она ощутила, что он двигается, но не повернулась, чтобы посмотреть. Поскольку это была их первая ночь вместе, она подумала, что он слишком волнуется, чтобы заснуть. Вахид ничего не сказал, а она не стала его спрашивать. Сельма начала переживать, только когда то же самое повторилось на следующую ночь, а затем и еще раз. Она попыталась узнать у Вахида, в чем проблема, но он сказал, что это пустяки. Чем чаще это случалось, тем сильнее Сельма настаивала на том, чтобы это обсудить. Вахид не хотел говорить об этом. Только после того как жена надавила на него, он рассказал ей историю с самого начала. Когда она узнала о словах целителя, то рассердилась. Сельма сказала, что ее молодой муж, должно быть, дурак, раз верит в призраков и духов.
– Он согласился со мной, после того как я настояла, – сообщила мне Сельма, – однако он так и не обратился к врачу.
Только спустя несколько месяцев он все же решил обсудить свою проблему со специалистом. Еще через несколько недель они пришли ко мне.
– Да у меня это всю жизнь. Все нормально! – Вахид от расстройства всплеснул руками.
– Иногда это происходит по четыре раза за ночь, – сказала Сельма мне, а потом повернулась к мужу и добавила: – Это ненормально, и я хочу знать, в чем проблема.
– Вахид, вы осознаете то, что делаете в момент приступа? – спросила я.
– Да, но остановить это не могу.
– Что вы при этом чувствуете?
– Я не могу дышать, будто мое горло сжимается. Все мое тело немеет.
– Вы замечаете, что происходит вокруг? Если с вами разговаривает жена, вы ее слышите?
– Слышу, но жду, когда все закончится, чтобы ответить.
– Вам при этом страшно?
– Страшно? – Он задумался на секунду. – Возможно. Это скорее болезненно.
– Болезненно?
– Да. У меня все мышцы болят.
– У меня есть видеозапись, если это поможет, – сказала Сельма, доставая телефон из сумки.
– Великолепно.
Описания Сельмы и Вахида были такими четкими, что я уже понимала, в чем дело. Тем не менее видео – это большой плюс. Показания свидетелей всегда ненадежны. Когда дело касается автомобильных аварий, преступлений или экстренных ситуаций в больнице, они в большинстве случаев полны ошибок. Наш мозг устроен сложнее, чем любой суперкомпьютер, но он не запечатлевает события с такой точностью, с какой это делает техника. Люди домысливают то, что они не видели, основываясь на своих ожиданиях, и упускают важные детали. Когда мы концентрируемся на чем-то одном, наш мозг с легкостью отсеивает то, что происходит на периферии внимания. Даже стиль допроса влияет на ответ.
Сельма нажала кнопку «Воспроизвести» и передала телефон мне. На видео Вахид лежал в постели. Комната была ярко освещена. Он был завернут в одеяло так, что виднелась одна макушка.
– Сейчас все начнется, и вам будет все хорошо видно, – сказала Сельма.
Показания свидетелей ненадежны: люди домысливают то, что они не видели, основываясь на своих ожиданиях, и, когда мы концентрируемся на чем-то одном, наш мозг с легкостью отсеивает то, что происходит на периферии внимания.
Едва она закончила говорить, как Вахид сел в постели. Это было довольно неожиданно. Он казался напуганным. Я продолжала смотреть и слушать. Вахид, сидящий рядом с нами, заерзал и отвернулся от экрана телефона.
– Он не хочет на это смотреть, – объяснила Сельма. – Я снимала это против его воли.
Я прибавила звук на телефоне и отчетливо услышала вдох, а затем хрип. Этот звук и будил братьев. Вахид напротив меня прижал руки к ушам, в то время как Вахид на экране издал еще один звук. Это был непонятный гортанный звук. Картинка была нечеткой, но, кажется, я видела, что Вахид постоянно делает глотательные движения. Его взгляд стал медленно перемещаться в угол комнаты, будто он следил за чем-то. Зрачки прекратили движение, только когда достигли предела. Видны были только белки. Затем его голова стала поворачиваться в направлении взгляда, а шея – вытягиваться. Одновременно начала подниматься вбок его левая рука до тех пор, пока не стала перпендикулярна туловищу. Его указательный палец был вытянут. Все это действительно выглядело так, будто он увидел то, что не видели другие.
– Хорошо, что вы сняли с самого начала, – сказала я Сельме.
Большинство видеозаписей странных припадков начинаются с середины. Свидетелю тяжело записать все с первой секунды.
– Это было легко. Все происходит в первые два часа, после того как он засыпает. Мне просто нужно было подождать. Я и свет не стала выключать.
– Вы при этом бодрствовали? – спросила я Вахида.
– В определенной степени: я не мог говорить, но понимал, что Сельма меня снимает.
Говоря это, Вахид до сих пор сидел отвернувшись от нас с Сельмой.
– Вы знаете, в чем дело? – спросила меня Сельма.
Я знала. Часто при постановке диагноза следует опираться на похожие случаи. Я слышала о людях вроде Вахида ранее. Мне показывали подобные видеозаписи, причем много раз. Короткие припадки. Человек просыпается несколько раз за ночь. Каждый раз одно и то же. Голова поворачивается. Рука вытягивается. Глотательные движения. Нехватка воздуха.
Мне было интересно, догадываются ли они, что я скажу.
– Я не знаю, говорили ли вам это ранее, но все, что вы мне рассказали и показали, скорее всего свидетельствует об эпилепсии, – сказала я Вахиду.
Есть множество заболеваний, которые нельзя обнаружить с помощью МРТ: она показывает лишь структуру нервной системы, но заболевания могут существовать и на химическом, микроскопическом или электрическом уровнях.
Он отреагировал не сразу. Телефон Сельмы лежал передо мной на столе, видеозапись стояла на паузе. Через секунду Вахид перевернул телефон экраном вниз.
– Я не хочу на это смотреть, – сказал он.
– Эпилепсия? – удивилась Сельма.
Вахид и его жена посмотрели друг на друга. Они мне не поверили. Они стали что-то торопливо обсуждать на своем языке. Слово «эпилепсия» было пару раз упомянуто каждым из них.
– Но у него ни разу не было припадков, – сказала Сельма.
– Я пытаюсь вам объяснить, что эти приступы, вероятнее всего, и есть эпилептические припадки, – ответила я, указывая на телефон.
– Но это происходит только во сне. Я разговаривала с врачом в больнице, где я работаю, и он предположил, что это может быть лунатизм, – сказала мне Сельма.
– В случае с лунатизмом это вряд ли происходило бы по несколько раз каждую ночь. Есть множество видов эпилептических припадков, и я уверена, что это один из них.
– Я нахожусь в сознании, когда это происходит, – вмешался Вахид.
– Да, я понимаю. Не все теряют сознание во время эпилептических припадков.
– Указывание на одну точку может быть припадком, даже если я осознаю, что делаю? – спросил Вахид.
– Да, может.
– Я думаю, лучше сделать тесты, чем просто строить предположения, – заключила Сельма.
Конечно, я не строила предположения, но если Вахиду и Сельме нужны были доказательства, то я была готова их предоставить. Я направила Вахида на томографию мозга, результаты которой не показали ничего необычного.
Снимки магнитно-резонансных томографов очень детальные. Они позволяют увидеть крошечные рубцы, опухоли и кровеносные сосуды, которые не разглядеть на снимках компьютерных томографов. Тем не менее есть множество заболеваний, которые нельзя обнаружить с помощью их. МРТ показывает структуру нервной системы, но заболевания мозга не всегда воздействуют на нее: они могут существовать на химическом, микроскопическом или электрическом уровнях. Я подозревала, что у Вахида эпилепсия, которая связана с нарушением электрической активности. При такой эпилепсии мозг может выглядеть абсолютно нормально. МРТ не покажет нежелательные электрические разряды. К счастью, МРТ и КТ – не единственные методы обследования мозга. Необходимо применять разные методы обследования: это позволит вам взглянуть на мозг со всех сторон и увидеть все патологические процессы. Эпилепсия – это заболевание, связанное с распространением волн электрических разрядов, и, если результаты МРТ нормальные, следующий шаг – проверка электрической активности мозга.
Электрическая активность мозга отличается в разных его областях и меняется в течение дня и ночи.
Для мозга характерны собственные электрические ритмы, которые меняются при переходе от бодрствования к дремоте и ко сну. Они похожи у всех людей. В 1924 году Гансу Бергеру, немецкому психиатру, удалось зафиксировать ритмы мозга с поверхности кожи головы. Какими бы крошечными они ни были, мозговые волны измеримы через череп, кожу и волосы.
Бергер разработал простой метод измерения этой активности, который назвал электроэнцефалографией (ЭЭГ). Мозговые волны, регистрируемые с помощью ЭЭГ, имеют множество интересных и полезных для врачей характеристик. Электрическая активность отличается в разных областях мозга и меняется в течение дня и ночи, что отражает степень сознания человека. Как следствие, результаты ЭЭГ во время бодрствования и сна сильно различаются.
Эпилепсия может отображаться на электроэнцефалограмме в виде пиков, обозначающих синхронные электрические разряды, берущие начало в электрически нестабильных клетках мозга. Именно это я и стала искать у Вахида.
Однажды утром он пришел в больницу на ЭЭГ. Врач закрепил на коже головы Вахида двадцать пять маленьких металлических электродов. В течение получаса Вахид спокойно лежал, даже дремал, пока мозговая активность записывалась с поверхности его головы.
ЭЭГ во время сна и после пробуждения
– Результаты МРТ в норме, но ЭЭГ свидетельствует о наличии эпилепсии, – сказала я Вахиду, когда мы снова встретились.
Вахиду и Сельме было гораздо легче смириться с диагнозом «эпилепсия», когда они узнали, что это подтверждает ЭЭГ.
– Получается, никакой связи с мертвым дедом нет! – сказала мне Сельма.
– Да, но такие предрассудки гораздо более распространены, чем вам кажется, – заверила я их.
В 1980-х годах колдовство считалось второй по популярности причиной эпилепсии в Нигерии. В 1999 году были описаны пять случаев эпилепсии во Флориде, каждый из которых был якобы связан с вуду. В Великобритании даже сегодня применяют экзорцизм для лечения эпилепсии.
Вахид согласился принимать противоэпилептические препараты. Его припадки исчезли практически сразу.
* * *
В течение тридцатиминутной ЭЭГ было зафиксировано шесть разрядов в одной из скрытых областей мозга Вахида. Как искры от костра, разряды не видны на ЭЭГ каждый раз, когда вы смотрите. Нужно наблюдать и ждать. В общей сложности шесть разрядов не составляют даже секунды ненормальной активности за тридцать минут. Из-за их нестабильной природы их легко упустить. Нормальная ЭЭГ необязательно свидетельствует о том, что у человека нет эпилепсии.
Место, в котором разряд был зафиксирован с поверхности кожи головы, очень важно, так как оно позволяет определить, где именно зарождается припадок. У Вахида это происходило в правой лобной доле. Вспышки мозговой активности, длившиеся долю секунды, не имели немедленных последствий, однако активировали группу мозговых клеток, которые одновременно бесконтрольно возбуждались. Каждую ночь, когда Вахид засыпал, электрическое короткое замыкание переходило на соседние клетки, что приводило к припадку. Противоэпилептические препараты, которые стал принимать Вахид, не могли его вылечить, однако они снижали электрическую возбудимость мозга, помогая предотвратить распространение электрической активности и, как следствие, припадок.
Место, в котором электрический разряд был зафиксирован с поверхности головы, позволяет определить, где именно зарож-дается припадок.
То, что приступы Вахида отличались от общепринятого представления о них, то есть не сопровождались конвульсиями, объясняется анатомией мозга и процессом развития эпилептического припадка. Припадок случается, когда аномальный и автономный электрический разряд вдруг распространяется на часть мозга или мозг целиком. Такой разряд может произойти по множеству причин, среди которых травмы головы, родовые травмы, инфекции, аутоиммунные и генетические заболевания. Однако каждый припадок берет начало в нейронах.
Нейроны – это функциональные клетки головного мозга. Они имеют тело клетки, от которого отходят дендриты и аксоны, напоминающие длинные руки, которые тянутся к центру мозга. Нейроны электрически активны, они сообщаются друг с другом. Каждый нейрон связан с сотнями или тысячами других. Все, что мы делаем, диктуется этими связями. Электроэнцефалограф регистрирует синаптические передачи между нейронами.
Размер нейронов составляет всего 0,01–0,05 миллиметра. Узнать об их существовании было непросто, так как одного микроскопа для этого было недостаточно. Клетки крови можно легко размазать по предметному стеклу и изучить под микроскопом. Мозг, однако, является цельным органом, напоминающим резину. Чтобы увидеть его микроструктуру, исследователям необходимо было разрезать его на невероятно тонкие кусочки. В XIX веке ученые поняли, что можно сделать мозг тверже, погрузив в формальдегид, а после этого разрезать его, не повредив структуру. Когда это было сделано и мир впервые увидел мозг под микроскопом, стало ясно, что его строение вовсе не такое однородное, как можно было подумать. В разных областях клетки распределялись по-разному.
Наш мозг создан по определенному плану, и он один для всех нас.
В начале ХХ века немецкий невролог Корбиниан Бродман решил, что расположение нейронов имеет отношение к функциям мозга. Он создал карту мозга, разделив кору на пятьдесят две зоны согласно гистологии каждой из них. Размеченные области он назвал «поля Бродмана» и каждой присвоил номер. Нейростимуляция подтвердила, что разметка Бродмана в большей степени была верной. Наш мозг создан по определенному плану, и он один для всех нас. Поле Бродмана, в котором зарождается припадок, позволяет понять, как именно он будет выглядеть.
Существует множество разновидностей припадков, однако базовая классификация делит их на два основных типа: генерализованные и фокальные. Припадок в традиционном представлении, то есть с конвульсиями, является генерализованным или генерализованным тонико-клоническим («тонико» означает «напряженный», а «клонический» – «сопровождающийся судорогами»). При генерализованном припадке обычно наблюдается ярко выраженное напряжение мышц в сочетании с ритмичными судорогами всего тела. Слово «генерализованный» в данном случае означает, что вся кора мозга охвачена электрическим разрядом, который вызывает приступ.
Некоторые генерализованные припадки являются первично-генерализованными. Они случаются, когда нежелательная электрическая активность с самого начала захватывает весь мозг. Есть также вторично-генерализованные припадки, при которых разряд происходит на одном участке мозга, а затем распространяется на всю кору. Результат первично-генерализованных и вторично-генерализованных припадков одинаков: тонико-клонические конвульсии всех четырех конечностей, сопровождающиеся потерей сознания. Два этих типа отличаются друг от друга в начале. Первично-генерализованный припадок начинается резко и сразу же охватывает все тело, вторично-генерализованный – постепенно, и для него, как правило, характерна последовательность симптомов (сначала трясутся кисти, затем рука целиком, после половина лица и так далее), которая отражает движение электрического разряда по мозгу. Первые симптомы вторично-генерализованных припадков помогают неврологу понять, в какой именно области коры мозга зарождается приступ.
Не все генерализованные припадки проявляются в виде конвульсий. Абсанс, например, представляет собой кратковременную потерю сознания и часто встречается у маленьких детей. Миоклонический припадок – это быстрая судорога всего тела. Общее у всех генерализованных припадков то, что электрический разряд охватывает всю кору мозга.
Среднестатистический мозг имеет около 85 миллиардов нейронов, а фокальный припадок может начаться всего лишь в 2000 из них.
Фокальные припадки совсем другие: при них электрический разряд не охватывает мозг целиком. Они начинаются в небольшом скоплении нейронов в конкретной области коры мозга. Возможные симптомы таких приступов гораздо разнообразнее, поскольку разные области коры мозга отвечают за разные функции. Некоторые фокальные припадки могут трансформироваться в генерализованные, но многие так и остаются фокальными – поражают лишь ограниченную область мозга. Среднестатистический мозг имеет около восьмидесяти пяти миллиардов нейронов, а фокальный припадок может начаться всего лишь в двух тысячах из них. В данном случае даже мелочь играет большую роль.
* * *
Черилин, еще одна моя пациентка, тоже страдала эпилепсией, но ее припадки были совсем не такими, как у Вахида. Мать Черилин описала мне ее приступы так: «Она, словно сумасшедшая, улетает вместе с феями». Черилин ничего не знала о своих приступах. Должно быть, странно иметь заболевание, которое не замечаешь лишь ты сам. Человек, которому меньше всего о нем известно, – это ты. Черилин приходила в себя в странных местах, не имея понятия о том, как она туда попала. Ей казалось, будто она просто телепортировалась. Припадки проявлялись для нее лишь в том, что она просыпалась напуганной и потерянной.
– У меня появляется чудовищное ощущение, что я вот-вот умру, – сказала она как-то мне.
Черилин нравилось приходить в себя после припадка в окружении семьи. Ей нужна была поддержка людей, которым она доверяла. Я почувствовала себя плохой заменой ее родным, когда в один из дней оказалась единственной, кто был с ней рядом. Черилин пришла в клинику одна. Такое случалось редко, но в тот день все члены ее семьи оказались заняты. Она рассказывала мне о своем состоянии после нашей последней встречи, как вдруг выражение ее лица изменилось, будто бы по нему прокатилась странная волна. Если бы меня попросили описать подробнее, я бы замешкалась. Короткая пауза. Перемены были настолько неуловимы, что я не поняла, действительно ли что-то случилось или нет. Я продолжила разговор.
– Какую дозу ламотриджина вы сейчас принимаете? – спросила я ее.
Черилин не ответила. Она взглянула на руки и внимательно посмотрела на ногти. Правой рукой она покрутила кольцо на левом большом пальце. Через несколько секунд Черилин снова посмотрела на меня и опять ничего не сказала. Может, она просто не слышала вопрос? Я пыталась понять, в чем дело: в том, что она не помнила дозировку, или в чем-то еще.
– В записях говорится, что вы принимаете сто миллиграммов, это так?
Она вновь ничего не ответила, и я убедилась в том, что с ней не все в порядке. Контакт с пациенткой был полностью потерян. Вдруг она начала считать громким испуганным голосом.
У нее был припадок.
– Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать… – кричала она.
По мере счета ее голос становился выше, а страх в нем ощущался отчетливее. Ее мозг работал на огромной скорости и в полную силу. На контрасте с ней мой мозг казался ленивым. Припадки пугают. Они внезапны. Страшны. Они лишают самоконтроля не только жертву, но и свидетелей. Когда мозг вот так загорается, наблюдатель практически ничего не может сделать.
Я соображала слишком медленно. Прежде чем я смогла нормально реагировать, Черилин встала со стула и, шаркая, ушла в угол кабинета.
– Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять… – продолжала она считать.
Она выглядела так, будто увидела нечто настолько ужасное, что ей срочно нужно было стать максимально маленькой и незаметной. Я подошла к ней, нервно бормоча:
– Все хорошо, все хорошо, я рядом. Вы в безопасности.
Я приобняла ее. Она сморщилась, взяла мою руку и крепко ее сжала. Из-за того, что спиной она прижималась к стене, а ее ноги были согнуты в коленях, Черилин напоминала мне маленькое напуганное животное.
– О нет, о нет, о нет, – говорила она, задыхаясь. – Помогите, помогите мне. Вы мне поможете?
Ее мольбы только усилили мое чувство беспомощности. Ей нужно было прийти в себя от страха, который был для меня недосягаем. Он жил только внутри ее мозга. Я положила свободную руку ей на плечо, надеясь, что это ее успокоит, но, разумеется, это не помогло. Ее крики стали более призывными.
– Помогите, помогите мне, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста…
Она до сих пор держала мою руку очень крепко. Я понимала, что мне необходимо освободиться, чтобы нажать на кнопку экстренной помощи. Я пожалела, что не сделала этого с самого начала. Она вжалась в угол настолько, насколько возможно, и натянула ворот джемпера на рот и нос. Виднелись лишь ее глаза, блуждавшие по комнате.
В большинстве случаев припадок длится около 2 минут. Если он продолжается более 5 минут, это может быть опасно.
Когда у человека начинается конвульсивный припадок, его необходимо положить на бок – это не даст ему задохнуться, а затем нужно ждать, когда все закончится. Однако при таких приступах, как у Черилин, это было бесполезно. Она решительно вжалась спиной в стену. Она не рисковала задохнуться, однако выглядела страшно напуганной.
Моя задача состояла в том, чтобы уберечь ее от любых опасных предметов в комнате, больше я ничего не могла сделать.
Мне также нужно было убедиться, что припадок не слишком затянулся. В большинстве случаев приступ длится около пары минут. Если он продолжается более пяти минут, это может быть опасно. Я посмотрела на часы – прошло меньше минуты. Я начала отсчет.
– Нет, нет, нет, помогите, помогите, помогите мне, – молила Черилин.
Ее слова звучали приглушенно из-за джемпера, прикрывавшего рот. Я попыталась убрать его с ее лица. Она испуганно посмотрела мне прямо в глаза и отрицательно покачала головой.
Я взглянула на часы. Прошло еще тридцать секунд. Припадок длился всего полторы минуты, но казалось, что гораздо дольше. Я хотела освободить руку от руки Черилин и подойти к двери, но было бы жестоко оставить ее. Мне стало страшно при мысли о том, что припадок никогда не закончится. Я понимала, что скоро у меня не останется выбора: придется разжать ее пальцы и пойти за помощью. В последнюю секунду я была спасена. Это произошло снова: легкое изменение выражения ее лица. Оно опять стало нормальным, ну, или близким к нормальному. Хватка Черилин ослабла. Она все еще сидела на полу, но ей стало лучше. Она открыла лицо.
– Вы в порядке, Черилин?
– Да.
– Вы снова со мной?
– Да.
– Вы понимаете, что произошло?
– Моя мама здесь?
– Нет, сегодня вы пришли одна. Вы хотите, чтобы я позвонила ей?
– Мама на улице?
– Нет. Вы нормально себя чувствуете?
Она встала и пошла к своей сумке, которая лежала на полу рядом со стулом. Мокрое пятно на джинсах свидетельствовало о том, что она обмочилась. Черилин взяла сумку и направилась к двери.
– Простите, – проговорила она.
– Не уходите, – сказала я, придерживая ее за руку. – Садитесь, я позову кого-нибудь на помощь.
– Я в порядке.
– Вы не можете так уйти. Вы мокрая.
Я указала на пятно на ее джинсах.
Она посмотрела вниз и потерла пятно рукой.
– Думаю, мне пора домой, – сказала она.
Мне казалось, что мы ведем два разных разговора.
– Вы знаете, где находитесь, Черилин?
– Да, – улыбнулась она.
– Где?
– Я здесь, – вновь улыбнулась Черилин и сделала соответствующий жест руками.
– Где здесь, Черилин?
– В магазине.
– Нет, Черилин, вы в больнице.
– Можно мне уйти?
– Не сейчас.
Я усадила ее. Затем взяла со стола ручку, показала ее Черилин и спросила, как это называется.
– Ручка, – ответила она, поднимая брови в недоумении.
– Какой сегодня день? – спросила я.
– Какой день сегодня?
– Да. Какой день сегодня?
– Воскресенье?..
– Нет, понедельник. Вы знаете, кто я?
– Моя мама здесь?
– Нет. Вы понимаете, что находитесь в больнице?
– Нет. Правда?
Прошло еще десять минут, прежде чем ответы Черилин стали по-настоящему связными. Когда это случилось, она расстроилась. Она плакала и звала маму. Черилин ощутила то самое предчувствие смерти, которое, по ее словам, всегда охватывало ее после припадка.
Я позвонила медсестре, специализировавшейся на эпилепсии, и попросила ее помочь. Она отвела Черилин в кафетерий и принесла ей чашку чая. Это должно было успокоить ее, пока она приходила в себя. Только когда Черилин полностью восстановилась, она вернулась ко мне в кабинет, где я попыталась возобновить наш разговор. Не получилось. Черилин не хотела разговаривать. Она лишь хотела пойти домой. Мы вызвали такси, и я назначила ей встречу на следующую неделю.
Перед ее уходом я спросила:
– Что происходит, Черилин, если у вас случается припадок на улице?
– Ничего особенного. Я просто прихожу в себя и вижу, что люди таращатся на меня, а потом встаю и пытаюсь идти как можно увереннее. Я понимаю, что никогда больше их не увижу, и от этого мне становится легче.
* * *
У Вахида и Черилин был один и тот же диагноз. У них обоих были фокальные припадки. Но зарождались они в разных областях мозга. Поэтому эпилепсия проявлялась у них совершенно по-разному.
Рождение Черилин проходило тяжело. Роды были продолжительными, и Черилин появилась на свет синей и вялой. Ее срочно увезли в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она пробыла почти неделю. Первые две недели жизни она провела в больнице.
Как только родители забрали Черилин домой, они сразу заметили разницу между ней и другими их детьми. Она училась всему очень медленно. Когда она пошла в школу, их подозрения подтвердились.
После того как Черилин прошла тестирование, выяснилось, что у нее легкая форма нарушения процесса обучения. Эта новость не стала для семьи шокирующей, ведь Черилин можно было посещать обычную школу.
Родители по-настоящему расстроились, когда в семь лет у их дочери развилась эпилепсия. Томография показала рубец на мозге, оставшийся после родов.
Ее припадки плохо поддавались лечению, и двадцать пять лет спустя, когда мы встретились, они все еще случались регулярно.
У Вахида, наоборот, были нормальные результаты томографии. У него не было проблем с процессом обучения, а приступы были непродолжительными, случались только ночью и прекратились после начала лечения.
Припадки Вахида происходили из правой лобной доли, в то время как приступы Черилин – из правой височной. Разницу между их припадками можно объяснить с помощью функциональной анатомии разных долей.
В лобных долях есть несколько областей, ответственных за планирование движений и контроль над ними. Поэтому припадки Вахида в основном проявлялись в виде двигательных симптомов: его голова поворачивалась, глаза блуждали по комнате, а рука поднималась.
Судороги и напряжение в мышцах тоже говорят о том, что припадок зародился в двигательных областях лобных долей. Лобные доли также содержат лобные глазодвигательные поля, которые важны для зрительного внимания и позволяют глазам следовать за движущимися объектами. Это объясняет, почему припадки, начинающиеся в лобных долях, часто характеризуются движениями головы и глаз.
Лобные доли ответственны за планирование движений и контроль над ними, зрительное внимание, а височные доли – за эмоциональный контроль и выражение эмоций.
Припадки Черилин влияли на ее эмоции. Они характеризовались страхом и предчувствием смерти. Это типичное проявление приступов, берущих начало в височных долях, так как эти доли включают области, ответственные за эмоциональный контроль и выражение эмоций. Такие припадки, как у Черилин, дают нам представление о том, какую роль играют здоровые височные доли.
Хотя эпилепсию часто ошибочно связывают с конвульсиями, ни Вахид, ни Черилин ни разу не теряли сознание и не имели генерализованных припадков. Электрический разряд всегда ограничивался определенной областью мозга.
Эпилепсия – это заболевание-хамелеон. Она имеет бесчисленное множество вариаций.
В действительности мне не нужны были дополнительные тесты[1], чтобы понять, что не так с Вахидом и Черилин. Они требовались лишь для того, чтобы они сами поверили в диагноз, который с самого начала был для них неочевиден. Понимания того, как устроен мозг и как электрическая стимуляция распространяется от клетки к клетке, достаточно, чтобы объяснить их симптомы.
Эпилепсия – это заболевание-хамелеон. Каждый из восьмидесяти пяти миллиардов нейронов мозга может иметь сотни или тысячи связей с другими нейронами – синапсов. В среднестатистическом мозге их около ста триллионов. Фокальные эпилептические припадки зарождаются в маленькой группе нейронов, а затем распространяются по некоторым или всем синапсам. Это дает бесчисленное множество вариаций. Фокальные припадки, берущие начало в разных областях, проявляются по-разному. Приступы, зарождающиеся в разных частях одной доли, тоже отличаются.
Все, что мы делаем, чувствуем и видим, является биологическим процессом, который начинается или заканчивается в мозге. Это результат движения ионов внутрь клетки и из нее, перемещения электрического разряда или выброса химических веществ. Эти процессы одинаковы у всех нас, однако мы отличаемся друг от друга. Бесконечные вариации внутри мозга делают каждого из нас уникальным.
2. Эми
То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени вволю и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди.
«Алиса в Стране Чудес», Льюис КэрроллСемена эпилепсии были посеяны в мозгу Эми, когда ей было всего три месяца, однако им потребовалось шестнадцать лет, чтобы прорасти.
Она родилась здоровым младенцем. Поскольку Эми была вторым ребенком, родители чувствовали себя с ней гораздо более расслабленно, чем с ее старшей сестрой. На нашу первую консультацию ее мать принесла фотографии Эми в младенческом возрасте.
– Я хочу показать вам, какой очаровательной малышкой она была, – сказала мать Эми, разложив на столе фотографии краснощекого улыбающегося ребенка. – А это Эми в больнице, – сказала она, достав уже другие фотографии, на которых был тот же ребенок, но уже лежащий на больничной койке с трубками изо рта, носа и рук.
– Как долго она находилась в больнице? – спросила я.
– Два дня в реанимации и две недели в палате.
Эми плохо почувствовала себя во время семейного отпуска. Поскольку они были не дома, ее родители чуть дольше обычного размышляли, стоит ли показать ее врачу. Температура у Эми взлетела с невиданной скоростью, а на животе девочки появилась пестрая сыпь. Родители заволновались, когда заметили это, и решили обратиться в местную больницу. Пока они туда ехали, сыпь стала ярче и начала расползаться по всему телу. Мать Эми обратила внимание на то, что некоторые точки на коже почернели. Девочка была вялой и безжизненной.
– Она напоминала тряпичную куклу, – сказала мне ее мать.
У Эми быстро диагностировали менингит, и ей оказали неотложную помощь. В реанимации у девочки случился припадок, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Семья настроилась на худшее, но этого не произошло. Антибиотики подействовали, и Эми начала медленно выздоравливать. Черные точки на ее теле стали проходить, и уже через неделю она нормально ела и улыбалась. К моменту выписки у нее были лишь остаточные следы от сыпи, которые вскоре исчезли.
Казалось, девочке удалось избежать последствий болезни. Ее родители переживали какое-то время, что у нее снизился слух (она стала менее внимательна к шумам), но эта проблема скоро решилась. К первому дню рождения у Эми не осталось никаких свидетельств о пребывании в больнице.
Однако в шестнадцать лет у нее проявилась эпилепсия. Первый генерализованный тонико-клонический припадок случился у Эми, когда она была в школе. После него она не получила никакого лечения. Хотя у 5–10 % людей может случиться эпилептический припадок на протяжении жизни, только у некоторых он повторяется, а диагноз «эпилепсия» ставится при регулярных приступах. В среднем риск повторения припадка менее 50 %, поэтому обычно врачи просто ждут и наблюдают за пациентом. Травмы мозга, полученные в детстве по разным причинам, могут привести к эпилепсии в будущем. Как только Эми сказала врачам, что в детстве перенесла менингит, они сразу же поняли, что риск повторения приступа высок, однако на всякий случай не стали сразу же приступать к лечению. Эми не пришлось долго ждать: второй такой же припадок произошел через месяц после первого. Ей поставили диагноз «эпилепсия» и начали лечение.
У 5–10 % людей может случиться эпилептический припадок на протяжении жизни, но в среднем риск повторения припадка составляет менее 50 %.
– Опишите мне свои припадки, – сказала я Эми, когда мы впервые встретились.
На тот момент ей было под тридцать. После постановки диагноза у нее бывали хорошие и плохие времена. В подростковом возрасте припадки случались у нее ежемесячно. Когда ей был двадцать один год, они прекратились на восемнадцать месяцев. В Великобритании эпилептикам разрешено водить, если у них не было приступа в течение года. Как только Эми начала обучаться вождению, припадки вернулись. После этого они стали случаться периодически, но промежуток между ними был слишком коротким, чтобы Эми могла водить. Однако в остальном ее жизнь шла нормально. Она окончила университет, где изучала маркетинг. Когда мы встретились, она недавно переехала в Лондон ради работы в рекламной компании.
Пациенты очень красноречиво нарекают свои припадки: срывы, хоки-коки, электрические удары, крики, Хайль Гитлеры, рокеры.
– Они бывают двух видов. Те, что случаются чаще всего, я называю припадками в стиле «Алисы в Стране Чудес».
Меня всегда поражает то, как люди нарекают свои припадки. Чаще всего это очень личные названия, которые отражают чувства человека: срывы, хоки-коки, электрические удары, крики, Хайль Гитлеры, рокеры. Когда я делаю записи о припадках пациента, то обязательно включаю в них слово или фразу, которыми он их обозначает. Эти названия гораздо красноречивее любых медицинских терминов.
Припадки обычно пугают и внутренне опустошают пациентов. Часто они крайне неприятны. Но так бывает не всегда. Время от времени я встречаю пациента, который чувствует себя «удостоенным чести». Кто-то говорит, что припадки позволяют взглянуть на мир совершенно по-новому. Бывает, эпилептики видят мир не так, как все остальные.
Эми не нравились ее приступы, но ей было приятно чувство, которое им предшествовало.
– Я бы хотела, чтобы аура окружала меня хотя бы раз в день, – сказала она.
Многие фокальные припадки начинаются с так называемой ауры (слово «аура» переводится с греческого как «ветерок»). Об ауре в контексте эпилепсии впервые заговорили примерно в 200 году н. э., когда мальчик, описывая приступ, сказал, что он начинается с ощущения легкого ветра, обдувающего ногу. Аура – проявление фокального электрического разряда, зарождающегося в определенной точке мозга. Если разряд остановится, ничего больше не произойдет, однако если он распространится далее, то последуют и другие симптомы. Аура – это предупреждение. Этот термин теперь используется не только для обозначения ощущений, напоминающих ветер. Это кратковременный симптом, который появляется в начале фокального припадка. Типичные примеры ауры – бабочки в животе, дежавю или обонятельные галлюцинации. Для невролога аура – это первая подсказка.
– После ауры становится страшно? – спросила я Эми.
– Да. Потом наступает кошмар.
Припадки обычно пугают и внутренне опустошают пациентов. Но некоторым они позволяют взглянуть на мир совершенно по-новому.
Припадки Эми начинались с чувства дезориентации, которое ей даже нравилось. По ее словам, ей казалось, что она приняла приятные галлюциногенные таблетки. Иногда приступы в этом и заключались: приятное чувство, которое делает весь мир прекрасным. К сожалению, таким был не каждый припадок. Электрический разряд, произошедший в ограниченной области мозга, иногда распространялся по коре и охватывал весь мозг. Когда это случалось, чувство счастья сменялось генерализованными конвульсиями, неприятными и опасными. Бывало, она приходила в себя на улице в окружении незнакомцев. Особенно опасный припадок произошел на ее кухне, когда в руке Эми был нож. Упав, она приземлилась лицом на острие ножа и получила серьезные травмы. Выпуклый фиолетовый шрам под глазом всю жизнь будет напоминать ей о том случае.
Несмотря на подобные эпизоды, Эми оставалась веселой.
– Я бы не отказалась от лекарства, которое избавило бы меня от больших припадков, но не от маленьких, – сказала она мне, смеясь.
– Продолжайте описывать. Вы чувствуете приятную дезориентацию, а затем…
– Это очень сложно описать. Нужно самому испытать, чтобы понять.
– Если вы хорошенько постараетесь описать мне их, то я отблагодарю вас лекарствами, которые работают лишь наполовину! – пошутила я.
– Хорошо, – ответила она, задумавшись. – У меня возникает чувство, что припадок вот-вот начнется. Не просите меня описать его. Это просто чувство, словами его не объяснить.
– Приятное или нет?
– Ох, очень приятное. Очень-очень приятное. Как будто все вдруг становится понятным.
– Хотела бы я его испытать.
– Да, это так здорово!
– Итак, что происходит потом?
– Это ощущение длится секунду-две, хотя мне сложно сказать точно, ведь чувство времени искажается. Затем я замечаю изменения вокруг меня. Все, на что я смотрю, начинает двигаться. Еда на тарелке, телевизор. Они будто начинают ускользать от меня и одновременно уменьшаться в размерах. Они уменьшаются, потому что отдаляются, как мне кажется. – Она сделала короткую паузу. – Однако иногда у меня возникает ощущение, что это я становлюсь больше, а все остальное – меньше. После этого меняется земля подо мной. Она будто ускользает и, отдаляясь, сужается. Знаете, на что это похоже?!
Эми вдруг подняла палец в воздух, чтобы показать, что ей в голову пришло сравнение.
– На что?
– На дорогу на картине. На очень плохой картине, понимаете? Где дорога становится у́же и у́же, чтобы вы поняли, что она уходит вдаль. Однако вы знаете, что это ненастоящая дорога и что она никуда не ведет.
– Это очень хорошее описание. Не понимаю, почему вы сначала сказали, что не можете объяснить свое состояние.
– Думаю, потому что я не передаю его в точности. Чтобы это сделать, мне надо погрузиться в это чувство, но если я это сделаю, то буду не в состоянии его описать.
– Мне кажется, вы прекрасно справляетесь. Хотите что-то добавить?
– Так начинаются все припадки. В большинстве случаев это чувство просто постепенно проходит, но иногда мне делается хуже, и я отключаюсь.
– Тогда припадки становятся страшными?
– Да. Мне начинает казаться, что я скатываюсь к подножию холма, даже если я твердо стою на земле. Если я иду, когда это происходит, то начинаю шагать так, будто действительно спускаюсь с очень крутого холма. Я знаю, что холма нет, но все равно так иду. По крайней мере мне всегда так казалось, но мама говорит, что я вовсе не так хожу. По ее словам, я продолжаю идти нормально.
– Вы находитесь в сознании, когда это происходит?
– Да, пока дорога не начинает меня засасывать. Тогда я отключаюсь.
– Это вы и называете «Алиса в Стране Чудес»?
– Да.
* * *
Наиболее известным человеком, который использовал нейростимуляцию для определения функций мозга, был Уайлдер Пенфилд, американский нейрохирург, работавший в Канаде в середине ХХ века. Он применял электрическую стимуляцию для систематического изучения функциональной нейроанатомии коры мозга. Свои наблюдения он представил в виде диаграммы, которую обычно называют гомункулусом. Она представляет собой человека, обволакивающего поверхность мозга. Каждая из частей его тела используется, чтобы определить, где находится соответствующая ей двигательная или сенсорная область мозга. Пропорции гомункулуса гротескны: у него гигантский большой палец и язык по сравнению с относительно маленьким туловищем. Они показывают, какая часть коры мозга задействована для удовлетворения сложных двигательных или сенсорных потребностей разных частей тела.
Кортикальный гомункулус
Бродман пытался понять мозг, создав гистологическую карту, в которой отражались функции мозга. Несмотря на свою ограниченность, рисунки Пенфилда и Бродмана были удивительно точными. Двигательная область гомункулуса соответствует полю Бродмана под номером четыре. Полоса коры мозга, где обрабатывается сенсорная информация, относительно близка первому, второму и третьему полям Бродмана. Однако эти карты могут ввести в заблуждение, так как на них конкретная область мозга соответствует лишь одной функции.
Поля Бродмана
Способ обработки мозгом зрительной информации – прекрасный пример вызова, брошенного ранним исследователям мозга. Ни один из доступных методов не позволял им получить полное представление о работе этого органа. Функции могли быть изучены лишь на базовом уровне. Исследовать можно было лишь те из них, за которыми легко было наблюдать и которые легко было измерить и описать. Осознанные движения, чувства и речь оценить было гораздо проще, чем высшие функции, включающие мысли и эмоции.
Нейростимуляция Пенфилда показала, что обработка зрительной информации происходит в затылочной доле в задней части головы (семнадцатое поле Бродмана). Можно ошибочно подумать, что глаза как бы фотографируют, а затылочная доля сохраняет снимок, однако мозг не похож на фотоаппарат. Визуальные стимулы подвергаются нескольким этапам обработки, которые происходят в разных областях мозга. Нейростимуляция никогда бы этого не определила.
Мозг не похож на фотоаппарат: визуальные стимулы подвергаются нескольким этапам обработки, которые происходят в разных областях его.
Только в XXI веке мозг стал понятен на более высоком уровне. Это произошло благодаря изобретению функциональной МРТ (фМРТ). Стандартная МРТ показывает только анатомию, в то время как фМРТ позволяет оценить работу областей мозга. Для ее проведения используется обычный магнитно-резонансный томограф, однако она подразумевает статистический анализ, который позволяет сравнить кровоснабжение мозга, когда человек выполняет задание и когда отдыхает. Например, пациент проходит МРТ, сначала слушая музыку, затем – белый шум. По разнице между двумя снимками можно определить, какие области мозга задействованы в восприятии музыки.
Функциональная МРТ зарекомендовала себя как наиболее удобный инструмент для детального изучения думающего мозга, однако и у нее есть ограничения. Снимки МРТ – это лишь тени, по которым необходимо сделать важнейшие выводы. Однако где умозаключения, там и ошибки. Отрезвляющее исследование, проведенное в 2009 году с использованием фМРТ, напомнило нам об этом. Группа ученых показывала мертвой семге фотографии людей в различных социальных ситуациях и (естественно, в шутку) спрашивала рыбу, какие эмоции испытывают люди на каждом кадре. Во время расспроса мозг семги сканировали. Когда итоговые снимки сравнили, ученые явно увидели области активности в мозге рыбы. Их легко можно было бы назвать психологическими, но, так как это было невозможно, они стали явным доказательством ложного положительного эффекта, приписываемого статистическому анализу. Если на каждый набор снимков провести достаточно статистических тестов, то некоторые из них окажутся положительными.
Несмотря на это, фМРТ определенно внесла большой вклад в понимание работы мозга. Она показала, что обработка зрительной информации не ограничивается семнадцатым полем Бродмана. Знание этого хотя бы частично позволяет объяснить, почему Эми чувствовала себя Алисой в Стране Чудес.
Когда мы смотрим на что-то, то видим цельный предмет. Однако наш мозг не обрабатывает зрительную информацию просто и прямо. Окончательное изображение является конструкцией. Для преобразования зрительной информации требуются связанные нейронные пути, не все из которых находятся в затылочной доле. Первичная зрительная кора, расположенная в затылочной доле, позволяет определить, что мы видим, только на базовом уровне. Это лишь первый этап из нескольких. Оттуда зрительные стимулы переходят на последовательную обработку в разные области мозга. Значительная часть более детальной обработки происходит за пределами затылочных долей. У первичной зрительной коры есть множество связей, благодаря которым она быстро передает информацию теменным и височным долям. В височных долях производится самая сложная обработка зрительных сигналов.
Когда мы смотрим на предмет, нам нужно оценить его глубину, цвет, форму. Мы смотрим на свет в комнате. Мы определяем, двигается ли предмет, и если да, то как быстро. Мы решаем, знаком ли нам этот предмет. Функциональная МРТ помогла определить, в каких именно областях мозга все это происходит: одна область в височной доле важна для распознавания линейного и кругового движения, другая активизируется, когда мы смотрим на формы и цвета.
Так как зрительная информация обрабатывается посредством связей между разными областями мозга, возможна ситуация, при которой один аспект обработки визуальной информации пострадает из-за болезни, а остальные останутся в норме. В книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» описан художник, утративший способность распознавать лица. Он узнавал предметы, но не собственную жену. Если бы МРТ существовала при жизни этого человека, то она, скорее всего, выявила бы повреждение веретенообразной извилины – области мозга в нижней части височной доли, ответственной за распознавание знакомых лиц. (Интересно, что эта же область активизируется, когда автолюбитель видит машину, которой восхищается. Ни одна из областей мозга не выполняет одну-единственную функцию.)
Только поняв, как устроен и работает мозг, можно понять, как влияют на него заболевания. Эпилептический припадок также может воздействовать на каждый из этапов обработки зрительной информации.
Веретенообразная извилина отвечает за распознавание знакомых лиц. Она же активизируется у автолюбителя, смотрящего на любимую модель машины.
Дженна была молодой женщиной с необычной проблемой. Она периодически видела яркие мигающие пятна. Это длилось всего одну или две минуты, но случалось несколько раз в день. В эти моменты ей было сложно сфокусироваться. При этом она не теряла сознание, поэтому могла четко описать, что с ней происходило. В остальное время Дженна видела нормально. Когда врачи обследовали ее в момент проявления симптомов, они обнаружили нечто очень необычное: ее зрачки то сужались, то расширялись. Во время некоторых припадков конечности ритмично трясутся, но в случае Дженны то же самое происходило с ее зрачками. Приступ ритмичного расширения и сужения зрачков, длящийся несколько секунд, называется «гиппус». Он является редким проявлением эпилепсии. У Дженны была патология в связке между правой височной и теменной долями, однако до конца неизвестно, как именно она вызывала гиппус. Учитывая место зарождения припадка, можно предположить, что он приводил к временному нарушению способности Дженны распознавать цвет, тень и движение. Возможно, ее зрачки просто отвечали так на неоднозначное сообщение, которое получали от мозга.
Припадки Эми в стиле «Алисы в Стране Чудес» были зрительными иллюзиями. Иллюзия – это ошибочное восприятие, искажение реальных чувственных ощущений, принятие одной формы за другую. На томограмме Эми были видны значительные поражения мозга, которые являлись последствием менингита. На правой височной и затылочной долях у нее были большие рубцы. Я показала ей снимок, когда мы это обсуждали.
– У меня на мозге рубцы? – Она выглядела встревоженной, несмотря на мои попытки ее успокоить.
– Да, но они появились практически тридцать лет назад! Вы жили с ними всю жизнь, и все было нормально. Они не оказывали на вас значительного влияния, так что не позволяйте им сделать это сейчас. Остальные доли вашего мозга в порядке.
Честно говоря, я была удивлена тем, насколько плохо выглядел снимок Эми. Она хорошо себя чувствовала, блестяще окончила университет и строила сложную карьеру. Между ее снимком и ее состоянием было несоответствие. Раньше считалось, что мозг и нейроны не регенерируются, а потерянные функции не подлежат восстановлению. Сегодня известно, что это не так: мозг обладает нейропластичностью, то есть может перепрограммироваться, приобретать новые навыки и компенсировать повреждения. Детский мозг лучше справляется с такой мозговой реорганизацией, чем взрослый.
Возможно, нейропластичность объясняла благополучие Эми, но, хотя рубцы не повлияли на ее интеллект, они стали причиной эпилепсии. На ЭЭГ были видны пики в правой височной доле. Нарушения зрительного восприятия свидетельствовали о проблемах в обработке зрительной информации высокого уровня. Во время припадка она видела объекты, но не могла оценить их глубину или перспективу.
Мозг обладает нейропластичностью: может перепрограммироваться, приобретать новые навыки и компенсировать повреждения.
К сожалению, я не могла избавить Эми от приступов. Томография и ЭЭГ не помогают улучшить состояние эпилептика. Они разъясняют проблему, но не способствуют ее устранению. До 30 % людей с фокальными припадками никогда не выходят в полную ремиссию. Однако приступы Эми стали происходить не так часто и со временем начали реже переходить от фокальных к более опасным генерализованным. Эми продолжала смотреть на мир позитивно.
– Я знаю, что у многих людей припадки гораздо хуже, чем у меня. Мне нужно перестать жаловаться и не забывать о том, как мне повезло, – однажды сказала она мне.
Эми дала своим припадкам название, которое что-то значило для нее. Она была в шоке, когда узнала, что среди врачей такие приступы действительно именуются синдромом «Алисы в Стране Чудес». Зрительные иллюзии, напоминающие путешествия Алисы, не так уж редки. Они практически всегда связаны с эпилепсией, зарождающейся в височных долях. Однако иллюзия, при которой предметы кажутся больше или меньше, чем они есть на самом деле, имеет отношение не только к эпилепсии, но и к мигрени.
До 30 % людей с фокальными припадками никогда не выходят в полную ремиссию.
Зрительная иллюзия, при которой предметы кажутся больше или меньше, чем они есть на самом деле, называется синдромом «Алисы в Стране Чудес».
Ходят слухи, что Льюис Кэрролл сам был эпилептиком. Они не подтверждены, но вот мигренью он определенно страдал. В его дневниках есть записи о зрительных галлюцинациях, при которых предметы искажались зигзагами, что типично для мигрени. Однако два раза он терял сознание, что вряд ли имеет отношение к этому заболеванию. Неврологу, знающему о потере сознания в сочетании с искаженным восприятием мира, очень хочется поставить диагноз «эпилепсия». Было бы здорово, если бы Льюис Кэрролл преобразовал хаос повторяющихся эпилептических припадков в нечто настолько чудесное, как «Алиса». Думаю, он так и сделал.
3. Донал
Каждый акт восприятия является в какой-то степени актом создания, а каждый акт вспоминания – актом воображения.
«Музыкофилия», Оливер СаксИдея, что единственная реальность, которую нам когда-либо суждено познать, – это наша собственная, всегда интересовала и смущала меня. Каждый день я встречаю людей, которые испытывают нечто очень необычное. Иногда их опыт уникален. Меня просят определить, чем он является – признаком неординарности или заболевания.
Я встретила Донала, когда работала консультирующим неврологом всего два или три года. Уверенность в себе у молодого врача обычно то возрастает, то уменьшается. Он нередко держит себя с напускным апломбом, за которым стоят подбадривающие слова старших коллег и успокаивающий шелест страниц учебников. Он старается вести себя как хороший врач, надеясь, что однажды будет чувствовать себя таким. Он много работает, а когда не работает, учится. Экзамены, которые он сдает в первые годы практики, гораздо сложнее тех, что он сдавал раньше. Их заваливают чаще всего. На этом этапе требуются самые точные и подробные знания. Сдать эти экзамены нелегко, и у некоторых это так и не выходит. Как только врач сдает их, то определяется со специализацией, а затем делает первый шаг на пути к консультированию.
Со временем он набирается опыта и становится увереннее в своих врачебных оценках. Только в последний год ординатуры или первые годы полноценной самостоятельной работы он начинает бояться того, что является худшим врачом из возможных. Малая образованность – опасная вещь. В какой-то момент ему начинает казаться, что он видел все, однако это не так. Только став опытным врачом, он понимает, что всего не увидит никогда.
Малая образованность – опасная вещь. В какой-то момент молодому врачу кажется, что он видел все, однако, став опытнее, он понимает, что всего не увидит никогда.
Донал пришел в клинику со своей женой. Он понравился мне сразу же: он был сдержанным и спокойным, а на вопросы отвечал трезво и без прикрас. Донал казался мне непостижимым: он говорил о фактах и ни о чем больше. Когда я спросила, сколько у него детей, он ответил, что трое. Он не уточнил, мальчики это или девочки, до сих пор ли они живут дома, есть ли у него уже внуки. Он не сказал: «У меня чудесные дети» или «Завел же детей на свою голову» – и не рассмеялся, как некоторые другие пациенты. Когда я задавала ему простой вопрос, он так же просто отвечал на него. Это гораздо более необычно, чем может показаться. Меня это заинтересовало. Я задумалась, не сидит ли передо мной человек, который не хочет или не может выражать эмоции. Тогда я решила, что это тоже может быть проблемой.
Донал работал уборщиком в школе уже тридцать лет. Его жена, гораздо более эмоциональная, сказала, что работа всегда целиком устраивала его, что он очень гордился тем, что выполнял ее хорошо.
– Вы никогда не найдете косяка на школьном дворе, – сказала она мне. – Еще он занимается всем техническим обслуживанием. Школе не нужны ни сантехники, ни электрики. За все эти годы их приглашали всего раз или два.
Тот факт, что работа Донала была так для него важна, тоже повлиял на мои ранние выводы. За несколько месяцев до нашей встречи Донал оказался в очень странной ситуации. Его вызвали к директору, чего ранее никогда не случалось. Обычно он работал один и не нуждался ни в каких указаниях. Зная, какие разговоры ходят по школе, Донал догадывался, почему его вызвали. Вокруг обсуждали изменения, сокращения и увольнения. Я навострила уши и убедила Донала рассказать мне об этом подробнее. Он нехотя ответил, что, направляясь по коридору к кабинету директора, испытывал нетипичное для него волнение.
– Наши дети ходили в эту школу, – сказала его жена. – Он видел, как ученики проходили весь путь с первого класса до выпуска, а потом возвращались в школу уже со своими детьми. Не знаю, что бы с ним было, если бы он потерял работу.
Донал не зря волновался. Новости были плохими. Школе урезали финансирование, и директор предупредила его о том, что его рабочие часы сократят. Увольнение не исключалось. Ему сказали, что можно найти человека, который будет выполнять его обязанности за меньшую плату.
– Она сказала, что он был дорогим вариантом, – пожаловалась мне его жена. – Вариантом! Стал бы подрядчик ежедневно сметать листья с каждой дорожки перед школой? Конечно, нет!
Когда человек резко встает, он может свалиться в обморок: у него падает кровяное давление, в результате чего мозг на какое-то время лишается кислорода.
Доналу предложили присесть, прежде чем сообщить ему новость. Когда он встал, чтобы уйти, у него случился первый припадок.
– Я бы хотела, чтобы вы еще раз рассказали мне, что произошло, но медленнее. Опишите шаг за шагом, – попросила я.
Донал уже рассказывал мне о случившемся, но я никогда ничего подобного не слышала. Когда мозг дает подсказки, каждая деталь важна. Если я хочу найти источник припадков, я должна понимать их.
– Мне предложили присесть. Я поблагодарил миссис Дэли, – сказал он, а его жена в этот момент закатила глаза, – а затем встал и хотел выйти из кабинета.
– Через какое время после того, как вы поднялись, вам стало нехорошо? – спросила я.
Донал ненадолго задумался.
– Через две или три секунды. Не больше.
– Вы испытывали головокружение или тошноту?
– Нет.
Когда человек резко встает, у него может упасть кровяное давление. Если оно не приходит в норму достаточно быстро, мозг моментально лишается кислорода. Из-за этого человек может почувствовать тошноту или упасть в обморок. У некоторых начинает кружиться голова. Я подумала, что, может, это была причина проблем Донала. Однако он сказал, что его не тошнило и что голова у него не кружилась.
– Вы направились к двери. А что произошло потом?
– В углу кабинета стоял большой горшок с юккой, – сказал он мне. – Я был от него на расстоянии метра. Оттуда они и пришли, прямо из-за цветочного горшка. Они пробежали передо мной, а потом скрылись за шкафом.
– Они пробежали справа налево?
– Да.
– А как они выглядели?
– Примерно тридцать сантиметров ростом…
– Опишите их подробнее, пожалуйста.
Донал, похоже, не был доволен тем, что ему приходилось рассказывать мне все по второму кругу.
– Как я уже говорил, они выглядели как семь гномов. Семь человечков в яркой одежде. Они довольно быстро пробежали справа налево. Я просто заметил их, не рассматривая. Я знал, кем они были, не вглядываясь в них. Не могу сказать, во что они были одеты, если вы это хотите знать.
– Вы знали, что они ненастоящие?
– Разумеется. Но они были настоящими, то есть… – Он сделал глубокий вдох и собрался с мыслями. – Я имею в виду, что действительно видел их, но вовсе не думаю, что мультяшные персонажи реальны.
– А, это были персонажи мультфильма?!
– Да. Неужели вы думаете, что я видел настоящих человечков?
– Простите… Это довольно необычная история, поэтому я не до конца представляю, что вы видели. Как вы думаете, Донал, почему это произошло?
– Я подумал, что это была какая-то проекция снаружи. Детская шутка, может быть. Понимаете, они выглядели вполне реально. Но, когда я в следующий раз увидел их дома, эта теория отпала.
– Вы рассказали директору о том, что видели? Она заметила, что с вами что-то не так?
– Я не стал беспокоить ее. Я просто спросил, не заметила ли она, как кто-то пробежал по кабинету. Она ответила, что надеется, что это не мышь. Я сказал, что нет, и на этом все закончилось.
– Он и мне не сразу рассказал, – вмешалась в разговор его жена.
Когда это случилось во второй раз, Донал был в гостиной и собирал модель линкора. Именно так он обычно проводил свое свободное время. Как только его жена сказала об этом, мне многое стало понятнее. Он был спокойным и аккуратным, а его осанка – слегка сутулой. Я представила, как он часами сидит, согнувшись над столом, и занимается тонкой работой.
Комната, в которой находилась в тот момент его жена, была отделена от гостиной раздвижной дверью. Тогда она была приоткрыта. Жена услышала, как что-то упало и как Донал заворчал, тяжело дыша. Она пошла посмотреть, что произошло, и увидела, что ее муж собирает с пола кусочки модели.
– Я никогда не видела, чтобы этот человек детальку уронил, не говоря уже о целой конструкции, – сказала она мне. – Однако он не объяснил, почему это случилось.
– Вы снова их увидели? – спросила я.
– Да.
– Они выглядели точно так же?
– Да.
– Почему вы уронили модель? – спросила я. – С вашими руками что-то случилось?
– Я просто удивился, – ответил он.
Донал рассказал жене о видениях, только когда это произошло в третий раз. Пара ложилась спать примерно в одно время каждый вечер. Однажды жена Донала проснулась от того, что он резко сел в постели и схватил ее за руку.
– Он дважды встает каждую ночь, чтобы сходить в туалет, – поделилась она. – Он всегда немного шумит, когда поднимается, но раньше он никогда не хватал меня за руку.
«У меня видения», – сказал ей тогда Донал, крепко держа ее руку.
Она включила свет и посмотрела на него.
– Он выглядел напуганным, но больше ничего странного не было, – сказала жена Донала.
В тот раз, возможно из-за темноты и резкого перехода ото сна к бодрствованию, он не смог с легкостью отмахнуться от увиденного. Он попросил жену посмотреть под кроватью.
– Я решила, что он с ума сошел.
Донал, не объяснив, зачем ему это нужно, настоял на том, чтобы его жена заглянула под кровать. Ее муж вовсе не был склонен ко всяким глупостям, поэтому она сделала то, о чем он попросил. Разумеется, там ничего не было.
– Обычные комки пыли и затерявшийся носок, – сказала мне его жена. – Я испытала облегчение. Учитывая его состояние, я ужасно боялась туда заглядывать.
«Я видел страшный сон. Очень правдоподобный», – сказал он ей. После этого они решили забыть о случившемся и снова легли спать.
– Он не сказал, о чем был его сон? – спросила я, после чего жена Донала впервые от души рассмеялась.
– Чтобы он-то сон рассказал?! – Она ткнула пальцем мужа и снова расхохоталась.
Только когда то же самое произошло еще раз через неделю, муж рассказал ей больше.
«Я, черт возьми, снова их видел», – проговорил он.
«Кого?» – спросила его жена. Включив свет, она увидела, что Донал сидит на кровати с выражением озадаченности на лице.
«Мне снился тот же сон, что и до этого», – сказал он и нехотя описал жене все, что видел.
– Семь сказочных гномов! – сказала мне его жена. – Вы можете в это поверить? Я ответила, что ему все просто приснилось. Тогда он рассказал мне, что видел их в школе при дневном свете.
Этот дневной эпизод превратил сон в галлюцинацию, что заставило волноваться их обоих. Жена убедила Донала срочно обратиться за помощью.
– Как вы думаете, что может быть причиной галлюцинаций? – спросила я.
– У меня была тетя, которой начало мерещиться всякое, а в течение шести месяцев она лишилась рассудка. Альцгеймер, – сказала жена Донала.
– Безусловно, такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, могут вызывать галлюцинации, – согласилась я. – Однако это редко происходит на ранних стадиях, когда память и когнитивные функции все еще сильны.
Я проверила память Донала, его когнитивные способности и способность принимать решения – результаты оказались хорошими. Я обратилась к нему:
– Вы беспокоитесь именно об этом? Об Альцгеймере?
– Вы здесь врач.
Да, врачом была я, но мне было сложно не обращать внимания на то, что первая галлюцинация Донала произошла сразу же после того, как ему сообщили об угрозе увольнения. В медицинской практике врач должен знать факты о заболеваниях, статистику и способы лечения. Искусство медицины придает смысл и контекст истории пациента. Я всегда обращаю пристальное внимание на предысторию, рассказанную пациентом.
– Пока я ничего не утверждаю, но думаю, что эти симптомы могут быть связаны со стрессом на работе.
Донал ничего не ответил.
– Это довольно необычные симптомы, и стресс может стать причиной странных вещей, – добавила я. Мне кажется, его жена слегка кивнула головой, что я восприняла как знак согласия. Однако я не была уверена в своей теории, поэтому не стала давить на них. – Давайте не будем беспокоиться об этом сейчас. Нужно сделать ряд тестов, и мы посмотрим, каковы будут их результаты.
Я видела, что Донал настороже. Мне казалось вполне логичным, что его видения сигнализируют о чем-то неотвратимом. Однако, прежде чем делать выводы, я решила направить его на обследование.
Результаты МРТ мозга Донала были нормальными. Галлюцинации в виде мультяшных персонажей ни для кого не воспринимаются как норма, так что хороший снимок казался ложью. Доналу сделали ЭЭГ. Ее результаты тоже были в порядке.
Пики, свидетельствующие об эпилепсии, могут отражаться на ЭЭГ всего раз или два в сутки. Их легко упустить. Бывает, они видны лишь в момент эпилептического припадка. Когда мозг устал или находится в напряжении, вероятность проявления патологий увеличивается. Я направила Донала на еще одну ЭЭГ. Ее надо было сделать при определенных условиях: ему сказали не спать до четырех утра, а к девяти приехать в больницу.
Припадок может случиться, даже если у вас нет заболеваний мозга: его могут спровоцировать наркотическая или алкогольная ломка, недосып и незначительная травма головы.
Нехватка сна – это стрессор, который увеличивает вероятность как плохой ЭЭГ, так и возникновения припадка. Если лишить человека сна, велик риск, что у него случится приступ.
У всех есть лимит, при превышении которого может произойти припадок, даже если у вас нет заболеваний мозга. Кроме недосыпа, приступ может случиться при наркотической или алкогольной ломке и незначительной травме головы. У эпилептика этот лимит невелик, так что припадок у него может спровоцировать даже мелочь.
Вторая ЭЭГ Донала тоже была нормальной.
– Ваши результаты в порядке. Это хорошая новость, – сказала я Доналу.
– У него были видения еще шесть или семь раз, возможно, больше, – сказала его жена. – Думаю, он говорит мне о них не каждый раз.
Проблема не решилась сама собой, и я затруднялась назвать ее причину. Мозг очень старательно хранит свои секреты. Когда симптомы непостоянны, найти их источник становится еще сложнее. К тому моменту, как пациент приходит на прием, они уже давно прошли.
Я не знала, что было не так с Доналом. Как и многие другие неврологические жалобы, его проблема была уникальна. Не могу вспомнить, чтобы кто-то до или после него имел такие же симптомы. Я понимала, что мне будет проще всего выяснить источник проблемы, если Донал ляжет в больницу, а я осмотрю его непосредственно в тот момент, когда он видит галлюцинации. Они случались у него практически каждую неделю, и я надеялась, что мне удастся понаблюдать за ним во время приступа, если он проведет в больнице хотя бы неделю. Нам с ним требовалось лишь немного терпения.
В центре изучения эпилепсии, где я работала в то время, было отделение на шесть мест для наблюдения таких пациентов, как Донал. Людей заселяли в одноместные палаты, где их круглосуточно снимали на видео. Их мозговые волны и сердцебиение постоянно отслеживались. За ними всегда наблюдали медсестры, готовые прийти на помощь, как только пациенту станет нехорошо. Большинство людей находились там пять дней, но некоторые задерживались на две недели. За это время пациенты не покидали своей палаты. Они не могли принять душ или помыть волосы. Их пускали в туалет, и только там не было камер, но и в нем их просили не задерживаться. Большинство пациентов относились к такому ограничению свободы даже с некоторым энтузиазмом, ведь они ложились в больницу, надеясь показать врачам, что им приходится выносить, когда они наедине с собой. Они хотели, чтобы им наконец-то поставили диагноз и, следовательно, назначили лечение.
Я предложила Доналу лечь в больницу для наблюдения за его состоянием. Однако он не проявил никакого энтузиазма, особенно после моих слов о том, что ему, возможно, придется провести там целую неделю. Он не хотел отпрашиваться с работы. В итоге жена убедила его в том, что это необходимо для его же блага. Дата была назначена, и в понедельник утром он зашел в отделение с двумя небольшими спортивными сумками в руках. Жена сопровождала его.
– Вы не так много всего взяли на неделю, – сказала я, увидев его.
Он выглядел встревоженным. Сдержанный мужчина, позволивший круглосуточно за собой наблюдать. Работник отделения проводил его в палату и помог устроиться. Познакомил его с «камерой заключения», так сказать. Затем к нему зашла медсестра и еще раз объяснила суть теста. Она аккуратно закрепила металлические пластинки на коже головы Донала с помощью клея. В последующие дни расположение электродов регулярно проверялось, и те из них, что отошли от кожи, подклеивались. Они напоминали длинную разноцветную косу, свисающую по спине Донала. Каждый электрод был подключен к пишущему устройству, лежавшему в маленькой сумке, которую Донал должен был носить на талии. Трехметровый кабель соединял пишущее устройство с компьютером на стене. Все перемещения Донала ограничивались расстоянием в три метра до тех пор, пока с него не снимут электроды.
К моему облегчению он стал чувствовать себя комфортнее, после того как медсестра начала все устанавливать. Оборудование его заинтересовало. Он все время смотрел на монитор, где видел себя на видео, а рядом – бегущие мозговые волны. Медсестра объяснила ему весь процесс и попросила нажать на тревожную кнопку, как только он почувствует, что вот-вот могут начаться галлюцинации. Эта просьба, похоже, его взбодрила. Теперь и у него была своя роль. Нажатие кнопки говорило медсестрам, что ему нехорошо, а также являлось для меня маркером момента на видеозаписи, начиная с которого мне нужно будет все внимательно изучить.
– Постарайтесь не задерживаться в туалете, – предупредила я его. – Если там что-то случится, мы этого не увидим. Вы принесли с собой диски, книги или еще что-нибудь, чтобы занять себя?
В одной из спортивных сумок Донала были детали для модели корабля, которая была слишком велика для всех столов в палате.
– Если вы ему понравитесь, то он спросит, какой ваш любимый военный корабль, – сказала его жена, когда заметила, что я смотрю на модель.
– Мне придется подумать, – засмеялась я.
– Уже все установили? – спросил Донал.
– Да. Теперь остается только ждать, – ответила я.
К чему мы и приступили. Прошел день, два, три – ничего. Медсестры смотрели за Доналом из дистанционного наблюдательного пункта. Он об этом знал, но сам их не видел. Сначала ему было некомфортно при мысли о том, что за ним подсматривают. Он постоянно поглядывал на камеру, а однажды простоял прямо перед ней минут пятнадцать. Однако в конце концов, как это обычно и происходит, он перестал обращать внимание на вторжение в его личное пространство и расслабился, будто он был один. Донал разговаривал по телефону, забывая, что мы его слушаем. «Этого не случится. Национальная служба здравоохранения зря тратит на меня деньги», – высказывал он жене. Медсестры по камерам наблюдали за ним круглосуточно. Нельзя было упустить ни секунды, ведь в этом и заключается наша работа.
Мозговые волны постоянно меняются на протяжении дня и могут многое рассказать о человеке, когда тот находится в сознании.
К Доналу ежедневно заходил кто-то из медперсонала, чтобы просмотреть данные о его мозговых волнах и сердцебиении. В целом его сердце билось с одинаковым ритмом в течение всего дня, лишь временами учащаясь или замедляясь. Его мозговые волны напоминали приливные. Они многое рассказывают о человеке, когда тот находится в сознании. Когда человек бодр и читает газету после завтрака, когда он испытывает голод и сонливость во второй половине дня, когда он засыпает – мозговые волны постоянно меняются. Ни секунды мозговой активности Донала не было упущено из виду. И опять у него не обнаружили никаких патологий.
– Не давайте ему спать, – сказала я медсестрам, когда мы прождали достаточно долго.
Если бы во время пребывания Донала в больнице у него не случилось ни одной галлюцинации, его страх о зря потерянной неделе был бы вполне обоснован. Она не была бы зря потерянной в прямом смысле, ведь мы сделали все возможное, но она не принесла бы никаких плодов, что еще больше расстроило бы Донала. Мы договорились, что он не будет спать до двух часов ночи, а затем медсестры разбудят его в шесть утра. Я надеялась, что легкая усталость раскроет секрет галлюцинаций Донала.
– Я подольше поработаю, – сказал Донал, когда его предупредили о том, что ему придется лечь спать намного позже обычного.
Модель корабля обретала форму: Донал объединял маленькие секции. Если бы он не отправился домой в ближайшие дни, то ему было бы трудно увезти ее с собой, не повредив.
– А если галлюцинаций не будет? – спросил он.
– Мы попробуем еще раз. Я запишу вас в лист ожидания, и вы вернетесь сюда через несколько месяцев.
В этом не было необходимости. На следующий день в 14:00 он нажал тревожную кнопку. Медсестра прибежала к нему настолько быстро, насколько это было возможно. Все было записано на камеру, установленную на потолке. Я нашла на видеозаписи момент, где он жмет на кнопку.
Донал сидел в кресле у кровати. У него в руках была кнопка вызова медсестры, которую он зажимал. Он хорошо выглядел, и если бы он не звал на помощь, то я никогда бы не подумала, что с ним не все в порядке. Я услышала, как в коридоре сработала сигнализация, и через несколько мгновений – буквально менее чем через тридцать секунд – дежурная медсестра вбежала в палату.
«Они ушли, – сказал Донал. – Вы не успели».
«Вы можете полностью назвать свое имя и адрес?» – попросила она его.
Он ответил правильно.
«А какое сегодня число?»
Он опять ответил правильно.
«Почему вы нажали на кнопку? Что-то случилось?»
«Я спал, и они меня разбудили».
«Кто вас разбудил?»
«Те, о ком я рассказывал доктору О’Салливан».
«Вы имеете в виду галлюцинации?»
«Да. Если это они. Я открыл глаза и увидел, как кто-то бежит по палате. Они вошли в дверь и спрятались под кроватью. На этом все».
«Теперь вы чувствуете себя нормально?»
«Они ушли… Так что теперь все прекрасно, спасибо».
Я отмотала запись назад, чтобы посмотреть, что происходило незадолго до вызова медсестры. Я нажала кнопку «Воспроизвести» и увидела, как Донал спокойно дремлет в кресле. Уставший, он заснул с газетой на коленях. Он выглядел умиротворенным. На записи я слышала шум, доносившийся из отделения. Я стала мотать вперед и остановилась лишь тогда, когда Донал задвигался. Он проснулся. Он слегка выпрямился в кресле, и газета соскользнула у него с коленей. Донал не нагнулся, чтобы поднять ее. Он застучал пальцами правой руки по деревянному подлокотнику. Затем он поднял руку. Пальцы при этом продолжали двигаться, будто он играл на крошечном фортепиано. После этого Донал взял правой рукой телевизионный пульт и стал нажимать на кнопки, несмотря на то что телевизор был выключен. Пульт выскользнул из его руки, но пальцы продолжали сжиматься так, будто они до сих пор его держали. Его голова сначала повернулась направо, а потом налево. Я подумала, что Донал, должно быть, следит за перемещением своих посетителей. Прошло десять секунд, прежде чем он снова расслабился в кресле. Каждое совершенное им движение было едва различимым.
У каждого электрода есть название, состоящее из числа и буквы. Числами обозначается, на какой половине головы расположен электрод, а буквы говорят о том, какая доля мозга находится под электродом.
Я понимала, почему человек, наблюдавший за ним в режиме реального времени, не заметил, что что-то пошло не так. Донал нажал на тревожную кнопку только после того, как совершил движение головой справа налево. Медсестра оказалась рядом с ним всего через несколько секунд. Она задала ему стандартные вопросы, чтобы проверить, в сознании ли он. Донал ответил на них с легкостью.
Как только я своими глазами увидела припадок Донала, диагноз стал для меня очевиден, ведь я уже не раз встречала эти симптомы: постукивание пальцами и озадаченное лицо. Но на случай возникновения сомнений у меня на руках были еще и данные о мозговых волнах Донала.
Каждый пациент во время видеотелеметрии носит на голове как минимум двадцать пять электродов. Каждый электрод представляет часть мозга, которая находится под ним. ЭЭГ обладает собственным языком, который позволяет неврологу ориентироваться в анатомии мозга. Электроды располагаются на голове очень четко. У каждого есть название, общепринятое во всем мире. Оно состоит из числа и буквы. Четными числами обозначаются электроды на правой половине головы, а нечетными – на левой. Буква Z, используемая вместо чисел, обозначает электроды, расположенные на срединной линии. Буквы говорят о том, какая доля мозга находится под электродом. Буква F означает лобную долю, T – височную, С – центральную, P – теменную, О – затылочную и Fp – префронтальную (переднюю часть лобной доли).
Электрод О2, например, располагается над правой затылочной долей, а О1 – над левой. Когда я смотрю на запись мозговых волн, то использую цифры и буквы, чтобы понять, с какими областями мозга что-то не в порядке.
Система расположения электродов при ЭЭГ
Я уменьшила размер окна, в котором шла видеозапись с Доналом. Я все еще видела ее в углу экрана, но теперь параллельно с ней я смотрела запись мозговых волн. Так я могла сопоставить их. Пока Донал дремал в кресле, рисунок его мозговой активности был таким, каким и должен быть: шли медленные волны нормального сна. Когда он стал просыпаться, это отразилось и на волнах. Поначалу все выглядело хорошо: это был обычный мужчина, пробуждающийся от дневного сна. Только когда пальцы его правой руки начали играть свой мини-концерт, диагноз стал ясен: электроды T4 и F8, расположенные над правой височной долей, вдруг показали зубчатый рисунок, который не является нормой.
Я перевела взгляд с ЭЭГ на видеозапись и обратно. Донал взял телевизионный пульт, и я увидела распространение по мозгу нежелательного электрического разряда. Параллельно с этим развивались и симптомы. Разряд двигался от электрода к электроду так же, как круги распространяются на воде. В течение минуты он охватил практически все правое полушарие мозга. Донал все еще сидел прямо и, казалось, пребывал в сознании, но в действительности это было не так. Если бы медсестра зашла к нему в этот момент, его сознание, несомненно, было бы спутанным.
Наш мозг способен восстанавливаться очень быстро – нужно очень постараться, чтобы успеть застать его в момент патологической активности.
Голова Донала на видео поворачивалась справа налево. Электрический разряд при этом оставался в основном в пределах правого полушария. Я ждала, что он распространится дальше, но этого не случилось. Вместо этого тело Донала расслабилось, а выражение лица смягчилось. Разряд был виден еще в течение секунды. Он, как и семь гномов, исчез за мгновение до того, как Донал нажал на кнопку вызова медсестры. Мозг был охвачен разрядом практически девяносто секунд, а затем снова пришел в норму.
Меня всегда удивляло, насколько быстро наш мозг способен восстановиться – нужно очень постараться, чтобы успеть застать его в момент патологической активности. Всего через две секунды после окончания припадка не было уже никаких следов недавних электрических разрядов. Если бы я отвернулась от монитора с записью мозговых волн всего лишь на полторы минуты, то я, возможно, и не подумала бы, что с мозгом Донала что-то не так. Если бы я осмотрела Донала за несколько секунд до или через несколько секунд после припадка, то не обнаружила бы ничего необычного. Из тысяч минут записи мозговой активности Донала лишь девяносто секунд свидетельствовали об эпилепсии.
Мне нужно было сообщить результаты Доналу. Его галлюцинации были симптомом эпилептического припадка. Электрический разряд распространялся только по ограниченной области мозга, а затем затухал, в результате чего Донал не отключался и не бился в конвульсиях.
– Эпилепсия? Припадки? Вы уверены? – спросил он, когда я обо всем ему рассказала.
– Да, тест это явно показал.
– Но почему это происходит?
Я не знала ответа. Никаких подсказок не было. Томограмма Донала была нормальной, и у него в прошлом не было ни травм, ни заболеваний, которые могли бы объяснить развитие эпилепсии. Это так и останется загадкой, по крайней мере до тех пор, пока не появятся новые достижения в области технологий.
Галлюцинации – это чувственные впечатления, возникшие из ниоткуда. Они являются весьма распространенным симптомом припадков.
– Я думал, при эпилепсии человек теряет сознание, и все такое…
– Галлюцинации нередко возникают во время припадков, хотя, должна признать, ваши – более необычные, чем те, о которых мне доводилось слышать ранее.
Меня сбили с толку странность и конкретность галлюцинаций Донала в виде мультяшных персонажей, а зря. Безусловно, гномов из мультфильма видел только Донал, но я могла опереться на множество похожих случаев. Уайлдер Пенфилд рассказывал о нескольких своих пациентах, у которых были не менее необычные галлюцинации, чем у Донала. Когда Пенфилд стимулировал лобную долю одной из своих пациенток, она видела яркую галлюцинацию, в которой рожала. Один мужчина видел, как стоит на углу улицы. Еще один слышал, как играет оркестр. Пенфилд проверил достоверность этих необычных заявлений, простимулировав мозг пациентов в тот момент, когда они этого не ожидали. Он также периодически говорил им, что осуществляет электростимуляцию, хотя на самом деле этого не делал. Видения были стабильными и возникали лишь при стимуляции конкретной точки. Пенфилду оставалось лишь догадываться об источнике этих галлюцинаций. Он полагал, что они были воспоминаниями, и сравнивал мозг с видеокамерой.
Галлюцинации – это чувственные впечатления, возникшие из ниоткуда. Они являются весьма распространенным симптомом припадков. Большинство галлюцинаций просты: запахи, цветовые пятна или огни. Область мозга, в которой обрабатывается обонятельная информация, при повреждении особенно склонна к провоцированию приступов. Распространенная аура при таких припадках – запах гари или резины. Вкусовые галлюцинации (особенно привкус металла) характеризуют разряд в области коры мозга, ответственной за вкусовое восприятие. Затылочная доля может быть источником простых зрительных галлюцинаций вроде точек, которые движутся перед глазами. Простота галлюцинаций, зарождающихся в первичной зрительной коре, является отражением базовой обработки зрительной информации, происходящей в этой области, а разнообразие симптомов, связанных с повреждением височной доли, – множества функций, которые она выполняет.
В зависимости от активной области мозга пациент испытывает обонятельные – запах гари или резины, вкусовые – привкус металла, или зрительные – цветовые пятна, огни – галлюцинации.
Я объяснила все это Доналу.
– Это припадки. Во время них могут возникнуть всевозможные галлюцинации. ЭЭГ четко подтверждает диагноз.
– Но семь гномов? Почему именно они?
Действительно. Я была не меньше Донала удивлена странностью того, что он видел. Донал желал получить исчерпывающее объяснение. Хотела бы я ему предоставить его. Он был человеком, который обращал внимание на детали и пытался понять что-то целиком. Работая с заболеваниями мозга, я привыкла к тому, что всех ответов никогда не получить. Мне необходимо было донести это до своего пациента.
– Боюсь, я могу только догадываться, – сказала я ему. – Я видела ненормальный электрический разряд на вашей ЭЭГ, так что диагноз совершенно очевиден. Причина, по которой вы видите именно гномов, не ясна.
* * *
Большинство пациентов, которые во время припадков видят подробные сцены, страдают височной эпилепсией. Выходит, причина таких галлюцинаций кроется в нарушении функционирования этой области.
Первая операция по удалению одной из долей мозга была проведена в 1891 году в Швейцарии. У пациента были психиатрические проблемы, и ему сделали резекцию височной, лобной и затылочной долей. Такой вид психохирургии, при котором удалялась часть мозга с целью лечения психического заболевания, был широко распространен с середины 1930-х до 1950-х годов.
Первая операция по удалению одной из долей мозга была проведена в 1891 году в Швейцарии: пациенту с целью лечения психиатрических проблем сделали резекцию височной, лобной и затылочной долей.
В 1949 году Эгаш Мониш, португальский нейрохирург, получил Нобелевскую премию за совершенствование техники фактического разрушения лобных долей. Самое удивительное во всем этом то, что хирурги, неврологи и психиатры, проводившие эти операции, понятия не имели, какие функции выполняют отдельно взятые доли мозга. В то время мозг еще не был правильно размечен. Врачи оперировали вслепую. Они вводили в мозг токсичные субстанции, просверливали отверстия в черепе и нарушали связи между долями. Так лечили как эпилепсии, так и психиатрические проблемы, в том числе и мнимые: своенравные дочери и непослушные или неверные жены были одними из многих жертв психохирургии.
Переломный момент в изучении височных долей наступил в 1953 году, когда один хирург удалил обе височные доли у пациента по имени Генри Молисон, которого часто называют «Пациент H. M.». После операции Генри утратил способность к долговременной памяти. Он помнил детали из прошлого, но не мог научиться чему-то новому. Генри представлял большой интерес для врачей. Он провел жизнь в различных учреждениях, где за ним постоянно наблюдали неврологи и психологи. Именно благодаря Генри ученые узнали о важности височных долей, в особенности гиппокампов, для памяти.
Гиппокампы, извилины, по форме напоминающие морских коньков, являются частью коры мозга. Кора мозга отвечает за мысли, ум и память. Ее можно условно разделить на три части. Самая большая часть – это новая кора. Она есть только у млекопитающих. Состоит из множества слоев нейронов, и ее сложность определяет сложность нас самих. Новая кора отвечает за высшие когнитивные функции. Вторая часть – обонятельная кора. Она присутствует в каждом полушарии, и в ней только два слоя нейронов. Обонятельная кора находится в медиальной, или срединной, части височных долей. Она необходима для обработки обонятельной информации. Третья часть – это гиппокампы, которые располагаются в медиальных частях каждой височной доли. В них только один нейронный слой. Именно удаление обоих гиппокампов привело к тяжелой антероградной[2] амнезии. Воспоминания хранятся в обоих полушариях мозга, поэтому человек может жить и с одним здоровым гиппокампом. Потеря обоих ведет к катастрофическим последствиям.
Проблемы Генри с памятью позволили исследователям сделать новые выводы о том, где содержатся воспоминания. Он все еще мог играть в игры, читать, одеваться, мыться и так далее, что свидетельствовало о сохранении у него имплицитной памяти. Следовательно, память об этих автоматизированных действиях и моторных навыках находилась не в гиппокампах. Кроме того, он не лишился детских воспоминаний. Это означало, что долговременная автобиографическая память тоже содержалась за пределами гиппокампов. У него также сохранилась и рабочая память. Проблемы Генри позволили сделать вывод, что гиппокампы необходимы для преобразования кратковременной памяти в долговременную.
До 1950-х годов врачи оперировали вслепую, не имея понятия о функциях долей мозга.
Со времени той неудачной операции была проделана огромная работа по исследованию памяти. Мозг людей, страдающих эпилепсией, – неисчерпаемый источник информации. В 2005 году восьми пациентам, согласившимся на экспериментальные операции по устранению эпилепсии, установили микроэлектроды в различных областях мозга. Затем исследователи показывали им ряд случайных изображений и одновременно измеряли электрическую активность нейронов. Стало ясно, что определенные нейроны реагируют на определенные изображения. Например, у одной из пациенток загорался один и тот же нейрон каждый раз, когда она видела фотографию актрисы Дженнифер Энистон. Несколько разных снимков этой актрисы вызывали одну и ту же реакцию. При этом «нейрон Дженнифер Энистон» не активизировался ни в каких других случаях. Это подтвердило уже существовавшую теорию о том, что определенные нейроны отвечают за воспоминания об определенных предметах, людях или концепциях.
Разумеется, все не так просто: одна клетка не содержит только одно воспоминание. По мнению некоторых ученых, есть несколько копий одной информации, что позволяет предотвратить ее потерю. Сегодня известно практически наверняка, что сложные воспоминания не хранятся в одной клетке или скоплении клеток в определенной области мозга. Большинство из них содержится в связях между группами нейронов, при этом каждая группа делает воспоминание более ярким. Разные участки мозга отвечают за разные аспекты памяти. Например, одна область гиппокампа позволяет нам ориентироваться в пространстве, а одна область височной доли – узнавать музыку. Когда человек что-то вспоминает, его мозг опирается на звук, зрительный образ и запах, а затем составляет воспоминание из разной информации, хранящейся в различных мозговых областях. В этом заключается одна из причин, по которым воспоминания так ненадежны. Чтобы вспомнить что-то, мозг должен воспроизвести последовательность нейронных связей, которая изначально сформировалась в ответ на определенное событие. Эти связи между клетками нестабильны и подвержены переменам при каждой их активизации. Не все воспроизведения одинаковы: при каждом из них воспоминание может претерпеть небольшие изменения.
Когда человек что-то вспоминает, его мозг опирается на звук, зрительный образ и запах, а затем составляет воспоминание из разной информации, хранящейся в различных его областях. Это одна из причин ненадежности воспоминаний.
Пенфилд полагал, что височные доли содержат воспоминания, записанные в непрерывном потоке, соответствующем оригинальному. По его мнению, стимуляция височных долей должна была активизировать эти воспоминания. Вполне возможно, мультяшные гости Донала были воспоминанием. Вероятно, в его долговременной памяти был «нейрон семи гномов», оставшийся либо после забытого им детского впечатления, либо со времени, проведенного со своими детьми, когда те были маленькими.
А может быть, они были вовсе не воспоминанием, а плодом его воображения. Память и воображение тесно взаимосвязаны. Мне не нужно было видеть мультяшных посетителей Донала своими глазами, чтобы представить, как они выглядели. У меня в голове сложился их образ, как только он их мне описал. Исследования, в которых использовалась функциональная МРТ, показали, что воображение также связано с активизацией гиппокампов. Интересно, что некоторые пациенты Пенфилда в своих галлюцинациях видели себя со стороны. Это называется «аутоскопия». Смотрит ли на себя со стороны женщина, которая в галлюцинациях видит свои роды? Для воспоминаний это было бы слишком необычно. Вполне вероятно, стимуляция воображения – лучшее объяснение. Височные доли вовлечены в выполнение задач сложной зрительной памяти: в них хранится информация о знакомых предметах, лицах, формах и цветах. Возможно, электрический разряд пробуждал в Донале что-то новое, а не выводил на поверхность нечто уже существующее. Электрические разряды в височных долях могут сделать мир очень странным местом.
На данный момент нам многое неизвестно. Возможно, технологии будущего подарят нам еще одну деталь мозаики. Донал долго и упорно пытался вспомнить, где он видел этих гномов, но так ни к чему и не пришел. К счастью, для его лечения нам вовсе не требовалось знать все. Припадки Донала прекратились с началом приема лекарств. Он так и не спросил меня, какой мой любимый военный корабль. Вероятно, он понял, как много вопросов, на которые у меня нет ответа.
4. Майя
Скорее чудо, чем птица или работа мастера.
«Плавание в Византию», У.Б. ЙейтсГолодание, физические нагрузки, прием уксуса внутрь, чихание и отхаркивание – все это когда-то считалось способами лечения эпилепсии. Особая диета, банки, отдых и травяные сборы тоже рекомендовались. К счастью, сейчас мы живем в XXI веке, и многое изменилось. Для лечения эпилепсии существует множество препаратов, которые позволяют людям вести нормальную жизнь. Однако они не всегда устраняют припадки, а просто их контролируют. У детей приступы могут прекратиться по мере их взросления. Если же эпилепсия началась у взрослого человека, то скорее всего она останется с ним на всю жизнь. Но есть и хорошая новость: у большинства людей припадки все же прекращаются, после того как они начинают принимать лекарства.
Мозг взрослого человека обладает ограниченной способностью к регенерации, из-за чего главная задача невролога часто заключается в поиске способов защиты и сохранения нейронов, а не их исцеления. Если человек пережил инсульт, то все лечение будет направлено на устранение любых блокад и максимально быстрое восстановление мозгового кровоснабжения. Это позволяет предотвратить повреждение мозговых тканей. Если инсульт был пережит в прошлом, то современная медицина ничего не может предложить для восстановления утерянных функций. В данном случае лечение – это ограничение повреждений. В случае болезни Паркинсона, черепно-мозговых травм, рассеянного склероза и инфекций врачи также стремятся защитить мозг пациента. Неврологи ищут способы сохранения мозговых клеток, так как пока неизвестно, как их можно заменить. Даже сегодня мы практически так же слабы в лечении заболеваний мозга, как раньше.
Я знакома с Майей более десяти лет. Ее эпилепсия существовала еще задолго до нашей первой встречи. Точнее, она была даже старше меня. Майе было пятьдесят девять, когда мы впервые встретились в поликлинике Восточного Лондона. Это была миниатюрная и изысканная леди родом из Уганды. Несмотря на ее тихий голос, вежливость и великодушие, она была сильной духом женщиной, что я поняла со временем.
Даже сегодня мы практически так же слабы в лечении заболеваний мозга, как раньше.
Майя почти всегда приходила в клинику со своим мужем Эммануэлем. Она была домохозяйкой, а он работал в супермаркете недалеко от моего дома. Он, как и Майя, всегда был безгранично приятен в общении. Я каждый раз искала его, когда приходила в магазин, но, видимо, наши рабочие графики не совпадали, и я никогда его там не видела.
У Майи эпилепсия дебютировала, когда ей было десять. Она не могла сказать точно, как все началось. Эпилепсия была частью ее жизни, сколько она себя помнила. Майя никогда не расспрашивала о своем недуге родителей, пока те были еще живы. Когда мы с ней впервые встретились, ей уже некого было спросить. Майя могла рассказать о своей эпилепсии очень мало, но в этом не было ее вины. Она понимала, что у нее случился припадок, только после того как приходила в себя после него. Иногда она приходила в сознание на улице или у себя дома, пропустив полчаса телевизионной программы. Бывало, находясь в одиночестве, Майя обнаруживала на столе или полу кухни лужи разлитого молока, которые она не могла объяснить. А иногда она мыла посуду, а потом вдруг оказывалась в ванной комнате.
Ее муж заполнял пропуски для нее и для меня.
– Она становится забавной, – сказал он мне. – В лучшем случае это длится несколько минут, а в худшем – гораздо дольше.
– Что именно с ней происходит?
– Большинство ее припадков не похожи на обычные. Она не падает на землю, только в некоторых случаях. Чаще всего она просто теряет связь с реальностью на некоторое время.
– Она разговаривает во время припадка? Делает что-нибудь руками или ногами? Изменяется ли ее мимика?
Он задумался. Они были женаты более тридцати лет, и он был свидетелем сотен ее приступов. Из-за этого ему было нелегко вспомнить все детали сразу.
– Я постараюсь вам объяснить как можно понятнее, – сказал Эммануэль. – В магазине регулярно встречаются покупатели, которые не могут найти кошелек. Именно так она и выглядит! Они начинают в панике осматривать все карманы, рыться в сумке, выкладывать вещи и складывать их обратно. Понимаете? – Он довольно улыбнулся.
Я понимала. Это было прекрасное описание. Я четко представляла себе, что он имеет в виду.
– Она говорит в это время?
– Она просто находится не здесь. Нет смысла пытаться разговаривать с ней, потому что она не ответит.
Однако не каждый припадок был таким. Подобные происходили как минимум один-два раза в неделю. Но каждые несколько месяцев у нее случался гораздо более тяжелый приступ.
– Именно большие припадки меня пугают, – сказал он. – Майя падает на землю и перестает дышать. Изо рта появляется пена. Она выглядит так, будто умирает.
– Как начинаются такие припадки? – спросила я.
– Так же, как и другие, но только они не останавливаются.
– Вы можете определить, перерастет ли маленький приступ в большой?
– Иногда. Ее глаза будто расширяются, если все становится хуже. Самое ужасное – это ждать, чем все закончится. Я испытываю облегчение, когда припадок завершается и я понимаю, что он не перерос в нечто большее.
В диагнозе не было сомнений, но мне нужно было попытаться найти источник припадков внутри мозга. У Майи не было никаких предчувствий и предвестников. Эммануэль не мог мне сказать, двигалась ли какая-то конечность сильнее других или происходило ли с ее ртом и лицом что-то необычное. Наверняка нам было известно лишь то, что каждый припадок длился несколько минут и сопровождался значительной спутанностью сознания. В те моменты Майя всегда казалась встревоженной и напуганной, хотя она не помнила о своем страхе после приступа.
Эпилепсия более распространена в менее развитых странах, но даже сегодня большинство эпилептиков, проживающих в них, не имеют доступа к нормальному лечению.
Не сохранилось никаких записей о том, что именно было сказано и сделано, когда Майе поставили диагноз в 1950-х годах в угандском городке. Первые противоэпилептические препараты появились на несколько десятилетий ранее. Семья Майи считалась относительно обеспеченной, но в том месте, где они жили, такие лекарства было не достать.
Эпилепсия более распространена в менее развитых странах. Такие характерные для некоторых из них заболевания, как малярия и цистицеркоз, поражают мозг, и повреждения, оставшиеся после них, могут привести к припадкам. Тем не менее большинство эпилептиков в странах вроде Уганды не имеют доступа к нормальному лечению. Даже сегодня.
Только переехав в Великобританию в 1960-х годах вместе с семьей, Майя начала лечение. Ей прописали фенобарбитал – один из немногих противоэпилептических препаратов, доступных в то время. Он сократил частоту припадков, но не прекратил их, а из-за побочных эффектов Майя постоянно была сонной и апатичной. Она окончила школу незадолго до переезда в Лондон и надеялась пойти в колледж, однако из-за приступов и таблеток ей было сложно оставаться тем человеком, которым она была ранее. В итоге Майя осталась дома, чтобы помогать матери, и наблюдала за тем, как младшие братья и сестры ее обгоняли.
На протяжении нескольких лет, что она принимала фенобарбитал, Майя не раз повышала его дозировку. Когда он перестал помогать, она переключилась на другой препарат. Ей было тяжело пить лекарства: она практически не ощущала на себе припадки, но неприятные побочные эффекты таблеток были хорошо ей знакомы. Иногда она даже боялась, что приступы были придуманы ее семьей как предлог запереть ее дома. Такие мысли делали прием препаратов чем-то вроде проявления необоснованной жестокости. Она хорошо себя чувствовала без них, поэтому время от времени просто их не пила. Майя вставала утром, брала две таблетки из контейнера и бросала их в сливное отверстие раковины, а затем поворачивала вентиль крана и смывала их. Когда она так поступала, то чувствовала себя лучше, и она была уверена, что никто об этом не догадывается. Однако однажды она пришла в себя на полу ванной комнаты; у нее отек язык, а на теле были синяки. Ее мать увидела, что у нее случился припадок, расстроилась и отвела Майю к врачу. Майя была вынуждена признаться, что перестала принимать лекарства, и пообещала больше никогда так не делать.
Она то начинала, то прекращала пить таблетки на протяжении нескольких лет, пока не произошло кое-что, что напугало ее и убедило больше не прерывать лечение. Как она вспоминала много лет спустя, в тот день она шла по знакомой улице к продуктовому магазину, в который ходила несколько раз в неделю, как вдруг оказалась на совершенно неизвестной улице, напуганная и одинокая. Даже стиль построек был для нее незнакомым. Ее пакет для продуктов и сумочка исчезли. На пороге дома стояла женщина и наблюдала за ней. Майя понятия не имела, где находилась и как она туда попала. Она не знала, сколько времени и насколько далеко она была от дома.
Порой кажется, будто эпилептики сталкиваются лишь с жестокостью. Однако это не так. Чаще к ним относятся по-доброму.
«Вы в порядке, дорогая?» – спросила ее женщина.
Майя понимала, что вопрос адресован ей, но не могла сформулировать ответ. Из дома вышла еще одна женщина.
«Ты знаешь ее?» – спросила вторая женщина первую.
«Вы выглядите потерянной», – проговорила одна из них, но Майя до сих пор не могла рассказать о своей проблеме.
«Может, она не говорит по-английски?» – предположила вторая женщина.
«Да…» – попыталась Майя произнести хотя бы слово.
«Да» в смысле не говорите? Так, дорогая?» – спросила первая женщина.
Майя начала плакать.
Мои пациенты часто рассказывают мне о неприятных ситуациях, в которые они попадали, когда припадок случался с ними в общественном месте. Эти истории бывали настолько грустными, что иногда мне казалось, будто эпилептики сталкиваются лишь с жестокостью. Однако это не так. Чаще к ним относятся по-доброму.
Пятьдесят миллионов человек в мире страдают эпилепсией.
Те женщины помогли Майе. Они заметили, что она напугана и плохо себя чувствует, и причина такого ее состояния была для них не важна. Женщины пригласили ее в дом. Та Майя, которую я знаю, даже в семьдесят с небольшим очень деликатна и по поведению похожа на девушку. Я легко могу представить ее в том возрасте и понимаю, насколько уязвимой она казалась. Женщины дали ей стакан воды и начали спорить о том, что делать. Они пытались объясниться с Майей на языке жестов и указали на телефон. Майя отрицательно покачала головой. У ее семьи не было телефона. В конце концов проблема решилась сама собой, после того как Майя стала приходить в себя. К ней вернулись способность говорить и чувство времени. Посидев пять минут, она смогла объясниться. Она рассказала, что страдает эпилепсией и что у нее, должно быть, случился припадок. Майя выяснила, что находится не так далеко от дома, как она боялась. Когда ей стало лучше, женщины проводили ее домой. Она так и не нашла свои пакет и сумочку. После этого случая она больше не переставала принимать лекарства.
Пятьдесят миллионов человек в мире страдают эпилепсией. В Великобритании – шестьсот тысяч. Из тех, кто получает правильное лечение, 70 % выходят в ремиссию. Их припадки прекращаются, однако многим из этих людей придется принимать таблетки всю жизнь. Майя относилась к тем 30 %, чьи припадки продолжаются, несмотря на прием различных препаратов.
Иногда эпилепсия легко поддается лечению. Врач назначает лекарства, и человеку становится лучше. Но иногда первый препарат не помогает, и приходится пробовать второй. Затем третий. Если и третий оказывается неэффективным, то вариантов остается не так много. Долгосрочные исследования, в ходе которых наблюдали за эпилептиками, принимающими более одного медикамента, показали, что каждый последующий препарат менее эффективен, чем предыдущий. Однако из-за того, что припадки разрушают жизнь, многие пробуют дюжину лекарств и даже больше. Даже зная, что они вряд ли помогут, люди все равно продолжают пытаться. Прием лекарств часто сопровождается чудовищными побочными действиями, а когда препараты еще и неэффективны, это вдвойне тяжело. Разные люди реагируют на лекарства по-разному. Один препарат может подходить одному человеку, но не другому. Если человек страдает частыми масштабными припадками, он обычно склонен пробовать все новые препараты. Каждое новое лекарство имеет потенциал, однако оно может таить и непредсказуемую опасность. В 1990-х годах на рынке появился новый препарат под названием «Вигабатрин», чья эффективность была подтверждена масштабными клиническими испытаниями. Он соответствовал всем стандартам, предъявляемым новому лекарству, и имел вполне типичные побочные эффекты: сонливость, головокружение и так далее. Только когда большое количество эпилептиков начало принимать этот препарат, выяснилось, что он вызывает токсическую ретинопатию: у тех, кто и без того страдал от припадков, появились значительные проблемы со зрением. Такие страшные истории довольно редки, но они напоминают нам, что некоторым людям имеет смысл прекратить менять лечение, если они и так нормально справляются.
Майя попробовала шесть разных препаратов. Однажды она поняла, что смена таблеток занимает гораздо большую часть ее жизни, чем припадки. После этого она отказалась принимать что-то новое. Лекарство, которое Майя употребляла в тот момент, сократило частоту приступов в два раза, и она просто смирилась с мыслью, что ей уже не станет лучше.
К тому времени как мы встретились, ее эпилепсии было почти пятьдесят лет. Майя жила и мирилась с ней. Она производила впечатление женщины, прожившей хорошую жизнь: не в том смысле, что ее жизнь была бы хорошей без эпилепсии, а в том, что она была такой, несмотря на болезнь. У Майи не было возможности получить образование, и ее самочувствие никогда не позволяло ей устроиться на работу. Но она заменила это другими вещами и была очень рада сделанному выбору: Майя вышла замуж и родила пятерых детей, которыми очень гордилась. Радость семейной жизни переполняла ее. Как только она решила, что эпилепсия – часть ее жизни, она перестала обсуждать ее с врачом и просто продолжила жить.
Прием лекарств, воздействующих на мозг, обычно сопровождается тошнотой, переменой личности, агрессией, тревожностью – манипулируя мозгом, можно изменить личность человека.
Майя записалась ко мне на прием из-за двух перемен в жизни. Ее дети выросли и уехали из дома, в результате чего она стала больше времени проводить в одиночестве. Семья Майи беспокоилась по поводу ее безопасности. Кроме того, терапевт, к которому она ходила много лет, ушел на пенсию, а новый врач настаивал на смене противоэпилептических препаратов. Майя вошла в мой кабинет неохотно и без каких-либо ожиданий. Я ознакомилась с ее картой и поняла, что лечение помогало ей лишь частично. Еще до начала нашего разговора я приняла решение не вмешиваться в жизнь, которая не казалась мне несчастной.
– Ей никогда ничего не помогало, – сказал мне ее муж, после того как мы обсудили ситуацию.
– Я понимаю, но сейчас есть новые лекарства. Чуда не произойдет, но я могу назначить вам один из современных препаратов, если хотите.
Я смотрела на спокойную и вежливо улыбающуюся женщину напротив меня. Я беспокоилась по поводу своего предложения: новый препарат мог ей помочь, не оказать никакого воздействия или нарушить ее и без того уязвимое равновесие. Я задумалась, действительно ли эта женщина хочет рискнуть.
– Я попробовала все, – сказала мне Майя.
– Поверьте, это не так. Я могу предложить вам множество лекарств, если вы хотите их попробовать.
– Эти лекарства лучше? – Эммануэль посмотрел на меня с надеждой, которую я была вынуждена сразу же разрушить:
– Не лучше, просто другие. Но у них определенно меньше побочных эффектов, чем у старых, так что принимать их обычно приятнее.
– Приятнее принимать?
Я давала им надежду, но не завышала ожидания. Прием любого лекарства, воздействующего на мозг, обычно сопровождается такими неприятными побочными эффектами, как тошнота, нарушение равновесия, ухудшение памяти, перемена личности, агрессия, тревожность или депрессия. Манипулируя мозгом, можно изменить личность человека.
– Что ты об этом думаешь? – спросил Майю ее муж.
– Мы поступим так, как вы скажете, – сказала мне Майя.
– Вы знаете, насколько сильно припадки влияют на вашу жизнь. Много ли того, что вы хотели бы сделать, но не можете? – спросила я.
Муж и жена посмотрели друг на друга. По их лицам было видно, что, разумеется, Майя могла делать не все, что хотела.
– Раз вы пришли сюда, я делаю вывод, что вы хотите узнать об альтернативных методах лечения, – сказала я, так и не получив ответа.
– Новое лекарство может мне помочь? Или сделает еще хуже?
– Если оно окажется неэффективным, мы всегда сможем прекратить прием. Разумеется, я никогда не буду заставлять вас принимать то, что вы не хотите. Тем не менее на подбор лекарства требуется время.
– Скажите, доктор, – обратилась ко мне Майя, – у меня и сегодня нет шансов на выздоровление? Даже спустя все эти годы?
Майя знала то, чего не знали мы с ее мужем: что значит жить под постоянной угрозой, вызванной эпилепсией.
Она сформулировала вопрос так, будто могла обидеть меня, просто спросив. Я почувствовала укол вины. Я не рассказала ей обо всех вариантах лечения. Это была наша первая встреча, и я не до конца понимала, насколько приступы усложняют ей жизнь. Я не знала ни о ее целях, ни о том, с какой храбростью она готова двигаться к их достижению. Мне она казалась женщиной, которая прожила большую часть жизни с нестабильным заболеванием мозга и которая была вполне готова оставить все как есть. Однако этот ее вопрос дал мне понять, что нести такую ношу ей не так уж легко, как кажется на первый взгляд.
– Что ж… Есть еще один вариант. Он подходит лишь немногим людям и довольно опасен. Я говорю об операции.
– Операции? На мозге?! – воскликнул Эммануэль.
– Да.
– О, доктор, я этого не хочу, – сказал он. – Нет, нет и нет.
Очень маленькому проценту людей операция помогает избавиться от эпилепсии. Если она оказывается эффективной, то воспринимается как чудо, а если нет, то как последний шанс, который стал травматичным опытом и потребовал больших жертв. Майе было пятьдесят девять, и по меркам тех, кто подвергался подобной операции в то время, она была уже старой.
– Это очень серьезно, – согласилась я, – но если она поможет…
– Нет, нет, нет. – Эммануэль продолжал отрицательно качать головой.
– Майя? – спросила я.
– Вы сказали «если она поможет», – сказал ее муж.
– Да, она не всегда помогает и сопровождается риском, но вы ничем не рискуете, если просто узнаете о ней подробнее. Майя?
– Я могла бы лечь на операцию и вылечиться? – заговорила Майя до того, как ее муж снова начал бы возражать.
– В данный момент я не до конца уверена. Возможно. Я могу назначить несколько тестов, чтобы понять, подходит ли вам такой вариант. По их результатам я скажу, можете ли вы лечь на операцию и каков будет риск конкретно в вашем случае.
Я надеялась, что она скажет «нет». А вдруг по моей вине женщина, живущая полноценной жизнью, пострадала бы из-за операции, без которой могла обойтись? У нее не было опасной для жизни опухоли мозга, которую требовалось удалить. Операция была необязательной.
– Операция подходит не всем, – повторила я, – и она серьезная. В конце концов, это же операция на мозге. Но, предупреждая ваш вопрос, могу сказать, что некоторым людям она действительно помогла излечиться.
– Как проходит операция?
В тот момент я впервые увидела сильную и решительную Майю, женщину, вырастившую пятерых успешных детей, несмотря на то что она и недели не могла прожить без припадков. Майя знала то, чего не знали мы с ее мужем: что значит жить под постоянной угрозой, вызванной эпилепсией.
– Но эпилепсия у тебя уже так давно, – сказал Эммануэль.
Он не представлял ее без припадков. Возможно, из-за того, что он знал только эту сторону Майи, он не считал нужным ложиться на опасную операцию.
– Вы ничем не рискуете, если пройдете обследование и мы определим, как обстоят дела, – сказала я. – Проверка того, насколько вы подходите для операции, вовсе не значит, что вам придется ее сделать. На вашем месте я бы прошла обследование, – закончила я и посмотрела на такие разные лица напротив меня.
– Да, доктор, я так и сделаю. – Майя выглядела очень довольной.
– Думаю, мы также можем одновременно попробовать другое лекарство. Если оно подействует, то нам больше не придется говорить об операции.
Майя уже попробовала шесть лекарств, поэтому шанс на то, что седьмое сработает, был крошечным. Однако если я планировала направить ее на операцию, я должна была убедиться, что испробовала все безопасные варианты. Конечно, лекарства не помогли. Вероятность обратного была слишком маленькой. Тем временем дорожка к операции была протоптана, и Майя не хотела с нее сворачивать, несмотря на то что ее муж был против.
Последний раз Майя делала МРТ за много лет до нашей встречи. Тогда этот вид диагностики был в новинку для неврологов. Те снимки, которыми восхищались в то время, сейчас выглядят примитивными. Старый снимок Майи был нормальным, но новый – нет. Технологии наконец-то догнали ее заболевание.
Как ни странно, при хронической эпилепсии, не поддающейся воздействию лекарств, мы иногда радуемся плохим результатам обследования.
– Хорошие новости, – сказала я ей. – На снимке виден маленький рубец на левой височной доле.
Рубец стал причиной припадков или припадки привели к появлению рубца – это проблема курицы и яйца.
Шрам – это эвфемизм, который иногда используют неврологи для обозначения патологий на снимке. Это нейтральное слово. Левый гиппокамп Майи выглядел маленьким и съежившимся. Он также ярко светился по сравнению с правым. Снимок говорил о проблеме, называемой «мезиальный височный склероз». Это потеря нейронов в самой глубокой части височной доли. Мезиальный височный склероз – распространенная причина эпилепсии.
– Так можно будет сделать операцию? Убрать рубец? – неуверенно спросила Майя.
– Боюсь, все не так просто.
Неврология полна противоречивой и ненадежной информации. Порой кажется, что работа неврологов не основана на науке. Им приходится делать выводы из обобщенных описаний и теней на снимках. Хочется думать, что если у человека эпилепсия и явная патология на снимке, то второе является причиной первого. Однако такие предположения строить нельзя. Помимо других причин, мезиальный височный склероз может быть результатом частых или продолжительных приступов. Рубец стал причиной припадков или припадки привели к появлению рубца – это проблема курицы и яйца. Эпилепсия Майи могла происходить из любой области мозга, а мезиальный височный склероз мог быть лишь побочным продуктом. Если все было действительно так, то устранение его хирургическим путем не привело бы к улучшениям.
– Думаю, рубец может быть причиной вашей эпилепсии, но мне нужно больше доказательств, прежде чем мы будем планировать, что делать дальше, – сказала я Майе.
Я надеялась, что смогу сделать более четкие выводы, если увижу ее припадки в отделении видеотелеметрии. Тогда я смогла бы использовать подсказки, полученные из разговора и ЭЭГ, чтобы определить источник приступов внутри мозга. Мне хотелось, чтобы эти подсказки привели меня к левому гиппокампу.
В следующий раз мы с Майей встретились в отделении видеотелеметрии.
– Спасибо, доктор, – сказала мне Майя в сотый раз.
Я хотела, чтобы она перестала меня благодарить. Врачи должны предупреждать пациентов обо всем, что может пойти не так. Обвинения, которые являются результатом разбитых вдребезги надежд, самые тяжелые, поэтому медики стараются сильно не обнадеживать пациентов. Врачей специально учат быть пессимистами.
– Что думают ваши дети об операции? – спросила я Майю.
Я опасалась, что муж опять попробует отговорить ее от операции. Он боялся за нее. Я надеялась, что другие члены семьи поддержат их обоих.
– Я им еще не говорила, – ответила она.
– Сначала получим все данные.
– Да, – улыбнулась она.
Врачей специально учат быть пессимистами.
Я наблюдала за умелым дипломатом в работе. Она сидела рядом с постелью с книгой на коленях и стопкой журналов на столе. Эта женщина приготовилась ждать столько, сколько необходимо, чтобы я смогла увидеть ее припадок. Подоконник в палате был уставлен открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления.
– Они знают, что вы в больнице? – спросила я ее.
– Я сказала им, что мне нужно пройти обследование.
– Нет необходимости распространяться слишком сильно об этом, – подчеркнула я.
– У них теперь своя жизнь, – сказала Майя и слегка улыбнулась.
Полные надежд, мы стали ждать. На припадки, как на автобусы и погоду, не всегда можно рассчитывать. Однако сомнительная удача все еще сопутствовала Майе: к пятому дню пребывания в больнице у нее случилось целых два припадка. Когда я сказала ей об этом, она захлопала в ладоши. Она подозревала, что что-то произошло, но не была уверена.
– Медсестры все время спрашивали, в порядке ли я, поэтому я надеялась, что припадок все же случился. Вы получили необходимую информацию?
Получила. Я провела все утро за просмотром записей приступов Майи.
Первый припадок произошел вечером второго дня. На видео Майя сидела в кресле и смотрела в окно. Казалось, она была погружена в свои мысли, и ее мозговые волны выглядели нормально. Электрические бури редко начинаются с сильного возбуждения. Они наступают всего за несколько секунд. Вот и в этот раз электрический разряд мгновенно овладел мозгом Майи, и его первым проявлением был страх. Он целиком отражался на ее лице. Она не нажала кнопку вызова медсестры. То, что она испытывала, отгородило ее от окружающего мира.
Она начала кричать. Это был жалобный стон, который я слышала уже сотни раз. То, как звучит припадок, столь же узнаваемо, как и то, как он выглядит. Иногда, когда моя коллега смотрит запись приступа, я понимаю, какого он типа, даже не смотря на экран. Я научилась распознавать разные крики. Крик Майи свидетельствовал о припадке, источник которого был в височной доле. Мне повезло, я никогда не видела человека в по-настоящему ужасной ситуации, но думаю, в тот момент он закричал бы именно так. Это звук чистого страха.
Крик сделал за Майю то, что она не смогла сделать сама: он привлек внимание медсестер, и двое из них вбежали в палату.
«Все хорошо, все хорошо», – сказала одна из медсестер, отодвигая столик от Майи на безопасное расстояние.
«Вспомните синий цвет», – громко и четко произнесла другая медсестра, склонившись над Майей. Майя крепко схватила ее за руку, широко открыла глаза. Она перестала кричать, но продолжала осматривать палату так, будто что-то ужасное прячется неподалеку и она пытается это увидеть.
«Все в порядке, все хорошо, – продолжала ее успокаивать медсестра. – Скажите, как вас зовут и где вы находитесь».
Майя не ответила.
«Вам нечего бояться, вы находитесь в безопасности. Все нормально, все нормально, все нормально», – повторяла медсестра, продолжая ободряюще похлопывать Майю по руке.
«Майя, вы можете сказать, где находитесь?» – спросила вторая медсестра.
Они обе знали, что, когда я буду просматривать видео, мне нужно будет четко понять, насколько Майя была в сознании. Понимала ли она, что находится в больнице? Могла ли общаться?
Одна из медсестер достала из кармана ручку и показала ее Майе: «Что это такое?» Майя не обратила на ручку никакого внимания, будто ее вовсе не было. Но зато начала неистово двигать челюстями. Затем нагнулась вперед, притянула к себе столик и стала хватать предметы, которые на нем лежали. Левой рукой она взяла вилку и положила ее обратно, после взяла нож и начала слегка постукивать им по тарелке. Медсестры разжали ее пальцы и убрали нож подальше. Майя дотянулась до стопки журналов. Она взяла один снизу и переложила его наверх. Затем сделала то же самое еще раз. Пока ее левая рука играла со всем, что было в зоне досягаемости, относительно спокойная правая начала напрягаться. Майя прижала большой палец к остальным, будто собиралась устроить театр теней на стене и изобразить утиный клюв. Одновременно ее голова решительно повернулась направо.
«Припадок становится генерализованным», – подумала я. Крик ужаса, жевание, беспокойные движения, напряжение руки, поворот головы. Каждый этап что-то значил. Я посмотрела, как электрический разряд перемещался по коре мозга Майи. Перед тем как он переходит из фокального в генерализованный, с человеком обычно происходит кое-что очень характерное: его голова поворачивается в одну сторону. Когда я вижу такой неестественный поворот головы в разгаре фокального припадка, то настраиваюсь на конвульсии.
Когда я увидела, что голова Майи повернулась, я напряглась, несмотря на то что наблюдала приступ, после того как он произошел. Я задержала дыхание, хотя знала, что с Майей все в порядке, и почувствовала облегчение, когда через несколько секунд припадок остановился. Электрический разряд потух, и страх ушел с лица Майи. Всего через несколько мгновений ее тело расслабилось, и она посмотрела на медсестер с добродушной улыбкой.
«Майя, вам лучше? Что я держу в руке?» – спросила ее одна из медсестер, показывая ей ручку.
Майя потянулась к ручке и попыталась взять ее. Медсестра снова спросила: «Вы знаете, что это, Майя? Для чего это используется?»
Майя почесала нос левой рукой. Она утратила интерес к ручке и стала осматривать комнату. Она слегка усмехнулась. Медсестры снова и снова спрашивали, как ее зовут и что у них в руках. Прошла минута, прежде чем взгляд Майи стал осознанным.
«Вы знаете, где находитесь?» – Майя кивнула, неловко усмехнулась, но не ответила. – «Как это называется?» – Медсестра в очередной раз указала на ручку.
Майя не ответила, но теперь была более сосредоточенной. Казалось, теперь она обратила внимание на медсестер.
«Вы знаете, что это, Майя?» – «Да, – произнесла она наконец. – Это… Это…» – Она неловко посмеялась. – «Я знаю!» – «Может, вы скажете, для чего это используется, если не помните название?»
Майя прижала большой палец к указательному и изобразила процесс письма. Она снова засмеялась и выглядела смущенной.
«Хорошо, – сказала медсестра. – Вы можете указать на окно правой рукой, а затем на потолок левой?»
Майя сделала то, о чем ее попросили.
«Что там внутри?» – Медсестра взяла чехол для очков и показала ей. – «Глаза». – Майя затрясла руками так, будто правильное слово вертелось у нее на языке. Она вынула очки и надела их. – «Глаза?» – «Вы можете сказать, как это называется?»
Заметно растерянная Майя закачала головой и начала нашептывать слова, которые не могла произнести. Так продолжалось еще две минуты, прежде чем она вдруг сказала «Для письма» в ответ на вопрос о ручке. Затем она глубоко вздохнула и произнесла слово «ручка» к всеобщему облегчению. После «ручки» последовали «очки», и уже через минуту она могла нормально общаться. Майя сказала медсестрам, что устала, и те помогли ей лечь в постель. Очень скоро она уснула.
Я посмотрела видеозапись второго припадка. Он был практически таким же, как первый, но чуть короче и без поворота головы в конце.
Я взглянула на запись ЭЭГ: на ней был зубчатый рисунок, характерный для приступа. Он появился четко в тот момент, когда выражение лица Майи изменилось. Первые несколько секунд рисунок не выходил за пределы двадцать четвертой линии. У Майи активизировались электрод F7, расположенный сразу за линией роста волос над левым ухом, и электрод Т3, находящийся в нескольких сантиметрах от него. Они соответствуют передней части височной доли. Эти электроды дали понять, что происходит в мезиальной височной области, лежащей под ними.
* * *
Припадки Майи рассказали мне историю в нескольких частях. Страх, потеря осознанности, навязчивые движения, определенное положение руки, потеря речи. Такие субъективные и абстрактные впечатления, как страх и другие эмоции, всегда будут для неврологов самыми сложными для изучения. Как исследовать искренний страх? Или как искусственно воспроизвести неподдельную радость? Исследования, в которых используется функциональная МРТ, часто включают в себя сравнение мозговых реакций у больших групп людей. Однако как сравнить по отдельности людей с их уникальными эмоциями?
Такие субъективные и абстрактные впечатления, как страх и другие эмоции, всегда будут для неврологов самыми сложными для изучения.
Эмоции связаны с обоими мозговыми полушариями. Если функция контролируется двумя сторонами, то повреждение одной стороны может компенсироваться другой. До появления фМРТ оценить, какие функции выполняют те или иные парные части мозга, можно было только в том случае, если они обе были повреждены. Однако большинство инсультов и черепно-мозговых травм, совместимых с жизнью, относится только к одному полушарию. Серьезные поражения обоих полушарий приводят либо к смертельному исходу, либо к такой тяжелой инвалидности, при которой отличить последствия одного повреждения от последствий другого невозможно.
В отношении страха эпилепсия предоставила кое-какое объяснение. Он частый симптом припадков, берущих начало в височной доле. Это помогло установить связь между обработкой эмоций и височной долей: электрическая стимуляция мезиальных височных структур (гиппокампа, миндалевидного тела и парагиппокампальной извилины) может привести к появлению чувства страха.
Эксперименты над животными тоже подтвердили связь височной доли и страха. Миндалевидное тело – это структура в форме миндаля, примыкающая к гиппокампу. У нас их два. Исследования, проведенныев прошлом на макаках, показали, что удаление у них обоих гиппокампов снижает их восприимчивость к угрозе. Они становятся менее осторожными и начинают изучать новые предметы, а не остерегаться их. Но как можно перенести выводы, сделанные о животных, на человека? Как определить, действительно ли перемены в поведении животных являются результатом отсутствия страха? Возможно, обезьяны просто утратили способность распознавать предметы. Что именно вызывало удаление гиппокампов: проблемы со зрительным распознаванием или с эмоциями?
Изучить миндалевидные тела в человеческом мозге также было непросто. Потеря их обоих была крайне редка. Однако такой случай все же произошел. В 1994 году мир узнал о пациентке S.M. У нее с детства были разрушены оба миндалевидных тела в результате редкого генетического заболевания. Она стала бесстрашной. Когда она оказывалась в ситуациях, которые другие сочли бы пугающими, ей было любопытно. Разрушение миндалевидных тел не пошло на пользу S.M. Страх защищает нас, и без него она стала жертвой множества нападений и других актов насилия.
Не так давно фМРТ расширила наши знания о миндалевидных телах. Они важны для зарождения чувства страха и его проявления, но, как и в случае с любыми другими мозговыми функциями, за эту эмоцию ответственны и другие области мозга. Миндалевидные тела – сигнализация, срабатывающая мгновенно. Сенсорные сигналы поступают в них еще до того, как они достигают более «рациональные» части мозга. Миндалевидные тела реагируют инстинктивно, а вот лобные доли уже определяют, социально приемлема ли их реакция. Страх – это не единственный результат работы миндалевидных тел. Они провоцируют агрессию так же легко, как заставляют нас поворачиваться и бежать (реакция «бей или беги»). Страх, тревожность, депрессия и агрессия – все эти состояния связаны с работой миндалевидных тел.
Эмоциональный мозг все еще до конца не изучен, но известной информации достаточно, чтобы понять, что интенсивная эмоциональная реакция Майи в начале припадка была криком о помощи, исходящим прямо из миндалевидной ткани, расположенной внутри ее височной доли. Однако виновным в этом могло быть любое полушарие. Нужны были весомые доказательства, чтобы обвинить во всем левую половину мозга.
По мере развития припадка Майи произошли две очень важные вещи: она не могла говорить, а ее рука приняла определенную позу. Когда невролог пытается собрать мозаику, он учится различать главные знаки от второстепенных. Речь и движение легко изучить. Кроме того, область коры мозга, ответственная за них, находится только в одном полушарии. Из-за этого они становятся главными знаками, присутствие или отсутствие которых многое дает понять.
Исторически потеря речи первая подтвердила давнее предположение о локализации мозговых функций. Речь – это уязвимая функция, которая контролируется доминантным полушарием (обычно левым, если человек – правша). Область, отвечающая за нее, расположена в мозге довольно обособленно и часто не имеет дублера с противоположной стороны, из-за чего речь легко потерять. Проблемы с речью очевидны и измеримы.
Страх, тревожность, депрессия и агрессия – все эти состояния связаны с работой миндалевидных тел.
Древние греки считали, что речевые проблемы связаны с заболеваниями языка. Соответственно, лечение было направлено на горло и рот: массаж языка, полоскание горла и так далее. Подтверждение того, что речь – функция мозга, было получено в 1861 году благодаря двум знаменательным случаям. В первом случае мужчина отстрелил себе часть лобной кости в результате неудачной попытки самоубийства. Он стал пациентом врача, который интересовался локализацией различных областей мозга. Врач стал прижимать шпатель к оголенному мозгу своего умирающего пациента и обнаружил, что при нажатии на левую лобную долю он лишал мужчину речи. Однако при нажатии на правую лобную долю то же самое не происходило. В том же году другой мужчина пережил инсульт и лишился речи, причем ни его интеллект, ни способность распознавать речь не пострадали. Он мог жестикулировать в ответ на вопросы, и единственным словом, которое он мог произносить, было «тан». Вскоре оно превратилось в его прозвище. Тан привлек внимание врача и анатома Пьера Поля Брока, который изучил речь пациента при жизни, а после его смерти провел вскрытие. Он выяснил, что в результате инсульта оказалась повреждена левая лобная доля Тана.
Два этих врача доказали, что левая лобная доля необходима для производства речи. Позднее в ходе похожих клинических исследований выяснилось, что левая височная доля не менее важна для понимания речи. Функциональная МРТ позволила получить больше информации. Она показала, что за речь отвечают несколько взаимосвязанных областей мозга, каждая из которых представляет отдельный аспект продуцирования речи и ее понимания: называние, сочетание слов, грамматика и так далее. Расположение этих областей только в одном полушарии мозга означает, что неврологи продолжают опираться на речь, когда оценивают целостность доминантного полушария.
Неосознанное поведение во время фокального припадка называется автоматизмом. Он проявляется в виде дергания пуговиц, постукивания пальцами, жевания, чмоканья губами.
Потеря беглой речи при сохранении ее понимания называется «экспрессивная дисфазия» («моторная дисфазия). Эта болезнь локализуется в лобной доле левого мозгового полушария (у левшей – правого). У Майи наблюдались явные проблемы с речью к концу припадка. Она могла изобразить жестами применение предмета, но была не в состоянии назвать его. Если бы мне требовалось доказательство, что при приступе Майи разряд охватил левое полушарие ее мозга, то это подошло бы в качестве него.
Произвольные движения тоже один из главных знаков для невролога. Их можно увидеть, проверить и воспроизвести. То, как Майя двигалась во время припадка, было еще одним доказательством для меня. Ее руки вели себя так, будто принадлежали двум разным людям.
Правая рука не гнулась и была неподвижной. На кортикальном гомункулусе Пенфилда изображено, что двигательный контроль относится к полоске коры мозга в лобной доле. Левая лобная доля отвечает за правую сторону и наоборот. Напряжение в мышцах правой руки Майи свидетельствовало о том, что они электрически активизировались. Наряду с потерей речи это говорило о нарушениях в левой лобной доле.
Тем временем ее левая рука бесцельно перебирала журналы. Неосознанное поведение во время фокального припадка называется автоматизмом. В случае него человек может теребить что-то, дергать пуговицы, щелкать пальцами или постукивать ими. Автоматизмы часто имеют отношение ко рту, где они проявляются в виде жевания или чмоканья губами. Человек также может при этом активно двигаться, например крутить несуществующие педали или неистово размахивать кулаками. Это бесцельные движения, чей механизм точно неизвестен. Возможно, они результат того, что в полушарии мозга, не охваченном электрическим разрядом, движения перестают сдерживаться.
Детали мозаики Майи складывались в единую картину. Потеря речи, неподвижность правой руки и беспорядочная активность левой указывали на проблемы в левой лобной доле. Однако припадок не начинался с этих характеристик, а заканчивался ими. Вначале был страх. Было похоже на то, что электрический разряд зарождался в области левого миндалевидного тела, а затем охватывал двигательную и речевую области коры мозга в левой лобной доле. Это подтверждало теорию о том, что припадки Майи были результатом рубца на мезиальных височных структурах, который был виден на томограмме. Изменения в электродах F7 и Т3, зафиксированные на ЭЭГ, тоже относились к левой височной доле. Все складывалось в пользу Майи. Было вполне вероятно, что уменьшенный левый гиппокамп – действительно источник ее проблем.
Я рассказала Майе о результатах. Уверена, она согласилась бы на операцию здесь и сейчас, если бы я ее предложила. Тем не менее я этого не сделала. Любые манипуляции с мозгом опасны. Риск заключается не только в физической неполноценности: в процессе удаления нездоровых тканей можно нарушить то, что технологии не могут ни измерить, ни предсказать. Функциональные карты мозга до сих пор не закончены. В то время как хирург будет избегать двигательной коры или центра Брока, он неизбежно удалит или повредит здоровую ткань. Невозможно узнать заранее, к каким последствиям это приведет. Хирург может достичь своей цели – вылечить пациента, но при этом ненамеренно изменить основы его личности. В случае с одним музыкантом операция на мозге избавила его от припадков, но повлияла на его способность воспринимать музыку. Его жизнь кардинально изменилась, хотя никто из тех, кто смотрел на него или общался с ним, не понимал, насколько неполноценным он теперь себя чувствовал. Изменения в математических способностях, быстроте речи или темпераменте в разной степени значимы для каждого из нас. Перед операцией необходимо выяснить, что для человека особенно важно, а с потерей чего он мог бы смириться.
Вдруг левая височная доля Майи не просто была источником ее припадков, но и отвечала за память? Могли ли при удалении мезиальной височной области исчезнуть не только приступы, но и воспоминания? Это привело бы к замене одной проблемы другой, что и произошло, к примеру, с Генри Молисоном: после удаления обеих височных долей у него развилась амнезия. Если бы хирург удалил левую височную долю Майи, а правая при этом не смогла бы компенсировать потерю, то у Майи тоже могла бы развиться амнезия. Она была жизнерадостной, умной и заботливой. Вдруг что-то в ее характере изменилось бы?
– Обследование необходимо продолжить, – сказала я ей. – Не беспокойтесь, мы почти у цели.
Я направила Майю к нейропсихологу. Это еще один способ проверить мозг. МРТ и ЭЭГ совсем ничего не говорят нам о том, насколько хорошо мозг функционирует. Они не могут сказать, насколько вы организованны, терпеливы, хороши в планировании и креативны. Чтобы проверить способности человека, необходима клиническая оценка лицом к лицу. Если я хочу определить силу мышц, то я сравниваю свою силу с силой пациента. Если я хочу понять, может ли пациент читать, я прошу его это сделать. Если я хочу узнать, сможет ли он проложить маршрут, то я даю ему такое задание. Не существует аппарата, который ответил бы на эти вопросы. Способности пациента можно определить только старомодным путем – с помощью другого человека.
Оценка когнитивных функций – это работа нейропсихолога. С помощью детальных вопросов он оценивает ум, память, речь, способность принимать решения и планировать, концентрацию и внимание. Мне требовалась помощь нейропсихолога, чтобы узнать о способностях Майи и понять, с потерей чего она смогла бы смириться.
То, насколько вы организованны, терпеливы, хороши в планировании и креативны, можно определить только старомодным путем – с помощью другого человека.
После этого ей нужно было встретиться с еще одним врачом – психиатром. Я была почти готова предложить Майе операцию на мозге. Удаление части мозга – это самое ответственное дело, о каком только можно подумать. Большинство операций на мозге проводятся с целью спасти пациенту жизнь. В случае с эпилепсией хирургическое вмешательство необязательно. Майя прожила с этим заболеванием пятьдесят лет и могла бы и дальше жить с ним. Была ли она достаточно сильной, чтобы принять решение и пережить возможные последствия? Даже после успешной операции человек может впасть в депрессию. Она может быть последствием хирургического вмешательства в мозг или всех тягот, сопровождавших операцию. Если у человека были припадки большую часть жизни, жизнь без них может оказаться гораздо сложнее, чем он предполагал. Или же нереалистичные ожидания могут привести к тяжелейшему разочарованию.
Когда Майя посетила нейропсихолога и психиатра, почти все было сделано. Этот процесс занял целый год. Я была рада, что он шел медленно, ведь у Майи и ее семьи было время подумать. Оставался лишь последний этап, на котором присутствие Майи не требовалось. Я была ее представителем.
К счастью, в современных медицинских центрах ни один врач не может послать хирургу письмо, в котором говорилось бы: «Пожалуйста, удалите моему пациенту кусок мозга». Решения такого рода слишком ответственны, чтобы их принимал один человек. Их обдумывают группой. В больнице, где я работаю, команда специалистов по эпилепсии встречается каждую неделю, чтобы обсудить кандидатов на операцию. На собрании присутствуют неврологи, нейрофизиологи, радиологи, нейропсихологи, медсестры, психиатр и хирург. У каждого аспекта мозга есть свой представитель.
Одним хмурым утром вторника я собрала все результаты обследования Майи и принесла их на такую встречу. В помещении, полном экспертов, мы изучили аспект за аспектом. Я рассказала историю Майи и показала видеозапись ее припадков. Затем я представила результаты ЭЭГ, а радиолог продемонстрировал на проекторе томограмму мозга.
– Склероз гиппокампа, – сказал он.
В комнате раздался шепот одобрения. Иногда мы слишком привыкаем к нормальным результатам томографии, и нам приятно увидеть то, что можно вылечить.
– Ее вербальная память уже очень слаба. Зрительная память, наоборот, довольно сильна. Даже прекрасна. Дело в ее силе. Все указывает на то, что проблема кроется в левом полушарии, – обобщила нейропсихолог ее оценку состояния Майи.
Нам сказали, что левая лобная доля мозга Майи работает не так, как нужно. Обе височные доли важны для памяти, но каждая из них выполняет свои функции. Правая отвечает за зрительную память, а левая – за вербальную. Пятьдесят лет припадков и уменьшенный левый гиппокамп означали, что способность Майи запоминать слова была хуже, чем способность запоминать увиденное. Это была хорошая новость: удаление левого гиппокампа сопровождалось лишь малым риском значительной потери памяти. Левый гиппокамп уже был слабым, и его компенсировал бы сильный товарищ справа.
– Она очень умная женщина, – добавила нейропсихолог. – У нее высокие результаты в большинстве тестов.
Это меня не удивило. Я обрадовалась тому, что могу положиться на здравый смысл Майи.
– Дома она чувствует себя в ловушке, поскольку теперь дети проводят с ней не так много времени, – сказала нам нейропсихолог. – Она очень хочет лечь на операцию.
– Да, так и есть, – согласилась я. – Она очень умная и хочет быть более независимой.
Решение об операции во многом зависит от образа жизни пациента. Необходимо проявить предусмотрительность. Работающий человек может быть уволен, если он вдруг частично лишится памяти или интеллекта. Человек же, сидящий дома, как в ситуации Майи, возможно, больше выиграет, чем потеряет.
– Есть ли возражения со стороны психиатра? – спросил председатель собрания.
– Я ни о чем не беспокоюсь, – сказал психиатр с дальнего конца комнаты. – У нее никогда не было психических заболеваний, и дома ей оказывают хорошую поддержку.
– Кто будет ухаживать за ней после операции? – спросил председатель.
– У нее прекрасная семья, – ответила я. – Ее муж будет работать по вечерам, а днем находиться с ней. Дочери будут по очереди ухаживать за ней вечерами.
– Она довольно пожилая, – заметил коллега, сидящий напротив меня. – У этой женщины эпилепсия была почти всю жизнь. Стоит ли нам проводить рискованную операцию, если она может нормально прожить без нее? Ей шестьдесят.
– А это имеет значение? – спросила я.
Обе височные доли важны для памяти, но каждая выполняет свою функцию: правая отвечает за зрительную память, а левая – за вербальную.
Это беспокоило меня с самого начала. Чем чаще у человека случаются припадки, тем выше риск, что у него возникнут проблемы с памятью. У него также могут начаться приступы, исходящие из любых других областей мозга. Мы стараемся направлять подходящих людей на операцию как можно раньше, чтобы защитить мозг от последствий электрических разрядов. Кроме того, Майя прожила с эпилепсией всю взрослую жизнь, и я боялась, что операция навредит качеству ее жизни.
– Раньше возраст пятьдесят лет был предельным, но сегодня мы этим не руководствуемся, – сказал председатель. – Результаты операции у людей старшего возраста не хуже.
– Что вы думаете? – обратилась я за поддержкой к нейропсихологу. Обсуждали предмет моего беспокойства, и мне было не по себе.
– Думаю, она рискует потерять очень немного воспоминаний. Кроме того, статистика в ее пользу. Я считаю, ей нужно пойти на это, – сказала нейропсихолог.
– Я просто играю роль адвоката дьявола, – произнес коллега напротив и засмеялся.
– Вам тоже почти шестьдесят, не так ли? – обратился к нему председатель, и мы все рассмеялись. – Вы бы решились на операцию?
– Хоть завтра! – ответил он.
– Все согласны? – спросила я. – Я могу рассказать ей о статистике?
– Вероятность прекращения припадков или значительного улучшения состояния пациентки составляет 70 %, – сказал председатель, и все присутствующие закивали головой. Даже когда все указывает на хороший исход, наука неидеальна. Тридцать процентов оставлены на то, что, несмотря на все тесты, мы ошиблись. Припадки все равно могли начать зарождаться в других областях мозга.
Я встретилась с Майей и все ей пересказала: если она решится на операцию, то с вероятностью 70 % избавится от приступов. Она радостно улыбнулась, когда это услышала.
– Люди умирают во время операций… – сказал ее муж.
Старшая дочь Майи тоже присутствовала на этот раз. Она ничего не говорила, но выглядела взволнованной.
– Разумеется, это серьезная операция. Существует определенный риск. Есть однопроцентная вероятность того, что во время нее произойдет опасное для жизни или здоровья осложнение.
Я говорила неуверенно. Мне было известно о риске. Ни у одного пациента, которого я направляла на операцию, еще не было настолько серьезных осложнений, однако некоторым не становилось лучше или они сталкивались с послеоперационными психиатрическими осложнениями. Никто из них не умер и не имел опасных для жизни последствий. Однако я не могла не думать о том, что каждый последующий пациент, которого я направляю на операцию, рискует стать частью печальной статистики. Рано или поздно это бы произошло.
– Один процент – это не так страшно, – сказала Майя.
– Да, очень серьезные осложнения маловероятны, но менее серьезные – довольно распространены. Тесты на память свидетельствуют в вашу пользу, но, несмотря на это, ваша память может ухудшиться.
– У меня и так очень плохая память, – сказала мне Майя. – Я все время пишу себе напоминания.
Ее муж нервно встряхнул головой.
– Вы хотите пойти дальше? – спросила я.
– Как мне следует поступить? – спросила в ответ Майя.
– Что ж, думаю, если мы ничего не сделаем, то все останется по-старому. Что вы чувствуете при мысли об этом? Считаете ли вы, что риск оправдан?
– А вы можете принять решение за меня?
Я не хотела решать за нее.
– Думаю, я могу лишь сказать, как поступила бы на вашем месте. Я бы сделала операцию. Семидесятипроцентная вероятность выздоровления – это хорошо. Однако риск реален, и его нельзя игнорировать, – произнесла я, смотря на Майю. Я избегала взгляда ее мужа. Я чувствовала, что он бы хотел, чтобы мой совет был другим.
– Как скоро мне сделают операцию?
– Я начну все для нее готовить. Но пожалуйста, продолжайте ее обдумывать. Если вы измените свое решение, дайте знать.
Майя встретилась с хирургом во второй раз. Они опять обсудили риск, и он описал ей процесс хирургического вмешательства. Через три месяца она поступила в больницу на операцию.
* * *
Некоторые черепа возрастом 7000 лет имеют следы примитивных операций. Обычно это были трепанации – операции, в ходе которых в черепе просверливались отверстия. Эти повреждения содержат следы заживления. Это значит, что пациент остался в живых после процедуры. Тем не менее узнать цель этих операций невозможно.
Первая успешная резекционная операция для лечения эпилепсии была проведена 25 мая 1886 года в Лондоне. Под руководством Джона Хьюлингса Джексона хирург Виктор Хорсли прооперировал мужчину с посттравматической эпилепсией. Он удалил видимый рубец, и пациент излечился от своего недуга.
Операция Майи была усовершенствованной версией того хирургического вмешательства, и использованные стратегии были во многом похожи. Разница лишь в том, что современная неврология опирается на томографию мозга, которая позволяет нам быть гораздо точнее. Сегодня хирурги применяют изысканные техники локализации припадков, чтобы удалять и те части мозга, где повреждения не видны невооруженным глазом. Хотя технологии сделали процедуру более точной, ее нельзя назвать идеальной, и она работает только иногда.
Первая успешная резекционная операция для лечения эпилепсии была проведена в 1886 году в Лондоне.
Помню, я читала, что нам больше известно о поверхности Луны, чем о Мировом океане, 95 % которого не исследовано. Что таят в себе его глубины? Мы не знаем. Возможно, они полны жизни, а возможно, нет. Когда я задумываюсь о нейробиологии, то понимаю, что технологии создают иллюзию доступности тайн мозга. Число загадок все еще очень велико. Мозг полон неизведанных глубин. Если хирург удаляет части мозга пациента и это не влечет за собой никаких последствий, то мы задаемся вопросом, для чего вообще эти части были нужны.
Хирург удалил часть мозга Майи, и мы встретились с ней шесть месяцев спустя.
– Припадков нет! – Майя скрестила пальцы и засмеялась.
Технологии создают иллюзию доступности тайн мозга. Число загадок все еще очень велико. Мозг полон неизведанных глубин.
Она была все такой же умной и счастливой женщиной, какой я знала ее раньше. На лице ее мужа была мягкая улыбка удовлетворения (или облегчения?). Пятьдесят лет припадков, а теперь они исчезли.
Майе удалили переднюю треть левой височной доли. Это более щадящая версия радикальной операции, которую пережили Генри Молисон и многие другие люди в ХХ веке. В ходе хирургического вмешательства ей сохранили максимальную часть височной доли. Область Вернике – участок мозга, позволяющий нам понимать речь – находится в задней части левой височной доли. Именно эту область неврологи называют «красноречивым мозгом». Никто не может нормально жить без нее. Операция Майи была тщательно продумана так, чтобы избежать таких важных областей. По крайней мере тех, о которых нам известно.
– Я так рада за вас, – сказала я ей.
– Не слишком некрасиво? – спросила она и, улыбаясь, указала на более короткие волосы слева.
Под ними шрам не был заметен. Она говорила о косметическом аспекте, в то время как я удивлялась, насколько мало операция, казалось, на нее повлияла. Потеря Майей участка мозга на тот момент абсолютно никак на ней не отражалась.
– Как ваша память? – спросила я ее. – Не стала хуже?
– Никаких проблем. Я хорошо себя чувствую.
Я просмотрела отчет нейропсихолога о тестах на память, сделанных после операции. Они показали, что память Майи не только не ухудшилась, но и, возможно, немного улучшилась. Я лишь могла предположить, что мезиальная височная область Майи так долго страдала, что перестала выполнять важные функции. Какая-то другая часть мозга взяла на себя ее роль.
– Я очень вами довольна, – сказала я и, как любой другой осторожный врач, добавила: – Возможно, вам не стоит сейчас увлекаться походами по магазинам? Как думаете?
Походы по магазинам. Какое простое удовольствие. Когда же Майя без сопровождения отправилась за продуктами для семьи на неделю, она в первый раз почувствовала свою силу!
Перед операцией я спросила Майю, какой будет ее жизнь, если припадки прекратятся. Я задала этот вопрос как бы непреднамеренно, но ее ответ был для меня важен. Я ее проверяла. Мне необходимо было удостовериться в том, что ее послеоперационные надежды реалистичны. Жизнь без эпилепсии не будет идеальной, как и любая другая жизнь. Отсутствие припадков, возможно, не изменило бы ее жизнь так, как она ожидала. Тем не менее ее ответ меня успокоил: «В моей культуре, доктор, мы арендуем на свадьбу или другое большое событие зал или палатку, а затем оповещаем людей о том, что будет вечеринка. Любой, кто хочет прийти, приходит. Не нужно рассылать приглашения, как это принято у англичан. Кто угодно может прийти на наши праздники. Мать семейства отвечает за организацию, и все женщины семьи готовят. Когда моя старшая дочь выходила замуж, ее свекровь отвечала за готовку. Все боялись, что у меня случится припадок. Если у меня прекратятся приступы, я хочу одна ходить по магазинам, готовить еду без того, чтобы кто-то на меня посматривал, и сама устраивать праздничные ужины». Когда она это сказала, у меня на глаза навернулись слезы. Это было такое маленькое желание.
Сейчас передо мной сидела уже перенесшая операцию Майя, которая выглядела счастливой.
– Теперь я могу планировать! – сказала она.
Предсказуемость считается скучной. Тем не менее непредсказуемость и потеря контроля – одни из худших характеристик эпилепсии.
После операции Майя смогла взять на себя традиционную роль, о которой всегда мечтала. Она пригласила в свой маленький дом в Восточном Лондоне многочисленных родственников и друзей. Майя сама сходила за продуктами, приготовила и встретила гостей. А за помощью она теперь обращалась лишь тогда, когда ей этого хотелось.
Предсказуемость считается скучной. Тем не менее непредсказуемость и потеря контроля – одни из худших характеристик эпилепсии. Я беспокоилась, что страх перед неизвестным остановит Майю, даже если у нее прекратятся припадки. Однако, прожив всю взрослую жизнь под постоянной угрозой приступов, она с легкостью самостоятельно вышла в большой мир.
Спустя несколько лет после операции жизнь Майи по-прежнему свободна от припадков. Она излечилась. Мы все еще встречаемся с ней раз в год. В прошлый раз она пригласила меня на один из устраиваемых ей ужинов. Я очень хотела пойти, но она была моей пациенткой, а не подругой, поэтому я отказалась. Однако надеюсь, что однажды случайно встречусь с ней за пределами больницы.
5. Шерон
Симптомы – это лишь плач страдающих органов.
Жан Мартен ШаркоШерон была в метро, когда у нее впервые случился припадок. Обстоятельства ее напугали. Был час пик. Вагон был полон, и к ней прижимались незнакомцы. Она понимала, что чувствует себя нехорошо, но впереди было еще несколько станций. Она была зажата в самом конце вагона, и, чтобы попасть к выходу, ей требовалось протиснуться сквозь рассерженных людей. Если бы ей это удалось, то она вышла бы на станции, расположенной в трех с небольшим километрах от работы. Если бы ей стало лучше, то влезть в следующий поезд было бы непросто. В итоге она решила не выходить и надеялась, что ей удастся сесть. Вдруг она потеряла сознание.
– Я почувствовала, как все началось, – сказала мне Шерон. – Перед глазами потемнело, и я ничего не видела. Я запаниковала и попыталась обратиться к кому-нибудь за помощью, но мне не удалось произнести ни слова.
О том, что произошло дальше, Шерон известно лишь со слов других людей. Пассажиры поняли, что ей плохо, когда она упала на стоящего сзади мужчину. Он подхватил ее, и она продолжила стоять благодаря давке в вагоне. Промежуток между станциями составлял три минуты, и пассажиры утверждали, что все это время она находилась без сознания. Как только поезд подъехал к станции, Шерон вынесли на платформу.
– На платформе была медсестра. Когда я пришла в себя, она сказала, что у меня случился припадок, – продолжала Шерон.
Несколько очевидцев утверждали, что, когда Шерон выносили из вагона, все ее тело напряглось и стало дергаться. Она очнулась, лежа на холодном бетонном полу. Под головой у нее была чья-то куртка, а над ней нависали лица незнакомцев. Медсестра прощупывала пульс, держа ее за запястье.
– Какое-то время пульс не прощупывался, – сказала Шерон. – Они думали, что у меня остановилось сердце.
Шерон повезли в больницу. В машине «Скорой помощи» она полностью пришла в сознание и к моменту прибытия в больницу чувствовала себя нормально. Кардиограмма, томография и анализы крови не выявили никаких патологий. Основываясь на рассказах свидетелей, врач сказал Шерон, что у нее случился припадок, но что лечение пока не требуется.
«Прежде чем потерять сознание, мне кажется, что я оказываюсь в тоннеле. Все вокруг темнеет».
Ее направили к неврологу с целью убедиться, что совет первого врача был верным. Она должна была ждать приема одну или две недели. На следующий день после припадка Шерон чувствовала себя изможденной. Она отпросилась с работы до конца недели. Шерон хотела выйти в понедельник и даже стала чувствовать себя лучше, но в воскресенье у нее опять случился припадок. Он произошел, когда она ходила по магазинам с подругой. Как и в первый раз, Шерон стало нехорошо, и это чувство усиливалось, пока она не потеряла сознание. Она сказала подруге, что хочет присесть. Когда это произошло, они направлялись в кофейню.
– Прежде чем потерять сознание, мне кажется, что я оказываюсь в тоннеле. Все вокруг темнеет, – поделилась Шерон.
Во время этого припадка она потеряла сознание на несколько минут. Ее подруга рассказала ей, что произошло. Шерон тяжело упала на пол и лежала абсолютно неподвижно с закрытыми глазами. Подруга пыталась привести ее в чувство, но не смогла. Шерон отвезли в больницу. Ей сделали те же тесты, что и в прошлый раз. Ее опять признали здоровой. Мать Шерон заехала за ней, чтобы отвезти ее домой, но в машине Шерон потеряла сознание в третий раз. Ее мать сразу же отвезла ее обратно в больницу, и на этот раз Шерон положили в палату.
Она провела там две недели. МРТ показала небольшую патологию: кисту в правой височной доле. По словам радиолога, она вряд ли была причиной припадков. Тем не менее после обнаружения кисты врачи провели еще ряд тестов. Множество анализов крови не показали ничего особенного. Шерон сделали люмбальную пункцию, чтобы проверить, нет ли в спинномозговой жидкости признаков инфекции или воспаления. Все было чисто. ЭЭГ показала небольшие нарушения в обеих височных долях. Это были не пики, характерные для эпилепсии, а кое-какие изменения, спорные по своей значимости. Результаты ЭЭГ, как и томограммы, не были ни однозначно плохими, ни однозначно хорошими.
В больнице, куда попала Шерон, не было невролога в штате. Он приходил только раз в неделю, и Шерон пришлось его ждать. Тем временем у нее ежедневно случались припадки. Перед каждым из них Шерон казалось, что она попадает в тоннель, затем она теряла сознание и падала. Это происходило везде: в постели, в ванной комнате.
К моменту встречи с неврологом у Шерон было уже двадцать припадков. Она рассказала ему о них все, а он изучил результаты тестов. После этого он сказал, что это скорее всего эпилепсия, и прописал противоэпилептический препарат. Она пробыла в палате еще несколько дней. Как только припадки стали реже, ее выписали.
Следующие пять лет были очень непредсказуемыми для Шерон. Поначалу препарат, казалось, работал. У нее были долгие периоды без припадков. Однако приступы в итоге вернулись, и Шерон назначили еще один препарат. Ей снова стало лучше, но опять ненадолго.
– Лекарства перестают действовать, – сказала мне Шерон. – Мое тело привыкает к ним, и они становятся неэффективными.
Однако такого обычно не происходит. Противоэпилептические препараты либо работают, либо нет.
Я посмотрела на список лекарств Шерон. Она принимала комбинацию из трех препаратов, а также пробовала три других. Ни один невролог не хочет, чтобы его пациент принимал более одного лекарства, но, когда припадки плохо поддаются лечению, это бывает необходимо. Больше препаратов – больше побочных эффектов. Так как Шерон принимала сразу три лекарства, она постоянно чувствовала усталость. У нее также начались проблемы с памятью. Если бы она планировала забеременеть, то существовал бы десятипроцентный риск того, что у ребенка будут проблемы с развитием. Однако припадки Шерон продолжались. Опасения по поводу ее безопасности повлияли на выбор лечения и привели к ряду последствий.
Несвоевременное устранение припадка, длящегося более 5 минут, грозит повреждением мозга или смертью.
Опасения были оправданными. Дважды за пять лет Шерон попадала в реанимацию. Оба раза у нее был затянувшийся приступ, который невозможно было снять стандартным противоэпилептическим препаратом, используемым при оказании неотложной помощи. Припадок, который длится более пяти минут, называется эпилептическим статусом. Статус – это экстренная ситуация. Его несвоевременное устранение грозит повреждением мозга или смертью.
Когда Шерон привозили в больницу с такими затянувшимися припадками, ее вводили в искусственную кому. Ее обездвиживали, подключали к аппарату ИВЛ и вводили ей большие дозы противоэпилептических препаратов, пока состояние Шерон не приходило в норму.
Так как все усилия оказывались напрасными, Шерон направили в мою клинику, чтобы она услышала мнение специалиста по эпилепсии. Она хотела выяснить, существовали ли другие варианты лечения.
– Сейчас припадки такие же, как в самом начале? – спросила я, выслушав ее историю.
– Нет, они изменились.
– Они менялись дважды, как мне кажется, – сказала ее мать, и Шерон кивнула в знак согласия.
– Через какое-то время у меня начались настоящие припадки, – добавила Шерон. – По крайней мере мне так рассказывали. Я не знаю, что во время них происходит.
– Настоящие припадки?
– Раньше она просто неподвижно лежала на земле, а через два месяца у нее начались конвульсии, – сказала ее мать. – Когда она стала принимать второе лекарство, приступы снова изменились.
– Как именно?
– Раньше у нее было предчувствие припадка, но затем оно исчезло. Теперь она не знает, когда он случится. И конвульсии усилились.
– Тогда мне стало по-настоящему страшно. Благодаря предчувствию я могла сразу же сесть, как только все начиналось, поэтому я не падала. Но теперь я не могу обезопасить себя. Приступ может случиться во время того, как я иду, – добавила Шерон.
– Конвульсии очень сильные, – сказала ее мать. – Руки выворачиваются, а ноги дергаются. Если вы стоите рядом, то она может вас задеть. Однажды припадок был таким сильным, что нам пришлось втроем держать ее.
– Зачем ее держать? – спросила я.
– Нам приходится это делать. В противном случае она навредит себе. Как-то раз она пробила дыру в стене кухни.
– Боже. И как долго это обычно продолжается? – спросила я.
Родители Шерон сначала посмотрели друг на друга, а потом на нее.
– Не спрашивайте меня, – сказала Шерон.
Ее родители тоже не были уверены.
– Десять минут, – в итоге ответила ее мать.
Припадок длиной десять минут является исключительно продолжительным. Большинство из них заканчиваются через пару минут. Но даже пара минут может показаться вечностью, особенно близким людям, которые ничем не могут помочь.
– Вы уверены, что так долго? – спросила я. – Представьте, что я считала бы вслух во время припадка: один, два, три… Досчитала бы я до шестисот?
– Думаю, легко, – сказал ее отец. – А некоторые длятся еще дольше.
– Они немного другие. Как сложно дать правильный ответ… – добавила ее мать.
– Все в порядке. Не существует правильных и неправильных ответов. Я просто пытаюсь побольше узнать о припадках. Скажите, ее глаза обычно открыты или закрыты во время них?
– Мне кажется, закрыты, – сказала ее мать и на секунду задумалась. – Да, закрыты. Сначала они закатываются, а затем, после того как она падает, закрываются.
– Еще у меня все сильнее ухудшается память. Я могу поговорить с мамой, а уже через полчаса вообще забыть об этом.
– Так и есть, – согласилась ее мать. – Если я прошу ее сделать что-то, она не делает, а когда я напоминаю ей об этом, то она отрицает, что мы вообще это обсуждали. Однажды она поставила сковороду на плиту и забыла о ней. Я почувствовала запах гари. Не будь меня дома, неизвестно, чем бы все закончилось. Мне страшно оставлять ее одну.
История Шерон очень меня взволновала. У нее совершенно точно не было эпилепсии, и это беспокоило меня больше всего. Результаты некоторых тестов балансировали на грани нормы и патологии, но тесты необходимо проводить в контексте истории пациента. История Шерон говорила мне о том, что у нее не было эпилепсии. Ни она, ни ее родители даже не подозревали, что я скажу им это. Они пришли, чтобы подобрать подходящее лечение, а не чтобы услышать, что диагноз неверный.
Кисты в мозге обычно доброкачественные и редко вызывают припадки.
– Что сказал врач, направивший вас ко мне, о том, что я могу сделать? – спросила я.
Я пыталась понять, были ли у них какие-либо сомнения. Мой мозг напряженно думал о том, как направить этот тяжелый разговор в другое русло.
– Он сказал, что ей может понадобиться операция, если лекарства не помогут. У нее киста в височной доле. Как вы думаете, ее нужно удалять?
– Кисты редко вызывают припадки. Обычно они доброкачественные, так что я не думаю, что проблема в этом. Существует множество типов приступов, и мне необходимо сперва понять, какой именно тип у вас, а затем спланировать дальнейшие действия. Так как припадки случаются у вас часто, я, возможно, стану свидетелем одного из них, если положу вас в больницу на несколько дней.
– Это было бы замечательно, – сказала ее мать. – Это обязательно нужно сделать. Дальше так продолжаться не может. Она уже боится выйти из дома.
– Разумеется, нужно сделать все возможное… – Я замолчала, решая, стоит ли сразу высказать им предположение о том, что диагноз может быть ложным. – Понимаете, часто людям, у которых случаются припадки, не становится лучше, потому что у них нет эпилепсии. Такая вероятность существует. Не знаю, обсуждали ли это с вами раньше.
– Нет, не обсуждали, – ответила Шерон.
Она выглядела озадаченной.
– Если обнаружится, что у нее нет эпилепсии, мы, конечно, будем счастливы, – неуверенно сказала ее мать.
Никто не спросил, какой альтернативный диагноз я имела в виду. Очевидно, об этом должен был быть следующий вопрос. Я подождала несколько секунд, но разговор, похоже, был окончен. Я решила пока не продолжать обсуждение. Я дала им возможность, но они ей не воспользовались. Это была только первая наша встреча.
Я решила, что, когда Шерон поступит в больницу, я смогу провести с ней больше времени и мне будет проще обсуждать тяжелые вопросы, если я получше узнаю ее.
Я записала Шерон в лист ожидания и попросила секретаря найти все записи из больниц, где она была до этого. Особенно меня интересовали записи о ее первом посещении больницы в связи с этой проблемой. Истории, которые рассказывают снова и снова, меняются со временем. Одни детали забываются, а другие добавляются.
* * *
Вскоре Шерон поступила в отделение видеотелеметрии. Ее встретил молодой врач, который рассказал ей о цели пребывания в больнице и взял кровь на анализ. Мы планировали оставить Шерон в палате на пять дней, однако нам не понадобилось столько времени, чтобы увидеть припадок. Он случился уже через два часа после прибытия в больницу. Он был записан на видео, так что я увидела все, что произошло.
В палату пришла медсестра. Она включила видеозапись, внимательно измерила голову Шерон и обозначила точные места, куда было необходимо поместить электроды. Пока она фиксировала их один за другим на коже головы Шерон с помощью клея, у той случился припадок.
Шерон сидела на стуле лицом к камере. Медсестра стояла за ее спиной. Мать Шерон, которая привезла ее в больницу, сидела рядом с ней на кровати. Ни медсестра, ни мать сразу не заметили, что Шерон потеряла сознание. Она прямо сидела на стуле, и медсестра не видела ее лица. Мать Шерон продолжала рассеянно говорить с ней, параллельно смотря в телефон. Она взглянула на дочь лишь тогда, когда ответа с ее стороны не было слишком долго.
«У нее припадок!» – закричала мать Шерон. Она положила свою руку на руку дочери и слегка ее потрясла. «Шер? Шер?» – обратилась она к ней.
Шерон не ответила. Ее открытые глаза закатились. Медсестра обошла вокруг стула, чтобы посмотреть на нее, и как раз в этот момент Шерон начала сползать. Мать поймала ее за плечи. Медсестра нажала на кнопку, а затем стала поддерживать пациентку так, чтобы та оставалась на стуле. Голова Шерон тяжело свесилась набок. Только белки ее глаз были видны, а веки начали трепетать. Медсестра назвала ее имя, но Шерон никак не отреагировала.
В палату вбежала еще одна медсестра. Вместе они стали придерживать Шерон, позволяя ей аккуратно сползти на пол. Затем тело Шерон начало трястись. Ее спина выгнулась, а согнутые ноги постоянно дергались. Медсестры попытались положить ее на бок, но она стала дергать ногами еще сильнее. Они отпустили Шерон, и та снова повернулась на спину. Персонал сделал шаг назад, а мать схватила ее ноги. Она не могла их удержать. Медсестры отодвинули ее.
«Не надо, вы ударитесь. Просто оставьте все как есть», – произнесла одна из них.
Шерон с огромной силой ударяла правой ногой по дверце деревянной прикроватной тумбы. Та раскачивалась. Мать Шерон снова была готова схватить ее.
«Она сломает дверцу», – предупредила мать Шерон.
Одна медсестра отодвинула тумбу на несколько сантиметров, а вторая обложила Шерон подушками.
«Обычно я даю ей мидазолам[3], когда у нее такие сильные судороги», – сказала мать.
«Это ведь не припадок, да?» – спросила одна медсестра у другой.
«Да», – ответила та.
Мать Шерон либо не слышала этого, либо просто никак не отреагировала.
«С ней все будет нормально, – успокоила медсестра мать. – Нам нужно это увидеть, поэтому пусть все будет как есть. Она здесь именно ради этого».
В течение следующих пяти минут Шерон тряслась и замирала, тряслась и замирала. Между конвульсиями она лежала с закрытыми глазами и размеренно дышала, будто спала. Ее мать сидела рядом с ней все это время. Она хотела дать ей лекарство. Одна из медсестер позвала молодого врача, который убедил мать в том, что нам необходимо записать припадок целиком ради Шерон. Шерон понадобилось тридцать минут, чтобы прийти в сознание, и это случилось очень резко. Поняв, что она лежит на полу, Шерон расплакалась. Медсестры усадили ее на стул, и одна из них продолжила закреплять электроды на ее голове.
Я посмотрела запись на следующее утро.
– Я только на полголовы сделала, – сказала медсестра, имея в виду, что она не успела закрепить электроды до конца.
– Этого достаточно, – произнесла я, смотря запись.
Я видела мозговые волны лишь правого полушария, но они о многом мне говорили. Даже когда Шерон была без сознания и билась в конвульсиях, ее мозговые волны были нормальными, как будто она просто бодрствовала.
Как минимум 1/5 часть людей, обращающихся с жалобами на припадки, не имеет эпилепсии. Самый распространенный альтернативный диагноз – диссоциативные конвульсии.
Диагноз был неверным. Во время конвульсивного эпилептического припадка мозговые волны представляют собой пики. Их отсутствие исключало вероятность того, что это эпилепсия.
Как минимум одна пятая часть людей, которые обращаются в клинику с жалобами на припадки, не имеет эпилепсии. Самый распространенный альтернативный диагноз – диссоциативные конвульсии, которые также называются псевдосудорогами. Раньше они были известны как истерические припадки и истерия. Эти конвульсии происходят в связи с психическими расстройствами, а не заболеваниями мозга. В отличие от эпилептических припадков во время диссоциативных конвульсий электрическая активность мозга нормальная. Потеря сознания в данном случае связана с работой такого механизма, как диссоциация.
Диссоциация – это то, что со всеми нами происходит время от времени. Это нормально. Она наступает тогда, когда мозг на мгновение отключается. Вы разговариваете с собеседником, но вдруг ваш разум начинает блуждать, и, несмотря на то что вы слушали, вы теряете нить разговора. Вы читаете страницу книги, но, когда доходите до последней строчки, не помните ни слова. У некоторых людей возникает ощущение, что они отрезаны от своего окружения или что окружающие предметы нереальны. Или же это может быть просто чувство потерянности. Диссоциация может выступать в качестве защитного механизма: если человек становится жертвой насилия, она помогает ему отделить себя от происходящего.
Патологическая диссоциация может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Болезнь человека может быть целиком психической или проявляться в виде физических симптомов, которые можно ошибочно связать с заболеванием мозга. У одних людей возникает ощущение деперсонализации, а у других – головокружение, потеря сознания и даже конвульсии. Диссоциация может привести к проблемам с концентрацией и памятью. Диссоциация, вызывающая конвульсии, точно так же неконтролируема, как и диссоциация, заставляющая нас пропустить свою автобусную остановку или «отключиться» во время чтения газетных заголовков. Это процесс, сгенерированный подсознанием, но с ним можно справиться.
Все, что рассказали мне Шерон и ее родители, не соответствовало типичным характеристикам эпилепсии. Припадки длились слишком долго. Они менялись со временем и делали это слишком часто. Конвульсии прекращались и возобновлялись. Они нарастали, ослабевали, а затем опять нарастали. При эпилепсии электрический разряд набирает силу, распространяется, а затем затухает. Он не может распространиться, отступить, а затем снова распространиться.
Иногда во время разговора наш мозг на мгновение отключается, и мы не помним, о чем собеседник говорил в тот момент. Это результат работы такого механизма, как диссоциация.
Когда я увидела на записи, как Шерон сползала со стула, я перестала сомневаться в диагнозе. У приступа Шерон отсутствовали признаки генерализованного эпилептического припадка. Такой припадок обычно характеризуется напряжением всех мышц тела. Он часто начинается с присущего ему громкого крика, связанного с сокращением мышц груди и выталкиванием воздуха из легких. Шерон, наоборот, обмякла и сползла со стула. Она сначала задержала дыхание, а затем громко выдохнула. Ничто не напоминало эпилептический припадок.
Я решила записать больше приступов, прежде чем обсуждать неверный диагноз с Шерон. Так как первый припадок произошел до того, как были установлены все электроды, и так как Шерон слишком долго жила с мыслью, что у нее эпилепсия, могли возникнуть сомнения, и я хотела их исключить.
– Давайте запишем еще как минимум пару припадков и отменим прием лекарств, прежде чем делать окончательный вывод, – сказала я медсестре.
В течение недели я понижала дозировку противоэпилептических препаратов, которые принимала Шерон. Мне нужно было убедиться в том, что они никак не влияют на результаты тестов. В период отвыкания от препаратов припадки усугубились. За пять дней у Шерон случилось десять приступов, хотя обычно за это время происходили один или два. Они также стали длиннее и интенсивнее. Я попросила членов ее семьи посмотреть видеозаписи припадков вместе со мной.
– Это похоже на приступы, которые обычно случаются дома? – спросила я.
– Да, но она попадала в отделение интенсивной терапии, когда они были такими страшными.
– Чем они отличаются от тех, что были в самом начале? В первые выходные, например? – спросила я.
– Они начинаются примерно одинаково, как мне кажется, но сейчас конвульсии гораздо более интенсивные в конце припадка, – ответила ее мать.
У меня была возможность ознакомиться с записями прошлых врачей Шерон. Когда ее впервые привезли в больницу с этой проблемой, доктор сказал ей, что у нее был либо обморок, либо припадок. Он думал, что обморок более вероятен, но все же направил ее к неврологу. Первоначальный диагноз был со временем изменен. Шерон никогда не вспоминала о том разговоре.
Было ясно, что диагноз «эпилепсия» был частично основан на свидетельствах очевидцев, которые утверждали, что у Шерон были конвульсии. Согласно записям невролога, осмотревшего Шерон во время ее первого долгого пребывания в больнице, вначале он не считал эпилепсию наиболее вероятным диагнозом. В них говорилось: «Псевдоприпадки?» Следовательно, он допускал вероятность того, что конвульсии были диссоциативными. Однако затем невролог написал: «На МРТ видна киста в височной доле. На ЭЭГ есть отклонения от нормы. Показано лечение от эпилепсии». Он подверг сомнению свое первое впечатление и решил, что будет безопаснее назначить Шерон противоэпилептические препараты, чем ждать дальнейших тестов. Через три месяца приема лекарств Шерон стало лучше. Это восприняли как доказательство того, что лечение работает и что диагноз «эпилепсия» правильный. Когда припадки вернулись и следующий препарат оказался неэффективным, первоначальные сомнения в диагнозе были лишь давно забытой записью в карте.
Для постановки неврологического диагноза сегодня, как никогда, важны врачебный опыт и умение собирать и изучать историю болезни.
После того как я пересмотрела видеозаписи всех припадков Шерон и еще раз изучила все ЭЭГ, я назначила встречу с ней и ее родителями. Во время всех приступов ЭЭГ показывала нормальные мозговые волны, поэтому у меня не осталось сомнений в диагнозе «диссоциативные конвульсии». Однако я волновалась перед предстоящим разговором. Никто не хочет страдать эпилепсией, но и столкнуться со сменой диагноза спустя пять лет очень нелегко. Я подозревала, что именно замена болезни мозга психическим расстройством (а психические расстройства связаны со многими предубеждениями) особенно сильно огорчит Шерон.
Я начала объяснять, что во время всех приступов мозговые волны Шерон были нормальными для бодрствующего человека и что это несопоставимо с природой эпилепсии. Когда человек пребывает без сознания, его мозговые волны значительно замедляются. Это никак не зависит от причины потери сознания. Когда человек засыпает, его мозговые волны постепенно замедляются и в течение ночи проходят через различные циклы. Когда он находится под наркозом, они похожи на те, что преобладают во время глубокого сна. В случае обморока мозговые волны замедляются и укорачиваются из-за временного недостатка кислорода в мозге. То, что мозговые волны Шерон выглядели так, будто она бодрствовала, хотя на самом деле пребывала без сознания, могло иметь лишь одно объяснение – диссоциация.
Во многом это была хорошая новость. Теперь мы знали, почему лекарства не помогают. Новый диагноз открывал путь вперед. Тем не менее я не была уверена, что Шерон воспримет это в таком ключе.
– Этого не может быть, – сказал ее отец. – До этого нам несколько человек говорили, что ее ЭЭГ ненормальна. У Шерон киста в мозге.
Сегодня врачебный опыт, а также умение собирать и изучать историю болезни, как никогда, важны для постановки неврологического диагноза. Очень малому количеству людей известно об опасностях, которые таят в себе новые технологии. Они думают, что обследование – это всегда хорошо. В настоящее время МРТ назначают всем подряд, но лишь немногие понимают, как сильно она способна ввести в заблуждение. МРТ показывает мозг в мельчайших деталях, что раньше было немыслимо. На снимках видны все крошечные недостатки: кисты, атипичные кровеносные сосуды, доброкачественные образования неизвестного происхождения. Люди спокойно могут жить с ними, даже не подозревая об их существовании. Результаты томографии могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от опыта врача. Кроме того, большую роль играет информация, предоставленная тем, кто направил пациента на МРТ. Радиолог может умолчать о патологии, если она не серьезная и никак не объясняет симптомы пациента. Поэтому ему требуется полная история болезни пациента. Часто же вся доступная информация представляет собой запись «Припадок?» в карте. Как только снимок томографа получен, врач должен начать наблюдать за пациентом, чтобы расшифровать результаты в клиническом контексте. Многое теряется при переводе. На томограмме Шерон была киста. Как правило, эти доброкачественные образования, заметные на снимках, не играют никакой роли. Однако напуганной молодой женщине, потерявшей сознание в вагоне метро, забыть о кисте было сложно.
Вероятность сделать ошибки и поставить неверный диагноз при расшифровке ЭЭГ еще больше. Сердечные ритмы похожи у здоровых людей, однако с мозговыми волнами дело обстоит иначе. Подобно нашей внешности у ЭЭГ здоровых людей есть общие элементы, но они сильно разнятся от индивида к индивиду. Не каждое отличие – это патология. Кроме того, мозговые волны зависят от состояния человека. Если он хочет спать, то они будут медленными. Однако врач, который составляет отчет по результатам ЭЭГ, не видел пациента лично и не может знать, что тот хотел спать. Небольшое отклонение от нормы не представляет собой диагностической ценности для эпилепсии. Это лишь индивидуальная особенность. Врач, который интерпретировал результаты ЭЭГ Шерон, никогда не видел ее и не знал ее историю в подробностях. А невролог, получивший отчет, не видел самих мозговых волн.
Врачей учат искать заболевания. Они боятся упустить болезнь, так как это будет сопровождаться угрызениями совести. Первый врач боялся упустить эпилепсию. Гораздо меньше страхов окружает упущенные психические заболевания. О психических проблемах как об источнике физических симптомов не принято говорить с пациентами до тех пор, пока вероятность любых других заболеваний не будет сведена к нулю. Пока каждый метод лечения не будет опробован и не докажет свою неэффективность. В случае Шерон на это потребовалось пять лет и шесть противоэпилептических препаратов.
Я объяснила результаты ЭЭГ Шерон и ее семье. Я видела, что они пытаются переварить сказанное мной. Для них новость была неожиданной, и они не знали, о чем спросить.
– Но противоэпилептические препараты помогали, – сказала ее мать.
– Боюсь, это бывает в случае с диссоциативными конвульсиями. Шерон так сильно хотела выздороветь, что каждый раз, когда она принимала лекарства, они ненадолго действовали. Препараты помогали, потому что она хотела этого и верила, что это произойдет. Но, так как у нее нет эпилепсии, их действие было кратковременным.
Это был эффект плацебо.
– Она дважды попадала в отделение интенсивной терапии! – сказал ее отец.
Сами по себе диссоциативные конвульсии неопасны: они могут длиться несколько часов, и это никак вам не навредит. Опасной может быть реакция на них.
Люди с диссоциативными конвульсиями в два раза чаще оказываются в реанимации, чем эпилептики. На это есть простая причина. Диссоциативные конвульсии длятся гораздо дольше эпилептических припадков. Они могут продолжаться часами. Большинство эпилептических приступов заканчиваются до того, как пациента успевают довезти до больницы.
– Я полагаю, врачи отделения первой помощи предположили, что припадки могут быть эпилептическими, и направили Шерон в отделение интенсивной терапии ради ее безопасности. Они не знали, что диагноз неверный, и поступали так, как считали правильным.
Сами по себе диссоциативные конвульсии неопасны. Они разрушают жизни, но не убивают людей. Человек может несколько часов биться в диссоциативных конвульсиях, и это никак ему не навредит. Опасной может быть реакция на эти конвульсии. В больнице таким людям вводят наркоз и подключают их к аппарату ИВЛ, что повышает риск подхватить инфекцию или умереть от тромба. У них также может проявиться непереносимость к препаратам. Шерон повезло покинуть отделение интенсивной терапии без осложнений в результате медицинского вмешательства.
У нас с Шерон и ее семьей состоялся долгий разговор, во время которого я постаралась развеять предубеждения, которые обычно сопровождают психосоматические диагнозы. Я напомнила им о том, что, когда у нас руки трясутся от страха или сердцебиение учащается от радости, мы тоже не можем это контролировать.
– Вы говорите, что все в порядке и что она делает это намеренно? – спросила ее мать.
– Нет, все наоборот. Я говорю, что у Шерон припадки, но не эпилептические. Представьте, что у вас в конце рабочего дня разболелась голова. Стали бы вы винить себя в этом? Сказали бы вы, что боль надумана? Физические симптомы, причина которых в психических проблемах, реальны.
– В психических проблемах?! Но каких тогда? – Отец Шерон начал злиться.
– Признаться, я не знаю. На данный момент я могу сказать, что диагноз точный, но нужно время, чтобы понять, в чем его причина.
Я не знала Шерон. Возможно, припадки случались, чтобы защитить ее от чего-то. Иногда наш мозг закрывается и диссоциируется, чтобы избежать чего-то неприятного. В прошлом считалось, что такие припадки являются результатом сексуального насилия. Это справедливо для некоторых людей: 15 % пациентов действительно пережили насилие. Тем не менее в 85 % случаев это не так. К другим потенциальным причинам можно отнести потерю любимого человека, сильный стресс, безвыходную ситуацию. Бывает, припадки помогают решить какую-то жизненную проблему. Они дают возможность уйти с ненавистной работы, вернуться к любимой семье, защититься от одиночества, неудачных отношений или финансовых трудностей.
Или, возможно, причина вообще не в этом. Психосоматические проблемы далеко не всегда связаны со стрессом. Иногда они являются ответной реакцией на болезнь. Они могут быть частью цикла страха и отрицания. Я была практически уверена в том, что в вагоне метро Шерон просто упала в обморок. Это, должно быть, сильно ее напугало. После этого незнакомцы сказали ей, что у нее случился припадок. То же самое сказали и в отделении первой помощи. Затем ей поставили диагноз «эпилепсия». Веря во все это, она скорее всего ожидала следующего припадка. Шерон была напуганной и встревоженной. Она все время искала у себя симптомы и надумала себе болезнь.
Диссоциативные конвульсии могут случиться по разным причинам: они могут быть реакцией на сексуальное насилие, потерю любимого человека, сильный стресс, безвыходную ситуацию.
– Думаю, в первый раз вы просто упали в обморок. Такое часто случается в метро, и то, что вы испытали, в том числе потемнение перед глазами, весьма характерно для обморока. Я допускаю, что с этого все и началось.
– Ей сказали, что это был припадок. Медсестра на платформе видела, как она билась в конвульсиях, и сообщила об этом парамедикам.
– Я понимаю, но люди довольно часто путают обморок с припадком. Люди гораздо чаще бьются в конвульсиях во время обморока, чем многие полагают.
Исследование, проведенное в 1994 году, подтвердило это. Ученые вызывали обмороки у здоровых людей и записывали процесс на видео. У большинства людей, потерявших сознание, были выраженные конвульсивные движения. Обморок происходит, когда у человека падает кровяное давление. Из-за нехватки кислорода в мозге человек теряет сознание, в результате чего он часто падает на пол. В этой позиции его голова опущена, что позволяет кровяному давлению прийти в норму. Приток крови в мозг, а вместе с ней и кислорода, восстанавливается. Однако если человек, потеряв сознание, сохраняет вертикальное положение, кровяному давлению требуется больше времени, чтобы нормализоваться, и обморок затягивается. Из-за других пассажиров Шерон продолжила стоять, потеряв сознание в метро. В результате обморок был очень тяжелым, и она очнулась на холодной платформе в окружении незнакомцев. Я полагала, что тот обморок послужил шаблоном для последующих. Одно могло непреднамеренно повлечь за собой другое: она потеряла сознание; это ее напугало; она стала тревожиться, что может снова упасть в обморок; это произошло; ей сказали, что у нее эпилепсия; ее тревожность усилилась, и так далее.
– В чем, по вашему мнению, причина того, что припадки стали происходить снова и снова? – спросила я Шерон.
Меня удивило отсутствие заинтересованности с ее стороны, когда я сказала, что диагноз скорее всего ошибочный. Может, она что-то подозревала?
– Вы здесь врач. Что я должна сказать по этому поводу?
Шерон поставила крест на разговоре. Я продолжила обсуждать диагноз, но она и ее родители реагировали полным молчанием. Я решила дать им обсудить это друг с другом, а также попросила медсестру, специализирующуюся на эпилепсии, позднее побеседовать с Шерон. Медсестра была более нейтральной фигурой, чем я. Все вышло так, как я и ожидала. Со мной Шерон была холодна, в то время как в беседе с медсестрой она выплеснула всю свою ярость. Ее не расстраивал первоначальный диагноз, но она была страшно разозлена тем, что поставила ей я.
Люди гораздо чаще бьются в конвульсиях во время обморока, чем многие полагают.
– Она сказала, что предпочла бы иметь эпилепсию, – сообщила мне медсестра.
Я была не удивлена. Эпилепсия – это заболевание, которое относительно легко понять. Сам больной не в силах ее контролировать. Эпилепсию лечат таблетками. От диссоциативных конвульсий избавиться сложнее, и так же непросто найти причину их появления.
Я направила Шерон к нейропсихиатру. Она нехотя на это согласилась. Их встреча расстроила Шерон еще сильнее и не принесла никаких плодов. Нейропсихиатр сообщил мне, что Шерон была не в состоянии быстро справиться с шоком от нового диагноза. Он сказал, что попытается встретиться с ней еще раз и надеется, что со временем она станет более восприимчивой. Так как я отменила все противоэпилептические препараты для Шерон, ей было необходимо провести еще некоторое время в больнице под наблюдением.
– Ей все еще очень тяжело, – сказала мне медсестра. – И она вас ненавидит!
Я поговорила с Шерон снова. С ней была ее мать.
– Однажды, когда она попала в больницу, ей сообщили, что у нее очень низкий уровень сахара в крови, – сказала мать Шерон. – Пусть у нее нет эпилепсии, но разве не нужно обследовать ее на это? Еще мой муж разговаривал со своим другом-врачом, и тот сказал, что ей необходима консультация кардиолога.
Шерон и ее семье было сложно принять новый диагноз, поэтому они искали «более существенное» объяснение ее припадкам. Я заверила их в том, что кардиограмма Шерон была абсолютно нормальной во время всех приступов. Медсестры проверяли уровень сахара в ее крови, и он тоже был нормальным. Однако все это не имело никакого значения, потому что мозговые волны Шерон уже сказали мне правду. Проблемы с сердцем или низкий уровень сахара в крови изменили бы волны на ЭЭГ. Но никаких изменений не было. Я объяснила все это еще раз. Она должна была понять, что диагноз не был безосновательным.
– Я почувствовала себя лучше, когда мне сообщили, что у меня эпилепсия, – сказала мне Шерон.
– Но у вас продолжаются припадки, здесь ничего не изменилось. Изменилась лишь их причина.
– Да, но в случае с эпилепсией мне было бы ясно, почему они происходят.
– Это и сейчас ясно, просто причина другая.
В течение пяти лет Шерон постоянно повторяли, что у нее эпилепсия. Почему она вдруг должна была поверить в то, что говорю я?
– Думаю, у вас есть все основания для того, чтобы сомневаться в диагнозе, – сказала я ей. – Несколько врачей говорили вам, что у вас эпилепсия, а теперь кто-то, кого вы недавно встретили, утверждает, что диагноз неверный.
– Почему я должна вам верить?
– Не должны, конечно. Но могли бы вы хотя бы признать, что ни один из противоэпилептических препаратов, что вы принимали, не оказал длительного эффекта? Вы можете продолжать пробовать и другие лекарства, но до настоящего момента они не решили проблему. Пять лет вы пили таблетки, и они не помогли. Можете ли вы подумать об этом хотя бы недолго?
– Я не хочу снова идти к психиатру.
– Если бы я сказала, что у вас эпилепсия, и предложила еще одно лекарство, вы бы его попробовали?
Шерон не ответила, поэтому я продолжила:
– Если вы хотели продолжать пробовать новые лекарства, несмотря на то что первые шесть не помогли, не могли бы вы не отказываться от психиатрической помощи, ведь нам тоже неизвестно, какой эффект она окажет?
Какое-то время Шерон молчала. Затем она пожала плечами, что я расценила как прохладное согласие.
– Из всех врачей, дававших вам советы, я единственный, кто действительно видел ваши припадки.
– Это правда, Шер, – сказала ее мать.
Впервые кто-то из членов ее семьи со мной согласился. Это уже казалось мне прогрессом. Шерон сказала, что попробует новую стратегию в течение нескольких месяцев.
Ситуация Шерон вовсе не является нетипичной. Традиционно диссоциативные конвульсии считаются психическим заболеванием, а эпилепсия – неврологическим. По этой причине таких людей, как Шерон, выписывали из неврологических клиник сразу после постановки диагноза. Однако из-за отсутствия хороших лечебных учреждений многие из этих людей чувствовали себя брошенными.
Декарт разделял тело и душу, считая, что одно может существовать без другого. Сегодня редко можно встретить человека, который поддерживал бы эту идею.
Очевидно, что разум и мозг неразрывно связаны и влияют друг на друга. Тем не менее сохранять в этом уверенность сложно, когда сталкиваешься с взаимодействием мозга и разума на практике.
Органические заболевания считаются «настоящими», а психосоматические, как, например, у Шерон, – менее «настоящими» и достойными внимания. Человек, чьи ноги парализованы из-за травмы позвоночника, почему-то считается «более больным», чем человек с психосоматическим параличом ног. Но разумеется, если никто из них не может ходить, то они «больны в равной степени». Общество определяет, насколько болен человек, основываясь не на тяжести его состояния, а на причине его болезни. Именно поэтому Шерон так отреагировала на свой диагноз. Она понимала, что ее будут воспринимать иначе все, кому бы она о нем ни рассказала.
Состояние нашего разума – это состояние нашего мозга. Оно создается в ходе биологических процессов. Разум существует среди переменчивых связей между анатомическими областями мозга, которые контролируют память, восприятие, воображение, мысли, эмоции, ум и убеждения. Разум неосязаем и сложен для объяснения, но он реален, как и болезни, которые им порождаются.
Шерон снова встретилась с нейропсихиатром и согласилась на когнитивно-поведенческую терапию. Человек, у которого случился первый эпилептический припадок, попадает к специалисту в течение двух недель. Человек с диссоциативными приступами может ждать приема месяцами. В случае с Шерон понадобилось три месяца. Это мало. За это время произошло нечто очень интересное: количество припадков сократилось с трех в неделю до одного в месяц. Лечения никакого не было. Улучшение было спонтанным.
Разум неосязаем и сложен для объяснения, но он реален, как и болезни, которые им порождаются.
Несколько медицинских исследований продемонстрировали такой же феномен. Объяснение диагноза способно излечить многих людей с диссоциативными конвульсиями. Отказ от чрезмерного числа медицинских вмешательств снижает уровень стресса и снимает фокус с припадков. Если каждое утро вы будете думать о головной боли, то велика вероятность, что в какой-то момент у вас заболит голова. Шерон стало лучше без лечения.
Однако проблема не была целиком решена. У Шерон произошел припадок, который никак не заканчивался. Ее семья вызвала «Скорую помощь». Ее отвезли в отделение первой помощи местной больницы. С согласия Шерон я написала ее терапевту. Я рассказала ему о диагнозе и предупредила, что в случае поступления в больницу с припадком ее следует лечить не лекарствами, а симптоматической терапией. На практике это оказалось сложным для врачей. Когда припадок продлился час и не остановился, мне позвонил терапевт и по моей просьбе прислал видеозапись приступа. Припадок был таким же, как в отделении видеотелеметрии, и определенно был диссоциативным. Я порекомендовала врачам наблюдать и ждать. Через час Шерон сидела на больничной каталке и просилась домой.
Это был поворотный момент. Очнувшись в отделении первой помощи, а не интенсивной терапии, она ощутила радость и веру. От когнитивно-поведенческой терапии, которая началась на несколько недель позднее, ей стало значительно лучше. Она начала распознавать крошечные предупреждающие сигналы, предшествующие припадку. Нейропсихиатр научил ее техникам, способным предотвратить развитие приступа. Они работали не всегда, но часто.
– Поверить не могу, что это работает, – сказала Шерон, когда ее отношение ко мне наконец улучшилось. – Иногда я не могу целиком предотвратить конвульсии, но у меня получается избегать потери сознания. Я даже могу ограничить конвульсии ног, выполняя определенные движения руками. Если я сижу за столом, люди вокруг могут даже ничего не заметить.
Пусть медленно, но Шерон выздоравливала. Я даже не знала, в чем крылась причина ее болезни. Я искала ее. Нейропсихиатр и терапевт тоже. Мне стали видны новые стороны жизни Шерон. Я поняла, что она не умела выражать свои душевные переживания. С раннего детства ее учили стойко переживать сложные времена. Я допускала, что припадки были для Шерон способом проявить свои чувства и попросить о помощи.
Объяснение диагноза способно излечить многих людей с диссоциативными конвульсиями.
Это, разумеется, лишь догадки. Однако неврологи – специалисты по догадкам. При эпилепсии и диссоциативных конвульсиях мы чаще всего вынуждены угадывать причину припадков. Всегда интересно наблюдать за тем, как легко люди мирятся с неуверенностью в случае органических заболеваний и как они не приемлют ее, когда речь идет о психических заболеваниях.
6. Огэст
Из пепла боли и стыда Я поднимусь. «Я поднимусь», Майя Энджелоу– Звонил полицейский и просил вас перезвонить ему, – сказала мне секретарь, когда я заглянула в клинику. – Это по поводу Огэст. Похоже, ее арестовали.
– О нет… Бедная Огэст.
У меня сердце ушло в пятки. Я ожидала этого момента, но надеялась, что он никогда не наступит.
– Я знала, что вы расстроитесь. Она ваша любимица, не так ли? – по-доброму сказала секретарь.
Я рассмеялась.
– По крайней мере в первой десятке!
Как у родителей не должно быть любимого ребенка, так и у врача не должно быть любимого пациента. Тем не менее наблюдения моего секретаря были верны. Мне очень нравилась Огэст. Я знала ее давно. Она была забавной и храброй, и я восхищалась ей. Вначале наши отношения вовсе не были такими дружескими, мы стали относиться друг к другу теплее со временем.
Огэст была умной, смелой женщиной, которая никогда ни на кого не равнялась. Ее история началась на школьной площадке. Ей было шестнадцать. Огэст стояла там, где все подростки обычно собирались во время большой перемены. Она поставила ногу на ограду и общалась с друзьями. Был обыкновенный день, но вдруг произошло нечто странное. Огэст внезапно перестала говорить. Она неловко убрала ногу с ограды, чуть не упав, а затем побежала. Повернувшись спиной к друзьям, она понеслась по бетонированной площадке и остановилась только у дальнего забора. Все, кто стоял неподалеку, смотрели на нее. Их смутило не то, что она бежала, а то, как она бездумно расталкивала всех, кто стоял у нее на пути.
Друзья, с которыми разговаривала Огэст, решили, что она из-за чего-то расстроилась, но не могли догадаться, из-за чего именно. Сама Огэст понятия не имела, почему она вдруг начала бежать с такой скоростью. Много лет спустя я спросила ее, что она тогда чувствовала и как она могла бы объяснить произошедшее. Она сказала, что не помнит точно, и предположила, что тогда она просто сделала вид, что ничего не произошло. Скорее всего так и было. Огэст, которую я знала, была невероятно горделива, и я вполне представляла, как она притворилась, будто ничего особенного не случилось.
За тем случаем ничего не последовало. Все списали на поведение подростка, который ищет внимания. К сожалению, вскоре после этого Огэст начала регулярно бегать по классу, двору и игровой площадке. Она могла ни с того ни с сего встать во время урока и выбежать из класса. Или во время урока физкультуры она бегала по полю, не обращая внимания на окружающих.
Эту проблему изначально не рассматривали как медицинскую. Все решили, что Огэст просто слишком волнуется из-за экзаменов. Она была амбициозной девушкой и предъявляла к себе высокие требования. Ее матери сообщили, что Огэст порекомендовали обратиться за помощью к школьному психологу. По мнению психолога, она просто переживала из-за экзаменов, что вполне типично. Их беседы с Огэст постепенно зашли в тупик, а затем и вовсе прекратились.
Огэст могла смотреть телевизор, завтракать или разговаривать с семьей, а затем вдруг встать и выбежать из комнаты.
Тем не менее привычка Огэст внезапно вставать и убегать не исчезла, а только усугубилась. Поначалу мать Огэст во всем винила школу, так как только там у ее дочери возникала потребность в беге. Однако через некоторое время Огэст стала делать то же самое дома. Она могла смотреть телевизор, завтракать или разговаривать с семьей, а затем вдруг встать и выбежать из комнаты. Видя, что это случается и дома, ее мать поняла, что дело не в поведении встревоженного подростка. Она отвела дочь к врачу, хоть та и противилась.
Врач обсудила ситуацию с Огэст и ее матерью. Она начала искать источники стресса в жизни девочки и обнаружила несколько. Не так давно Огэст стала свидетелем несчастного случая, в результате которого ее подруга получила травмы. Врач предположила, что это могло навредить ее психике. Возможно, она не могла внутренне смириться с увиденным и выражала свои чувства поведением.
Огэст направили к психиатру, которая сделала вывод, что у девочки нет психических проблем. Огэст и ее семья согласились с этим. В итоге они оказались загнанными в угол. Огэст понятия не имела, что с ней происходит. В школе считали, что это поведенческая проблема, но не знали, с чем ее связать. Педиатр согласился с тем, что дело не в психическом заболевании, но не знал, что делать дальше. Тем временем проблема только усугублялась. Огэст чувствовала себя крайне беззащитной, и это тревожило ее все сильнее. Она начала отставать в учебе, и возвращаться в класс ей с каждым разом становилось тяжелее. В итоге она перестала ходить в школу.
Ситуация достигла поворотного момента, когда во время прогулки с матерью Огэст неожиданно выбежала на оживленную проезжую часть. Ее чудом не сбил автобус. Мать и брат Огэст отвезли ее в больницу, где они настояли на проведении обследования.
Результаты тестов могут быть нормальными даже при наличии серьезного заболевания мозга.
Могу представить себе озадаченность врача, который в тот день встретился с Огэст. Ему было нелегко решить, что делать. О внезапном беге без видимой на то причины в учебниках не говорится. Он, сам или по рекомендации старшего коллеги, связался с неврологом.
Услышав историю Огэст, невролог решил, что эпилепсия может быть вполне вероятна. Он обратил внимание на то, что Огэст почти ничего не помнила о произошедшем. Бег продолжался недолго. В остальное время Огэст чувствовала себя вполне неплохо. Все это могло быть объяснено электрическими разрядами в мозге. Невролог назначил ряд тестов. Как это часто бывает, результаты были нормальными. МРТ и ЭЭГ свидетельствовали о том, что мозг здоров. Так как неврологи понимают, что результаты тестов могут быть нормальными даже при наличии серьезного заболевания мозга, врач назначил Огэст лечение от эпилепсии. Спустя год и три приема противоэпилептических препарата Огэст не стало лучше.
К тому времени прошло уже восемнадцать месяцев с начала приступов бега. Отсутствие результатов лечения заставило всех сомневаться в диагнозе. Огэст снова направили к психиатру, а затем опять к неврологу. В течение следующих нескольких лет она ходила от невролога к психиатру, от психиатра к психологу, от психолога к терапевту. Диагноз пересматривали, меняли, а затем признавали верным предыдущий. Все соглашались с тем, что у Огэст серьезная проблема, но ничьи усилия не приносили результатов. Короткое время рассматривался диагноз «синдром дефицита внимания», однако терапевт счел его невозможным. В итоге ее приступы назвали паническими атаками и припадками, но лечение никак не изменило состояние Огэст.
Я впервые услышала историю Огэст, когда ей было чуть за двадцать. Адель, специализирующаяся на эпилепсии медсестра, с которой я работаю, ходила к Огэст в отделение первой помощи другой больницы. Она спросила, смогу ли я поместить Огэст в отделение видеотелеметрии, чтобы попытаться определиться с диагнозом.
Когда я впервые встретила Огэст, она сидела в комнате наблюдения в отделении видеотелеметрии. Когда я вошла, она агрессивно листала журнал. Она определенно выглядела недовольной. За последние несколько лет Огэст побывала в таком огромном количестве больниц, что утратила веру в позитивный исход очередного медицинского вмешательства. Только из-за доверия к Адель она согласилась поступить в отделение.
Я представилась и попросила ее описать мне приступы бега.
– Я просто начинаю бегать, как ненормальная, – сказала она.
– Вы чувствуете, когда это должно случиться? Вы понимаете, что происходит, пока бежите? – спросила я.
Я видела, что каждый вопрос раздражает ее все сильнее. Несмотря на это, я продолжила их задавать.
– Вы не можете прочитать об этом в карте? Адель обо всем известно.
Огэст определенно считала Адель человеком, которому можно доверять.
– Адель все рассказала мне о вас, но, поскольку мы никогда раньше не виделись, я бы хотела удостовериться в том, что правильно понимаю проблему.
– Я бегу. Что еще вам нужно знать?
Я задумалась над тем, скольким врачам она все это рассказывала. Дюжине?
– Когда вы перестаете бежать, то понимаете, где находитесь?
– Сколько еще раз мне нужно повторить, что я понятия не имею о том, что происходит?
– Простите. Я просто пытаюсь во всем разобраться.
– Вы мне не верите. Вы думаете, что я делаю это намеренно. Что со мной все в порядке.
– Честное слово, Огэст, я так не думаю. Другой ваш невролог полагает, что у вас эпилепсия, и я подозреваю, что он прав. Я направила вас сюда, чтобы либо подтвердить это, либо найти другую причину.
– Я рассказала вам все. Почему нельзя просто начать видеозапись, чтобы вы все увидели своими глазами? Именно для этого я согласилась прийти сюда, а не ради очередного допроса.
Несмотря на ее раздражение, я хотела продолжить задавать вопросы. Диагноз живет в истории болезни, но я лишь немного знала о проблеме Огэст. Ее настрой свидетельствовал о том, что я рискую совсем потерять ее, если не отступлю. Я решила, что мне так и следует поступить. Огэст должна была пробыть в палате неделю, и это дало бы мне возможность постепенно узнать ее получше.
– Вы правы, – сказала я. – Давайте проведем тест, запишем ваш приступ, а затем поговорим.
Я надеялась, что это приведет к потеплению отношений между нами, однако этого не произошло. Огэст осмотрела свою палату.
– Если вы думаете, что сможете удержать меня здесь во время припадка, то вы просто с ума сошли.
– Прямо за дверью дежурят медсестры, которые будут присматривать за вами. Что бы ни случилось, это не проблема.
– Это все пустая трата времени.
В прошлом она проходила множество тестов, и все результаты были нормальными. Ее опасения по поводу того, что и этот тест будет бесполезным, были небезосновательны.
– Но все же попробовать стоит, как считаете?
Огэст нехотя согласилась. Затем она снова уткнулась носом в журнал, не оставляя мне других вариантов, кроме как уйти.
На следующий день мне позвонила Адель и сообщила, что у Огэст случился припадок.
– Посмотрите запись? Ее не смогли удержать в палате. Думаю, все это обернется катастрофой, – сказала она.
Я посмотрела видеозапись. Она была плохой. Огэст сидела и смотрела телевизор. Справа от нее стоял журнальный столик, который располагался между ней и открытой дверью, ведущей в коридор. Не было никаких предвестников. Никаких симптомов. Когда она начала двигаться, то все произошло так быстро, что она оставалась в поле зрения камеры всего секунду или две. Она встала и побежала направо. Просто побежала. Очень быстро. То, что журнальный столик преграждал ей путь, совершенно не заботило Огэст. Она промчалась так, будто его вовсе не было. Она была уже вне зоны видимости, когда столик прокатился, затем пошатнулся и упал на правый бок. Стоявшая на нем тарелка соскользнула на пол и разбилась. На видео была зафиксирована лишь пустая палата. Действие происходило в других частях отделения.
Пишущее устройство, зафиксированное у нее на талии, было подсоединено к компьютеру на стене палаты. У этого устройства был запасной аккумулятор, так что даже при отсоединении от компьютера оно продолжало записывать мозговые волны. Однако в случае с Огэст ничего не получилось. Запись мозговых волн остановилась, как только она скрылась за дверью. Я нажала «Перемотать вперед», но видела на экране лишь пустую палату.
Все остальное мне описала дежурная медсестра. Сестринский пост был в метре от палаты Огэст. Компьютер, по которому медсестры наблюдали за пациентами, стоял там. К сожалению, Огэст выбежала так быстро и неожиданно, что медсестрам понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Огэст уже почти пробежала через двойные двери, ведущие из отделения на лестницу, когда медсестры ее поймали. Позднее они рассказали мне, что она была очень расстроена, когда они ее там задержали. Она начала настаивать на том, чтобы ее отпустили домой. Им пришлось ласково уговаривать ее вернуться в палату.
«В чем смысл? – спросила она, рассерженная и расстроенная, у Адель, когда та зашла к ней вскоре после припадка. – Если они не смогут справиться со мной и я причиню себе вред, то в чем смысл здесь находиться? Дома безопаснее».
Я посмотрела на запись ЭЭГ. Действительно, в чем был смысл? Первые несколько секунд, прежде чем кабель отсоединился, мозговые волны были в норме. На видео я не увидела ничего, кроме выбегающей из комнаты женщины. Адель убедила ее дать нам еще один шанс. Медсестры заменили кабель, и мы начали сначала.
Медсестры подготовились ко второму припадку. Промежуток между приступами обычно был маленьким, так что мы ожидали еще один в ближайшее время. Кресло Огэст поставили как можно дальше от двери: так ей понадобилось бы больше времени, чтобы выбежать из комнаты. С Огэст дежурила медсестра-студентка. Она была готова к тому, что пациентка может сорваться с места. Когда это произошло, медсестра первая оказалась у двери и заперла ее, так что они обе остались в палате.
Огэст напоминала серебристый шарик в пинболе, который катается от цели к цели.
Внезапно Огэст было некуда бежать. Она изменила направление и врезалась в стену. Это ее не остановило. Она побежала назад к окну. Там ей снова перегородила путь медсестра, после чего Огэст повернула налево и пробежала короткую дистанцию в этом направлении. Столик был поставлен в левый угол, чтобы Огэст опять его не опрокинула. Она наткнулась на него, снова повернулась, пробежала немного и повернулась в последний раз. Она остановилась у столика и заползла под него. К ней подошла медсестра, но Огэст сделала угрожающий жест рукой, будто хотела предупредить, чтобы она не подходила. Прошло несколько секунд, а Огэст все еще сидела в углу. Столик раскачивался над ней. Медсестра-студентка нажала на кнопку, после чего прибежали две старшие медсестры. К моменту их появления в палате все закончилось. Огэст пришла в себя. Она встала, отряхнулась, поправила одежду и села на кровать. Создавалось впечатление, будто очнуться на полу под столом – это абсолютно нормально. Медсестры сразу стали задавать ей вопросы, чтобы оценить, насколько она в сознании и как хорошо может говорить. Огэст отвечала резковато, но точно.
«Теперь вы все видели? Можно мне домой?» – спросила она.
Сколько бы видеозаписей припадков я ни просматривала, я всегда буду видеть что-то необычное. Этот приступ был для меня абсолютно новым, и ни у кого, кроме Огэст, я ничего подобного не наблюдала. Огэст напоминала серебристый шарик в пинболе, который катается от цели к цели.
Я посмотрела на мозговые волны своей пациентки. Расшифровать их было тяжело. Огэст так неистово бегала, что изолированные провода, свисающие по ее спине, раскачиваясь, смещали электроды на коже ее головы. Из-за этого запись была нечеткой. Когда мозговые волны были видны, в них не было однозначных отклонений от нормы. Если в мозге Огэст и был электрический разряд, то я его нигде не наблюдала. К тому моменту, как она перестала бегать и расслабилась, мозговые волны стали четко видны, но припадок уже завершился.
Пожалуй, мне пора стать откровеннее, чем я была до этого. У вас, возможно, сложилось впечатление, что электрическая карта мозга надежнее и точнее, чем есть на самом деле. Идея, что можно проследить любую электрическую активность внутри мозга, просто обклеив голову металлическими пластинами, должна восприниматься скептически с самого начала. В конце концов, между электродами и мозгом лежат череп, волосы и мышцы. В мышцах тоже формируется электрическая активность, которая создает маскирующий шум на рисунке мозговых волн. Если человек будет ритмично щелкать языком во время ЭЭГ, то по его мозговым волнам можно будет подумать, что у него припадок. Электроды электроэнцефалографа не могут определить, откуда исходит электрическая активность, которую они фиксируют, – из мозга или откуда-либо еще.
Смотреть на волны ЭЭГ – это как наблюдать за Луной в облачную ночь и надеяться, что вы видите достаточно, чтобы делать выводы о происходящем на ее поверхности.
Более того, электрическая активность мозга имеет очень низкую амплитуду. Целых шесть квадратных сантиметров коры мозга должны быть вовлечены в синхронные электрические разряды, чтобы это отразилось на ЭЭГ. Маленькие разряды, возникающие в крошечных областях коры мозга, часто нельзя определить через кожу головы. Разряд, исходящий из глубинных отделов мозга, тоже нередко остается незамеченным. Что уж говорить о внутренней поверхности мозга, которая целиком спрятана из виду. Смотреть на волны ЭЭГ – это как наблюдать за Луной в облачную ночь и надеяться, что вы видите достаточно, чтобы делать выводы о происходящем на ее поверхности.
Проще всего зафиксировать то, что происходит в височных долях, боковых отделов головного мозга. Лобные доли имеют большой объем и сформированы множеством извилин, активность внутри которых не улавливается на поверхности кожи головы. У них есть срединная и внутренняя части, которые тоже скрыты из виду.
То, что в мозге Огэст не был зафиксирован разряд, не исключало вероятность припадка. В отличие от охватывающего весь мозг генерализованного разряда, который запишет всего один электрод, расположенный практически на любой части кожи головы, фокальный разряд можно обнаружить только в том случае, если он будет виден на поверхностной ЭЭГ.
Чтобы поставить диагноз, я опиралась на видеозапись и формальную симптоматологию припадков. В случае с эпилепсией врачи делают выводы по двум категориям мозговых карт. На картах первой категории продемонстрирована функциональная анатомия здорового мозга. Вторая категория – это карты семиологии припадков. Семиология припадков – это клиническая дисциплина, которая учит неврологов распознавать элементы языка приступов.
Неконтролируемые движения обычно связывают с патологиями в лобных долях.
Для по-настоящему непредсказуемых и разнообразных симптомов, проявляющихся во время припадка, есть подсказки. На протяжении десятилетий врачи наблюдали за пациентами во время приступов. Связав каждый симптом с определенной мозговой патологией, они стали иметь более полное представление о том, какая часть мозга повреждена при том или ином симптомее. Тот же принцип, каким руководствовались Джексон и Пенфилд: учиться на пациентах. Только сейчас наблюдают за большим числом пациентов, а для распространения информации существует Интернет.
На семиологических картах нет данных о неконтролируемом беге. Подобно мурашкам и семи гномам бег в неопределенном направлении – это слишком специфичный симптом, чтобы он мог быть упомянут в стандартном списке симптомов эпилепсии. Однако известно много клинических случаев, когда пациенты совершали другие неконтролируемые движения, например неистово пинались, вращали ногами и танцевали. Такие движения обычно связывают с патологиями в лобных долях. Припадки такого рода называются гиперкинетическими.
Большинство движений непростые: так, чтобы отбить теннисный мяч, нам нужно знать, где он, где находится наша рука, под каким углом держать ракетку, насколько сильно ударять.
Лобные доли – самые большие доли мозга. Они включают в себя множество крайне важных функциональных областей. Среди них есть те, что отвечают за двигательный контроль. Кортикальный гомункулус демонстрирует первичную моторную кору, обнаруженную Пенфилдом. Она соответствует четвертому полю Бродмана. Нейростимуляция первичной моторной коры – как искусственная, так и возникающая в ходе припадка – вызывает простое движение, например напряжение или ритмичное подергивание соответствующей части тела. Как и первичная зрительная кора, первичная моторная кора отвечает за наименее сложный аспект движения.
Большинство движений непростые. Они зависят от нашего понимания своего положения в пространстве, цели движения и мышц, сокращение которых необходимо для достижения цели. Так, чтобы отбить теннисный мяч, нам нужно знать, где он, где находится наша рука в пространстве, под каким углом держать ракетку, насколько сильно ударять. Недостаточно лишь напрячь мышцы руки. Необходимо скоординировать работу групп мышц, а также удержать равновесие и осанку. Для этого требуется планирование. Первичная моторная кора позволяет нам совершить движение рукой. За его планирование же отвечают другие области коры мозга. А чтобы движение было целенаправленным и изящным, нужны и другие моторные области лобных долей.
Дополнительная моторная (ДМО) и премоторная области располагаются в лобной доле перед первичной моторной корой. Измерение их электрической активности показывает, что они активизируются непосредственно перед физическим выполнением движения. Из этого следует, что ДМО и премоторная область важны для планирования движений. Считается, что премоторная область также играет роль в ориентации в пространстве. Кроме того, она координирует две стороны тела, однако, как именно она это делает, пока остается загадкой. Структуры вне конечного мозга тоже важны, особенно в случае координированной последовательности мышечных сокращений, например при игре в теннис. Взять хотя бы мозжечок, расположенный в задней части мозга. Он необходим для координации движений и процедурной (мышечной) памяти.
Разряд, охватывающий первичную моторную кору, вызывает сокращения локализованных групп мышц. Припадки Огэст проявлялись в виде движения. Но оно совершалось не определенной частью тела, а всем телом. Невозможно отобразить ДМО и премоторную область с помощью маленького гомункулуса. Электрическая стимуляция этих областей приводит к сокращению нескольких групп мышц, а не одной. Учитывая роль лобных долей в совершении сложных движений, можно предположить, что причина припадков Огэст крылась именно в них, хотя на ЭЭГ электрический разряд не прослеживался.
Я обсудила результаты теста с Огэст. Она посмотрела на меня с надеждой. Похоже, ей стало легче. Многие пациенты боятся, что если они поступят в больницу и врач не увидит, что с ними происходит, то он им не поверит. Два припадка, случившиеся в палате, судя по всему, подняли ей настроение.
Прежде чем я рассказала Огэст о нормальных результатах ЭЭГ, я заявила ей о своей уверенности в том, что ее приступы бега – это эпилептические припадки.
– Вы уверены на 100 %?
– Я вполне уверена, быть уверенным на 100 % невозможно.
– Результаты ЭЭГ свидетельствуют об эпилепсии?
– Нет, об этом говорит видео.
– Но мои мозговые волны вам что-то сказали?
– К сожалению, нет. Они никак не помогли.
Я объяснила Огэст основания для такого диагноза. Она выглядела одновременно довольной и расстроенной.
– Я очень хотела, чтобы ЭЭГ дала вам ответ, – сказала она.
– Знаю, но я действительно думаю, что это эпилепсия, хотя на ЭЭГ не видны изменения.
Весь наш разговор был о том, что с ней не так, и мы почти не обсуждали, как можно ей помочь. Я чувствовала, что Огэст отчаянно необходим однозначный ответ, и понимала эту ее потребность. В прошлом ей ставили то панические атаки, то эпилепсию, то опять панические атаки. Ей нужно было продвинуться вперед.
– Вы мне верите? – спросила она.
– Разумеется. Не думаю, что кто-то когда-то сомневался в том, насколько вам плохо, Огэст. Все старались изо всех сил, но не могли вам помочь. Они не знали, что еще сделать.
Я тоже не знала. Огэст попробовала уже три противоэпилептических препарата. Существовал лишь крошечный шанс на то, что любое дополнительное лекарство, которое я бы ей назначила, подействовало бы.
– Все так и останется?
Из-за припадков Огэст не только прекратила учебу, но и не могла работать. Она зависела от своей семьи и большую часть времени проводила дома.
– Честно признаться, Огэст, я не знаю, как устранить ваши приступы. Однако я понимаю, что жить с ними крайне тяжело, и согласна с остальными вашими врачами в том, что необходимо сделать все возможное.
Это было лишь начало долгого и сложного пути для Огэст и меня. Я стала экспериментировать с новыми комбинациями препаратов. Дозировку каждого из них нужно было повышать очень медленно. Для каждого лекарства этот процесс занял как минимум полгода.
Периодически ее эпилепсия вводила нас в заблуждение. Огэст становилось лучше, но результат никогда надолго не закреплялся. Практически каждое лекарство имело какие-то побочные эффекты. Ее вес стал очень нестабильным.
Противоэпилептические препараты часто устраняют припадки, но в то же время разрушают жизнь человека.
Огэст всегда была величава: горделивая осанка, широкие плечи, поразительная красота. Пока не потеряла больше десяти килограммов. Это было шокирующее последствие приема препаратов. Благодаря таблеткам припадки происходили реже, но употребление лекарств привело к нехватке веса, опасной для здоровья. Кожа свисала с костей, а лицо сделалось угловатым.
– Я ужасно выгляжу, – сказала она холодно.
Я видела, что она сдерживает слезы.
– Мне и дальше их принимать?
– Разумеется, нет.
Противоэпилептические препараты часто устраняют припадки, но в то же время разрушают жизнь человека. Я быстро заменила то лекарство другим. Через год Огэст восстановила прежний вес, а еще через полгода стала полной. Еще один препарат – еще один побочный эффект.
– Моя одежда мне не подходит, а новую я не могу себе позволить. Я выгляжу жутко, – пожаловалась она мне.
Я боялась, что Огэст сдастся. Мне бы очень этого не хотелось. Она всегда была готова бороться. Но она пережила так много, что начала уставать.
– Мне надоело объясняться, – однажды сказала она мне.
Бег Огэст был бескомпромиссным и опасным. Она бегала быстро и бессознательно, причем никакого предчувствия у нее не появлялось. Она не обращала внимания на машины, бордюры и чайники с кипящей водой.
Иногда Огэст могла понять, что у нее случился припадок, только по травме. «Я встаю и понимаю, что не могу идти, потому что у меня опухла лодыжка или болит колено, а я не знаю почему», – делилась она со мной. Но хотя бы дома она могла контролировать свое окружение.
Однажды у Огэст произошел припадок, когда она ехала в автобусе. Она помнила лишь то, как зашла в автобус и заняла место в его задней части. Через несколько секунд, будто ее телепортировали с помощью черной магии, она сидела в незнакомой гостиной в окружении большой азиатской семьи.
В действительности же Огэст внезапно вскочила, подбежала к двери и выбежала из автобуса. Было непонятно, автобус остановился согласно маршруту или ради нее. Оказавшись на улице, она пробежала несколько метров и завернула в чей-то сад. Затем она открыла дверь незнакомого дома и забежала внутрь. Уже там Огэст очнулась, сидя на диване; на нее смотрело множество удивленных глаз.
Семья отнеслась к ней по-доброму. Те люди отреагировали гораздо спокойнее, чем отреагировала бы я, если бы в мой дом вот так вбежал незнакомец. Они помогли ей добраться домой: Огэст оставила сумку с кошельком и телефоном в автобусе, поэтому сделать это самостоятельно было бы для нее проблемой.
Она зашла в автобус и через несколько секунд, будто ее телепортировали с помощью черной магии, она сидела в незнакомой гостиной в окружении большой азиатской семьи.
Огэст не знала, что, пока она принимала помощь одних незнакомцев, другая незнакомка позаботилась о забытых ею вещах. Та женщина видела, как Огэст резко выбежала, и заметила оставленную ею сумку. Она нашла телефон матери девушки и позвонила ей. Этот звонок напугал мать Огэст. Она почувствовала огромное облегчение, когда через некоторое время с ней связалась дочь и сообщила, что у нее все в порядке. В тот же день женщина из автобуса заехала к матери Огэст и передала ей сумку.
– Она постояла еще какое-то время, после того как вернула мне сумку. Просто стояла и ничего не говорила, – сказала мне мать Огэст и рассмеялась. – Наверное, она ждала вознаграждения.
– Это было мило с ее стороны. Думаю, у нее своих проблем достаточно, – сказала я.
– Мне было нечего дать ей.
– Конечно, я понимаю, и я уверена, что она тоже это поняла.
– Не все люди плохие, – сказала мать Огэст.
– Нет, конечно.
После нескольких подобных случаев Огэст уже неохотно покидала свою квартиру. Ее жизнь стала скучной. Скучной, но относительно безопасной. Если бы только она такой и оставалась… Через пару лет припадки Огэст лишь усугубились.
Поначалу, если дверь и окна были закрыты, она оставалась в квартире, как бы неистово она ни бегала. Она, конечно, врезалась в стены на полной скорости и, придя в себя, обнаруживала синяки и царапины, но могла хотя бы частично контролировать ситуацию. Огэст проверяла, нет ли в квартире слишком опасных препятствий, и избегала таким образом переломов или травм, от которых она не оправилась бы.
Все изменилось, когда Огэст научилась отпирать дверь во время припадка. Однажды она очнулась на улице, хотя, как она помнила, входная дверь была заперта. Из чего Огэст сделала вывод, что сама открыла ее.
Моя задача была защищать Огэст, но, так как я никогда не сталкивалась с подобными пациентами, я не знала, что ей посоветовать. Зато у ее брата было множество идей. Он хотел обить стены чем-то мягким, чтобы она не ударялась. Это сделало бы ее квартиру похожей на обитую войлоком палату в психиатрической больнице. К тому же это было бы слишком уродливо и уныло, так что мы решили отказаться от этой задумки. Затем ее брат предложил привязать Огэст веревкой к чему-нибудь, чтобы она не могла покинуть пределы своей квартиры. Это была крайне опасная затея, поэтому такой вариант мы тоже отмели. В конце концов, специалист по трудотерапии предложил кое-что интересное. Она посоветовала установить замок с меняющимся кодом. Мать меняла код при каждом посещении дочери. Огэст записывала его, но старалась не запоминать, чтобы не ввести неосознанно. Это была прекрасная идея, и она сработала. Мы все вздохнули с облегчением. Однако эпилепсия требует постоянной бдительности, которую обычный человек не в состоянии сохранять. Через какое-то время Огэст снова попала в неприятную ситуацию из-за припадков.
Она жила на третьем этаже многоквартирного дома. У нее были соседи со всех сторон. Огэст перестала покидать квартиру около года назад, так как устала приходить в себя в одиночестве в странных местах. Она боялась, что однажды выбежит на оживленную улицу. Над ней постоянно висела угроза страшного происшествия. Ей было спокойнее дома, и она покидала квартиру только с матерью или с кем-то из друзей.
Квартира Огэст была для нее целым миром, ставшим ловушкой.
С Огэст всегда было весело. Поскольку она была очень общительной, у нее часто бывали гости. Могу себе представить, что думали о ней соседи. Огэст была здоровой на первый взгляд молодой женщиной. Она не работала и целыми днями сидела дома, слушая музыку и принимая гостей. С некоторыми соседями у нее сложились очень напряженные отношения. У Огэст произошла небольшая ссора с соседом сверху, который сильно шумел по ночам. Она попросила его вести себя потише, но он оказался не слишком любезен. Он не знал, а возможно, и не хотел знать, о том, что квартира Огэст – это для нее целый мир, ставший ловушкой.
Как-то к Огэст зашла мать и решила выбросить мусор. Когда мама была рядом, Огэст становилась менее осторожной, ведь с ней был человек, которому она могла безусловно доверять. Никто из них не заволновался, когда мать оставила входную дверь открытой на несколько секунд, пока выбрасывала мусор. Если бы она сделала это в любое другое время в течение недели, никаких проблем не было бы, но именно в тот день и ту минуту у Огэст случился припадок. Ни Огэст, ни ее мать не могли точно рассказать, что произошло далее. Они обе осознали, что случилось, только когда все закончилось. Когда Огэст очнулась, она стояла на тротуаре перед своим домом. Мужчина-сосед стоял прямо перед ней и злобно кричал на нее.
«Я почувствовала его слюну у себя на щеке, – рассказывала мне потом Огэст о произошедшем. – Мне пришлось его оттолкнуть».
Выяснилось, что, когда Огэст бежала, она зацепилась одеждой за коляску с ребенком, которую катил мужчина, и тем самым вырвала ее из его рук. Она протащила коляску несколько метров, пока припадок резко не завершился. Сосед воспринял это как осознанную попытку либо украсть его ребенка, либо навредить ему. Когда Огэст очнулась, она понятия не имела, почему мужчина так зол, и, чувствуя угрозу, оттолкнула его, что он впоследствии расценил как физическое насилие. Огэст была слишком расстроена и напугана, чтобы объясниться. Вызвали полицию.
Она сказала полицейским, что у нее эпилепсия, и через несколько часов они позвонили мне. Я перезвонила. Огэст была в камере. Ее арестовали за физическое насилие и попытку похищения ребенка. На ней не было браслета с информацией о ее заболевании, поэтому полицейским нужно было связаться со мной. Я подтвердила, что у нее эпилепсия, и сообщила, что любая рассказанная ей версия событий скорее всего правдива. Я описала ее припадки и объяснила, что их невозможно контролировать. Не им было решать, виновна ли Огэст, сказал мне полицейский, но предоставленной мной информации было достаточно, чтобы ее отпустить. Однако ей все равно было предъявлено обвинение.
Я подождала несколько часов и позвонила Огэст. Она не ответила. Через два дня мне позвонила ее встревоженная и расстроенная мать и сказала, что ее дочь слишком рассержена, чтобы общаться с кем-то. Зная о гордости Огэст, я этому не удивилась. Ее мать молила меня о помощи. Я пригласила их на прием.
Огэст зашла в мой кабинет с хмурым видом. Прежде чем я успела задать вопрос, она начала говорить. Она уже устала объясняться и не хотела просить прощения за то, в чем не была виновата. Она не хотела постоянно обращаться за помощью.
– Я знаю, что все произошедшее не было вашей виной, – сказала я. – Я уверена, что в полиции тоже это понимают. Но нам нужно обсудить это, чтобы я смогла помочь.
– Дело не в полиции, а в соседе, – уточнила ее мать. – Полицейские рассказали ему об эпилепсии, а он ответил, что ему все равно. Он хочет судиться.
– Меня хотят выгнать из квартиры, – сказала Огэст.
– Так и есть, – подтвердила ее мать.
Я пообещала поддержать Огэст и снова позвонила в полицию. Полицейские сказали, что, хотя их вполне устраивали эти объяснения, пострадавший настаивал на продолжении дела, так что их руки были связаны. Они попросили меня написать медицинское заключение. Я записала на диктофон срочное письмо и отдала его своему секретарю на печать.
– Судя по голосу, вы очень рассердились, – сказала мне секретарь, когда принесла напечатанное письмо.
Я была в ярости. Я и не ожидала, что сосед сам поймет, что у Огэст случился припадок, но после того, как ему подтвердили это, с его стороны было жестоко продолжать настаивать на наказании. Дом и так стал для Огэст тюрьмой, а теперь она почти не покидала его, боясь встретиться с соседом. С того дня ее окна всегда были занавешены.
– Они хотят, чтобы Огэст съехала с квартиры, – жаловалась ее мать. – И это вместо извинений.
Нарушение миграции нейронов на ком-то никак не сказывается, у кого-то может привести к тяжелым умственным и физическим расстройствам, а у некоторых – к эпилепсии.
Вообще Огэст и сама хотела переехать в более подходящее жилище, однако ей некуда было податься. Мы годами боролись за то, чтобы ее переселили на первый этаж. Мы с родственниками боялись, что однажды она получит серьезные травмы, упав на уродливые бетонные ступени под окнами: она могла выпасть с балкона третьего этажа.
Пришлось на протяжении шести месяцев постоянно писать письма, чтобы с Огэст сняли обвинение. Все это время она практически не выходила из дома. Она с ужасом представляла, что столкнется с соседом. Огэст стала пропускать консультации в клинике. Я начала давать ей их по телефону, чтобы ей не приходилось выходить из дома, если не хотелось.
В какой-то момент я направила ее в больницу на повторное обследование. Я очень волновалась за нее и пыталась найти решение проблемы. Огэст еще раз прошла все тесты, и я надеялась, что это поможет нам продвинуться вперед. Припадки продолжались. Лекарства практически не помогали. Однако новая серия тестов позволила выявить кое-какую патологию.
ЭЭГ Огэст оставалась нормальной, а вот результаты МРТ были плохими. Это было связано не с прогрессированием заболевания, а с улучшением технологии. На снимке были видны рассеянные серые точки в глубине белого вещества, где их быть не должно. Это могло свидетельствовать о нарушении миграции нейронов.
В мозге взрослого человека тела нейронов составляют кору. Под ней находится белое вещество, содержащее аксоны, отростки нейронов, соединяющие одну часть нервной системы с другими. Однако мозг зарождается не так: он развивается в обратном порядке. Серое вещество, или нейронные тела, которое впоследствии составляет кору мозга, формируется изнутри как нейробласты. В первые два месяца после зачатия нейробласты должны переместиться во внешний слой мозга эмбриона, где они становятся нейронами. Иногда процесс миграции нарушается, и скопления серого вещества оказываются не в том месте. Это может по-разному сказаться на человеке. Кому-то это никак не вредит: человек может прожить всю жизнь, не догадываясь об этом. У кого-то это может привести к тяжелым умственным и физическим расстройствам. Бывает, дети с такой проблемой не выживают. А в некоторых случаях это приводит к эпилепсии.
МРТ подтвердила, что у Огэст эпилепсия (будто я когда-то в этом сомневалась!). Это была плохая новость. Нарушение миграции нейронов – генетическое заболевание. У имеющих его женщин часто возникают осложнения во время беременности, и у их детей могут быть серьезные проблемы развития. В этом заключалась еще одна неприятность в жизни Огэст.
Несмотря на все трудности, Огэст продолжала жить. Однако ее жизнь была особенной: она проходила в четырех стенах.
Прошло десять лет, как я встретилась с Огэст, и пять лет, как мы нашли точную причину ее приступов бега. Огэст не могла лечь на операцию, потому что в ее мозге было так много серых областей, что было невозможно понять, какая именно виновна в ее припадках. Она продолжала принимать лекарства, которые не оказывали должного эффекта. Я не чувствовала, что хоть как-то помогла ей. Не помогли ей и тесты, которые я назначала, когда ощущала себя особенно беспомощной. Несмотря на все трудности, Огэст продолжала жить. Однако ее жизнь была особенной: она проходила в четырех стенах.
– Я начинаю бизнес по изготовлению тортов, – сказала она мне недавно. – На днях я уже продала один.
Огэст не могла ходить на работу, поэтому продумывала варианты работы на дому. Она показала мне фотографии прекрасных тортов на свадьбы и дни рождения.
– Это потрясающе, – сказала я. – Вы всегда хотели быть кондитером?
– Нет. В школе я хотела быть врачом.
Врачом. Я была в шоке. Я знала Огэст много лет и понятия не имела, что она об этом мечтала. Все, что она делала, было связано с творчеством. Она красиво рисовала, любила музыку, готовила, создавала цветы из сахарной пасты. Однажды она подарила мне такой цветок, и я до сих пор храню его в вазе на книжной полке. Но разумеется, рисовать, слушать музыку и печь она могла дома. Она адаптировала свои амбиции под жизнь, которую вела.
– Я не знала, что вас интересовала медицина.
– Я очень многое хотела сделать, но так и не сделала, – сказала она. – Мне всегда хотелось путешествовать, но я так ни разу и не летала на самолете.
Естественно, она никогда не выезжала за пределы страны. Она и из квартиры-то почти не выходила. Однако раньше я об этом не задумывалась.
– Куда бы вы хотели поехать?
– Куда угодно. Я хочу в Германию.
– В Германию!
Мы обе засмеялись. Она хотела увидеть весь мир, начиная с Германии. В тот момент это казалось таким забавным. Но с чего начать, если ты никогда нигде не был?
– Я слышала, там хорошо, – сказала она.
– Это правда. Красивые города и сельская местность. Думаю, вам бы понравился Берлин.
В ходе этого разговора я поняла, что не знаю Огэст так хорошо, как мне казалось. Я знала лишь Огэст с эпилепсией, но до нее существовала девушка, которой не нужно было жить в клетке.
– Я записалась на курсы по изготовлению тортов, – сказала она. – До этого я всему училась сама. Но маме придется ходить со мной на все занятия.
Огэст боялась идти туда одна. Ее мать не могла позволить себе тоже ходить на курсы, поэтому ей приходилось просто сидеть у стены и наблюдать.
– Думаю, все сочли нас за сумасшедших, когда увидели, что я везде хожу с мамой, – делилась со мной Огэст. – Затем у меня случился припадок, и я выбежала за дверь. Мама сказала, что все рты пооткрывали от удивления. Они никогда ничего подобного не видели. Мама побежала за мной и привела обратно. Она сказала присутствующим: «Вот поэтому я здесь!» Они сразу замолчали.
– Вы объяснили причину своего побега? – спросила я Огэст.
– Нет. А зачем?
7. Рэй
Мозг глубже, чем моря.
«Мозг шире неба», Эмили ДикинсонМы с Рэем сидели бок о бок в кабинете, где я с медсестрами обычно просматриваю видеозаписи припадков пациентов. Рэй пролежал в отделении видеотелеметрии пять дней. И удачно: за это короткое время у него произошло три припадка. Мы оба были очень довольны. Лекарства никогда не помогали Рэю. От некоторых таблеток ему становилось немного лучше, но ни одни из них значительно не меняли его состояния. Мне нужно было взглянуть на припадки, чтобы понять, применимы ли другие методы лечения.
– Я не уверен, что хочу смотреть на это, – сказал Рэй.
– Это необязательно. Видео никуда не денется. Завтра оно будет здесь же. Вы можете подумать еще немного.
Я записываю на видео как минимум шесть человек в неделю. Тех, кто хочет посмотреть на собственный припадок, можно сосчитать по пальцам одной руки. Я никогда этого до конца не понимала. Большинство людей знают о том, что происходит с ними во время приступа, только со слов родственников. Те, кто все же решается посмотреть видео, часто сильно смущаются. Они извиняются и пытаются объясниться. Припадок невозможно контролировать. Он – результат нарушения работы мозга. Ответственность за него не лежит на пациенте. То, что люди так смущаются при виде своих приступов, свидетельствует о том, что даже они не всегда могут отделить себя от своего заболевания.
Рэй слышал описание своих припадков раз сто. Он попросил посмотреть видеозапись, но нервничал.
– Он страшный?
– Не думаю, что вы увидите нечто неожиданное, – сказала я ему.
– Я боюсь своего взгляда во время припадка, – сказал он.
– Честное слово, вы не увидите ничего, о чем вы не знали до этого. Вряд ли вам будет тяжело смотреть.
Эпилептики часто сильно смущаются при виде своих приступов – даже они не всегда могут отделить себя от своего заболевания.
Рэй полжизни страдал эпилепсией. Как правило, он терял сознание два-три раза в неделю на две-три минуты. В общей сложности менее десяти минут в неделю. Кажется, это так мало, но даже такое количество потерянного времени изменило направление всей его жизни.
– Включайте, – сказал Рэй, и я нажала кнопку «Воспроизвести».
– Расскажите, как вы понимаете, что припадок начинается, – попросила я, пока мотала видеозапись в поисках момента начала приступа.
– На протяжении многих лет я пытался найти слова, чтобы это объяснить. Могу лишь сказать, что он начинается с прекрасного чувства. Прекрасного, но странного. Я в чудесном, чудесном месте. Будто я лежу на облаке и смотрю на всех остальных.
Рэй много об этом думал. Мне казалось, его описание очень четко подходит подо что-то ужасное.
– Когда у меня начинается припадок, я обычно спрашиваю у окружающих, все ли с ними в порядке, – сказал Рэй. – Я чувствую себя настолько хорошо, что начинаю беспокоиться о других. Я знаю, что им никогда не будет так приятно.
Припадок Рэя был вызван обменом ионов и нейромедиаторов в мозге, электрическим током, но он все равно испытывал потребность объяснить свое поведение. Похоже, это помогало ему найти смысл в своих бессознательных действиях.
Когда у меня начинается припадок, я обычно спрашиваю у окружающих, все ли с ними в порядке. Я чувствую себя настолько хорошо, что начинаю беспокоиться о других. Я знаю, что им никогда не будет так приятно.
На экране мы увидели вчерашнюю видеозапись, на которой он сидел в кресле у кровати. Он слегка выпрямился и осмотрел комнату в поисках чего-то.
– Я не мог вспомнить, где кнопка, – сказал Рэй и смущенно засмеялся.
Мы продолжили смотреть на экран. В итоге он обнаружил кнопку вызова медсестры и нажал ее. Тем самым он давал медсестре за дверью понять, что плохо себя чувствует.
– Что вы ощутили после ауры? – спросила я.
– То прекрасное чувство – единственное, что я помню.
Мы снова посмотрели на экран. Прошло пятнадцать секунд, ничего больше не случилось. Затем открылась дверь, и в палату вошла медсестра. Она отреагировала на вызов. Медсестра едва успела закрыть за собой дверь, как Рэй подскочил, словно от удара молнии.
«Отвали!» – закричал он яростно.
Медсестра такого не ожидала и замерла.
«Отвали!» – закричал он снова.
Рэй, сидевший рядом со мной, нервно заерзал. Мы увидели, что медсестра взяла себя в руки.
– Она знает, что это не моя вина? – робко спросил Рэй.
– Конечно. Она видела множество припадков. Она не удивилась.
Но в действительности она выглядела удивленной. То же самое испытывала и я, сидя рядом с ним и смотря запись.
«Вы помните слово «футбол»?» – спросила медсестра и начала подходить к Рэю, стоящему у кресла.
– Я не помню, чтобы она такое говорила, – сказал Рэй, посмотрев на меня и снова на экран.
«У вас припадок, Рэй?» – спросила медсестра.
Мы оба услышали, как он четко ответил: «Не знаю. Возможно».
– Этого я тоже не помню, – сказал мне Рэй.
Иногда во время припадка пациенты отвечают так, будто они целиком находятся в сознании, но сбитый с толку мозг не запоминает сказанное. Люди общаются на автомате, не вкладывая смысла в слова. У меня было множество случаев, когда с пациентом складывался вполне связный разговор во время или сразу после приступа, который пациент впоследствии не помнил.
«Отвали! Отвали!» – закричал Рэй снова.
Затем он набрал побольше слюны и плюнул в медсестру. Та быстро отстранилась. Рэй тут же плюнул еще раз, и она отошла еще дальше.
– Раньше я никогда в нее не плевал, – сказал Рэй.
– Я знаю, не беспокойтесь. Такое иногда происходит во время припадка.
Он продолжил кричать и плеваться. Я убавила звук видео. Мне было неловко. Мы слышали, как медсестра пыталась успокоить Рэя. Она делала это с противоположного конца комнаты, сохраняя дистанцию. Она попросила его назвать свое имя, он не ответил. Она спросила его возраст и адрес. На это Рэй лишь произнес «Вы в порядке?», думая, что ей нехорошо. Затем он продолжил ругаться и плеваться.
По мере развития припадка Рэй начал двигаться по комнате. Вдруг он остановился и прислонился спиной к стене. Очень скоро ругань прекратилась, и он вернулся к креслу. Рэй взял пластиковый стакан, стоявший на прикроватной тумбе, и сделал глоток воды. Затем он поставил стакан на место. Он направился к двери и пропал из виду. Медсестра последовала за ним и, вернув Рэя, осторожно усадила его в кресло. Как только он сел, она взяла стакан с тумбы и спросила Рэя, что это.
«Стакан», – ответил он с озадаченным выражением лица.
Затем медсестра достала из кармана ручку и показала ему.
«Это ручка», – ответил он.
«Вы в порядке, Рэй?» – «Да, – ответил он. – А вы как?» – «Вы знаете, где находитесь?» – «Да». – «Все кончилось?» – «Да». – «Вы понимаете, что у вас случился припадок?» – «Что? Да».
Как только стало ясно, что приступ завершился, медсестра вышла из комнаты и вернулась через пару минут с коллегой. Как только они зашли, Рэй радостно объявил: «Думаю, у меня был припадок!»
«Я знаю. Я была с вами, когда это произошло», – ответила медсестра.
«Правда?!» – Рэй был удивлен. «Да, во время всего припадка». – «Его удалось записать?» – «Да». – Рэй улыбнулся.
Иногда во время припадка пациенты отвечают так, будто находятся в сознании, но сбитый с толку мозг не запоминает сказанное и после приступа пациенты ничего не помнят об этом.
Я остановила видео и сосчитала, сколько в общей сложности длился припадок. Прошло семь секунд с появления приятной ауры до нажатия кнопки. Еще пятнадцать секунд понадобилось на то, чтобы в палату вошла медсестра. Сорок секунд заняли плевки и крики. Тридцать секунд он потратил на то, чтобы осмотреться и выпить воды. Десять секунд ушло на то, что он вышел из палаты и был возвращен медсестрой в кресло. Еще десять понадобилось, чтобы прийти в себя. От начала до конца припадок занял минуту и пятьдесят две секунды.
– Все было не слишком ужасно? – спросил меня Рэй, когда мы закончили просмотр.
– Совсем не ужасно, – заверила я его.
* * *
У Рэя начались припадки в семнадцать лет. Ко мне он пришел в тридцать. Он рассказал мне, как все началось.
– Я готовился к экзаменам, когда стал испытывать это странное чувство. Оно появлялось, только когда я слишком много работал. Я не мог нормально объяснить, что ощущал.
– Вы обратились к врачу?
– Нет. Я сказал маме, и она ответила, что, по ее мнению, у меня эпилепсия. Маме нравится думать, что она понимает в медицине! – засмеялся Рэй.
Тогда его мать оказалась права, но Рэй решил ее не слушать.
– Я понимал, что она может быть права, но я не хотел носить на себе ярлык. Все было нормально. Я справлялся.
Припадки Рэя не сопровождались потерей сознания. Они проявлялись лишь в виде ощущения, и другие люди ничего не замечали. Он не смущался и не был вынужден прерывать свои дела. Но через некоторое время все изменилось. Однажды к странному чувству добавились плевки, крики и смущение. Сначала он не придал этому значения.
– Я все отрицал, – сказал он мне. – Но, когда это продолжило повторяться, я сообщил обо всем матери, и она отвела меня к врачу.
Врач направил его к неврологу. Тот подтвердил диагноз «эпилепсия». Лечение было начато, но Рэю не стало лучше. В диагнозе не было сомнений. Рэя направили ко мне на прием, чтобы обсудить другие варианты лечения, в том числе и операцию.
Эпилепсия разрушает жизнь не только припадками. В результате ее могут пострадать наши личность, ум, темперамент, уверенность в себе и так далее.
– Вас направили ко мне, чтобы обсудить операцию. Вы действительно этого хотите? – спросила я Рэя на нашей первой встрече.
– Не очень! – засмеялся он.
– Хорошо… Но вы вообще рассматриваете этот вариант?
– Думаю, это мне необходимо, но я не уверен. Я хочу рассмотреть этот вариант, несмотря на то что не горю желанием делать операцию. Это нормально?
– Абсолютно. Вы пройдете обследование, и мы решим, каковы шансы на то, что операция вам поможет. Затем вы сами решите, как поступить.
– Моя сестра, которая работает психологом, считает, что мне нужна операция. Моя девушка тоже так думает.
– Решение в любом случае останется за вами. Я убеждена в том, что вам следует пройти обследование. Возможно, его результаты упростят принятие решения.
Когда мы только встретились, у Рэя случался как минимум один припадок в неделю, а иногда два или три. Редко когда за неделю не было ни одного приступа. Рэй – оптимист. Несмотря на их регулярность, он хорошо их переносил. Однажды он сказал мне, что считает себя очень счастливым человеком. Я тоже так считала. Немногие люди могут искренне сказать это о себе. Рэй также сказал, что эпилепсия дорого ему обходится. С этим я тоже была согласна.
Рэй не учился в университете, но все определенно было бы иначе, если бы приступы не начались на поворотном этапе его жизни. Наши личность, ум, темперамент, уверенность в себе подвергаются опасности, когда мы сталкиваемся с заболеванием мозга. Эпилепсия разрушает жизнь не только припадками. Рэй был умен, и его ум не пострадал, однако память стала очень плохой.
Практически все эпилептики имеют проблемы с памятью. Она часто ослабевает в результате припадков: повреждаются части мозга, ответственные за формирование воспоминаний или их извлечение. Негативно повлиять на память могут и патология, которая вызывает приступы, и некоторые противоэпилептические препараты. К тому же припадки нередко зарождаются в лобных долях. А какая бы болезнь там ни таилась, она может привести к эпилепсии и ослаблению памяти. У Рэя не было никаких физических признаков болезни. Его забывчивость и нестабильность приступов мешали ему таким образом, о котором никто из окружающих не догадывался.
– Припадки сильно подорвали мою уверенность в себе, – сказал мне Рэй. – Я не стремлюсь к повышению на работе, поскольку боюсь, что буду в постоянном стрессе, что приведет к учащению приступов. Я боюсь, что просто не справлюсь.
У Рэя однажды случился припадок во время собеседования при приеме на работу. Все шло прекрасно до того момента, как он очнулся и увидел, что интервьюер ушел, а перед ним стоят стакан воды и коробка салфеток.
– Вам, должно быть, страшно приходить в себя после припадка в окружении незнакомцев, – сказала я.
– Честно говоря, я предпочитаю, чтобы приступы происходили, когда я один или рядом люди, которых я больше никогда не встречу. Я ненавижу, когда их свидетелями становятся мои знакомые. Думаю, мне повезло жить в Лондоне. На улицах полно чудаков, которые странно себя ведут! Я среди своих.
Рэй часто оказывался среди незнакомцев во время припадка. Поскольку ему нельзя было водить машину, многие из его приступов случались в общественном транспорте.
– Я сижу в метро и вижу перед собой одних людей, как вдруг на их месте оказываются совершенно другие люди, – рассказал он мне.
«Думаю, мне повезло жить в Лондоне. На улицах полно чудаков, которые странно себя ведут! Я среди своих».
Поскольку Рэй был молодым мужчиной, хорошо сложенным и внешне здоровым, я всегда боялась, что люди сочтут его злым и опасным, когда он начнет плеваться и кричать. Я беспокоилась, что припадок может случиться с ним в ограниченном пространстве, например в полном вагоне метро. Я представляла, что он накричит не на того человека и ввяжется в драку, которую спровоцировал неосознанно.
– То же самое говорит и моя сестра, но такого пока не было, – сказал он.
– Что вы чувствуете, когда приходите в себя и понимаете, что люди все видели?
– Я медленно начинаю осознавать, что что-то произошло. Затем я просто избегаю их взгляда. Я ничего никому не объясняю, если в этом нет необходимости.
– А когда в этом есть необходимость?
– Если кто-то начинает нервничать.
– Такое часто случается? – спросила я.
– Не очень. Однажды мужчина все время спрашивал, чего я от него хочу. Я боялся, что он меня ударит. Думаю, я выяснял, в порядке ли он, и он решил, что ему нужно ответить. Я просто ушел. Обычно так и бывает. Я понимаю, что свидетели моего припадка разойдутся через пять минут и я никогда больше их не увижу, так что какая разница? Однажды за мной увязалась женщина. Она поняла, что у меня случился приступ, и хотела удостовериться, что я в порядке.
Я безуспешно пыталась вообразить, каково это, очнуться после припадка в общественном месте. Я испытывала нечто отдаленно похожее, когда уснула в автобусе. Ужасно просыпаться и думать о том, как ты выглядел во сне. Однако во время сна мы пассивны, а во время припадков активны. Я слышала кошмарные истории от своих пациентов. Пугающие. Грустные. В этом и заключается моя работа: слушать и помогать, когда что-то идет не так.
«Люди часто ругают вас?» – спросила я однажды. Я предполагала, что часто.
«Нет. Обычно они милы, – ответил Рэй. – Они понимают, что со мной не все в порядке, и пытаются помочь».
Мои пациенты оказывались на кухнях и в гостиных незнакомцев. Им возвращали потерянные вещи. Их отвозили домой или сажали в такси. За ними шли по улице, чтобы убедиться, что с ними все нормально. Гораздо больше людей хотят быть добрыми и полезными, чем злыми. Тем не менее достаточно одного менее понимающего человека, чтобы жизнь сразу стала сложнее. Все эпилептики, которых я знаю, сталкивались с таким человеком хотя бы однажды.
Как-то у Рэя случился припадок в книжном магазине. Он стоял и рассматривал книги на полках, когда у него появилось предчувствие. Времени уйти в другое место не было. Он отключился, а когда пришел в себя, уже стоял на тротуаре. Работник магазина держал его за руку. Кто-то заметил, что Рэй выходит из магазина с неоплаченной книгой.
– О нет, мне очень жаль, – сказала я. Я так сочувствовала Рэю.
– Ничего страшного, полицейские были очень милы!
– Они вас арестовали?
– Они посадили меня в машину. Я объяснил, что у меня эпилепсия. Они спросили, есть ли у меня предупреждающий браслет. Он был, но я никогда не носил его.
– Правда? Почему?
– Да бросьте! – засмеялся Рэй.
Я знала почему. Большинство молодых людей не хотят носить предупреждающие браслеты. Я говорю эпилептикам, что они такие же, как все (и это действительно так), а потом прошу надеть браслет, который будет говорить окружающим, что они другие.
– Полицейские вам поверили?
– Они спросили, какие лекарства я принимаю, и, когда я, не задумываясь, ответил, отпустили меня.
– Полагаю, в тот магазин вы больше не возвращались?
– Нет, но я позвонил им на следующий день. Я подумал, что мне нужно извиниться. Владелец магазина страшно разозлился, когда я позвонил. Он мне не поверил. Думаю, он был в ярости, когда полицейские меня отпустили.
Сложнее всего для Рэя было рассказывать новым людям о своем диагнозе: либо он рисковал оказаться в крайне неприятной ситуации, либо к нему начинали относиться иначе.
Я очень хотела, чтобы Рэй перестал извиняться. Меня печалило то, что он чувствовал в этом необходимость. Я ничего ему не сказала. Возможно, ему становилось легче, когда он беседовал с людьми после припадка и те говорили ему, что они не сердятся. Должно быть, он почувствовал себя ужасно, когда владелец книжного магазина поступил иначе.
Хотя Рэй и доказывал мне обратное, я была уверена в том, что реакция незнакомцев была для него важна. Однако сложнее всего для него было рассказывать новым людям о своем диагнозе. Если он решал не сообщать об этом, то рисковал оказаться в крайне неприятной ситуации. А если сообщал, то к нему часто начинали относиться иначе. Это касалось как формальных рабочих отношений, так и дружеских или романтических. С рабочими отношениями дело обстояло проще, так как они регулировались правилами.
«Не сообщайте работодателям о своей проблеме во время собеседования, – говорю я своим пациентам. – Когда вас примут на работу, вам будет необходимо пройти медосмотр, на котором все и выяснится».
Когда Рэю было чуть за двадцать, он устроился в издательство. Он проработал на одной должности много лет. Работа ему нравилась: она была творческой и интересной, а коллеги – приятными и готовы были поддержать его. Она его совершенно не напрягала, что одновременно было плюсом и минусом. Рэй часто говорил, что хочет сменить работу. Коллеги уходили, желая продвигаться по карьерной лестнице. Рэй считал, что он застрял на ее нижних ступенях.
– Я рассказал своему начальнику о припадках, как только получил работу. Он нормально отреагировал, но, впервые став их свидетелем, буквально побелел. Через несколько месяцев, когда мы узнали друг друга получше, он извинился за свой шокированный вид. Он сказал, что много узнал от меня об эпилепсии и благодарен мне за это.
Рэй выглядел очень довольным, когда говорил мне об этом. Я тоже была рада.
Рэй рассказывал о личных отношениях так же легко, как и о рабочих, делая акцент на том, что он учит чему-то людей. Одна из его первых девушек пригласила как-то Рэя на воскресный обед с ее родителями. По закону подлости у него случился припадок во время подачи главного блюда. Он начал плеваться едой и говорить родителям девушки, чтобы они отвалили. Когда он пришел в себя за обеденным столом в окружении шокированных людей, он просто не смог обсуждать с ними произошедшее.
«Прости меня за грубость, но давай свалим отсюда», – сказал он своей девушке.
Он взял куртку и ушел. Девушка последовала за ним.
Сейчас Рэй состоит в длительных отношениях с одной девушкой, и она научилась объясняться за него, когда у Рэя случается припадок в барах, ресторанах или на концертах. Человек с эпилепсией очень зависим от окружающих. Семья следит за его безопасностью и старается минимизировать любые ограничения, которые болезнь накладывает на его жизнь. Девушка Рэя воодушевляет его делать больше, чем ему обычно хочется. Однако он все же отказался идти на свадьбу ее подруги, несмотря на то что девушка Рэя и гости церемонии хотели его там видеть.
– Представьте, я бы начал кричать во время клятв. Это прекрасно смотрелось бы на свадебном видео. «Берете ли вы этого мужчину…» – «ОТВАЛИ!» И огромный плевок прилетает на затылок отца жениха! Не поймите меня неправильно, наши друзья посмеялись бы от души, – объяснил Рэй, – но я не хотел, чтобы вся церемония вращалась вокруг меня. Если бы у меня случился припадок, все вокруг смотрели бы на меня и говорили обо мне.
Думаю, Рэй пришел ко мне проконсультироваться по поводу операции, из-за того что на каждый важный аспект его жизни влияли припадки.
Я еще раз просмотрела результаты его тестов. Томограмма была нормальной. Ни припадки, ни плохая память, ни потеря уверенности в себе не отражались на снимке. Я настояла на его госпитализации для проведения дальнейшего обследования. Возможно, ЭЭГ и психометрическая оценка когнитивных функций помогли бы мне узнать больше о его мозге. Через пять дней мы с Рэем сидели бок о бок и смотрели видеозапись его припадков. Их было три, и мы ознакомились с ними по очереди. Они были идентичными.
– Вам это помогло? – спросил Рэй, когда мы закончили просмотр.
– Да. Конечно, помогло, – ответила я.
* * *
Брань – очень интересный материал для изучения. Она может быть спонтанной и вызванной эмоциями. Может служить средством для расстановки акцентов. Если я попрошу человека, лежащего внутри томографа, выругаться, то у него вряд ли активизируются те же области мозга, какие активизировались бы в случае, когда его на дороге подрезала машина.
Реакцию мозга проще измерить тогда, когда человек слышит ругань. За поиск подходящих слов и беглость речи отвечает центр Брока, находящийся в лобной доле. За понимание речи – область Вернике, расположенная в доминантной (обычно левой) височной доле. Однако, когда человек слышит ругательства, у него активизируется не только область Вернике, но также лимбическая система и островковая доля. Спрятанная глубоко в мозге островковая доля имеет множество связей с лобной и височной долями. Она отвечает за чувство отвращения и реагирует на поведение, выходящее за границы социальных норм. Это может быть не только ругань, но и грамматические ошибки. Область Вернике интерпретирует бранные слова, а лимбическая система и островковая доля отвечают за эмоциональную реакцию. Мозг воспринимает грубые слова не так, как остальные.
Область Вернике интерпретирует бранные слова, а лимбическая система и островковая доля отвечают за эмоциональную реакцию.
В ходе изучения других заболеваний, проявляющихся, в частности, в виде спонтанной ругани (например, синдрома Туретта), выяснилось, что в производстве бранных слов участвуют базальные ганглии (группа нейронов, расположенных глубоко в мозге) и миндалевидное тело. Первые связаны с импульсным контролем, а последнее – с эмоциональным контролем и агрессией. Нарушение работы базальных ганглиев сопровождает многие заболевания, включая болезнь Паркинсона. Она проявляется в виде не только физических симптомов, например замедления движений и тремора, но и нейропсихиатрических (чрезмерная импульсивность и склонность к брани).
Исследования семиологии припадков позволили многое узнать о ругани и плевании. И то и другое – весьма распространенные характеристики эпилептических припадков. Они считаются примерами автоматизмов – непроизвольных действий, возникающих из-за утраты способности мозга к торможению. Если брань неконтролируемая, то отвечающее за речь доминантное полушарие относительно спокойно во время приступа. Следовательно, припадок возникает в недоминантном полушарии (для большинства из нас – в правом). Плевание сложнее понять. Оно более характерно для приступов, зарождающихся в правой височной доле. Почему не в левой, я понятия не имею. У мозга есть свой собственный разум.
Во время припадка Рэй сделал кое-что еще, что на первый взгляд кажется случайностью. Нечто обычное. Он сделал глоток воды. В действительности это еще одна распространенная характеристика эпилептических припадков. Есть множество подобных простых характеристик, которые позволяют определить место зарождения приступов: вытирание носа, кашель, ерзанье, жевание, моргание. Каждая из них, включая питье, обозначает определенную область на семиологической карте мозга. Питье говорит об участии в припадке правой височной доли.
Все знаки указывали на правую височную долю, но, так как томограмма Рэя была в норме, необходимы были дополнительные знаки, чтобы можно было сделать точный вывод. Еще одна подсказка таилась в истории Рэя. Его припадки начинались с «прекрасного чувства». Как-то Рэй описал свои ощущения как экстаз.
Достоевский страдал эпилепсией, и есть свидетельства, что у него были экстатические ауры. Ходят слухи, что они вдохновили его на создание персонажа князя Мышкина из романа «Идиот». Экстатические ауры вызывают припадки, которые порой связывают с религиозными и мистическими переживаниями.
Неврологам всегда нравилось ставить ретроспективные неврологические диагнозы историческим фигурам. В возрасте тринадцати лет Жанна д’Арк видела галлюцинации несколько раз в день. Существует заболевание под названием «синдром Гешвинда», при котором у крайне религиозного человека случаются припадки, берущие начало в височной доле. Так как повышенная религиозность и галлюцинации могут сопровождать приступы, современные исследователи предполагают, что у Жанны д’Арк могла быть эпилепсия. Явление Франциску Ассизскому крылатого существа объясняют точно так же.
Однако для меня прекрасная странная аура Рэя не имела духовного или философского смысла. Она была исключительно анатомическим явлением. Нет единого мнения о том, электрическая стимуляция какой именно части мозга приведет к возникновению такого возвышенного чувства. Тем не менее о некоторых областях мозга в этом контексте говорят чаще, чем об остальных: о медиальной части височной доли и островковой доле.
«Правая височная доля», – подумала я, посмотрев видеозапись приступов Рэя.
Я не могла подкрепить свое предположение результатами МРТ, но все знаки указывали на то, что я права. Я надеялась, что ЭЭГ подтвердит мою теорию.
Я уменьшила окно с видео и взглянула на мозговые волны. Во время первого припадка был виден явный зубчатый рисунок. Активизировались электроды A2, T4 и F8 – треугольник, располагающийся над той частью височной доли, которая наилучшим образом отражает лимбические структуры.
Нужно было изучить мозговые волны, записанные во время второго припадка. И третьего… О нет! Увиденное чуть не заставило меня саму выкрикивать ругательства. Во время этих приступов электрические разряды были именно там, где я не хотела их увидеть: A1, T3, F7. Плевки и ругань выглядели всегда одинаково, однако при первом припадке отклонения от нормы наблюдались в правой височной доле, а при последующих – в левой.
Снимки томографов и электроэнцефалографов – это театр теней: они могут лишь направить врача.
Когда я получала медицинское образование, пациент вроде Рэя с неизвестной причиной эпилепсии и нормальными результатами томографии ни за что не мог рассчитывать на операцию. В то время ЭЭГ записывалась на длинный лист бумаги, и у врача не было возможности управлять данными, после того как она была сделана. Цифровую же запись можно преобразовывать бесконечно. Это позволяет увидеть данные с другими настройками. У МРТ есть два преимущества перед КТ: во-первых, в ходе нее пациент не получает дозу опасной радиации, следовательно, при необходимости ее можно сделать несколько раз; во-вторых, мозг можно рассмотреть по-разному и в разных условиях. Тем не менее эти технологические достижения не всегда позволяют получить верные ответы на вопросы. Данные томографов и электроэнцефалографов могут лишь направить врача. Это все театр теней.
Есть и другие сложности в определении места зарождения припадка. Клинические признаки и результаты ЭЭГ крайне ненадежны. Существуют немые участки мозга. Если электрический разряд зарождается в одном из них, припадок может никак не проявляться до тех пор, пока разряд не переместится в более клинически «шумную» область мозга. Таким образом, симптомы приступа скорее говорят о том, куда разряд распространился, а не о том, где он зародился. То же самое касается и ЭЭГ: если разряд возник в глубинной части мозга, я увижу его на записи только после его выхода на поверхность. Ни один тест в отдельности не является надежным. Чтобы быть уверенным в результатах, нужно, чтобы данные тестов не противоречили друг другу. Однако даже тогда, когда они свидетельствуют об одном и том же, в трети ситуаций они ошибочны. Человек вроде Майи, у которого на снимке четко видно повреждение, которое также подтверждают другие тесты, имеет лишь семидесятипроцентный шанс избавиться от припадков после операции. Это означает, что тесты обманчивы как минимум в 30 % случаев.
Я рассказала Рэю о противоречивости результатов. Хотя все припадки выглядели одинаково, ЭЭГ показала, что один из них зародился в правой височной доле, а два – в левой. Проявления приступа говорили о том, что проблема справа. МРТ не развеяла сомнений.
– То есть мне нельзя делать операцию? – спросил Рэй.
Я не была уверена, действительно ли Рэй расстроен. Мне показалось, он испытал облегчение оттого, что решение за него приняли тесты.
– Это не однозначное нет, – сказала я ему.
О состоянии здоровья мозга могут рассказать приток крови в мозг и использование этим органом глюкозы.
Поскольку работа мозга не сосредоточена на поверхности, врачам часто приходится измерять сразу несколько параметров. Многие тесты не видят мозг как цельную массу, как это делает МРТ, но зато смотрят на него опосредованно.
Мозг получает 15 % объема крови, которую качает сердце. По сложной сети артерий к нему доставляются глюкоза, кислород и питательные вещества. Мозгу требуется три миллилитра кислорода на каждые сто граммов тканей в минуту. Мозг – жадный потребитель глюкозы. Изучив приток крови в мозг и использование глюкозы, можно получить информацию о состоянии здоровья этого органа. Неактивные области требуют меньше кислорода, глюкозы и крови. Во время поиска того, чего не хватает, кажется, что вы смотрите на мозг в свободном пространстве.
– Если вы все еще хотите двигаться дальше, мне надо назначить дополнительные тесты, – сказала я Рэю. – Я предполагаю, в какой именно части мозга проблема, но мне нужно больше доказательств.
Решились бы вы на удаление части мозга после настолько размытого заявления? Рэй согласился на дополнительное обследование. Мы сошлись на том, что тесты нужны лишь для более полного понимания ситуации. Соглашаться на операцию было вовсе не обязательно.
Я направила его на позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), в ходе которой Рэю ввели в вену радиоактивный индикатор на основе глюкозы. Индикатор поступает во все области тела, которые потребляют глюкозу. Сканер распознает радиацию, излучаемую индикатором, и создает цветную карту, на которой видно, где активно используется глюкоза, а где – нет. Любая область мозга, которая кажется относительно затемненной, считается нездоровой тканью. У Рэя был темный участок в правой височной доле.
Затем я направила его на однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ). Во время ОФЭКТ применяется радиоактивный препарат, позволяющий проследить ток крови. ОФЭКТ провели дважды: когда Рэй хорошо себя чувствовал и когда у него был припадок. Это сложная процедура. Для ее успешного проведения необходима медсестра, которая не будет отходить дальше полуметра от пациента, и большая удача. Медсестра должна ввести препарат, как только начинается аура. Во время припадка кровь приливает к электрически активной части мозга – месту зарождения приступа. А вместе с ней туда попадает и препарат. Снимок ОФЭКТ Рэя показал, что источник припадка – правая височная доля.
Мозг Рэя обследовали всеми возможными способами, за исключением разве что вскрытия. Специалисты изучили его структуру, электрическую активность, кровоснабжение, как он использует глюкозу. Мы обсудили результаты тестов Рэя на больничном мультидисциплинарном собрании, и мне стало известно мнение всей команды. Затем я встретилась с Рэем, чтобы рассказать ему обо всем. Рэй пришел со своей девушкой Роной.
– Итак… При просмотре видеозаписей ваших припадков у меня сложилось впечатление, что проблема кроется в правой височной доле. Другие врачи с этим согласились, – сказала я.
– Ладно… – Рэй колебался.
– ПЭТ и ОФЭКТ подтвердили это предположение. Они выявили нарушения в правой височной доле.
– Хорошо.
– Тесты на память показывают, что ваша зрительная память очень слаба. Следовательно, эта часть вашей правой височной доли плохо работает. Вам, разумеется, это известно.
– Да, у меня всегда была ужасная память.
– Вербальная память у вас отличная. Это очень хорошо, так как этот факт опять отсылает нас к правой височной доле.
– О’кей, однако я жду «но»!
– Но ЭЭГ показала ненормальную активность в правой и левой височных долях во время разных припадков. А результаты МРТ в полном порядке.
– Это означает «нет» или «возможно»? – спросила Рона.
– Это означает, что вероятность возникновения припадков в правой височной доле очень высока, но мы не можем быть в этом уверены на 100 %. Кроме того, височная доля очень большая. Хирург не может удалить ее целиком, только кусок. Когда МРТ в норме, сложно сказать, какой именно кусок нужно удалить.
– То есть все пропало? – спросил Рэй.
Я замешкалась.
– Нет, не все пропало, но теперь нам нужно сделать еще больше, чтобы выяснить все наверняка. Удалить фрагмент мозга, который на томографии выглядит здоровым, – рискованное решение. Вы бы этого не хотели, и хирург этого бы не сделал. Нужно больше доказательств того, что мы не ошиблись. Чтобы получить их, необходимо провести внутричерепную ЭЭГ. К настоящему моменту мы определились с областью, которая требует операции, но надо подтвердить правильность наших предположений и сузить цель до маленькой секции височной доли. Вам вскроют череп и поместят ограниченное количество стерильных электродов непосредственно на поверхность правой височной доли. Затем мы подождем припадка. Это как снова пройти видеотелеметрию, но на этот раз запись будет вестись напрямую из мозга. Помех в виде мышц и черепа не будет. Хирург может поместить электроды на те участки мозга, которые недоступны им на поверхности кожи головы.
– Операция перед операцией?
– Да, именно так.
– Чем грозит помещение электродов на мозг?
– На поверхность мозга попадут инородные тела, следовательно, это грозит инфекцией. Существует также риск инсульта. Разумеется, и то и другое очень серьезно. Однако хирурги проводят эту операцию регулярно. Они очень опытные, так что риск опасных осложнений довольно низок. Тем не менее гарантий нет.
– Если эта процедура пройдет успешно, можно будет сделать операцию? – спросила Рона.
– Только если мы получим необходимую информацию. Если она покажет явный электрический разряд в правой височной доле, то можно будет провести операцию, если вы этого захотите. Если внутричерепная ЭЭГ не выявит очага в правой височной доле, то операция пока будет невозможна.
Мне и раньше казалось, что Рэй колеблется, теперь его сомнения во много раз усилились.
– У меня будет операция для подготовки к другой операции, которую мне могут так и не сделать?
– Да. Мультидисциплинарная команда решила, что существует семидесятипроцентная вероятность того, что внутричерепная ЭЭГ приведет к операции. Шанс на то, что после операции припадки прекратятся, составляет примерно 40 %. Таким образом, нам нужен хотя бы тридцатипроцентный шанс на то, что хирург избавит вас от эпилепсии. Это, разумеется, приблизительные цифры.
– Получается, вероятность того, что я пройду внутричерепное обследование, но так и не смогу лечь на операцию, равняется 30 %?
– Боюсь, что да.
– А вероятность того, что я вылечусь, пройдя через все это, тоже лишь 30 %?
– Да…
– То есть мне сбреют волосы с половины головы и вырежут кусок мозга. Я проведу неделю в больнице и несколько месяцев не смогу работать. И при этом вероятность того, что все это зря, 70 %?
– Примерно так. Стрижка будет бесплатной.
– Ха-ха. М-м-м. Все может закончиться еще хуже… У меня может случиться инсульт, который превратит меня в овощ.
– Опасность существует, но она маловероятна. Наиболее вероятный отрицательный результат – неэффективность операции. Но не забывайте, почему вам вообще предлагают такой вариант. Припадки случаются у вас каждую неделю. Вы не попадали из-за них в беду до настоящего момента, но если они продолжатся, то это может случиться в будущем. Кроме того, каждый следующий приступ ухудшает вашу память. Или же припадки могут начать зарождаться в других участках мозга. Именно поэтому вам предлагают пройти через это сейчас, пока вы нормально себя чувствуете. Мне бы не хотелось ждать, когда вам станет хуже, ведь тогда будет уже слишком поздно.
Рэй посмотрел на Рону.
– Я не знаю, как принять такое решение, – сказал он. – Я чувствую себя слишком хорошо, чтобы на это решиться.
– Что вы об этом думаете, Рона? – спросила я.
– Думаю, ему нужно пройти внутричерепное обследование.
– Моя сестра думает, что мне нужна операция, а мама считает, что нет, – сказал Рэй. – Я слишком хорошо себя чувствую, чтобы пойти на это. Я всегда просто мирился с приступами. Не знаю, достаточно ли серьезна моя эпилепсия, чтобы решиться на такое.
– Думаю, три припадка в неделю – это плохо…
Рэй воспринимал свою ситуацию гораздо оптимистичнее, чем я. Он счастливый человек. Возможно, с моей стороны было бы правильно не мешать этому.
– Как, по вашему мнению, мне следует поступить?
Я не знала. Я колебалась.
– Думаю, вы не должны говорить мне, что делать, – добавил Рэй, увидев, что я сомневаюсь.
Это был выбор Рэя, но я могла повлиять на него.
– Я считаю, что вам необходимо хотя бы пройти внутричерепное обследование. После него все станет понятнее, – сказала я наконец.
– Вы не могли бы познакомить меня с кем-нибудь, кто уже прошел через это? Так мне было бы проще принять решение.
Конечно, я могла. Но кого мне следовало выбрать? Того, для кого операция прошла успешно, или того, для кого она оказалась напрасной?
* * *
У Гэбриэла развилась эпилепсия, когда ему было за двадцать. Он прошел через то же, что и Рэй, в возрасте старше сорока лет. В то время он был менеджером по продажам в крупной фирме. Я всегда предполагала, что он прекрасно справляется со своей работой. Из-за эпилепсии Гэбриэл не мог водить автомобиль, поэтому всегда работал в пределах центра Лондона, куда он добирался на общественном транспорте, чтобы встретиться с клиентами. Я думала, что компания очень его ценит. Он был женат, и у него было трое детей. Его жизнь была бы вполне нормальной, если бы его не мучили припадки. Именно поэтому Гэбриэл решился на внутричерепную ЭЭГ. Он боялся, что со временем ситуация усугубится и он все потеряет. Для него операция была шансом предотвратить это.
У него была патология в лобной доле. Первый припадок случился с ним, когда он был за рулем. Во время приступов все его четыре конечности совершали дикие движения, будто каждая рука и нога жила собственной жизнью и пыталась отделиться от тела. Руки выворачивались и хватали все вокруг, и Гэбриэл не мог это контролировать. Во время первого припадка он разбил автомобиль. Больше он за руль не садился. У него были гиперкинетические приступы, характерные для людей с поврежденной лобной долей. Они случались каждую неделю и легко могли бы негативно отразиться на жизни Гэбриэла, но он просто не допускал этого.
Гэбриэл боялся, что со временем болезнь усугубится и он все потеряет: работу, жену, детей. Для него операция была шансом предотвратить это.
Результаты МРТ Гэбриэла были нормальными, а остальные тесты указывали на большую область с патологией в правой лобной доле. ЭЭГ позволила сузить ее до того места, где скорее всего возникали припадки. Для невооруженного глаза этот участок мозга выглядел нормально. На снимке МРТ он тоже выглядел нормально. Тем не менее электрическая активность свидетельствовала об обратном. Этот участок мозга удалили, после чего Гэбриэлу стало лучше. Припадки исчезли.
Через три месяца после операции Гэбриэл впал в депрессию. У него появились психотические симптомы, и он стал склонен к паранойе. Он перестал мыслить рационально. Он попытался вернуться на работу, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Его поведение становилось все более непредсказуемым. Клиенты сообщили его начальнику, что он странно себя ведет. Жена Гэбриэла утверждала, что жить с ним стало тяжело. Его настроение было настолько переменчивым, что даже дети не хотели оставаться с ним наедине. Один за другим швы на жизни Гэбриэла расходились. Ему пришлось снова отпроситься с работы. Пребывание в четырех стенах только усиливало его депрессию. Семья отдалилась от него. Через год после операции жена попросила его уйти ради детей. Незадолго до этого его уволили.
Хирург успешно выполнил свою работу – припадки прекратились. Однако для мозга Гэбриэла это оказалось слишком сложно. Депрессия часто возникает после операций на мозге. Консультации психиатра, предшествующие операции, помогают подготовиться к депрессии, но не предотвратить ее. Гэбриэла госпитализировали с послеоперационными психическими осложнениями. Он провел в палате психиатрического отделения три месяца. Он восстановился, но так и не вернулся к прежней жизни. Теперь он разведен, живет один и видит детей лишь время от времени. Он нигде не работает. Здесь речь идет не только о том, чтобы пережить операцию. Отсутствие припадков не пошло Гэбриэлу на пользу. Не сделай он операцию, его жизнь так резко не изменилась бы и могла бы быть такой же счастливой, как раньше. А может быть, нет. С ним могло бы произойти что-то серьезное во время припадка, даже смертельно опасное. Может, операция спасла ему жизнь. Может, его память так ухудшилась бы, что он все равно потерял бы работу. Невозможно сказать, насколько правильны или неправильны такие сложные решения.
После операции у Гэбриэла исчезли припадки, но он изменился, и швы на его жизни начали расходиться один за другим.
Припадки Сьюзан тоже начинались в лобной доле. Результаты МРТ были нормальными. Сьюзан прошла множество тестов, чтобы врачи могли понять, сможет ли операция ее излечить. В итоге ей сообщили, что существует вероятность в 20–30 %, что ее самочувствие значительно улучшится после хирургического вмешательства. Можно себе представить, в каком отчаянии она находилась, раз все же решилась на операцию.
Во время припадков Сьюзан прыгала на одном месте. Судя по ее движениям, можно было подумать, что она под кайфом. Она танцевала жигу без ритма. После этого она ложилась на землю и совершала поступательные движения тазом. Каждый припадок длился меньше минуты. Несколько раз ее чуть не арестовали. Обычно ее обвиняли в том, что она пьяна или под кайфом. Я выписала ей справку, которую она затем носила повсюду, чтобы в случае необходимости она могла подтвердить свой диагноз. После того как Сьюзан несколько раз очнулась в окружении смущенных незнакомцев, она перестала выходить из дома без члена семьи.
Когда Сьюзан сделали операцию, ей было за тридцать. Она воспринимала ее как последний шанс на нормальную жизнь. Ее смелое решение изменило ситуацию в лучшую сторону: через полгода после операции она прислала мне фотографию, на которой она спускалась по веревке со скалы. Я была в ярости. Если бы она спросила меня, можно ли заниматься скалолазанием так скоро после операции, я бы точно сказала «нет».
«Там было много защитного оборудования. Они знали о моей эпилепсии и сказали, что все будет в порядке», – со смехом ответила мне Сьюзан, когда я выразила обеспокоенность по поводу ее новой сумасбродной жизни. Она не оглядывается назад. Сегодня у нее нет припадков, и она безмерно благодарна хирургу, изменившему ее жизнь, надеюсь, навсегда.
* * *
С кем мне стоило познакомить Рэя?
– Думаю, лучше всего будет поговорить с предоперационным консультантом, – сказала я Рэю. – Я могу познакомить вас с другими пациентами, но ваш опыт может сильно отличаться. Это может сбить вас с толку.
– Хорошо.
– «Хорошо» значит, что вы хотите сперва побеседовать с консультантом?
– Я хочу поговорить с консультантом и пройти внутричерепное обследование.
Рона кивнула головой и положила свою руку на руку Рэя.
– Я напишу хирургу, а после обо всем вам сообщу.
Через три месяца я получила от Рэя электронное письмо: «Я не хочу делать операцию. У меня хорошая жизнь, и я могу жить с припадками». Неожиданно для себя я испытала облегчение. Я не была уверена в том, как ему следовало поступить, но в итоге согласилась с ним, что можно оставить все как есть. «Вы можете изменить свое решение в любое время, – ответила я ему. – С каждым годом технологии совершенствуются, так что вполне возможно, что через пять лет все то же самое можно будет сделать точнее и безопаснее».
«Я не хочу делать операцию. У меня хорошая жизнь, и я могу жить с припадками».
Технологии очень продвинулись в области неврологии, но до исполнения всех заявленных обещаний еще очень далеко. Гораздо более революционными они оказались в области нейрохирургии. И продолжают двигаться вперед. Рэй не должен терять надежду. Возможно, очень скоро появятся малоинвазивные процедуры, которые позволят удалять участки мозга с гораздо меньшим риском. Может быть, через несколько лет Рэю можно будет сделать лазерную операцию, избежав необходимости значительно вскрывать череп. Или, возможно, на его височную долю можно будет поместить стимулирующий электрод, который снизит электрическую активность во время припадков.
Все это еще впереди.
8. Ленни
Мозг весит столько, сколько Бог.
«Мозг шире неба», Эмили ДикинсонПуть Ленни к диагнозу «эпилепсия» не был необычным. В раннем подростковом возрасте у него начались панические атаки. Периодически его вдруг охватывала тревожность. Иногда это доходило до того, что он не мог нормально дышать. Тревожность сопровождалась страхом смерти. Сознание он при этом не терял.
Ленни обсудил свою проблему с врачом. Тот поставил ему диагноз «тревожное расстройство». Каждый подросток из-за чего-то переживает, и Ленни не был исключением. Иногда в школе ему было тяжело. Он был тихим и задумчивым мальчиком, которому не всегда было комфортно в шумном окружении. Его симптомы связали с этим. Он начал ходить к школьному психологу, и это во многом ему помогло. Он не избавился от всех симптомов, но ему стало проще жить с ними.
Однажды Ленни вернулся вечером домой и стал вести себя крайне странно. Ему тогда было шестнадцать. Он неуместно смеялся. Не все, что Ленни говорил, имело смысл. Он порвал брюки, но не помнил, как это случилось. Его мать решила, что он напился или принял наркотики. Ленни это отрицал и сказал ей, что катался на скейтборде в парке. Он не мог вспомнить, падал ли он, но, возможно, падал.
Лимбическая система, отвечающая за контроль эмоций и их выражение, может провоцировать учащенное сердцебиение и потоотделение – физические проявления паники.
«Где твой скейтборд?» – спросила Ленни мать.
Домой он его не принес. Должно быть, забыл в парке.
«С кем ты был?» – спросила она.
Ленни сказал, что был один. Она отвезла его в парк, чтобы поискать скейтборд, и они нашли его. Когда отец Ленни вернулся домой, они с матерью стали решать, нужно ли показать мальчика врачу. Мать предположила, что Ленни упал со скейтборда и ударился головой. Но у него не было никаких видимых травм. В итоге они ничего не сделали. Примерно через час Ленни стало лучше. В течение ночи мать проверяла его, и все было в порядке, так что загадка осталась неразгаданной.
Для постановки диагноза «эпилепсия» необходимо что-то еще, что привлечет внимание к проблеме. Только когда электрический разряд распространяется на весь мозг и вызывает генерализованный тонико-клонический припадок, все понимают, что до этого у человека были вовсе не панические атаки. У Ленни проявлялись симптомы малых приступов, начинающихся внутри лимбической системы. Лимбическая система, отвечающая за контроль эмоций и их выражение, может провоцировать учащенное сердцебиение и потоотделение – физические проявления паники.
Фокальные припадки Ленни, скрывавшиеся под маской тревожности, постепенно изменились. Примерно через год он заметил, что чувство тревоги стало сопровождаться чем-то новым. Это странное ощущение длилось несколько минут.
– Я называю это чувством «может, да, а может, нет», – сказал мне Ленни. – Такое ощущение, будто передо мной открываются все возможности, но я не могу выбрать. Любое решение кажется в равной степени правильным и неправильным. Это ужасное чувство, я его ненавижу.
Когда Ленни только начал испытывать чувство невыносимой нерешительности, он никому не мог об этом рассказать. Ему просто пришлось смириться с тем, что он тревожный человек.
«Я называю это чувством «может, да, а может, нет»: ощущение, будто передо мной открываются все возможности, но я не могу выбрать. Любое решение кажется в равной степени правильным и неправильным».
Ленни был в школе, когда у него впервые случился генерализованный припадок. Перед ним он испытал уже привычное чувство неуверенности и тревоги. Он никому не сообщил об этом, потому что это уже стало для него нормой. Однако на этот раз чувства не отступали. Его сильно затошнило. Комната потемнела, и он потерял сознание. Одноклассники сказали, что он весь напрягся и сполз со стула под парту. Учитель подбежал, чтобы помочь, но Ленни никак не реагировал. Губы мальчика посинели. Подумав, что Ленни умирает, учитель решил сделать ему искусственное дыхание. Прежде чем он успел приступить к делу, Ленни сделал громкий медленный вдох и постепенно начал приходить в себя. Через пару минут он уже сидел и спрашивал окружающих, что произошло.
Ленни обратился в отделение первой помощи, а вскоре после этого попал на прием к неврологу. Как только он рассказал о странном чувстве, предшествовавшем припадку, врачу стало все ясно. По описанию это походило на ауру, предвещающую приступ, берущий начало в височной доле. Ленни поставили диагноз «эпилепсия». Его подтвердила ЭЭГ: она показала пики в правой височной доле. Ленни предложили начать принимать противоэпилептические препараты.
– Сначала я отказался их принимать, – сказал мне Ленни много лет спустя. – Я всего раз терял сознание и нормально себя чувствовал. Я привык к паническим атакам и считал, что мне не нужны таблетки. Думаю, я жил в отрицании. Если бы я начал принимать лекарства, я бы признал, что у меня эпилепсия, а мне этого не хотелось.
В итоге припадки Ленни не оставили ему выбора. Потеряв сознание еще трижды, он сдался и начал прием лекарств.
– В результате я был рад. Мне стало лучше. Панические атаки все равно случались, но уже не так часто, – поделился со мной Ленни.
Частота панических атак сократилась с одной в неделю до одной в два месяца. Примерно половина из них перерастала в конвульсии, и за три года у Ленни произошло восемь припадков. Ему назначили два дополнительных противоэпилептических препарата. Они не помогли, и было принято решение обследовать Ленни на возможность проведения операции. Его симптомы и заметные на ЭЭГ патологии указывали на то, что припадки начинаются в правой височной доле. Его результаты МРТ были нормальными, и в остальном он был здоровым молодым мужчиной, поэтому считался хорошим потенциальным кандидатом на операцию.
«Думаю, я жил в отрицании. Если бы я начал принимать лекарства, я бы признал, что у меня эпилепсия, а мне этого не хотелось».
Я хотела зафиксировать на видео приступы Ленни. Ему пришлось ложиться в стационар трижды, чтобы мы стали свидетелями припадка. Во время первого пребывания в больнице у него возникло чувство тревоги, но ничего более. Изменений на ЭЭГ не было. Приступы со скудной симптоматикой не всегда видны на ЭЭГ. Нам нужен был большой припадок. Приступы Ленни случались раз в несколько недель, поэтому нам было тяжело заснять один из них на видео. В третий раз Ленни провел в больнице две недели, и я уменьшила дозировку его противоэпилептических препаратов. Мы надеялись, что это поможет.
Мы были вознаграждены: на пятый день у Ленни все же случился припадок. Он произошел вечером. На следующий день медсестры рассказали мне о нем, и я посмотрела видеозапись.
Ленни сидел на постели и играл на мобильном телефоне. Внезапно он прервался и положил руку на живот. Было похоже на то, что с ним не все в порядке. Он кивнул головой и осмотрелся. Затем он поднял руку и помахал в камеру, чтобы дать медсестре понять, что ему нехорошо. Через несколько секунд Ленни вспомнил, что ему нужно нажать на кнопку, и сделал это. Он продолжал гладить живот правой рукой и кивать головой. В палате появилась медсестра.
«У вас припадок?» – спросила она, входя.
«Да. Думаю, маленький. Я странно себя чувствую. Обычно так и бывает», – сказал Ленни.
Медсестра попросила его назвать предметы в палате, а также свое имя и адрес. Сначала он отвечал с легкостью, но, называя адрес, вдруг прокричал: «У-о… А-а-а». Похоже, он сделал глубокий вдох. Его глаза закатились, а веки слегка затрепетали. Рот вяло открылся. Он потерял сознание и упал на подушки. Его тело несколько раз содрогнулось.
– Это не генерализованный припадок, – сказала я медсестре, которая смотрела видеозапись, стоя у меня за спиной.
– Да. Выглядит странно, – согласилась она.
Мы ожидали генерализованного тонико-клонического припадка, характеризующегося заметным напряжением мышц и ритмичными конвульсиями. У Ленни не было ни того ни другого. Его тело не напряглось, а, наоборот, обмякло. Конвульсивных движений было лишь одно или два. Он спокойно лежал, периодически громко вдыхая.
Я уменьшила окно с видеозаписью, чтобы посмотреть на мозговые волны. Обычно во время припадка заметны ритмические электрические разряды, но на ЭЭГ Ленни не было никакого избытка электрической активности. Рисунок мозговых волн был практически плоским. Речь шла скорее о недостатке электрической активности.
– Куда делась ЭКГ?[4] – спросила я. – Технические неполадки?
Возможно, пишущее устройство сломалось или от него отсоединился провод.
Сердечная активность фиксируется параллельно с мозговыми волнами. Линия, которая отражала сердцебиение Ленни, стала почти ровной. Мозговые волны тоже практически исчезли.
Я отмотала назад до того момента, когда Ленни плохо себя почувствовал. Тогда ЭЭГ и ЭКГ выглядели нормально. Я нажала кнопку «Воспроизвести» и стала наблюдать за мозговыми волнами на экране. Когда Ленни помахал в камеру, все было по-прежнему нормально. За несколько секунд до потери сознания, пока Ленни гладил живот, мозговые волны изменились. Ритмический рисунок, характерный для припадка, возникающего в височной доле, явно проявился в правой височной области. Диагноз подтвердился. Однако через несколько секунд произошло нечто странное: сердечный ритм изменился. Сначала мозговые волны изменили форму, а затем замедлились. Пульс Ленни до припадка был восемьдесят пять ударов в минуту, а вскоре после начала приступа резко снизился до сорока. Когда Ленни упал на подушки и медсестра над ним нагнулась, пульс перестал прослеживаться. Совсем. Линия выровнялась.
Как обычно, я наблюдала за тем, что случилось вчера. На мониторе позади меня Ленни в реальном времени переключал каналы на телевизоре. Я знала, что на видео он придет в себя, но, ожидая возобновления сердцебиения, я не могла дышать от страха. В течение двадцати пяти секунд сердцебиение отсутствовало. У Ленни остановилось сердце, но медсестра, находившаяся рядом с ним, об этом не знала. Она привыкла реагировать на эпилептические припадки, а не на проблемы с сердцем. Если бы это было кардиологическое отделение, она уже делала бы ему непрямой массаж сердца. Вместо этого она перевернула Ленни на бок, чтобы тот не задохнулся, и ждала, когда он внезапно придет в себя. Он пришел.
Достаточно лишь трех минут без кислорода, чтобы в мозге произошли необратимые изменения.
Чувство тревоги и сердечная недостаточность были результатом возникновения электрического разряда в мозге. Затем, когда разряд переместился в центр контроля за автономной нервной системой, все изменилось. Сердцебиение замедлилось, а после прекратилось. Кровяное давление упало, и мозгу стало недоставать кислорода. Из-за этого мозговые волны Ленни выровнялись и практически исчезли. Странная эволюция его припадка объяснялась нехваткой кислорода в мозге. Достаточно лишь трех минут без кислорода, чтобы в мозге произошли необратимые изменения. К счастью, после пугающих тридцати секунд сердце Ленни забилось, и ток крови нормализовался. Ленни потерял сознание в результате сердечной недостаточности. У него не было проблем с сердцем как таковых. У него было заболевание мозга, чьи симптомы затрагивали сердце.
Автономная нервная система – это совокупность мозговых структур и периферических нервов, которые отвечают за внутренние органы, кровеносные сосуды, кожу, слезные протоки и зрачки. Нервы, идущие к сердцу, легким и кровеносным сосудам, помогают регулировать уровень кислорода и углекислого газа в крови, а следовательно, и количество кислорода, поступающего в мозг. Автономная нервная система ускоряет и замедляет сердце в ответ на физические нагрузки и эмоциональные стимулы. Она также отвечает за выделение слез из глаз и пота из потовых желез. Она контролирует кишечную перистальтику, опорожнение мочевого пузыря, частоту дыхания и сексуальное возбуждение. Автономная нервная система влияет на сердцебиение и кровяное давление. Гипоталамус – это мозговой центр контроля за автономной нервной системой. Он тесно связан с миндалевидным телом, гиппокампом и обонятельной областью коры мозга. Повреждение каждой из этих частей мозга может привести к возникновению приступов.
Вовлечение автономной нервной системы в припадок имеет два потенциально опасных последствия. Во-первых, сердце может остановиться. Во-вторых, дыхание рискует сильно нарушиться. В ответ на боль или нехватку кислорода центры автономной нервной системы могут ускорить или замедлить дыхание. Вы не задумываетесь о своем дыхании, потому что автономная нервная система делает это за вас. Если вы задержите дыхание, то она в какой-то момент пересилит ваше осознанное решение и заставит вас снова начать дышать. Во время припадка в системе может произойти сбой, что грозит либо гипервентиляцией (слишком частым дыханием), либо гиповентиляцией (слишком редким дыханием). Гиповентиляция и апноэ (полное прекращение дыхания) могут стать причиной опасного понижения уровня кислорода в крови, из-за чего они являются угрожающими жизни симптомами эпилепсии.
О дыхании заботится автономная нервная система. Если вы задержите дыхание, то она в какой-то момент пересилит ваше решение и заставит снова начать дышать.
Любой электрический разряд может охватить центр контроля за автономной нервной системой, но это особенно характерно для припадков, начинающихся в лимбической системе и островковой доле. Во время нейростимуляции островковой доли сердечный ритм меняется. Электрический разряд, возникший в височной или лобной доле, может охватить островковую долю, а затем распространиться на миндалевидное тело и гиппокамп. Лимбическая система напрямую связана с гипоталамусом, что ускоряет ответную реакцию автономной нервной системы.
Изменение сердечного ритма, небольшое его ускорение или замедление, вполне характерно для припадков. К счастью, это крайне редко приводит к смерти пациента. Приступы обычно коротки, и сердце начинает нормально работать сразу после того, как это сделает мозг.
Припадок Ленни явно происходил из височной доли. У него были приступы тревожности, сопровождаемые страхом смерти и нерешительностью, а за ними следовали сбои в работе сердца. Проблема была в том, что я понятия не имела, при каждом ли припадке останавливалось сердце Ленни. Возможно, этот приступ был сильнее обычных, потому что я уменьшила дозировку его противоэпилептических препаратов, чтобы увеличить вероятность возникновения припадка в отделении видеотелеметрии. В конце концов, у Ленни эпилепсия была много лет, и до настоящего момента с ним все было в порядке. Он всегда приходил в себя. Если его сердце и до этого останавливалось, то оно снова начинало биться до того, как Ленни был бы причинен вред. Тем не менее я направила его к кардиологу, который установил Ленни электрокардиостимулятор. Он не положил бы конец припадкам и тревожной ауре, но гарантировал, что во время следующего приступа у Ленни не случится остановка сердца.
Наш мозг никогда целиком не расслабляется: и во время сна, и во время бодрствования он поддерживает ритмы жизни в норме.
В итоге Ленни так и не сделали операцию. После установки электрокардиостимулятора он стал реже терять сознание. Я предполагала, что ранее это происходило из-за сердечной аритмии, вызванной заболеванием мозга, но не была до конца уверена. Приступы тревожности не прошли, но Ленни решил жить с ними и не делать операцию. Пока по крайней мере.
Ни во время сна, ни во время бодрствования наш мозг целиком не расслабляется. Он вынужден всегда поддерживать ритмы жизни в норме. Очень легко забыть о важной роли мозга в бессознательной работе всех наших внутренних органов. Кишечник и мочевой пузырь, сердце и легкие, эндокринные железы, половые органы, потовые железы, кожа и зрачки – на все это влияет автономная нервная система. Это находит отражение в припадках. Покраснение лица, мурашки, рвота, урчание в животе, отрыжка, потение, расширение зрачков, учащенное сердцебиение, недержание и сексуальное возбуждение могут являться симптомами заболевания мозга.
* * *
Морин, мать Тима, сидела за кухонным столом, когда в дверь позвонили. Она никого не ждала. Она предположила, что это работники социальной службы собирают старую одежду или кто-то по ошибке пришел к ней. Ее дом 39 постоянно путали с соседским 39а.
В то утро Морин делала уборку в доме и даже не успела расчесаться. Она не хотела открывать дверь. Морин прошла в гостиную и заглянула за занавеску. Увидев двух полицейских, она испугалась. Затем она заметила взлохмаченного юношу, стоявшего между ними, и успокоилась. Морин предположила, что он был другом одного из соседских мальчиков. У пары из соседнего дома было двое сыновей, которые до сих пор жили с ними. Мальчики постоянно слонялись без дела, но, насколько Морин было известно, они не имели проблем с законом. Юноша стоял между офицерами, опустив голову на грудь. Морин решила, что ему за что-то стыдно.
Она отпустила занавеску, но не вернулась на кухню, решив подождать, когда непрошеные гости поймут свою ошибку. В дверь опять позвонили, а затем слегка постучали. Муж Морин был на работе, а оба ребенка – в университете, так что она была одна. Она терпеть не могла открывать дверь, когда плохо выглядела. Однако у нее не осталось выбора, когда полицейские снова постучали. Она слегка приоткрыла дверь и выглянула. Молодой человек поднял голову. Увидев его лицо, Морин поняла, что знает его, но не могла сообразить, кто он. Она поздоровалась не сразу.
«Миссис Долан?» – сказал один из полицейских.
Морин снова посмотрела на мальчика. Он явно был чем-то расстроен. Что-то в мозгу Морин щелкнуло. Она поняла, кто это. Она все бы отдала, чтобы захлопнуть дверь здесь и сейчас.
* * *
Морин и Джек были ирландцами. Они переехали в Англию из-за работы и в итоге там обосновались. Им обоим было под тридцать, когда родился их первенец Шон. Через три года на свет появился Тим. В детстве братья были близки, но с возрастом отдалились друг от друга. Шон любил читать и учиться, а Тим увлекался спортом и с удовольствием общался со сверстниками. Оба мальчика были умными, но Шон мог самостоятельно поступить в университет, а Тим – нет. Морин считала, что Тим умнее своего брата, просто ему не хватает дисциплины, чтобы сдать экзамены так же успешно, как старший брат.
Шон любил читать и учиться, а Тим увлекался спортом и с удовольствием общался со сверстниками. Оба мальчика были умными.
Тим был близок с отцом, а Шон – с матерью. Коммуникабельность Тима и его любовь к регби нравились Джеку. Он любил ходить на матчи, в которых участвовал его сын. Тим не был исключительным игроком, но был достаточно хорош, чтобы играть в первой команде местного клуба. По словам Морин, команда не была великолепной, но он был горд выступать за нее. Поняв, что его сын никогда не построит карьеру профессионального игрока, отец стал называть Тима «энтузиаст-любитель».
Морин понимала, что любовь Тима к регби-клубу объясняется интересом не только к спорту, но и к вечеринкам. Он говорил о них не меньше, чем о самой игре. Морин осознавала, что ей нужно гораздо больше следить за младшим сыном, чем за старшим.
Первый припадок случился у Тима наутро после одного из крупнейших матчей года. Тиму тогда только исполнилось шестнадцать, а Шон уже поступил в университет и уехал из дома. Это был домашний матч, и проходил он недалеко от дома Морин и ее семьи. Обычно после матча вся команда оставалась в клубе, и Морин или Джек забирали Тима около полуночи. Но в этот раз спортсмены отправились домой к одному из игроков, и, так как эта вечеринка была в пятнадцати минутах ходьбы от их дома, Тиму разрешили добраться домой самостоятельно. Морин всю ночь пролежала не смыкая глаз. В пять утра она услышала, как ее сын ввалился в дом. Джеку пришлось убеждать Морин не вставать с постели и не ругать сына. Он напомнил ей о том, что в их родном ирландском городке подростки начинали пить и поздно возвращаться домой задолго до того, как им исполнялось шестнадцать. По его мнению, городское воспитание отсрочило этот момент. Тим практически всегда возвращался домой рано на общественном транспорте или ждал, когда его заберут родители. Морин нехотя согласилась на этот раз все спустить Тиму с рук.
«Он уедет через два года, и мы останемся здесь только вдвоем, – напомнил ей муж. – Ты же не хочешь, чтобы он уехал раньше?»
В полдень Тима не было видно. С утра Морин заглядывала в его комнату и слышала, как сын ворчал во сне.
«В комнате такой запах… Он вчера много выпил», – сказала Морин мужу.
В час дня, когда воскресный обед был готов, она решила разбудить Тима. Морин открыла дверь в его комнату и позвала его, но он не ответил. Она зашла, раздвинула занавески и открыла окно, чтобы впустить свежий воздух. Она посмотрела на Тима. Он лежал на боку и храпел. Подойдя ближе, Морин увидела следы крови на подушке и засохшую кровь вокруг его рта. Она стала трясти сына, но тот не реагировал. Его глаза были полуоткрыты, а храп продолжался. Морин потрясла его еще сильнее. Она запаниковала и позвала Джека. Когда никому из них не удалось разбудить Тима, Морин вызвала «Скорую помощь».
Тим лежал на боку и храпел. Подойдя ближе, Морин увидела следы крови на подушке и засохшую кровь вокруг его рта.
Тима отвезли в ближайшую больницу. Родители поехали за «Скорой» на своем автомобиле. Они вбежали в отделение первой помощи примерно через десять минут после того, как туда привезли их сына. Медсестра сказала, что Тим в реанимации. Они провели в ожидании пять ужасных минут, прежде чем к ним вышла медсестра и сообщила, что Тим пришел в сознание. Он начал приходить в себя еще в «Скорой помощи», и хотя было неясно, что с ним случилось, основная опасность была позади. Морин и Джеку позволили зайти к нему. Он был слаб, и вид у него был потерянный, но выглядел Тим значительно лучше, чем когда они видели его в последний раз.
– Он был похож на маленького мальчика, – позднее описала Морин свои чувства, которые испытала, впервые увидев своего сына на больничной койке.
Во время первого посещения больницы Тиму не поставили точного диагноза. Врачи настояли на том, чтобы проверить его на алкоголь и наркотики. Хотя Тим, как он сам признался, много пил прошлой ночью, уровень алкоголя в его крови уже был равен нулю. Тест на наркотики был отрицательным. Результаты томографии мозга были в норме. Тим ничего не знал о произошедшем, и Морин, несмотря на возражения сына, решила поговорить с другими мальчиками, которые тоже были на вечеринке. Никто не заметил ничего странного в поведении Тима, и все утверждали, что не принимали наркотики.
Тима направили в клинику, специализирующуюся на лечении эпилепсии, чтобы исключить вероятность припадка. Несмотря на то что результаты тестов были нормальными, невролог все равно считал, что это мог быть приступ. Но, так как это был единичный случай, лечения Тиму не предложили.
Его глаза были открыты, а лицо застыло в гримасе. По щеке у него текла кровь. Губы посинели, и он, казалось, не дышал.
Через три месяца у мальчика случился припадок при свидетелях. Это опять было утро воскресенья. Накануне Тим снова ходил на вечеринку, но мать забрала его из регби-клуба в полночь. Спальня Морин и Джека была через стенку от комнаты сына. В то утро Морин проснулась от громкого крика. Она забежала в комнату Тима и увидела, как он бьется в конвульсиях в постели. Его глаза были открыты, а лицо застыло в гримасе. По щеке у него текла кровь. Губы посинели, и он, казалось, не дышал. Джек вбежал в комнату и тут же выбежал из нее, чтобы вызвать «Скорую помощь». Когда через несколько минут прибыли парамедики, конвульсии Тима прекратились. Он начал постепенно приходить в сознание.
– Он пытался ударить врача, – рассказывала его мать. – Он отталкивал всех от себя. Думаю, он не понимал, что происходит.
Тима отвезли в отделение первой помощи. Через три часа он полностью пришел в себя и был готов вернуться домой. Он снова встретился с неврологом. Врач сказал, что у Тима эпилепсия. Второй припадок подтвердил причину первого. Тиму требовалось лечение, чтобы предотвратить третий.
Морин очень расстроилась из-за диагноза, в то время как Тим не казался обеспокоенным. По-настоящему он огорчился лишь тогда, когда ему сказали свести к минимуму посещение вечеринок и потребление алкоголя.
Тип эпилепсии, характерный для подростков, часто очень чувствителен к недостатку сна и чрезмерному потреблению алкоголя. Нередко первый припадок случается именно тогда, когда подросток начинает пить. Оба приступа Тима определенно могли быть этим спровоцированы. Врач сказал ему, что теперь он может потреблять алкоголь только в очень маленьком количестве. Тим попросил врача объяснить, что значит «в очень маленьком количестве».
«Один стакан», – пояснил доктор.
«В чем смысл выпивать один стакан?» – сказал в ответ Тим, немало смутив свою мать.
«Ты что, не можешь хорошо провести время без выпивки?» – спросила она его.
Несмотря на свое недовольство, Тим последовал рекомендациям врача. Помогло обещание отправить его в автошколу. Отец Тима сказал, что если он не будет пить и у него больше не будет припадков, то он купит ему подержанный автомобиль. Чтобы Тим мог получить права, ему нужно было прожить год без приступов.
К сожалению, эпилепсия не позволила Тиму получить машину так скоро. Первый противоэпилептический препарат только ухудшил состояние мальчика. У него один за другим произошли два припадка. Как и первые два, они случились незадолго до того, как Тиму нужно было просыпаться.
Тип эпилепсии, характерный для подростков, часто очень чувствителен к недостатку сна и чрезмерному потреблению алкоголя.
«Еще он стал очень неуклюжим, – пожаловалась Морин врачу. – Он все роняет и проливает».
Тим сказал, что постоянно чувствует себя дергано. Особенно часто он разливал апельсиновый сок или опрокидывал предметы за столом по утрам.
Было ясно, что у Тима генерализованные припадки, но непонятно, какого типа: были ли приступы генерализованными изначально или же фокальный приступ переходил в генерализованный. Определить тип важно, так как лекарства несколько отличаются.
Никто не видел начало припадков Тима, и в этом крылась одна из самых больших подсказок. Неуклюжесть, которую заметили Тим и члены его семьи, раскрыла тайну приступов. Генерализованные припадки бывают разными. Обычно говорят о тонико-клонических приступах, но, как мы помним, существуют также абсансы и миоклонические приступы. При миоклонических приступах кратковременный электрический разряд в мозге сопровождается мгновенным сокращением мышц. Эти сокращения происходят настолько быстро, что их легко не заметить, однако, несмотря на это, они заставляют человека уронить то, что было у него в руках. Миоклонические приступы обычно случаются утром после пробуждения. Они подходили под описание, данное Тимом и его матерью.
Таким образом, у Тима было два вида припадков: тонико-клонические и миоклонические. Это означало, что у него был особый эпилептический синдром, который развивается в подростковом возрасте и называется «ювенильная миоклоническая эпилепсия». Он может усугубиться вследствие приема некоторых лекарств, как это случилось у Тима.
Это открытие принесло облегчение Тиму и его семье. Теперь они понимали, почему ему не становится лучше, и надеялись это исправить. Тиму назначили другие лекарства, и судороги прекратились. Через четыре месяца у него снова случился припадок. Дозировка препарата была увеличена, и он вышел в ремиссию.
В подростковом возрасте может развиться особая эпилепсия – ювенильная миоклоническая. Она проявляется в виде конвульсий и мгновенного сокращения мышц.
Тиму стало лучше. Он сдал школьные экзамены, но не очень успешно. Он хотел заниматься бизнес-лингвистикой, но не набрал необходимое для поступления количество баллов.
– Да простит меня Бог, но, помню, я была рада, – сказала мне Морин. – Я не считала, что он готов. Он был гораздо менее зрелым, чем Шон в его возрасте, и я беспокоилась из-за его эпилепсии.
В итоге Тим задержался дома на год дольше, чем планировал. Он пересдал экзамены и снова подал документы в университет. На этот раз он поступил.
– Ему нравилось, когда о нем заботились, и в колледже было довольно легко, поэтому он хорошо провел тот год, – сказала Морин.
– Только он расстраивался, что друзья переехали, – добавил отец Тима.
– Да, – тихо сказала Морин. Она, вспоминая о былом, погрузилась в свои мысли.
В тот год, который Тим провел дома, ожидая поступления в университет, у него не было припадков. Он получил водительские права, а отец, как и обещал, купил ему автомобиль. К тому моменту как Тим погрузил вещи в машину и уехал, у него не было припадков восемнадцать месяцев.
– Когда они растут, вы дождаться не можете, когда они уедут, но, когда это происходит, вы начинаете сомневаться, – сказала Морин.
Отпустить Шона в университетское общежитие четырьмя годами ранее было легко. Тим тогда оставался с родителями, так что дом не казался таким пустым. И у Шона не было эпилепсии.
«Молодым людям сносит крышу, когда они поступают в университет и уезжают из дома, – тревожилась Морин. – Там так много соблазнов».
Тиму пришлось пообещать родителям, что он не будет много пить и будет спать столько, сколько необходимо. И что он будет регулярно принимать таблетки. И покупать лекарства заранее. И хорошо питаться. И не будет садиться пьяным за руль и возить в машине слишком много друзей.
Неизвестно, подчинялся ли Тим всем правилам или только части из них, но у него случился припадок в первом семестре. Друг, не живший в общежитии, спал на полу в комнате Тима после вечеринки. Он проснулся от громкого крика Тима и увидел, как тот бьется в конвульсиях в постели. Хотя Тим уже пришел в себя к моменту прибытия парамедиков, один из его соседей по комнате позвонил его родителям.
«Я бы не стал рассказывать им об этом сам. Это только расстроило бы маму», – позднее сообщил Тим медсестре, специализирующейся на эпилепсии. Она позвонила ему по просьбе матери, чтобы узнать, как он себя чувствует. Тим заверил ее, что хорошо следит за собой и что припадок никак не связан с плохим поведением.
«Сегодня я играю в регби. По крайней мере я это планировал, поэтому вчера не пил», – добавил он. Сосед Тима, позвонивший его родителям, сказал то же самое. Припадок был лишь неприятной случайностью. Приступы непредсказуемы. В большинстве случаев они происходят без видимой на то причины. Иногда перемены в образе жизни, например поступление в университет, означают, что лечение необходимо пересмотреть. Тиму увеличили дозировку препарата. До конца года у него больше не было припадков.
После того как Тим сдал экзамены в конце первого курса, он уехал на лето в Южную Америку. Морин была против поездки, но Тим и Джек ее уговорили: один припадок за два с половиной года – это не повод держать его дома как ребенка. Во время путешествия у Тима опять случился приступ. Это произошло, когда он спал в общей комнате в Куско. Никто из окружающих не знал, что у него эпилепсия. Однако на соседней койке спала медсестра-студентка, и она позаботилась о нем. Тим отказался ехать в перуанскую больницу, и медсестра-студентка просидела с ним несколько часов, желая убедиться, что он в порядке. Тим рассказал о случившемся своему брату Шону. Тот ничего не передал родителям. Они узнали обо всем только полгода спустя.
Морин была против поездки, но Тим и Джек ее уговорили: один припадок за два с половиной года – это не повод держать его дома как ребенка.
Морин почувствовала облегчение, когда Тим вернулся к началу второго курса. Он переехал из общежития в дом, который снимал вместе с пятью друзьями. С большинством из них он познакомился на первом курсе, однако одного, Джейсона, знал с двенадцати лет. Они вместе ходили в школу и играли в одной команде. Теперь они учились на разных курсах, но снова играли в регби вместе. Морин нравилось, что Тим живет с тем, кого она хорошо знает. Какое-то время она думала, что Тиму там одиноко, и ей стало легче, когда она поняла, что он рядом со старым другом.
После того как мальчики окончили школу, Морин не встречала Джейсона два года. Именно поэтому его лохматая голова ни о чем ей не сказала, когда она увидела Джейсона из окна в окружении полицейских.
«Миссис Долан?» – снова спросил полицейский, после того как Морин не ответила.
«Миссис Долан…» – сказал Джейсон практически одновременно с офицером.
Морин окончательно узнала его, только когда он заговорил. По его присутствию она поняла, почему эти люди стояли у ее двери. Она не находила слов.
Морин увидела, что у дома припаркованы два автомобиля. За полицейской машиной стояла еще одна, в которой сидели мужчина и женщина. Она знала, кто это. Это были родители Джейсона. Морин часто встречала их на родительских собраниях, спортивных матчах и рождественских концертах.
«Думаю, нам лучше пройти в дом», – сказал полицейский.
Морин всегда думала, что закричит или что у нее произойдет чудовищный нервный срыв, но, когда это действительно случилось, она оцепенела.
Он толкнул дверь, взял Морин за локоть и осторожно ввел ее в дом. Она повернулась, и они все прошли на кухню. Как только они оказались там, Морин снова встала к ним лицом. Она не догадалась предложить им сесть, поэтому полицейские стояли лицом к лицу с Морин. Джейсон был позади.
«Кто-то еще есть дома?» – Морин ответила, что мужа нет. – «Мне очень жаль, миссис Долан, такое сообщать нелегко. Мы здесь, потому что ваш сын Тим был обнаружен мертвым в постели сегодня утром. Мы сочувствуем вашей утрате».
Когда Тим только уехал из дома, Морин представляла себе подобную ситуацию. Она всегда думала, что закричит или что у нее произойдет чудовищный нервный срыв, но, когда это действительно случилось, она оцепенела. Сначала она решила, что это, видимо, какая-то ошибка. Морин разговаривала с Тимом по телефону накануне. Он делал домашнее задание и сказал, что собирается посмотреть телевизор и рано лечь спать.
«Вам лучше сесть», – сказал полицейский, придвинув ей стул.
Морин так и сделала. Второй полицейский взял другой стул и сел рядом с ней.
«Кому нам следует позвонить?» – спросил он.
«Я должна позвонить мужу», – сказала Морин, поднимаясь.
Она взяла телефон. Она пыталась ввести ПИН-код, чтобы его разблокировать, но у нее тряслись руки.
«Я могу вам помочь?» – спросил офицер.
Она кивнула. Он взял ее телефон и спросил, как у нее записан муж. Морин забрала трубку, как только пошли гудки. Когда Джек ответил, она не смогла произнести ни слова. Она пыталась выговорить имя Тима, но вместо этого расплакалась. В конце концов полицейский поговорил с Джеком. Он сказал, что с их сыном произошло несчастье и что ему нужно приехать домой как можно скорее.
Закончив разговор, полицейский повернулся к Джейсону: «Этот молодой человек обнаружил Тима, миссис Долан. Он решил приехать на случай, если у вас будут вопросы. Боюсь, пока неизвестно, что именно произошло. Мы знаем лишь то, что его нашли в постели. Будет проведено вскрытие».
«У него была эпилепсия», – сказала Морин.
Морин и Джеку понадобилось несколько недель, чтобы осознать, что Тима больше нет. Поскольку он не жил дома больше года, им казалось, что он просто живет не с ними, а на выходные приедет домой. Однако домой он так и не приехал, и история о последних часах Тима, которую рассказал Джейсон, все время крутилась у нее в голове. Она поняла, что пытается всему найти объяснение.
Накануне смерти Тим с Джейсоном и еще одним соседом остались дома и смотрели вместе телевизор, как Тим и сообщил матери. Шло реалити-шоу «Ученик». Джейсон заверил Морин в том, что они не пили и что никто из них никогда не употреблял наркотики.
«Ты видел, как Тим принимал таблетки от эпилепсии?» – спросила Морин Джейсона.
Он ни разу не заставал Тима за приемом таблеток, но видел упаковку с ними на его прикроватном столике. Все три юноши пошли спать сразу после одиннадцати. Казалось, что Тим в хорошем настроении. Ничто не говорило о том, что он плохо себя чувствует.
Утром дверь в спальню Тима была закрыта, и он не пришел на кухню. Тим нередко пропускал лекции, так что никто из соседей не попытался его разбудить.
– Думаю, Джейсон сильно винил себя в произошедшем, – сказала мне Морин. – Он так плакал, когда пытался мне обо всем рассказать.
– Он не мог этого предугадать, – ответила я.
– Нет. Не мог, конечно…
У Джейсона была всего одна лекция, так что он вернулся домой поздним утром. Дверь в спальню Тима все еще была закрыта. В этом не было ничего странного. Около полудня Джейсон решил разбудить друга. Он постучался к нему. Ответа не последовало. Тогда он приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Джейсон увидел, что Тим до сих пор в постели. Он постучал несколько раз, но Тим не двинулся. Он лежал, отвернувшись от двери. Джейсон подошел к постели, зовя Тима по имени.
«Он лежал с закрытыми глазами. В темной комнате казалось, что он просто спит», – сказал Джейсон Морин.
Как только Джейсон попытался потрясти Тима, он сразу понял, что тот мертв. Его тело уже окоченело. Джейсон раздвинул занавески. Он увидел, что лицо Тима восковое и бледное. Он позвонил в «Скорую помощь».
«Он не мог жить дома вечно. Припадки могут быть опасны. Тим знал это, но не хотел все время жить в их тени».
– Это моя вина. Мне не нужно было отпускать его в университет, – сказала мне Морин.
– Это могло произойти где угодно, Морин. Невозможно все время быть рядом. То же самое могло случиться и дома.
– Но я бы быстрее его обнаружила.
– Нам даже неизвестно, в какое время это случилось.
– Дома ему было бы лучше.
– Ему было двадцать. Он не мог жить дома вечно. Припадки могут быть опасны. Тим знал это, но не хотел все время жить в их тени. Ему нравилось в университете.
– Да, нравилось.
Любой человек, страдающий эпилепсией, находится под угрозой внезапной смерти. В среднем один из тысячи эпилептиков умирает от синдрома внезапной смерти. В Великобритании это примерно шестьсот человек в год. Для тех, чьи припадки хорошо поддаются лечению, риск значительно сокращается. Однако он возрастает для тех, у кого часто случаются конвульсивные приступы, особенно ночью. Чем чаще происходят припадки, тем больше опасность. Для некоторых подгрупп людей, страдающих эпилепсией, риск приближается к одному из ста. В группу повышенного риска входят люди с частыми конвульсивными припадками, которые принимают множество противоэпилептических препаратов и готовятся к хирургическому вмешательству.
В среднем один из 1000 эпилептиков умирает от синдрома внезапной смерти.
Точная причина внезапной смерти при эпилепсии неизвестна. Предполагается, что в некоторых случаях она является прямым следствием припадка. Хотя часто доказательства того, что приступ вообще был, отсутствуют. Возможно, всему виной контроль мозга за сердцем и легкими. Механизм, вызывающий смерть, не у всех одинаков. Так как мозг контролирует все жизненно важные органы, заболевания мозга могут привести к их остановке. Внезапная смерть при эпилепсии нередко наступает без свидетелей, а вскрытие не дает объяснений. Первая частая причина внезапной смерти – нарушение сердечного ритма, ведущее к остановке сердца, а вторая – замедление и остановка дыхания из-за воздействия на центр дыхательного контроля. И тому и другому может предшествовать подавление мозговой активности, что нередко является результатом незамеченного припадка.
Есть несколько видеозаписей, на которых запечатлены люди, умершие в отделении видеотелеметрии. У многих из этих пациентов случились припадки, которые остались не замеченными персоналом. После приступов их мозговая активность прекратилась, а мозговые волны распрямились. Такое часто происходит после генерализованных припадков, но обычно организм быстро восстанавливается. У тех пациентов это не случилось. Остановка сердца быстро привела к смерти. Многие из них были молодыми людьми. В этом заключается одна из причин, почему, даже когда никакие методы лечения не работают, мы пытаемся найти что-то новое и не сдаемся.
9. Адриэнн
Тот предмет, который лежит у вас на плечах, самый тяжелый во Вселенной.
Митио КакуУолтер удивился, когда, вернувшись с работы, не застал Адриэнн дома. В их жизни велика была сила привычки. В первый год совместной жизни они с работы ехали сразу домой и обычно вместе готовили ужин. Если кто-то из них планировал пойти куда-то вечером, то они обсуждали это заранее. Но они очень редко ходили куда-то не вместе. Если Адриэнн встречалась с друзьями, Уолтер практически всегда присоединялся к ним. Друзья Адриэнн подшучивали над ней по этому поводу.
«Они думают, что мы странные или что ты мне не доверяешь, – говорила Адриэнн Уолтеру. – Я ссылаюсь на эпилепсию и объясняю, что ты ходишь со мной на случай, если у меня произойдет припадок».
Они и над этим смеялись. Они обычно шутили над тем, что Адриэнн использует свой диагноз в качестве оправдания. Тем не менее в то время эпилепсия мало волновала ее, поскольку практически никак не влияла на ее жизнь.
Считалось, что причиной припадков являлось ее появление на свет. Роды были продолжительными и сложными. Она родилась вялой и синей, и ее пришлось реанимировать. Врачи предполагали, что она вдохнула меконий, первый стул младенца, и вследствие этого пострадала из-за нехватки кислорода во время родов. Адриэнн отвезли в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она больше недели провела в инкубаторе. Она была мелким и болезненным ребенком.
– Она вышла из меня мертвой, – сказала мне мать Адриэнн, когда я спросила ее о родах.
Родовая травма – очень частая причина возникновения эпилепсии. Повреждения мозга, которые она вызывает, могут проявиться в виде физических или умственных проблем. Родителей Адриэнн предупредили, что такое рождение может сказаться на ее последующей жизни. Поначалу они не могли забыть об этом. Старшая сестра Адриэнн начала ползать в шесть месяцев. Когда их младшая дочь не научилась ползать к девяти месяцам, родители разволновались и отвезли ее к врачу. Он сказал, что девочка здорова. Когда через месяц она начала вставать на ножки, а в одиннадцать месяцев – ходить, родители посмеялись над тем, что так волновались. Адриэнн всему училась легко и быстро. Но ее родителям все равно потребовалось почти два года, чтобы перестать тревожиться и думать о ранней госпитализации своей дочери. Адриэнн, похоже, поборола родовую травму. Из чахлого младенца она превратилась в сильную и жизнерадостную девочку.
О начале жизни Адриэнн было практически забыто, когда последствия все же дали о себе знать. Ей было двадцать два. Был Новый год. Адриэнн была в гостях у своей сестры Жанин. В какой-то момент она пожаловалась на плохое самочувствие. Никто не понимал, насколько ей нехорошо, пока она не потеряла сознание. Сестра сказала, что они лежали вдвоем на диване и болтали, как вдруг Адриэнн резко перестала говорить. По словам Жанин, она выглядела отрешенной.
– Она смотрела в одну точку и моргала, но ее глаза постоянно закатывались, – сказала Жанин.
Родовая травма – очень частая причина возникновения эпилепсии. Повреждения мозга, вызываемые ей, могут проявиться в виде физических или умственных проблем.
После этого голова Адриэнн повернулась до предела, тело напряглось, и девушка начала биться в конвульсиях. Вызвали «Скорую помощь». Врачи прибыли менее чем через десять минут, к этому моменту Адриэнн уже очнулась. Она помнила, как разговаривала с сестрой, а в следующую секунду увидела перед собой парамедиков.
– Сначала она решила, что мы на курорте, куда мы ездили пять лет назад, – сказала Жанин, – а затем приняла меня за нашу маму. После этого она пошла в угол комнаты и стянула пижаму так, будто собиралась сходить в туалет. Парамедики остановили ее и отвели в уборную. Она все время пыталась поцеловать мужчину-врача.
Адриэнн ничего из этого не помнила. В машине «Скорой помощи» она начала понемногу осознавать происходящее, но даже этого потом не могла вспомнить. Можно сказать, что она пришла в себя в больнице.
Как и полагается после первого припадка, Адриэнн сделали томографию мозга. Это должно было исключить вероятность опухоли мозга. Ее подробно расспросили о приеме запрещенных препаратов, хотя она упорно отрицала, что употребляла нечто подобное.
– Водка – мой любимый запрещенный препарат. По крайней мере была им, – сказала мне Адриэнн, когда мы встретились. – Я пила на Новый год, но не так много, как большинство людей. Теперь я пью бокал шампанского на свадьбах и на Рождество, и на этом все. Если я слежу за собой, то вероятность возникновения припадка снижается. Поэтому я так и делаю. Эпилепсия сделала меня очень скучной.
Один припадок – это еще не эпилепсия. Адриэнн не ставили этот диагноз до тех пор, пока через полгода у нее не случился второй приступ, очень похожий на первый. Она проконсультировалась с неврологом.
Один припадок – это еще не эпилепсия.
Подробный расспрос позволил неврологу установить, что конвульсии были не единственным проявлением припадков Адриэнн. Она никогда никому не говорила, как часто у нее случается дежавю. На протяжении многих лет у нее периодически возникало странное ощущение, что она видела что-то раньше, хотя это было невозможно. Она думала, это нормально. Конечно, дежавю бывает у всех нас время от времени, поэтому вполне логично, что у Адриэнн были такие мысли. Однако в некоторых случаях ощущение дежавю – это симптом возникновения электрических разрядов в височной доле. Конвульсии Адриэнн свидетельствовали о том, что дежавю было аурой – локальными электрическими вспышками в височной доле, незахватывающими большую территорию. Их важность осознали лишь тогда, когда электрические разряды распространились на весь мозг и привели к судорогам.
МРТ мозга Адриэнн подтвердила правильность этих предположений. Правый гиппокамп был ярким и маленьким по сравнению с левым. У Адриэнн была височная эпилепсия. Оба генерализованных припадка развились из фокальных. Диагноз больше не подвергался сомнению, и лечение было назначено. Дела у Адриэнн шли хорошо: ощущение дежавю исчезло, и за целый год у нее не было ни одного припадка.
У всех нас иногда бывает дежавю. И это нормально. Однако в некоторых случаях оно может быть симптомом возникновения электрических разрядов в височной доле.
Я встретилась с ней семь лет спустя. В то время ее припадки были непредсказуемыми. Бывало, за год у нее не было ни одного приступа, а, бывало, случалось три. В один из спокойных годов она потеряла связь со своим постоянным неврологом. Адриэнн пришла ко мне, когда ей стало хуже. К тому моменту у нее участились характерные фокальные припадки. Ранее дежавю сопровождало только странное ощущение в животе, теперь же еще тревожность в сочетании со спутанностью сознания. Типичные симптомы проблем в лимбической системе. Она не теряла сознание полностью, но ходила кругами, плакала и говорила, не умолкая. После припадков она была очень расстроена, и, чтобы успокоиться, ей иногда требовалось до получаса.
Я боялась, Адриэнн будет одной из тех, кому лекарства не помогают. Мезиальный височный склероз как причина эпилепсии может быть резистентен к действию препаратов. Тем не менее нельзя заявить, что лекарства неэффективны, пока их не попробуешь.
У Адриэнн были и другие проблемы, которые ее семья хотела решить сильнее, чем она сама. Родственников беспокоило ее поведение. Раньше она была жизнерадостной девушкой, а теперь стала склонной к переменам настроения, вспышкам гнева и тревожности.
– Иногда Адриэнн охватывает паранойя, – сказала ее мать.
Слова матери разозлили Адриэнн.
– Она рассердилась на меня, потому что решила, что я обсуждаю ее с Жанин. Она с чего-то взяла, что мы планируем отправиться в отпуск без нее.
– Такое было один раз, – сказала Адриэнн. – Я расстроилась, а потом поняла, что это все чепуха, и извинилась.
– Я никуда не ездила ни с одной из дочерей с тех пор, как они окончили университет, – робко произнесла мать девушек, а затем добавила: – И такое было не раз.
Раньше эпилепсию Адриэнн можно было контролировать, но теперь нет. Не было безосновательным полагать, что припадки, воздействуя на мозг Адриэнн как психологически, так и физически, влияли также на ее личность и ментальное благополучие. Мезиальная височная область важна для проявления эмоций и оценки эмоциональных реакций других людей.
– Эпилепсия влияет на настроение, память и многое другое. Она не ограничивается только припадками, – сказала я Адриэнн. – Однако вы пробовали только один препарат в небольшой дозировке, так что у нас много вариантов, которые могут вам помочь.
Мезиальная височная область важна для проявления эмоций и оценки эмоциональных реакций других людей.
Я попросила Адриэнн увеличить дозировку лекарства, которое она принимала, а затем мы стали ждать. Если промежуток между припадками пациента составляет четыре месяца, то приходится ждать восемь месяцев, прежде чем можно будет уверенно заявить, что перемены в лечении принесли положительный результат. Адриэнн вроде бы стало лучше. За целый год у нее не было припадка, замеченного ей самой или родителями. Это была хорошая новость.
Тем не менее другие проблемы Адриэнн не были решены. У нее по-прежнему случались непредсказуемые вспышки гнева. Ее семья боялась, что она в депрессии или, что еще хуже, что-то себе воображает. Однажды она решила, что кто-то из родственников украл у нее деньги. Она думала так весь день, в течение которого перерыла весь дом в поисках пропавших денег. Как-то раз Адриэнн обвинила сестру в том, что та флиртовала с ее бывшим парнем, с которым она встречалась три года. Такие эпизоды злости и подозрений были не очень характерны для Адриэнн, но каждый последующий был интенсивнее предыдущего.
Я записала Адриэнн на консультацию к нейропсихиатру и психологу. Оба врача отметили, что ее память ухудшается и что сама пациентка тяжело это переносит. Тем не менее они не обнаружили никаких серьезных психических проблем, требовавших немедленного вмешательства.
Я поговорила об Адриэнн с нейропсихиатром.
– Мне кажется, на нее давит семья, – сказал нейропсихиатр. – Мать чрезмерно ее опекает. Адриэнн говорит, что именно из-за этого она так напряжена. На данный момент сложно точно сказать, в этом ли вся проблема. Она была в нормальном состоянии, когда мы встретились, но ее история говорит о склонности к психозу. Инцидент, когда она обвиняла родственников в краже денег из сумки, может быть паранойей. Когда она рассказала мне об этом сегодня, то взглянула на ситуацию рационально.
В итоге Адриэнн решила переехать, считая семью источником ее проблем. Вскоре после этого она начала встречаться с Уолтером, с которым познакомилась через общих друзей.
– Когда мне следует сказать новому парню, что у меня эпилепсия? – однажды спросила меня Адриэнн. – Я могу напугать его, если сразу же все расскажу? Или мне стоит удивить его, потеряв сознание и написав в штаны на свидании?
Я не знала, что ей посоветовать.
– Мы все что-то скрываем, когда знакомимся с новыми людьми, – сказала я. – Многие из нас скрывают вещи пострашнее эпилепсии. Я бы посоветовала рассказать ему об этом в том случае, если вы захотите продолжать с ним отношения.
Обычно припадки Адриэнн так хорошо контролировались, что она решила не говорить Уолтеру о своем недуге слишком рано. Он узнал обо всем однажды утром. Они оба спали, когда приступ внезапно начался. Уолтер проснулся от дикого крика Адриэнн. Он повернулся к ней и увидел, что она лежит на спине и бьется в конвульсиях. Ее губы посинели, и это его напугало.
Адриэнн пришла в себя и увидела, что над ней нагнулись два парамедика. Уолтера нигде не было видно.
«У вас эпилепсия, дорогая?» – это были первые слова, которые поняла Адриэнн. Она подтвердила парамедикам, что у нее эпилепсия. Они спросили ее о припадках и лекарствах. Видя, что она пришла в себя, они поинтересовались, хочет ли она поехать в больницу. Она понимала, что в этом нет никакого смысла, раз приступ уже закончился, поэтому решила остаться дома.
– Когда я осталась одна с Уолтером, я пожалела, что не запрыгнула в машину «Скорой помощи» и не убралась оттуда, – сказала мне Адриэнн. – Я была наедине с притихшим Уолтером и мокрым от мочи постельным бельем. Мне было ужасно неловко. В итоге я вызвала такси и уехала к матери. Постельное белье я забрала с собой!
Я видела много припадков, как у Адриэнн. Они до сих пор меня пугают. Будь я на месте Уолтера, точно бы ужаснулась. Во время генерализованного приступа человек не дышит. Техника безопасности обязывает перевернуть его на бок, чтобы минимизировать риск того, что он задохнется. Перевернуть человека во время припадка сложно, ведь тело становится настолько напряженным и неподатливым, что вес его будто увеличивается в два раза. Звуки, которые издает человек в такой момент, пугают. Мышцы лица напрягаются, из-за чего на лице появляется гримаса боли. Как в «Крике» Мунка. Или хуже.
Во время генерализованного приступа человека нужно перевернуть на бок и засечь время. Если припадок будет длиться дольше трех минут, нужно позвонить в «Скорую».
Та ситуация поставила под угрозу отношения Адриэнн и Уолтера. Он предложил расстаться на время, сказав, что это слишком большая ответственность и что он недостаточно силен, чтобы взять ее на себя. Уолтер считал, что ей нужен кто-то лучше, чем он. Адриэнн заверила его, что такое случается редко, но его реакция заставила ее сомневаться в их отношениях. Через месяц после расставания все наладилось. Уолтер сказал, что невыносимо скучал по ней. Адриэнн все обдумала и сначала отказалась принять его назад. Но через неделю или две призналась, что тоже по нему скучала. Они опять начали встречаться. В итоге тот случай только укрепил их отношения.
Они уже жили вместе, когда Уолтер стал свидетелем следующего припадка. На этот раз все было совсем по-другому. Он не сбежал, а начал активно действовать. Чуть ранее у него состоялся продолжительный разговор с медсестрой о том, что ему следует делать в подобных случаях. Когда ему не удалось перевернуть Адриэнн на бок, он повернул только ее голову. Он подложил подушку ей под спину для поддержки и засек время. У него наготове был телефон, чтобы позвонить в «Скорую», если припадок вдруг будет длиться дольше трех минут. В итоге он длился меньше минуты. Когда Адриэнн очнулась, она увидела, что лежит в спальне в безопасной позе. За ней наблюдал Уолтер. В руке он держал телефон. Работал секундомер.
«Пятьдесят восемь секунд» – это было первое, что она услышала, когда пришла в себя.
Эта сложная ситуация и успешный выход из нее неожиданно продвинули вперед их отношения. Через три месяца Уолтер сделал предложение, и Адриэнн согласилась. Припадки стали происходить реже, и они начали думать о будущем. Подготовка к свадьбе приближалась к завершению, когда эпилепсия снова заявила о себе.
Все началось в тот день, когда Уолтер вернулся с работы и, к своему удивлению, обнаружил, что Адриэнн нет дома. Обычно она возвращалась с работы первая. Он привык к тому, что, входя в дом, слышал звуки включенного на кухне телевизора. В тот вечер дома было тихо. Входная дверь не была заперта на два замка, как когда они оба отсутствовали. Уолтер позвал Адриэнн, но она не откликнулась. Быстро осмотрев все комнаты, он убедился, что его невесты нет. Он позвонил ей, но сразу же сработал автоответчик. Сначала Уолтер заволновался. Но потом успокоил себя тем, что поезд Адриэнн, должно быть, застрял в тоннеле или что она вернулась домой, а потом решила сходить в ближайший магазин. Он запаниковал в тот момент, когда увидел ее сумку на спинке одного из кухонных стульев. Уолтер заглянул в нее и обнаружил кошелек и ключи. Он снова осмотрел дом и сад. Затем он позвонил коллеге невесты. Она сказала, что на работе с Адриэнн было все нормально и что она ушла домой в обычное время. Уолтер связался с матерью Адриэнн. Та сразу же приехала, а следом за ней – отец и сестра. Они вызвали полицию.
Прошло три напряженных часа, в течение которых вся семья сидела на кухне и пыталась объяснить двум полицейским, насколько было нетипично для Адриэнн такое исчезновение. Они все с надеждой смотрели на окно во входной двери, как вдруг заметили, что к дому приближается соседка.
– Я увидела полицейскую машину, – сказала она, когда Уолтер открыл дверь. – К вам в дом кто-то пробрался? По-моему, ко мне тоже.
Соседка объяснила, что, вернувшись домой, она обнаружила, что дверь плохо заперта.
– Я никогда не забываю запереть ее, – сказала она полицейским. – Когда я зашла в дом, я увидела, что один из кухонных ящиков целиком выдвинут. Я бы ни за что не оставила его так. Никогда.
– Вы осмотрели дом? – спросил один из полицейских.
– Нет, я увидела вашу машину. Мне было слишком страшно.
Два офицера отправились в соседний дом. Сначала они позвали несколько раз, а затем начали осматривать комнаты. Они заметили, что дверь боковой спальни закрыта. Когда они толкнули ее, она поддалась, но затем уперлась во что-то. Послышалось всхлипывание. Вероятность того, что два соседних дома стали жертвами двух несвязанных преступлений, была крайне мала.
Поначалу Адриэнн вела себя с офицерами как ребенок: рыдала и искала успокоения. Когда появился Уолтер, она стала вести себя агрессивно.
Один из офицеров назвал имя Адриэнн. Женщина-полицейский просунула в образовавшийся проем удостоверение и попросила человека за дверью не бояться и впустить их. Они толкнули дверь сильнее, и та открылась. Внутри была Адриэнн.
Полицейские сразу позвонили Уолтеру. Они попросили его прийти и убедить Адриэнн выйти. Поначалу Адриэнн вела себя с офицерами как ребенок: она рыдала и искала успокоения. Когда появился Уолтер, она стала вести себя агрессивно: ударила одного из полицейских по лицу. В конце концов вызвали «Скорую помощь». Адриэнн увезли в больницу.
В отделении первой помощи выяснилось, что она частично вменяема, а частично охвачена паранойей и делюзиями[5]. Адриэнн ориентировалась в пространстве и понимала, кто она и где находится. Она подтвердила все детали истории своей болезни. Когда ее попросили объяснить, что она делала в доме соседки, Адриэнн все подробно рассказала. Ей казалось, что у Уолтера роман с соседкой. Взяв запасные ключи, которые на всякий случай оставляла ей та женщина, она отправилась к ней домой искать доказательства. Она спряталась в пустой спальне, чтобы застать их вместе. После рассказа Адриэнн была так расстроена, что ее пришлось отвести в отдельный кабинет. Она настояла на том, чтобы ей оказывали помощь исключительно работники женского пола. Когда к ней приближался кто-то из мужчин, она очень сердилась. Уолтер настаивал на том, что подозрения Адриэнн беспочвенны.
– Я понятия не имею, о чем она говорит, – сказал он.
Позвали Дженни, специализирующуюся на эпилепсии медсестру. Она подтвердила, что такое поведение совершенно не характерно для Адриэнн, которая до этого к тому же не выражала никаких сомнений в верности Уолтера. Дженни договорилась о срочной ЭЭГ для Адриэнн. Продолжительная патологическая электрическая активность в определенной области мозга может привести к тому, что человек будет ходить, говорить и, казалось бы, пребывать в сознании, хотя на самом деле он будет сбит с толку и не сможет нормально функционировать. Такое состояние называется «бессудорожный эпилептический статус». ЭЭГ Адриэнн была нормальной, и о статусе речи не шло. У нее взяли кровь на анализ, чтобы узнать, принимала ли она наркотики, которые могли объяснить такое поведение. Проверили также содержание противоэпилептических препаратов в крови на случай, если она вдруг приняла слишком большую дозу. Ей сделали томографию мозга, чтобы убедиться в отсутствии кровоизлияния и инфекции. Врачи не нашли ничего нового или опасного.
Пригласили психиатра, чтобы тот оценил состояние Адриэнн. Он сказал, что у девушки острый психотический эпизод. Спутанные тревожные мысли, галлюцинации, делюзии и неспособность осознавать собственное психическое состояние – все это признаки психоза. Существует множество причин его появления. Часто психоз рассматривают как чисто психическую проблему и ассоциируют с шизофренией и биполярным расстройством. Однако любые его характеристики могут проявляться и у здоровых людей вследствие физического заболевания или других провоцирующих факторов. Галлюцинировать или впадать в паранойю может и человек, который мало спит, подвергается большому стрессу или принимает наркотики. Нарушения эндокринной функции, аутоиммунные заболевания, опухоли, кровоизлияния и разнообразные гормональные нарушения (одной из причин которых может быть беременность) вызывают похожие симптомы.
У Адриэнн была бредовая идея, что Уолтер ей изменяет. Она также подозрительно относилась ко всем мужчинам, полагая, что они все состоят в заговоре, который она не может раскрыть. Ее мысли быстро сменяли друг друга, и она перепрыгивала с темы на тему. Во время разговора с психиатром ее настроение несколько раз настолько сильно падало, что она обещала причинить себе вред. Она не хотела возвращаться домой и говорила, что покончит с собой, если ее туда отправят. Психиатр решил, что ее угрозы пусты и риск невелик, однако счел нужным оставить Адриэнн в больнице для дальнейшего наблюдения. Адриэнн начала принимать антипсихотический препарат. Она пришла в себя через пять дней, но в психиатрическом отделении провела неделю.
Галлюцинировать и впасть в паранойю может и здоровый человек, если он будет мало спать, подвергаться большому стрессу или принимать наркотики.
– Как думаете, у нее были припадки? – спросил психиатр.
– Она говорит, что нет, и Уолтер последний раз видел ее конвульсии больше года назад, – ответила я.
Нелогично пытаться рассматривать психическую проблему как что-то абсолютно новое и обособленное у человека с заболеванием мозга. Мне нужно было выяснить, какое отношение психоз Адриэнн имел к ее приступам.
– У вас не было припадков в течение года? – спросила я Адриэнн, когда она стала чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы снова со мной разговаривать.
Она помнила многое из того, что произошло на прошлой неделе, но не знала, что ее к этому подтолкнуло.
– Не было, – ответила Адриэнн. – Иногда мне кажется, что у меня дежавю, но я никогда в этом не уверена. Развернутых припадков у меня не было.
– Она плохо спит последнее время, – сказал мне Уолтер. – Она садится в постели ночью, что-то бормочет, а затем опять ложится. Она не всегда это помнит.
Как только Адриэнн стало лучше, она извинилась перед Уолтером за свои обвинения, и они снова вернулись к нормальной жизни.
– Не знаю, почему ты так обо мне подумала, – сказал он.
– Я и сама не знаю, – произнесла она.
На этот вопрос должна была ответить я. Я предложила Адриэнн сделать запись ее мозговых волн. Никто в психиатрическом отделении не видел ее припадков, но, возможно, они случались до ее поступления в больницу. У многих эпилептиков бывают приступы, которые они сами не распознают.
Адриэнн поступила в отделение видеотелеметрии. Паранойя прошла. Я понимала, что, возможно, вмешиваюсь слишком поздно. Она принимала небольшую дозу антипсихотического препарата в сочетании с привычным противоэпилептическим лекарством. Наутро третьего дня пребывания Адриэнн в палате ко мне пришла медсестра и сказала, что у пациентки случился припадок.
– Она это поняла?
– Не думаю. Я спросила, как прошла ночь, а она ничего об этом не сказала.
– Ясно. Давайте продолжим запись и посмотрим, осознает ли она, что происходит. Если у нее случится припадок, не говорите ей. Я хочу узнать, распознает ли она их.
В отличие от других заболеваний симптомы эпилепсии могут быть незаметны для испытывающего их человека. Мозг – это орган, отвечающий за сознание. Ему приходится постоянно бодрствовать, чтобы мы знали, что с нами происходит. Для Тины, еще одной моей пациентки, это была большая проблема. Она находилась в отделении видеотелеметрии незадолго до Адриэнн. Во время своего недельного пребывания в больнице она нажимала на кнопку около тридцати раз, давая медсестрам знать, что у нее вот-вот начнется припадок. Ни в одном из этих случаев ни видео, ни мозговые волны не говорили о том, что что-то должно было произойти. Иногда она читала или смотрела телевизор и вдруг тянулась к кнопке. Несколько раз она засыпала в кресле, а потом резко просыпалась и нажимала на кнопку. Каждый раз Тина заявляла, что она была без сознания как минимум минуту, но на видео не было ничего, что могло бы это подтвердить. Она это воображала.
У многих эпилептиков бывают приступы, которые они сами не распознают.
Я не хочу сказать, что у Тины не было эпилептических припадков. Они были, причем в большом количестве. Однако она их не замечала. Я узнавала о приступах от персонала. Тина ни разу не нажала на кнопку, когда они начинались. Для наблюдателя припадки были очевидными: Тина активно жевала, после чего медленно поднимала одну руку и начинала биться в конвульсиях. Она издавала неестественный булькающий звук. Тем не менее Тина об этом не знала. Мне пришлось рассказать ей. Члены ее семьи и люди на улице постоянно говорили ей, что что-то случилось. Она попыталась самостоятельно понять, что происходит. Так как она ничего не замечала, ей пришлось гадать. Она чуть не проехала свою остановку – у нее был припадок? Она не могла вспомнить, выключила ли обогреватель – дело в припадке? Тина ничего не понимала.
«В глубине души я хотела, чтобы никто не говорил мне об этом, – однажды сказала Тина. – Это как когда вам говорят, что вы целый день проходили с застрявшей в зубах едой. Если бы вы этого не узнали, то стыдиться было бы нечего».
Она несколько раз выходила из палаты и возвращалась, будто пыталась решить головоломку.
Припадки Адриэнн, казалось, не были такими незаметными. Если она не теряла сознание и не испытывала дежавю, то считала, что приступа у нее не было. Все было так просто. Тем не менее уже вторая ночь в отделении видеотелеметрии доказала, что она ошибалась. У нее произошел припадок, о котором она не знала. На третью ночь ничего не было, как и на четвертую. На пятую ночь у нее случилось шесть приступов за шесть часов. Каждый раз пики мозговой активности были видны в правой височной доле.
Все припадки были похожи. Адриэнн спала. Затем она просыпалась и открывала глаза. Пока электрический разряд набирал силу в правой височной доле, а после распространялся практически по всему правому полушарию, она почти ничего не делала: лишь моргала и слегка напрягалась под одеялом. Такое неприметное движение никогда бы не разбудило ее жениха. Даже если бы Уолтер проснулся, он не заметил бы ничего необычного.
После пятого припадка Адриэнн, казалось, окончательно проснулась. Она села и, похоже, искала выключатель. Она долгое время нажимала на все, что попадалось ей под руку: кнопку вызова медсестры, сигнализацию. Затем Адриэнн немного поиграла с мобильным телефоном, а после столкнула открытки с прикроватной тумбочки на пол. Она вылезла из постели и запуталась в проводах, соединяющих ее с оборудованием. Медсестра, отреагировавшая на нажатие кнопки, пришла и спросила, все ли у нее в порядке. Медсестре было не более очевидно, чем самой Адриэнн, что у той только что был припадок. На следующее утро медсестра сказала мне, что, по ее мнению, Адриэнн просто растерялась, проснувшись в незнакомой обстановке.
После шестого припадка Адриэнн подошла к двери. Она казалась расстроенной. Тот факт, что она была опутана проводами, похоже, смутил ее. Она несколько раз выходила из палаты и возвращалась, будто пыталась решить головоломку. Медсестра пробовала уложить ее в постель, но она сопротивлялась. Адриэнн настояла на том, что ей нужно в туалет. Она не понимала медсестру, когда та объясняла ей, что уборная находится у нее в палате. Несколько раз она называла медсестру Жанин. Когда ее поправили, она сказала: «Я знаю, что вы не Жанин. Жанин – моя сестра». Через некоторое время она вернулась в постель и заснула.
На следующий день я рассказала Адриэнн о припадках и предложила изменить лечение. Она была удивлена и огорчена. Она даже не подозревала, что такое может быть.
– Я правда думала, что приступов нет.
– Хорошо, что сейчас нам обо всем известно. Можно что-то с этим сделать.
Я планировала выписать Адриэнн на следующее утро, но череда ее неудач, к сожалению, не закончилась. Ночью она была безутешна. Недоступна. Она не понимала, что происходит, и даже проявляла агрессию. Когда к ней приблизилась медсестра, Адриэнн на нее набросилась.
– В палату вошла другая пациентка, и они подрались. Адриэнн что-то себе надумала. Не знаю, что именно. По камере я увидела, как они ругаются. Когда я зашла в палату, чтобы выяснить, что случилось, Адриэнн на меня замахнулась.
– О нет.
– Это правда.
– Вы в порядке?
– Эм, да, в порядке. Она до меня не дотянулась, но с ней невозможно справиться. Она очень расстроена.
Я направилась к ней в палату. Она, казалось, испытала облегчение при виде меня. Адриэнн была возбуждена. Она ходила кругами по комнате и ломала руки. Она рассказала мне долгую историю о пропавшем кошельке. Я видела, что кошелек лежит на прикроватной тумбе.
– Вы говорите об этом кошельке? – спросила я.
– Да, я его вернула.
– Вы уверены, что кто-то пытался его забрать?
Адриэнн дошла до окна и вернулась. Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, она рассказала мне историю о кошельке еще раз, будто я ее не слышала.
– Эта медсестра – дура. Она мне не помогла.
Адриэнн начала что-то записывать в блокнот. Я заметила, что страница была почти до конца исписана мелким почерком. Я попыталась прочитать, что там написано. Почерк был слишком мелким, чтобы его разобрать, но я поняла, что она писала о разногласиях с медсестрой.
– Вы можете передать это начальству, – сказала она, вырывая лист из блокнота и протягивая его мне.
Я поговорила с Адриэнн, но так и не поняла, в чем она ее обвиняет, поэтому я решила обсудить ситуацию с медсестрами.
Дженни села рядом с Адриэнн и пообещала провести полное расследование. Разумеется, никакого расследования на самом деле не требовалось. Все, что произошло в комнате, было записано на видео. Медсестра, ответственная за технику, уже сказала мне, что обвинения Адриэнн беспочвенны.
Я сама просмотрела видео. С раннего утра Адриэнн была не в себе. Она плакала из-за пустяков: из-за упавшего во время завтрака куска хлеба, из-за телефонного звонка. К моменту появления в палате другой пациентки она уже была неуравновешенной. Ее гостья пыталась скорее утешить ее, а не вступить с ней в конфликт. Далее все развивалось очень быстро. Я не слышала всего, что было сказано, но по языку тела я видела, как нарастает напряжение. Когда зашла медсестра, чтобы узнать, что происходит между двумя женщинами, Адриэнн кричала, в то время как вторая пациентка стояла с поднятыми руками и пыталась решить проблему мирно. Когда медсестра подошла к Адриэнн, ситуация мгновенно накалилась. После того как медсестра что-то сказала, Адриэнн одной рукой указала на дверь, а второй грубо толкнула сестру в плечо. Смотря видео, я наблюдала за мозговыми волнами Адриэнн. На контрасте с тем, какими они были во время ночных припадков, теперь они казались абсолютно нормальными. Я срочно пригласила психиатра.
– Это постиктальный психоз, – сказал психиатр.
При постиктальном психозе кажется, что человек оправился от приступа, но в действительности его влияние продолжается.
«Иктальный» переводится с греческого как «припадочный». Врачи используют это слово по отношению к тому, что происходит во время приступа. Хотя припадки завершились, они нарушили химические процессы внутри мозга Адриэнн, из-за чего девушка изменилась и стала вести себя нерационально.
Иктальный психоз случается в результате патологического разряда и нарушения мозговых волн, которые провоцируют галлюцинации и нерациональное поведение. Постиктальный психоз возникает у некоторых людей обычно через день после припадка. Кажется, что человек оправился от приступа, но в действительности его влияние продолжается. Постиктальный психоз чаще всего является следствием эпилепсии височной доли, особенно когда припадки случаются один за другим. Так как за приступом наступает период ясного сознания, длящийся от двадцати четырех до сорока восьми часов, психоз обычно приходит из ниоткуда. Он – малоизученное последствие электрических разрядов в мозге. Некоторые полагают, что постиктальный психоз возникает в результате истощения нейромедиаторов после припадка.
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – главный тормозной нейромедиатор в мозге. Как эпилепсия, так и психоз связаны с нарушением баланса между возбуждением и торможением клеток мозга. Препараты, активизирующие выработку ГАМК, применяются для лечения эпилепсии. Они препятствуют формированию синхронного электрического разряда, ведущего к припадку. Нехватка ГАМК может привести к постиктальному психозу и любым другим видам психоза. Нарушения кортикального (в коре полушарий мозга) торможения имеют отношение к шизофрении и постиктальному психозу. Точный механизм того, как припадок перерастает в психоз, неизвестен, и попытки объяснить этот процесс – это лишь предположения. К возможным причинам развития психоза относят изменения в притоке крови к мозгу, гиперчувствительность к дофамину, нарушение работы нейромедиаторов, ответственных за систему мотивации и вознаграждения.
Популярная культура часто связывает насилие и припадки, однако иктальная агрессия почти никогда не направлена на определенную цель.
У постиктального психоза есть характеристики, отличающие его от таких заболеваний, как, например, шизофрения. Он ведет себя так же, как приступы: резко начинается, недолго продолжается, самостоятельно завершается. Популярная культура часто связывает насилие и припадки, однако иктальное насилие встречается крайне редко. Агрессия, возникающая во время приступа, практически никогда не направлена на определенную цель. В момент припадка эпилептик может ударить другого человека, но с тем же успехом он мог ударить стул или просто воздух. А вот постиктальный психоз связан с целенаправленным агрессивным поведением. Под влиянием неотступающих делюзий и галлюцинаций человек, страдающий им, может намеренно агрессивно себя вести. Но хотя его действия целенаправленны, они не имеют никакого смысла. Они случайны.
Адриэнн повысили дозировку антипсихотических препаратов. Дженни помогла ей успокоиться и организовала круглосуточный присмотр за ней. С того момента персонал должен был находиться с ней в палате и ночью.
К Адриэнн приехали родители и сестра. Ей это пошло на пользу. Однако, когда пришел Уолтер, она не разрешила впустить его в палату. Ночью она почти не спала. Периодически она просыпалась и сильно расстраивалась. Адриэнн думала, что слышала, как медсестры и другие пациенты ее обсуждают. Она уже не хотела, чтобы с ней в палате кто-то находился. Наблюдать за всем этим было нелегко. Когда она бодрствовала, то практически всегда записывала все, что было сделано и сказано, в свой блокнот. Она успела исписать его почти целиком к тому моменту, как повышенная дозировка лекарства начала действовать. Предыдущий психотический эпизод продлился пять дней, а этот завершился уже через два.
Известно, что наши мысли и сознание, а также личность и интересы неразрывно связаны с физическим состоянием мозга. Однако даже с учетом знания об этом иногда возникает ощущение, что мы не можем сделать следующий шаг к тому, что это на самом деле значит. Если у вас заболевание мозга, то вы рискуете заполучить и психическое расстройство.
Наши мысли и сознание, личность и интересы неразрывно связаны с физическим состоянием мозга. Если у вас заболевание мозга, вы рискуете заполучить и психическое расстройство.
У людей с заболеваниями мозга часто возникают симптомы других заболеваний. При рассеянном склерозе настроение может быть либо эйфорическим, либо, наоборот, очень плохим. Тревожность, возбужденность и тяжелая депрессия гораздо характернее для людей с рассеянным склерозом, чем для всех остальных. Люди с болезнью Паркинсона склонны к перепадам настроения и психозам. Попытки лечения болезни могут привести к проблемам с контролем над импульсом, что проявляется в виде игромании, компульсивного шопоголизма, психогенного переедания и гиперсексуальности. Для некоторых больных характерны манипуляции с предметами: чрезмерная увлеченность собиранием и разбиранием какого-либо оборудования, коллекционирование банальных предметов, накопление вещей и их компульсивная сортировка. Многие неврологические заболевания проявляются как чисто психические проблемы: деменция, болезнь Крейтцфельдта – Якоба (коровье бешенство[6]), аутоиммунный энцефалит.
Мозг – это орган разума. Разум состоит из многих элементов: мышления, суждения, ума, памяти, эмоций, восприятия. Любовь к изучению мозговых функций с помощью фМРТ нашла применение и к этим элементам работы мозга. Сегодня известно, какая часть мозга соответствует каждому из них по крайней мере приблизительно. Мне кажется, мы чувствуем себя лучше, понимая, что все наши поступки объясняются действием определенного биологического механизма. Тем не менее, несмотря на неразрывность разума и тела, многие врачи лечат их так, будто они никак не связаны. Физиологическая медицина и психологическая медицина иногда так далеки друг от друга, что изучаются в разных институтах.
Эпилепсии сопутствует множество психических заболеваний. Мозг не остается невредимым после прохождения по нему электрических разрядов. Более ста лет назад Джон Хьюлингс Джексон заметил, что «острые приступы безумия» могут провоцироваться припадками. Раньше это называлось «эпилептическая ярость». В отделении видеотелеметрии пациентам намеренно снижают дозировку лекарств, чтобы вызвать припадок, в результате чего за их приступами часто следуют галлюцинации, делюзии и злость. Они являются характеристиками не самого припадка, а его последствий.
Лечение психоза при эпилепсии в первую очередь сводится к предотвращению приступов. Если припадки не поддаются контролю, то пациенту назначают те же препараты, которые применяются для лечения любых других видов психоза. В течение следующих восемнадцати месяцев у Адриэнн случилось еще два психотических эпизода. Она также буквально наполнилась гиперактивной тревожностью. Когда я встретила ее в клинике, она была сгустком энергии; Адриэнн пыталась смотреть на вещи позитивно, но ей определенно было тяжело.
– Уолтер отменил свадьбу, – сообщила она мне однажды. – Он сказал, что никто не сможет со мной жить, потому что это слишком тяжело.
Она улыбалась, говоря это. Даже смеялась. Я так огорчилась, что мне пришлось придумать оправдание, чтобы выйти из кабинета и позвать одну из медсестер. Та медсестра хорошо знала Адриэнн, после нашего разговора я оставила их наедине. Позднее медсестра сказала мне, что Уолтер не мог больше мириться с непредсказуемостью Адриэнн и винил ее в разрыве.
Адриэнн снова переехала к родителям. Из-за этого она на какое-то время впала в депрессию.
Адриэнн хотела вернуть свою независимость: выходить из дома и не получать нескончаемые СМС-сообщения от матери, жить отдельно, водить машину.
– Моя жизнь идет в обратном направлении, – сказала она мне.
Живя с родителями, она снова почувствовала себя ребенком. Я одобряла ее переезд. Даже подталкивала ее к этому. То же самое делали и медсестры. Если теперь Уолтера нет рядом, а ей станет плохо, то что будет? Возможно, ничего. Кто-то другой ее найдет. Заметит, что ее нет, и начнет поиски. С ней, может быть, все будет в порядке. А может, и нет.
Через три года после неожиданного разрыва Уолтера с Адриэнн в дело вмешались хирурги. Уменьшенный гиппокамп делал ее хорошим кандидатом на операцию. Адриэнн хотела вернуть свою независимость: выходить из дома и не получать нескончаемые СМС-сообщения от матери, жить отдельно, водить машину, снять предупреждающий о ее болезни браслет. Операция обещала семидесятипроцентный шанс избавления от припадков, и ради этого стоило на нее согласиться. Хирургическое вмешательство помогло. Адриэнн избавилась от припадков и психоза благодаря тому, что ей удалили маленькую секцию височной доли. Она вовсе не скучала по той части мозга, которой лишилась.
10. Майк
Если человек лишился ноги или глаза, он знает, что лишился ноги или глаза. Однако если он потерял самого себя, то он не может этого знать, ведь его больше здесь нет.
«Человек, который принял жену за шляпу», Оливер СаксБратья и родители Майка были у его больничной койки, когда он очнулся в отделении интенсивной терапии после недельной комы. Все испытали облегчение. Они обзвонили других членов семьи, чтобы сообщить хорошую новость. Связались и с девушкой Майка, с которой он встречался полгода, и предложили приехать.
– Он не знает, что произошло, но может говорить. Он попросил воды и узнал нас. Врачи думают, что с ним будет все в порядке, – сказали родственники Майка его девушке.
В отделении интенсивной терапии царила праздничная атмосфера. Уже через неделю, несмотря на прогнозы врачей, Майк ходил по палате. Он нормально разговаривал и даже просился домой. Он чувствовал, что готов к выписке, но врачи были против. Хирург, оперировавший его, сказал, что Майку необходимо пробыть какое-то время в реабилитационном отделении и уже оттуда он сможет отправиться домой. Нужно было подождать, когда там освободится место, но никто не знал, сколько времени это займет. Майк настаивал на том, что в этом нет никакой необходимости и что дома он восстановится быстрее. Он был уверен, что ему надо снова погрузиться в нормальную атмосферу. Он пережил то, что, согласно всем прогнозам, не должен был, и хотел покинуть больницу, чтобы наслаждаться жизнью. Тем не менее врачи были непреклонны. Проблема решилась, когда Майк подписал все необходимые бумаги и выписался из больницы под свою ответственность. Из трех недель в больнице одну он провел в глубокой коме, во время которой жизнь в нем поддерживали лишь специальные аппараты. Когда он вышел из больницы и забрался в машину отца, единственным, что напоминало о случившемся, была повязка на частично выбритой голове, спрятанная под бейсбольной кепкой. Майк и его семья верили, что это счастливый конец ужасной истории. Это действительно был конец, но не такой, как они ожидали.
Он пережил то, что, согласно всем прогнозам, не должен был, и хотел покинуть больницу, чтобы наслаждаться жизнью.
Майк был юристом. Он родился в весьма обеспеченной семье и был младшим из трех братьев. Между первыми двумя детьми разница в возрасте составляла год, Майк появился на свет шестью годами позднее. В нем прослеживалась уверенность, присущая младшим детям. Он родился уже после того, как старшие братья пошли в школу, поэтому внимание матери было целиком отдано ему. Она была медсестрой, но вернулась на работу лишь тогда, когда все три сына учились в средней школе. Его отец тоже был юристом. Оба родителя понимали ценность образования и поощряли в своих детях стремление к успеху. Майк от природы был умным и со всем справлялся блестяще.
После учебы Майк устроился на очень ответственную работу в финансовом центре Лондона, на которой требовалось постоянно оставаться сверхурочно. Ему еще не было и тридцати, и адреналин его только подстегивал. В особенно напряженные периоды он оставался на работе даже после полуночи, а в семь утра уже снова был в офисе. По вечерам компания направляла водителей в лучшие лондонские рестораны, чтобы привезти еду тем, кто задерживался на рабочем месте. Компания не экономила ни на корпоративах, ни на зарплатах сотрудникам. Желающие пожертвовать всем ради работы получали щедрое вознаграждение.
Майк жил так в течение десяти лет. Он практически достиг вершины своей карьеры, когда получил травму головы. Деньги лились у него рекой, но жизнь не была легкой. Он многим пожертвовал ради своей карьеры. Она угрожала отношениям и занимала все свободное время. Майк постоянно находился под давлением.
Он вовсе не был наивен и понимал, что его проблемы – проблемы первого мира. Ему повезло больше, чем большинству других людей, однако это не означало, что он неуязвим.
Несколько лет назад одним декабрьским утром Майк отправился на пробежку. Была суббота. Улицы были грязными с прошлой ночи. Поскольку было рано, Майк оказался среди дворников и тех, кто только возвращался домой после ночных кутежей. Обычно он начинал у своего дома, пробегал несколько лондонских кварталов, затем пересекал парк и возвращался домой.
Скопление крови давило на мозг, из-за чего правое полушарие деформировалось и начало сдавливать левое. Майку требовалась экстренная операция.
Никто не знает точно, что произошло с Майком в то утро. Известно лишь то, что пробежку он так и не закончил. Его обнаружили лежащим без сознания в пятнадцати минутах ходьбы от его дома. Майка нашел дворник. Он решил, что тот перебрал с выпивкой или наркотиками. Поскольку Майк никак не приходил в себя в то морозное утро, дворник забеспокоился и вызвал «Скорую помощь». Он оставался рядом с Майком, пока не приехали медики. Врачи заметили, что голова Майка разбита, и отвезли его в ближайшее отделение экстренной помощи.
В больнице Майка незамедлительно направили на компьютерную томографию, которая показала скопление крови внутри черепа. Скопление крови давило на мозг, из-за чего правое полушарие деформировалось и начало сдавливать левое. Майку требовалась экстренная операция по удалению кровяного сгустка. Его удалили, но нельзя было сказать, насколько поврежден мозг и придет ли Майк в себя.
Во время томографии и операции никто из медиков не знал, что за пациент перед ними. Его стали называть Джон Доу. Когда его нашли, при нем не было ничего, что помогло бы его опознать: ни портмоне, ни личных вещей. Сначала персонал больницы предположил, что он бездомный, но общее состояние здоровья пациента и хорошие беговые кроссовки противоречили этому. Анализ на содержание алкоголя и наркотиков в крови показал, что он ничего не употреблял ни утром, ни накануне. Никто не знал, что с ним произошло, а полиция никак не могла его идентифицировать. После операции его перевели в отделение интенсивной терапии, и все стали ждать, когда кто-нибудь его хватится.
Примерно в то время, когда Майку делали томографию, его девушка Зоуи проснулась и позвала его. Они провели вместе прошлый вечер, и она осталась у него на ночь. Майк встал до того, как она окончательно проснулась. Он прошептал, что идет на пробежку, но она была слишком сонной, чтобы осмыслить его слова. Она не знала, как долго его не было. Зоуи прождала час, а потом оделась и вышла на улицу поискать его. Она понятия не имела, каким был его обычный маршрут для пробежки. Она побродила по улицам пятнадцать минут, а потом поняла, что это бесполезно. Девушка оказалась в затруднительном положении. Она не знала родителей Майка настолько хорошо, чтобы позвонить им. Она чувствовала себя глупо. Вдруг он просто встретил кого-то из знакомых и решил выпить с ним кофе?
Еще через час Зоуи была уверена, что что-то случилось. Она позвонила одному из друзей Майка, после чего они встретились и стали искать его в ближайших кварталах. Вскоре они начали обзванивать больницы. В первую больницу, в которую они позвонили, недавно привезли Джона Доу, который соответствовал описанию Майка. Майк уже перенес операцию и находился в отделении интенсивной терапии, когда к нему приехала напуганная семья. Он полдня лежал под именем Джон Доу, прежде чем медсестры стерли этот псевдоним с таблички над кроватью и написали на ней его настоящее имя. Тогда никто не знал, что личность Майка изменилась окончательно и бесповоротно.
* * *
Я встретилась с Майком через полгода после того происшествия. На самом деле у нас до этого уже должны были быть две консультации, но они так и не состоялись. Когда он впервые пришел в клинику, я опаздывала на пятнадцать минут. Предыдущий пациент задержался чуть дольше положенного, и из-за этого время приема сместилось. Большинство пациентов соглашаются подождать, если персонал вежлив и приносит свои извинения, а потом на приеме им уделяют много времени. Однако Майк не был готов с этим мириться. Извинения его не устроили, и он не хотел терпеть неудобства. Между ним и администратором состоялась отвратительная ссора. Ругань было слышно даже в моем кабинете, но, так как я была с другим пациентом, я не могла выйти и посмотреть, что происходит. Когда я наконец была готова принять Майка, мне сказали, что он ушел.
– Он заявил, что не может ждать, и был довольно агрессивен, – сказала одна из сиделок. – Он пригрозил, что напишет на нас жалобу.
Мне нравилась эта сиделка. Она была бесконечно трудолюбива и прекрасно работала с пациентами. Тот факт, что на Майка не подействовала ее способность успокаивать людей, о многом мне говорил.
– Пусть делает что хочет, – вздохнула я и пригласила следующего пациента.
Через несколько недель я получила письмо от его терапевта. Она слышала, что наша с Майком встреча не состоялась, и сердечно просила снова записать его на прием. Она объяснила, что Майку пришлось нелегко с момента травмы головы, и попросила меня проявить терпение. Я опять записала его на прием, но наша вторая консультация, как и первая, не состоялась. На этот раз Майк пришел вовремя, и прием шел по плану, однако он, по никому не известной причине, ушел и не вернулся. Я так и не поняла, что случилось.
На третий раз мы все же встретились. Он пришел с родителями.
– Не спрашивайте, почему два этих старика везде за мной таскаются, – сказал он, смеясь, когда я пригласила их в кабинет.
– Ничего, если мы поприсутствуем? – спросила его мать.
Она выглядела смущенной и усталой. Майк повернулся к ней:
– Я говорил тебе, что для меня это неприемлемо, но вы все равно здесь. Если врач скажет, что я взрослый и могу справиться самостоятельно, это тебя убедит? – спросил Майк.
Я сразу же оказалась в затруднительной ситуации. Он ясно дал понять, что не желает, чтобы родители присутствовали. Правильно ли было включать их в наш разговор? Я хотела, чтобы они остались. Они могли рассказать мне о том, что произошло в ту неделю, когда Майк был без сознания в отделении интенсивной терапии. И многое другое, как я подозревала. Я осторожно спросила:
– Возможно, вашим родителям следует остаться, чтобы рассказать мне подробности вашего пребывания в отделении интенсивной терапии? Вероятно, вы не все об этом помните.
– Вы все здесь сговорились, – сказал Майк, смеясь, но это не был добрый смех.
Затем он резко повернулся и начал тыкать пальцем в лицо сначала матери, а потом и отца.
– Я позволяю вам остаться. Я. Позволяю. Но говорить буду я. Вы здесь ни к чему.
Сразу нельзя было сказать, насколько он нездоров. Где угодно он бы произвел впечатление на окружающих и даже заставил бы других завидовать ему.
Мы согласились на такой вариант: родители останутся в кабинете, но консультация будет проходить между Майком и мной. Во время разговора его мать выглядела так, будто вот-вот заплачет. Тем временем Майк раскачивался на своем стуле, словно пытался показать свой авторитет на совете директоров. Он был молод и хорош собой. Авторитарность казалась для него естественной. Его волосы, сбритые перед операцией, давно отросли, и внешне не было никаких признаков того, что у него была травма головы. Сразу нельзя было сказать, насколько он нездоров. Снаружи он вовсе не выглядел больным. Где угодно, кроме моего кабинета, он бы произвел впечатление на окружающих и даже заставил бы других завидовать ему. Однако внешность бывает обманчива.
После того как Майк вернулся домой из больницы, они с семьей радовались, что он остался цел.
– Когда мы увидели его в отделении интенсивной терапии, нам посоветовали ожидать худшего. Мы позвонили всем близким и попросили их прийти попрощаться. Все было действительно плохо, – сказала мне его мать.
Говоря, она с опаской посматривала на своего сына. Он позволил ей сказать это, так как ее слова давали понять, через что он прошел.
– Они были абсолютно уверены, что я умру. Чудо, что я жив. Я чудо! – Майк выглядел крайне самодовольно, когда говорил это.
Майк чувствовал себя настолько хорошо, что если бы дела так шли и дальше, то он вернулся бы на работу через неделю после выписки. Зоуи и семья убедили его в том, что ему требуется больше времени. В итоге он продлил больничный еще на месяц и провел это время в попытках выяснить, что же с ним произошло.
Свидетелей не было. На камере наружного наблюдения было видно, как Майк бежит по улице рядом со своим домом. Вторая камера запечатлела его на другой улице, а затем он пропал из виду. В соседних домах жили люди, но Майк не связался ни с кем из них. Полиция предположила, что на него напали с целью ограбления. Во время бега Майк слушал музыку на телефоне. На камерах видно, что он держал мобильник в руке. Когда Майка нашли, телефона не было. Может быть, он просто споткнулся, и случайный прохожий забрал его телефон, но в том районе за последний месяц произошло два ограбления, так что этот вариант был возможен. Полицейские полагали, что Майка толкнули, он упал и ударился головой об асфальт. Каким бы ни был верный сценарий, травма головы была настолько серьезна, что привела к обширному внутричерепному кровотечению, из-за которого Майк потерял сознание.
Через семь недель после происшествия Майк вернулся на работу. Его ждали шарики и торт. «Мы знали, что ты крепкий орешек, но теперь ты нам это доказал» – говорилось в поздравительной открытке. Сначала Майк вернулся на неполный рабочий день. Это был не его выбор. Ему хотелось продолжать производить впечатление неуязвимого человека, но нужно было подчиниться протоколу. Майк планировал доказать в течение двух недель, что с ним все в порядке, и как можно скорее возвратиться к привычному объему работы. Однако не прошло и этого времени, как его попросили уйти и вернуться тогда, когда он полностью восстановится. Он ушел, не попрощавшись. Майк еще не понимал, что больше не вернется.
Коллегам Майка было тяжело понять, какой объем работы можно ему дать в первые несколько дней. Поскольку он восстанавливался после физической и психологической травмы, его не хотели нагружать. Ему давали простейшие задания, но он, казалось, не мог справиться и с ними. Иногда он все же доводил дело до конца, но чаще отвлекался и увлекался каким-то другим занятием, прежде чем бросить и его. Коллеги начали контролировать его, что немало расстраивало Майка. Его было сложно критиковать, поскольку он был полон энтузиазма, как маленький ребенок. Все кончилось тем, что Майк допустил ошибку, которая поставила под угрозу деловую сделку и целостность всей компании. Майка попросили взять еще немного времени для восстановления. Его реакция на это предложение была странной: он отстаивал свою позицию до тех пор, пока не вышел из себя. Он снова и снова приводил одни и те же аргументы в пользу того, почему ему следует остаться. Коллеге-другу пришлось посадить его в такси и отправить домой.
Зоуи не знала, как мириться с его новым непредсказуемым характером: он мог быть нежным, а уже через минуту разозлиться из-за какой-нибудь мелочи.
Дома Майк, казалось, окончательно лишился мотивации. Он и до этого потерял интерес к спорту и пробежкам, а теперь вообще не хотел выходить на улицу. Большую часть дня он проводил перед телевизором. Семья настаивала на том, чтобы он снова проконсультировался с нейрохирургом, но Майк заявил, что больше не пойдет к врачам. Друзья, навещавшие его, без умолку твердили, как хорошо он выглядит. Зоуи чувствовала себя потерянной и не знала, как мириться с его новым непредсказуемым характером. Он мог быть нежным, а уже через минуту разозлиться из-за какой-нибудь мелочи. Как-то они смотрели вместе фильм, и Майк вдруг расплакался. Он никогда не был человеком настроения и редко проявлял яркие эмоции. Его было сложно вывести из себя, и, пока они были вместе, Зоуи ни разу не видела, чтобы он плакал. Она решила, что Майк в депрессии.
Майк никогда не был ленивым, и Зоуи опасалась, что всему виной новый образ жизни. Она связалась с одним из братьев своего парня и попросила его убедить Майка проконсультироваться с психиатром или хотя бы терапевтом. Семья боялась слишком активно вмешиваться. Вместо этого братья стали чаще навещать Майка и насильно выводить его в парк, чтобы поиграть в регби. Начав проводить с ним больше времени, они поняли, почему Зоуи беспокоится. Они заметили, что Майк стал постоянно провоцировать конфликты. Братья надеялись, что со временем это пройдет.
Но был и один маленький плюс: все обратили внимание, что в хорошие дни Майк был более веселым, чем раньше. Он всегда был целеустремленным и амбициозным, и это затмевало другие качества. Теперь он бывал радостным. Его стало легче не только разозлить, но и рассмешить.
Спустя четыре месяца после происшествия, несмотря на все старания матери, Майк так и не был готов вернуться на работу. Он и не хотел этого. Он даже перестал поддерживать связь с человеком, который его замещал. Его отношения с Зоуи не продлились долго. После жуткой ссоры, разразившейся из-за пустяка, она от него ушла.
Примерно через неделю после расставания он пришел к родителям на воскресный обед, и те, к своему ужасу, увидели большой синяк у него на лбу. На руке у него была ссадина, будто он проехался по ковру.
«Что случилось?» – спросила его мать.
Майк не придал значения своим травмам, и семья последовала его примеру.
Еще через месяц он пожаловался матери, что у него болит язык. Майк высунул его, и мать увидела сбоку фиолетовые следы от зубов. Поскольку Майк все еще не желал обращаться к врачу, его мать решила обсудить проблемы сына с собственным терапевтом. Ее терапевт никогда не видел Майка, но согласился, что им есть из-за чего переживать. По просьбе родителей братья заставили Майка пойти к врачу. Им повезло, что в тот день он пребывал в хорошем расположении духа. На приеме он был довольно разговорчивым, чем немало всех удивил.
Услышав его историю, терапевт сказала, что последствием тяжелой травмы головы могли стать припадки и что Майку следует обратиться к неврологу. После двух неудачных попыток нам все-таки удалось встретиться. Консультация не была продуктивной: прежде чем я успела прийти к каким-либо выводам, Майк направил разговор в другое русло. Он начал рассказывать мне о своем терапевте, которого я никогда не встречала.
– Когда вы в следующий раз увидите доктора Дженкинс, скажите ей «биг бэнг». Гарантирую, она расхохочется, – добавил Майк.
Я не знала, о чем он говорит. Расспрашивать я не стала, поскольку это не казалось мне важным.
– Майк, вы помните, откуда у вас синяк на лбу? – спросила я, пытаясь вернуться к тому, что действительно имело значение.
Майк повернулся к родителям.
– Доктор Дженкинс меня понимает. Мы с ней можем посмеяться. Она хороший врач. Для женщины, конечно! – сказал он, расхохотался и снова посмотрел на меня. – Шучу, шучу! Честно, просто скажите ей «биг бэнг», и она поймет, о чем вы говорите. Вам даже имя мое называть не придется.
– Вы понимаете, что имеют в виду ваши близкие, когда говорят, что вы получили травму и сами этого не осознали? – спросила я.
Майк ответил так, будто я вообще ничего не произносила.
– Просто назовите мое имя. Скажите, что Майк П. передает привет, и посмотрите на ее реакцию, – продолжал он гнуть свою линию.
– Майк, врач спрашивает тебя о синяке на лбу, – сказал его отец.
– Тс-с-с, – сказал Майк отцу. – Это касается только меня и врача.
– Он не всегда такой. Это из-за того, что мы здесь, – вмешалась его мать. – На парковке у нас произошла небольшая ссора, и, похоже, она его огорчила. Он был нормальным до приезда сюда.
– Нужно было парковаться там, где я сказал! Как бы то ни было, тс-с-с, вы оба. О чем мы с вами договаривались?!
Консультация продолжалась в таком же ключе. За крошечными фрагментами информации следовали истории, которые мало относились к нашему разговору.
– Майк, как вам кажется, что имеют в виду ваши родители, когда говорят, что после того происшествия вы перестали быть самим собой?
– Дайте-ка я расскажу вам об этих двоих, – произнес Майк и указал на родителей большим пальцем. – Мой отец большую часть своей жизни проработал адвокатом. Он любит быть правым и каждый день доказывает всем свою правоту. Его славная жена, моя мать, боготворит его и тоже хочет верить, что он всегда прав.
«Серьезные травмы головы в 60 % случаев приводят к развитию эпилепсии».
Странно, но этот комментарий ненадолго разрядил обстановку. Оба родителя улыбнулись, будто они лишь частично поняли, что сказал их сын.
– В чем именно он хочет быть прав? – спросила я.
Майк, похоже, не мог ответить. Он сразу же переключился на другую бесполезную историю. Время давно вышло, а мы так ничего и не добились. Мне нужно было прийти к определенному выводу.
– Серьезные травмы головы вроде вашей в 60 % случаев приводят к развитию эпилепсии. Никто не видел ваших припадков, но прикушенный язык, о котором вы говорили, может свидетельствовать о приступе. Думаю, вам следует начать принимать противоэпилептический препарат. Припадки опасны, особенно если вы живете один, так что их необходимо предотвратить. Я бы также хотела, чтобы вы прошли обследование. Вы согласны?
Боковым зрением я заметила, что его мать кивнула. Во время сложных консультаций я иногда будто вступаю в сговор с родственниками, хотя не имею на это права.
– Вы думаете, у меня эпилепсия?
– Ваша травма головы была настолько серьезной, что она вполне могла привести к припадкам. Я бы хотела, чтобы вы прошли несколько тестов и начали лечение от эпилепсии.
– Эпилепсия бывает только у детей.
– И у взрослых тоже.
– Я не уверен, что хочу принимать лекарства лишь из-за ваших догадок.
– Если у вас случится припадок, когда вы будете один дома, это может плохо закончиться. Я предлагаю вам то, что поможет сохранить вашу независимость.
Майк согласился. Я подозревала, что любые меры, которые дадут ему шанс на возвращение к прежней жизни, будут восприняты им с энтузиазмом. Ему, должно быть, было очень тяжело. Представить себе не могу, каково это, когда сегодня ты работаешь, а завтра болезнь или травма полностью выбивает тебя из колеи.
– Я также рекомендую вам обратиться в организацию, которая оказывает помощь людям, перенесшим травму головы. Думаю, там вам обязательно помогут справиться с трудностями, с которыми вы столкнулись после операции.
Майк расхохотался.
– Сколько еще мне нужно врачей? Разве сейчас не вы мой доктор? У меня только одна голова, док!
Еще полгода назад Майк был ответственен за многомиллионный бизнес. Теперь же мне было сложно убедить его на простые действия, связанные с его здоровьем.
– Возможно, стоит двигаться маленькими шагами? – робко предложил отец Майка.
Сын никак не отреагировал на его комментарий.
– Хорошо. Давайте предположим, что я назначу вам противоэпилептический препарат на всякий случай. Его прием можно будет прекратить, если я окажусь не права. Я также найду ваши старые томограммы и назначу дальнейшие тесты. Что думаете?
– Это похоже на план.
В отличие от костей и кожи мозг заживает медленно и не до конца, а рубцы, оставшиеся на нем, имеют большое значение.
Я проговорила некоторые инструкции. Майк вышел из кабинета с рецептом в руке и, похоже, был доволен. Но не успела дверь закрыться, как его мать снова заскочила в кабинет.
– Это действительно невозможно… – начала она.
– Я знаю. Обещаю, я сделаю все, что смогу, но сейчас…
Майк ворвался в кабинет и начал тыкать пальцем в мать.
– Ты пытаешься сговориться с судьей, мама?
Он вытолкал мать из кабинета и громко хлопнул дверью.
Я назначила ему ряд тестов. Пока я ожидала, когда Майк их пройдет, я получила томограммы из первой больницы, где он лежал. На левой височной доле и обеих лобных долях были сильные ушибы. Сломанные кости срастаются, разорванная кожа заживает, и рубцы, которые остаются, чаще всего не характеризуются никакими симптомами. С мозгом все обстоит иначе. Он заживает медленно и не до конца, а рубцы, оставшиеся на нем, имеют большое значение.
Майк приехал в больницу на обследование. МРТ подтвердила, что его мозг значительно поврежден. Как и ЭЭГ. Но явных признаков эпилепсии не было. Отец Майка написал мне электронное письмо, в котором говорилось, что Майк очнулся на полу у себя в квартире и понятия не имел, как он там оказался. Майк в последнее время стал таким ненадежным, что члены его семьи не знали, правда это или нет. Я обсудила ситуацию с психологом, который тоже работал с Майком. Мне нужен был совет. До этого я предполагала, что Майк может самостоятельно принимать решения, однако теперь я в этом сомневалась.
– Он может это делать, но вам необходимо все объяснять очень осторожно и точно, – сказал психолог. – Он не все усваивает с первого раза. Думаю, с ним нужно говорить в тихом помещении, где его ничто не отвлекает.
Я решила, что беседа с социальным работником тоже необходима. Майк и его семья в штыки восприняли мое предложение. Для них словосочетание «социальный работник» означало не то же, что для меня.
Я надеялась, что социальный работник предложит что-то, что даст Майку возможность оставаться в безопасности в своем окружении. В его собственной квартире, отдельно от семьи. Возможно, он бы даже подсказал, как Майку вернуться на работу. В неврологии, где пациенты выздоравливают очень редко, социальный работник иногда оказывается полезнее врача. Майк этого не понимал. Я отложила эту идею на потом.
На следующую консультацию Майк не пришел, и это меня расстроило. Мой секретарь обзванивает всех пациентов за несколько дней до приема и напоминает им, что их ждут. Майк подтвердил, что он приедет.
– На автоответчике есть сообщение о нем, – сказала секретарь, когда я подошла к ней после приема. – Его арестовали. Я не поняла смысла сообщения целиком. Звонила его мама, и она явно обеспокоена.
В неврологии, где пациенты выздоравливают очень редко, социальный работник иногда оказывается полезнее врача.
Я позвонила по номеру телефона, который оставила мать Майка, и поговорила с его отцом. Майка обвиняли в попытке изнасилования женщины в парке.
– Он просто ее напугал. Он сказал, что хочет поговорить с ней, а потом отпустил неприличный комментарий и не понял, почему ей не смешно. Знаете, он крупный мужчина, и неудивительно, что девушка его испугалась. Насколько мне известно, он не отошел, когда она его об этом попросила. Думаю, он ее схватил, но это ничего не значило. Я знаю, что он не хотел ничего плохого. До того нападения он никогда бы так не поступил.
– Конечно, не поступил бы, – согласилась я с ним.
Передо мной лежала копия отчета нейропсихолога: «Значительные нарушения работы лобных долей».
– Я уверена, что это прямой результат сильного повреждения мозга. Лобные доли играют ключевую роль в контроле над поведением и реакцией на действия окружающих. Это следствие травмы головы, и нам необходимо убедиться, что это все понимают. Ему нужна помощь, а не наказание.
– Ему нельзя в тюрьму. И нельзя иметь судимость за сексуальное домогательство.
– Давайте удостоверимся в том, что всем известно о его травме головы. Я согласна, что тюрьма или даже просто судимость лишь навредят ему.
Болезнь не всегда имеет физическое проявление. У человека может быть серьезное заболевание мозга, которое при этом никак не скажется на его физическом состоянии. Людям всегда сложно воспринимать внешне незаметные проблемы.
Лобные доли не дают плохим порывам претвориться в жизнь, помогают учиться и следовать правилам, а также контролируют сексуальные порывы.
У Майка были серьезно повреждены лобные доли, которые контролируют исполнительные функции человека. Сюда относится способность планировать, оценивать социальные ситуации, выполнять несколько дел одновременно и вести себя социально приемлемо. У всех нас периодически возникают плохие порывы, и именно лобные доли не дают им претвориться в жизнь. Лобные доли помогают нам учиться и следовать правилам. Они также контролируют сексуальные порывы. Человек может сохранить ум, но лишиться рассудительности. Майк оставался красноречивым, но это создавало обманчивое впечатление. Он прекрасно выглядел, что не сочеталось с тем, каким больным он был на самом деле.
Внешне незаметные проблемы, связанные с повреждением лобных долей, могут сделать жизнь сложной и опасной. Способность анализировать может стать очень слабой. Когда Майк готовил ужин дома в одиночестве, он не мог определить, пора ли доставать еду из духовки, и легко мог забыть, что сковорода слишком горячая, чтобы прикасаться к ней голыми руками. Если он выполнял два дела одновременно, например наполнял водой ванну и разогревал пищу, то одно из дел оборачивалось катастрофой. Хуже всего то, что Майк не мог быстро и правильно реагировать в случае такой катастрофы. Ему тяжело было общаться с людьми, особенно с малознакомыми. Майк не всегда понимал, что своим поведением заставляет другого человека чувствовать себя неловко.
Подобно тому как повреждение моторной коры ведет к параличу конечности, повреждение области, ответственной за исполнительные функции, ведет к изменению личности человека и его способности трезво оценивать ситуацию. Поведение Майка у меня на приеме на языке неврологов называется фронтальным. Он вел себя слишком несдержанно. Ему недоставало эмпатии, и он не мог понять, почему его родители так обеспокоены. Он постоянно повторял одно и то же. Он был негибким. Когда я пыталась изменить ход разговора, он не мог подстроиться.
Если Майк неприемлемо повел себя с незнакомкой в парке, то в этом не было его вины. Его поведение было симптомом повреждения мозга. Однако это не означает, что на любую травму, полученную жертвой его чрезмерного внимания, нужно закрывать глаза. Возможно, незнакомке стало бы легче, если бы она узнала, почему Майк так себя повел, а возможно, для нее это не имело никакого значения. Я написала письмо и отправила его Майку, чтобы тот мог воспользоваться им под руководством адвоката. Тем временем мне нужно было разгадать загадку о синяках непонятного происхождения и прикушенном языке.
Мозговые повреждения Майка вполне могли быть причиной эпилепсии, но никто еще не был свидетелем его припадка. Словам самого Майка о том, что произошло у него дома, нельзя было доверять. Майка ждал суд, но его отпустили под наблюдение родителей. Я не была уверена, что его стоит поместить в отделение видеотелеметрии. Я опасалась, что он плохо отреагирует на многочисленные ограничения и что персонал не сможет с ним справиться. Я обсудила его поведенческие проблемы со старшей медсестрой, и мы решили, что его все же следует поместить в отделение. Однако готовность к трудностям не исключает их появления. Майк поссорился с другим пациентом всего через несколько часов после прибытия в больницу. Меня попросили отправить его домой ради безопасности других пациентов и персонала, а также ради безопасности и благополучия самого Майка.
Я попросила медсестер закрепить электроды на его голове перед тем, как он покинул больницу. Его можно было отправить домой с ними и пишущим устройством в поясной сумке. Члену семьи Майка нужно было каждое утро привозить его в больницу, чтобы персонал мог просмотреть записанную информацию и по-новому закрепить электроды. Если у него вдруг случился бы припадок, то у нас по крайней мере сохранилась бы запись мозговых волн.
– Если мы что-то заметим, то снимем это на видео, – сказала мне мать Майка.
– Это бы очень помогло. Спасибо.
Повреждение лобных долей ведет к изменению личности человека и его способности трезво оценивать ситуацию.
В течение недели припадков у Майка не было. Результаты теста были в норме. Прошло так много времени, а мы до сих пор не сдвинулись с мертвой точки. Я все больше убеждалась в том, что причина его проблем, в чем бы она ни заключалась, не имела для Майка никакого значения. Я оказалась в ситуации, с которой сталкиваются многие врачи. Я знала, что его уже нельзя сделать прежним. В отчаянии я все равно искала то, что можно было бы исправить. Будто обнаружение причины припадков и ее устранение помогли бы Майку вернуться на работу, наладить отношения с девушкой, начать вести прежний образ жизни или освободиться от судебного разбирательства. Ничто из этого не было в моих силах.
* * *
Большинство людей, перенесших тяжелую травму головы, имеют похожие истории. Тяжелой считается травма головы, обладающая следующими характеристиками: длительная потеря сознания, перелом костей черепа, мозговое кровотечение, длительная амнезия.
Перемены, к которым приводит мозговая травма, часто не дают человеку объективно оценить себя. Один мой пациент, молодой учитель, был уверен, что сможет продолжать работать, после того как самые страшные последствия автомобильной аварии остались позади. Как и Майк, он чувствовал себя полностью здоровым, как только физические раны зажили. Он проработал в одной школе пять лет, поэтому хорошо знал свою работу. Планы уроков были у него в голове, но перед классом он утрачивал контроль. Он терялся, расстраивался и злился. Потребовался целый год ужасных уроков, прежде чем он понял, что уже не может воспринимать несколько звуков одновременно. Его височная доля была повреждена, а восприятие звуков происходит в ее боковой части. Такую проблему сложно выявить во время консультации, и самому пациенту ее трудно описать или понять. Учитель был уверен, что он полностью восстановился, и все остальные думали так же. Большую часть времени он чувствовал себя прекрасно, пока не оказывался перед классом шумных шестнадцатилетних подростков.
Кровоизлияние или травма, повредившие правую теменную долю, могут привести к тому, что человек перестанет замечать то, что происходит слева. Это касается и его тела.
Однажды я видела, как человек, перенесший травму головы, выступает на конференции. Он пришел поговорить с неврологами и нейрохирургами о собственном опыте черепно-мозговой травмы. Он получил ее во время катания на лыжах, и она привела к тяжелому мозговому кровотечению. Раньше он работал банкиром в Лондоне. Будучи успешным человеком до травмы, теперь он старался построить новую жизнь на основе новой версии себя. Он выступал в полукруглой лекционной аудитории. Он не понимал и не мог понять, что свою речь он адресует исключительно правой половине зала. Он уделял сидящим там людям все свое внимание, будто сидящих слева просто не существовало. Такое отношение можно было бы назвать пренебрежительным. Кровоизлияние или травма, повредившие правую теменную долю, могут привести к тому, что человек перестанет замечать то, что происходит слева. Это касается не только его окружения, но и его тела. Его левая рука перестает существовать. Он может надеть куртку только на правую половину тела, а о левой – забыть. Он может есть лишь с правой стороны тарелки. Кому-то нужно развернуть тарелку так, чтобы ее вторая половина попала в поле его восприятия. У такого человека проблемы не со зрением, а именно с восприятием. Что самое важное, он, как и Майк, не догадывается о своем нездоровье. Он не может понять, что уделяет недостаточно внимания чему-то, пока кто-то специально на это не укажет.
Майку было сложно осознать свои проблемы. Полагаю, именно с этим был связан тот факт, что он перестал приходить в клинику и отвечать на письма. Он не понимал, что сейчас медицинская помощь требуется ему, как никогда. Думаю, свой арест он не воспринимал как проблему медицинского характера. Я не видела Майка долгое время после его ареста. Затем мне позвонил его отец, чтобы посоветоваться. Майк был непреклонен и стал сам себе заклятым врагом. Я позвонила Майку, но он говорил со мной крайне неохотно. Я стала убеждать его обратиться в организацию, где помогают людям, перенесшим черепно-мозговые травмы. Я взывала к нему как к юристу, и это, похоже, сработало. Он не понимал, почему его поведение вызывает у людей негативную реакцию, но осознавал, в каком судебном разбирательстве замешан и в насколько серьезном положении находится. Его жизнь утекала как песок сквозь пальцы. Я пообещала, что рекомендованная мной организация постарается сделать его жизнь более нормальной. Я знала, что преувеличиваю. Моя цель состояла в том, чтобы он хотя бы избежал уголовного наказания. Понадобилось несколько месяцев консультаций и рекомендаций специалистов, чтобы Майк осознал свои новые жизненные ограничения. Психолог помогла ему понять, что он не сможет полностью восстановиться, и дала ему возможность поиграть с идеями, как выстроить новую жизнь. Майк пришел ко мне на прием после годового перерыва. Я сразу же заметила улучшения, стоило ему только войти. С ним было легче. Родители его сопровождали, и он был не против их присутствия.
– Осмелюсь спросить: судебное разбирательство до сих пор продолжается? – поинтересовалась я после нескольких вводных фраз.
– Она отказалась от обвинений! – сказал Майк, сжимая руки в кулаки, как боксер.
– Она забрала заявление, – пояснил отец Майка. – Я встретился с юристами и принес все медицинские справки. Мы все обсудили рационально. Женщина сказала, что она удовлетворена и не хочет все это продолжать.
– Я написал ей письмо с извинениями, – сказал Майк.
– Она даже о нем не просила! – добавил отец. – Мы передали его через ее адвоката.
Арест, как ни странно, пошел Майку на пользу. Он заставил его задуматься о том, как все изменилось после той травмы головы. Он заметил, что люди стали иначе на него реагировать. Психолог помогла ему связать действия и последствия. Она также помогла его родственникам: им нужно было перестать ждать, что Майк станет прежним. Перемены необходимы были всем.
– Нам просто нужно признать, что теперь Майк не такой, как прежде, – сказала его мать. – Нам требовалось время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Честно говоря, в некотором смысле он стал даже лучше, чем раньше. Он стал веселее. Теперь он не так амбициозен и более нежен. Мы видимся с ним гораздо чаще. Однако мне не очень нравится, что он произносит все, что придет ему в голову.
– Да, – добавил его отец. – Если вы хотите дозу правды – обратитесь к Майку!
Арест, как ни странно, пошел Майку на пользу. Он заставил его задуматься о том, как все изменилось после той травмы головы.
Загадка о таинственных травмах также была решена. Этому тоже способствовал арест. Майка заставили переехать к родителям, и это значило, что мать могла стать свидетелем его припадка. Однажды вечером он играл в видеоигры и вдруг упал на пол. Мать, услышав грохот, прибежала и увидела, как Майк бьется в конвульсиях.
Мне стало легче лечить припадки Майка, когда диагноз был подтвержден. До этого я опасалась, что он зря принимает противоэпилептические препараты. Я сказала Майку увеличить дозировку. Я испытала облегчение, когда это сработало. Однако мне быстро напомнили, что при лечении непредсказуемой и капризной болезни никогда не стоит слишком рано радоваться достижениям. У Майка не было припадков восемь месяцев, а затем случилось три за месяц.
– А ведь он почти вернулся к нормальной жизни, – сказала мне его мать.
Майк стал работать в фирме своего отца. Он мог справляться только с одним четко структурированным проектом за раз. Любая работа, которую ему давали, должна была выглядеть как список, из которого Майк мог вычеркивать пункты по мере выполнения задач. И его дом, и его рабочее место были тихими и подчиненными рутине. Возвращение припадков нарушило положительную динамику. Как раз тогда, когда я собиралась заменить его лекарства, стала ясна причина возвращения приступов.
Результат анализа крови, который должен был показать уровень противоэпилептических препаратов в крови Майка, оказался отрицательным. Если Майк и принимал таблетки, то об этом ничто не говорило.
– Я думал, что мне больше не нужны лекарства, – сказал мне Майк, когда мы начали это обсуждать.
Он резко перестал принимать таблетки по собственному желанию.
– Они всегда будут вам нужны, Майк, – сказала я ему. – Повреждения в вашем мозге никуда не денутся, как и эпилепсия. Однако от припадков можно избавиться, если вы будете принимать лекарства.
Для приема таблеток Майку тоже требовалось отдельное расписание.
– Вы никогда не говорили, что мне придется принимать их всегда. Вам нужно работать получше, доктор О’Салливан! – сказал Майк и рассмеялся.
Это правда.
11. Элеанор
Медицина – это наука о неуверенности и искусство вероятности.
Уильям ОслерВо вторник, 16 декабря 1997 года, в 18:30 четыре миллиона японских детей сели перед телевизором, чтобы посмотреть «Электронного воина Поригона». Это была одна из серий мультфильма «Покемон», который показывали каждую неделю в это же время. Примерно через двадцать минут после начала серии хорошо известный персонаж Пикачу взорвал несколько ракет. Аниматоры использовали сине-красный мигающий свет, чтобы создать эффект взрыва. Говорят, именно на этом моменте детям, сидящим перед экраном, стало плохо. Кто-то испытал лишь головокружение и тошноту, а кто-то потерял сознание и даже забился в конвульсиях.
Менее 5 % эпилептиков являются светочувствительными, и это в основном дети.
В службу «Скорой помощи» поступило невиданное количество звонков. В отделения первой помощи доставили шестьсот восемьдесят пять пострадавших детей. Ста пятидесяти из них требовалась госпитализация.
Позднее тем же вечером в новостях сообщили, что произошло. Во время репортажа снова были показаны кадры из мультфильма. Звонки в «Скорую помощь» возобновились…
Мы все слышали сделанное в новостях заявление о том, что «фрагмент содержал световые вспышки». Многие люди считают, что мигающий свет способен провоцировать эпилептические припадки. Это, конечно, правда.
У определенного числа эпилептиков случается приступ в ответ на мигающий свет. Это одна из причин, по которым люди с недавно диагностированной эпилепсией опасаются пользоваться компьютером или сидеть слишком близко к телевизору. Некоторые даже переживают (а зря!) из-за мигающих флуоресцентных ламп в супермаркетах. Однако правда заключается в том, что большинству людей вообще не стоит тревожиться по этому поводу. Менее 5 % эпилептиков являются светочувствительными, и это в основном дети. Маловероятно, что у каждого ребенка, которому стало плохо во время просмотра «Покемона», была эпилепсия, но у небольшого числа из них все же случился припадок, спровоцированный светом.
Светочувствительность (фотосенситивность) – это реальная характеристика этого заболевания, но значение ее преувеличено. Как и в случае со многими фактами о мозге, правда более странная, чем слухи. Эпилепсия часто гораздо причудливее, чем окружающие ее выдумки.
* * *
Элеанор было девять, когда мать впервые заметила ее неуклюжесть. Девочка любила школу, была умной и талантливой. Ей также нравились танцы. Раньше она хорошо танцевала, но потом потеряла координацию и стала спотыкаться. Во время плие, которое всегда прекрасно ей удавалось, она упала.
У Элеанор была большая семья. У нее были две старшие сестры, младший и старший братья. Родители понимали, что резкая перемена в их дочери не просто результат скачка роста в предподростковом возрасте. Девочку отвели к семейному врачу, но тот не обнаружил никаких отклонений. Мать даже попросила Элеанор показать врачу основные балетные движения, чтобы тот понял, в чем проблема, но она отказалась.
– Помню, я была в ужасе, – сказала мне Элеанор, вспоминая тот случай много лет спустя. – Мне было так стыдно.
Причину проблем Элеанор было очень сложно выявить. Большую часть времени с ней все было в порядке. Только когда она занималась чем-то подвижным, например спортом или балетом, становилось очевидно, что что-то не так. Она не падала в обморок, но теряла равновесие и пошатывалась из стороны в сторону.
Элеанор была слишком мала, чтобы осознавать наличие у себя проблем со здоровьем. Однако родители, чьи старшие дети росли без каких-либо трудностей, были убеждены, что с Элеанор не все в порядке. Каждый раз, когда они отводили ее к врачу, тот утверждал, что девочка – воплощение здоровья.
Элеанор начала тревожиться чуть сильнее, когда потеря равновесия переросла в падения. Однажды она упала несколько раз за неделю и была вынуждена прекратить ходить в школу.
– В какой-то момент я не смогла ходить, – сказала мне Элеанор. – Не знаю, что меня останавливало, но помню, я была очень расстроена.
В течение восьми лет каждые шесть месяцев у Элеанор наступал период, когда она врезалась в стены и падала ни с того ни с сего.
Из-за такого значительного ухудшения состояния девочку решили показать неврологу. Понадобилось несколько недель, прежде чем она попала на прием. К тому моменту ей уже стало лучше. Невролог осмотрел ее и назначил несколько основных тестов. Их результаты оказались нормальными.
В течение следующих восьми лет Элеанор пребывала в замкнутом круге. Каждые шесть месяцев у нее наступал период, когда она врезалась в стены и падала ни с того ни с сего. Врачи продолжали повторять, что Элеанор – обычный неуклюжий подросток и что она это перерастет. Однако родители были уверены, что те ошибались. Они хорошо знали свою дочь. Они видели, как меняется ее состояние от недели к неделе. От безысходности мать отвела Элеанор к целителю.
– Он положил руки мне на голову, – сказала мне Элеанор. – Положил руки!
– Это помогло? – спросила я.
– Если б помогло, я бы здесь не сидела! Чуда не произошло.
Она смеялась, когда рассказывала об этом, но я догадывалась, насколько беспомощными чувствовали себя ее родители, раз пошли на это. И мать, и отец Элеанор были исследователями, и я понимала, что они нечасто прибегали к нетрадиционным методам лечения.
– Как все в итоге выяснилось?
– Профессор Ф. поставил диагноз.
К семнадцати годам Элеанор неделю в году проводила в постели. Врач общей практики постоянно направлял ее к узким специалистам, пока источник проблем не был обнаружен. Невролог попросил членов семьи записать на видео, как выглядела их дочь, когда не могла ходить.
– Мама принесла видеозапись профессору Ф., – сказала мне Элеанор. – Помню, я пришла в ярость. Я не хотела, чтобы меня снимали, но она это сделала. Профессор просмотрел видео и сказал, что это эпилепсия.
Вот так болезни могут обманывать обследования. Результаты всех тестов Элеанор были в норме. Семья девушки записала на видео, как та спонтанно упала на пол. Опытный профессор неврологии сразу же заподозрил, что это эпилепсия. Он назначил лечение. Я встретилась с Элеанор спустя еще восемь лет.
– Что происходило за последние несколько лет? – спросила я, зная, что она давно не обращалась к тому врачу, который поставил ей диагноз. – Почему вы не посещали клинику по лечению эпилепсии?
– Я не думала, что мне это необходимо, – сказала Элеанор.
– До недавнего времени с ней все было в порядке, – подтвердили ее родители.
– Вы до сих пор принимаете противоэпилептические препараты?
– Я принимала ламотриджин, но не думаю, что он помог.
После того как Элеанор поставили диагноз, ей назначили противоэпилептический препарат в низкой дозировке. Ей казалось бессмысленным принимать его ежедневно утром и вечером. Припадки не случались каждый день, но повторялись примерно каждые полгода. Это как сильно простужаться дважды в год: болезнь раздражает, когда она в разгаре, но в остальное время вы о ней не думаете. Противоэпилептический препарат не повлиял на частоту приступов, поэтому Элеанор прекратила его принимать. Постепенно она перестала ходить к неврологу.
– Почему вы сейчас здесь? – спросила я.
– Со мной случилось нечто странное. Я стала работать на круизном лайнере, однако не смогла нормально передвигаться, когда была на борту. В итоге мне пришлось уволиться. Я хочу знать, что со мной.
Элеанор решила не становиться профессиональной танцовщицей, потому что временами ей было тяжело держать равновесие. Иногда она могла танцевать, а иногда – нет. Ей все еще нравилось выступать и купаться в лучах славы, поэтому она сдала экзамены по актерскому мастерству. Затем она поступила в колледж, где начала изучать исполнительские виды искусства.
– Я хочу стать режиссером, – сказала мне Элеанор. – А на лайнер я устроилась, потому что хотела путешествовать.
Элеанор устроилась аниматором на карибский круизный лайнер. Время, когда она должна была приступить к своим обязанностям, было не лучшим. Погода была ужасной, а море – бурным.
– Всех тошнило. Весь персонал. Мучилась не только я, – сказала она.
Это была правда. Весь новый персонал страдал морской болезнью в течение первой недели. Однако проблема Элеанор была не такой, как у других. Даже когда ее не тошнило, она не могла ходить по прямой. В узких коридорах лайнера ее бросало от стены к стене. В конце концов ей пришлось уволиться и улететь домой.
– Докуда вы доплыли? – спросила я.
– До Сент-Люсии.
– Не самое плохое место, чтобы закончить путешествие.
– Я была очень огорчена, но не могла дальше находиться на лайнере.
– Кажется, вы описываете скорее проблемы с равновесием, а не припадки, – сказала я ей.
Я попросила Элеанор встать и пройтись, чтобы я посмотрела. Я сказала ей ступать с пятки на носок, а затем пройтись на носочках и на пятках. Я проверила рефлексы и координацию. Все было в порядке.
Как и любой другой детектив, невролог должен подвергать сомнению услышанную историю, если что-то в ней показалось ему странным.
Обследование ничего не выявило, но это не имело значения. Важна была история. Другой невролог решил, что это эпилепсия, но я не могла с ним согласиться. Эпилептические припадки обычно имеют темп, который я распознаю. Приступы, как правило, кратковременны: длятся несколько секунд или минут. Это как удар молнии. Элеанор иногда не могла ходить в течение нескольких дней. Периоды ее плохого самочувствия были слишком длительными, чтобы их можно было связать с припадком. Как и любой другой детектив, невролог должен подвергать сомнению услышанную историю, если что-то в ней показалось ему странным. В моем мозгу щелкнула ассоциация. Я не знала, что не так с Элеанор, но она заставила меня вспомнить о другой пациентке.
* * *
Я лечила Эмили, когда была еще неврологом-практикантом. Как и Элеанор, она была молодой женщиной, которая временами не могла встать с постели. Ее направили к моему супервизору с письмом, в котором говорилось, что у нее вроде бы нет ничего серьезного. Будто невозможность подняться с кровати – это пустяки. Я встретилась с Эмили в неврологическом отделении, после того как мой супервизор решил положить ее в больницу для обследования.
«Примерно раз в месяц все мое тело становится куском свинца, – сказала мне Эмили. – Я просыпаюсь утром, и мне кажется, что на моей груди грузовик. Мои руки и ноги становятся слишком слабыми, чтобы держать туловище».
История Эмили была запоминающейся, причем не только своим началом. На десятый день рождения у Эмили была вечеринка в саду. Ей разрешалось устраивать большой праздник только раз в три года, по очереди с братом и сестрой. Она была счастлива. Вечеринка прошла прекрасно, но на следующее утро матери было тяжело заставить ее подняться с постели. Когда девочка все же встала, ее походка была странной. Мать разрешила ей вернуться в постель и еще немного поспать. Она испугалась и уже собиралась позвонить врачу, как Эмили проснулась. В этот раз с ней все было нормально.
После этого у Эмили развилась «аллергия» на вечеринки. И на усталость. И на спорт. И на вредную еду. Из-за всего этого Эмили не могла встать с постели. Поначалу это состояние длилось один-два часа. Но со временем Эмили стала пребывать в нем по несколько дней. Она, как и Элеанор, обращалась к множеству врачей. Кто-то утверждал, что она просто хочет привлечь к себе внимание. Такое заявление злило ее и ее семью. Один врач решил, что у нее аллергия на пищевые добавки, а другой предположил, что она не переносит глютен. Большинство специалистов не догадывались, что с ней не так.
Самый простой способ поставить неврологический диагноз – определить анатомический источник симптомов. Чем переживать по поводу того, что это за патология, разумнее определить ее расположение в нервной системе, а затем продолжать поиски там. Определить локацию патологии можно в ходе клинического обследования. Если у человека слабеет рука, то нужно найти анатомические пути, идущие от кончиков пальцев до мозга, которые позволяют руке двигаться.
Однако некоторые неврологические проблемы настолько редки, что такой способ к ним неприменим. Тогда нужно попробовать проследить закономерности и сопоставить их с тем, что вы уже слышали ранее. Проблема Эмили сразу же вызвала подозрения у моего супервизора, которые он решил проверить, положив девочку в больницу.
Самый простой способ поставить неврологический диагноз – определить анатомический источник симптомов.
Существует очень малое число крайне редких заболеваний, которые вызывают временный паралич у молодых людей. Для работы мышц электрическая активность не менее важна, чем для работы мозга. Сокращение и расслабление мышц зависит от разницы между внутриклеточной и внеклеточной концентрациями ионов натрия, калия, кальция и хлора. Дисбаланс этих ионов поддерживается благодаря особым проходам в клеточных стенках, которые называют ионными каналами. Каналы открываются и закрываются, отвечая на химические сообщения от нервных окончаний. Ионы электрически заряжены, и их движение внутрь клеток и наружу меняет разность потенциалов по всей клеточной мембране. Такое движение ионов необходимо для нормальной работы мышц. Если один из ионных каналов будет плохо функционировать, мышца может утратить способность сокращаться и стать вялой. При одном из таких заболеваний, называемом «каналопатия», потребление богатой углеводами пищи приводит к тому, что в мышечные клетки проникает калий. Если человек с таким заболеванием будет есть слишком много таких продуктов, у него может развиться временный паралич.
У Эмили был гипокалиемический периодический паралич[7]. Ей становилось плохо после вечеринок, потому что она съедала много праздничных блюд, которые обычно богаты углеводами. Это очень редкое заболевание. Оно встречается у одного из ста тысяч человек.
* * *
Сколько пациентов принимает врач за все годы работы? Я не знаю, но, поскольку я уже встретила Эмили, было маловероятно, что ко мне обратится еще кто-то с похожей проблемой. Но по-видимому, Элеанор страдала чем-то подобным. Что-то на борту лайнера ухудшило ее самочувствие. Но что?
– Ваше питание на борту значительно отличалось от привычного? – спросила я Элеанор.
– Нет, – сказала она. – Знаю, это глупо, но я очень внимательно слежу за тем, что ем. Я ответственно отношусь к своему питанию.
– Она очень следит за питанием, – подтвердила ее мать.
– Ваш график работы был нефиксированным?
Возможно, она не высыпалась? Может, была в стрессе?
– Я работала поздно вечером, но мне не приходилось рано вставать, так что я не была сильно утомлена. И я определенно не испытывала стресса. Работа мне нравилась.
Я не знала, в чем дело, и призналась в этом Элеанор. Но я должна была попытаться. Я направила ее на томографию и ЭЭГ. Их результаты оказались нормальными, как я и ожидала. Тесты на такие же мышечные проблемы, как у Эмили, были отрицательными. Это было нормально: все эти результаты – исходный показатель, с которым сравниваются результаты новых тестов в случае возвращения симптомов. Если приступы Элеанор будут вести себя так же, как в последние восемь лет, то они вернутся. Все, что мне оставалось, – это ждать. Проблема Элеанор с передвижением продлилась десять дней. Мы договорились, что, когда это случится в следующий раз, она мне позвонит. Я положу ее в больницу, запишу на видео и проведу все тесты повторно.
Она позвонила мне через несколько месяцев, и я немедленно поместила Элеанор в отделение видеотелеметрии. Когда она приехала, мать и отец ее поддерживали. Я сразу же поняла, что это не та Элеанор, которую я видела раньше. Она определенно некрепко стояла на ногах. Родители держали ее, пока она шла. Я попросила их отпустить дочь, чтобы я могла получше рассмотреть ее движения. Элеанор отказалась.
– Я боюсь, – сказала она.
– Я буду рядом и подхвачу вас, если будет нужно, – заверила я ее.
– Нет, – ответила она твердо. – Вы не сможете среагировать достаточно быстро.
Смотря, как родители поддерживают Элеанор и помогают ей лечь в постель, я сравнивала ее с марионеткой. Когда мать снимала с дочери куртку, она отошла на мгновение, но была готова сразу же подхватить Элеанор при необходимости. Я не понимала, действительно ли требовалась такая бдительность.
Хотя стоя она казалась хрупкой и встревоженной, лежа она была уверенной и прекрасно координированной.
Элеанор не вставала, так что мне пришлось осмотреть ее в лежачем положении. В этой позиции ее руки и ноги были очень сильны. Я попросила ее быстро поднять сначала правую, а потом левую пятку к бедру; дотронуться до носа, а потом провести пальцем между своим носом и моим поднятым пальцем; сделать вид, что она играет на фортепиано. Хотя стоя она казалась хрупкой и встревоженной, лежа она была уверенной и прекрасно координированной. Я не могла найти объяснение ее страху стоять. Был ли страх сильнее реальности?
– Подвигайтесь по палате как можно больше, – сказала я ей. – Я не смогу вам помочь, если увижу лишь то, как вы целый день лежите в постели.
– Постараюсь, но я боюсь ходить. Можно позвать медсестер, чтобы они мне помогли?
– Конечно, если это необходимо. Как вы ходите в туалет дома?
– Мама меня отводит. Ночью я при необходимости использую утку, – сказала Элеанор.
Она выглядела очень смущенной.
– Вы точно не можете пройтись самостоятельно, чтобы я могла за вами понаблюдать? – спросила я.
Я понятия не имела, для чего ей все эти меры предосторожности.
– Если нужно… – сказала Элеанор и начала сдвигаться с подушек, на которые она опиралась. Она села прямо. Сделав это, Элеанор сразу же упала обратно на подушки.
– Что случилось? – спросила я.
Я не поняла, она это намеренно сделала или действительно упала.
– Это был он. Припадок, – ответила мне Элеанор.
Все произошло так быстро, что я не успела сообразить. Она не теряла сознание, и никаких непроизвольных движений не было. Она просто села и упала назад, как тряпичная кукла.
– Для начала довольно, – сказала я, смутившись. – Теперь я хотя бы знаю, что искать. Но нажимайте на кнопку каждый раз, когда это случается, хорошо? Все происходит так быстро, я не хочу ничего упустить.
– Я нажму, если смогу.
– Я буду здесь и сделаю это, – сказала ее мать. – Можно мне остаться с ней и на ночь тоже? Я переживаю по поводу того, как она доберется до уборной.
Пребывание в отделении видеотелеметрии в большинстве случаев гораздо мучительнее, чем в обычной больнице. Ограничений слишком много. Поэтому матери Элеанор позволили быть с дочерью не только в часы посещений. Медсестра установила электроды, и мы стали ждать.
Утром я пришла на работу и села просматривать видеозапись вчерашнего дня. Как обычно, я начала с просмотра списка событий на компьютере, чтобы узнать, нажимала ли Элеанор на кнопку. Она нажимала ее более пятидесяти раз. Я нашла момент, где она нажимает на кнопку первый раз, и отмотала назад на пару минут.
Элеанор лежала так же, как когда я ее покинула. Она была окружена подушками и смотрела чуть влево, ее мать сидела в кресле. Они болтали и смеялись. Она выглядела расслабленной и счастливой. На видеозаписи я услышала стук в дверь. В ответ на него Элеанор совсем слегка приподняла голову, чтобы посмотреть на дверь, расположенную справа от нее. Не успела она повернуться, как ее голова, приподнятая от подушки всего на сантиметр, упала. Ее мать протянула руку и нажала на кнопку.
«Черт», – сказала Элеанор и стукнула по кровати руками. Через мгновение она снова подняла голову, но на этот раз без каких-либо трудностей. Она поприветствовала медсестру, которая зашла в палату. Еще одна медсестра прибежала на звук тревоги.
«Вы нажимали на кнопку или это была ошибка?» – спросила вторая медсестра. Она приблизилась к постели и посмотрела на Элеанор. «Вы выглядите нормально. У вас был припадок?» – «Да, но он прошел. Они всегда очень короткие».
Я нашла следующий момент, где Элеанор нажимает на кнопку. На этот раз она почти сидела, так как под спиной у нее появились дополнительные подушки. Перед ней стоял столик. Она готовилась пообедать. Я заметила, что она поставила руки по бокам, чтобы немного придвинуться к столу. Как только она попыталась это сделать, все ее тело обмякло, и она упала на подушки. Это длилось мгновение, как вспышка. Она не теряла сознание, а, упав, застонала и огорчилась. Как только все кончилось, она снова поставила руки по бокам, и на этот раз успешно придвинулась к столу.
Я переходила от одного момента с нажатием кнопки к другому. Большинство из них были очень похожи на первые два. Слегка отличался лишь тот момент, когда Элеанор попыталась поднять вилку с едой. На середине этого действия ее рука обмякла и повисла. Вилка выскользнула из руки и приземлилась на кровать рядом с ней.
Я стала искать припадок, который произошел бы с Элеанор вне кровати. Найти такой было трудно. Она лежала в одном положении практически целый день. Прошло несколько часов, прежде чем я увидела полупадение, которое случилось, когда Элеанор попыталась стоять. Похоже, ей нужно было в уборную, и ей пришлось встать с постели. Ее мать была рядом, но они обе нервничали и решили позвать на помощь медсестру. Мать приподнимала Элеанор очень медленно и осторожно, пока та не села на край кровати. Медсестра стояла с одной стороны от девушки, а мать – с другой. Элеанор долго набиралась смелости, чтобы попробовать встать. Меня снова поразили чрезмерные меры предосторожности, однако я быстро поняла, зачем они были нужны. Как только Элеанор встала, все ее тело обмякло. Она не могла себя поддерживать. Она начала падать вперед, но мать быстро ее толкнула таким образом, чтобы девушка упала на кровать. Она, обессиленная, рухнула на спину.
«Вот черт!» – услышала я ее восклицание.
Она разозлилась из-за того, что ее поход в уборную так грубо прервался. Она пролежала на спине меньше секунды. После этого она сразу же распрямилась и продолжила свое путешествие в уборную. Мать и медсестра крепко ее держали. Она сделала несколько шагов по комнате и исчезла из поля видения камеры. В уборной она снова что-то крикнула, и я поняла, что это опять случилось.
К моменту просмотра пятидесятого припадка я четко видела, что у всех приступов есть общие черты. Элеанор пыталась двигаться, и, как только она это делала, ее мышцы теряли тонус, что вело к падению. На ЭЭГ был виден не зубчатый рисунок, характерный для фокальных припадков, а скорее смешение крошечных волн, сосредоточенное в теменной области. Зона смешения находилась не справа или слева, а четко посередине головы. Припадки Элеанор не были традиционными, но ЭЭГ подтверждала, что единственным объяснением ее проблем может быть эпилепсия. Я уже в этом не сомневалась.
Эпилепсия – уникальное заболевание, поскольку оно может быть причиной как потери той или иной функции, так и ее активизации. Один человек теряет способность говорить, а другой начинает говорить неконтролируемо. Кто-то слепнет, а кто-то видит замысловатую галлюцинацию. Мышцы могут напрячься и начать сокращаться или, наоборот, потерять силу и тонус. У Элеанор возникала атония – полная потеря тонуса, из-за которой ее мышцы расслаблялись до такой степени, что ее тело не могло поддерживать само себя.
Мышечный тонус – это продолжительное частичное сокращение мышц, которое необходимо для поддержания вертикального положения тела. Лобные доли контролируют многие аспекты движения. Первичная моторная область осуществляет простейший контроль над произвольным движением. Дополнительная моторная и премоторная области лобной доли отвечают в основном за планирование и ориентацию в пространстве. Они также вовлечены в удержание осанки. Припадки, возникающие в дополнительной моторной области, проявляются в виде потери мышечного тонуса, особенно постурального. В этом, похоже, и была проблема Элеанор. Все мышцы ее тела теряли тонус одновременно. Это быстро проходило, но она успевала упасть. В припадок был вовлечен только мышечный тонус, и сознание она не теряла.
Эпилепсия может быть причиной как потери той или иной функции, так и ее активизации.
Когда я просматривала видеозапись, меня поразило кое-что еще. У Элеанор не было приступов, когда она спокойно лежала в постели и при этом разговаривала с членами семьи или смотрела телевизор. Припадки случались лишь тогда, когда она начинала двигаться. Кто-то постучал в дверь, и она повернула голову – припадок. Она подняла вилку – припадок. Она попыталась встать – припадок. Ее приступы провоцировались движением. Это были рефлекторные припадки.
Я подумала о круизном лайнере. Элеанор могла ходить по земле. Прогулка по пляжу Сент-Люсии не была связана с какими-либо трудностями. Длинные же коридоры качающегося лайнера заставляли ее постоянно падать. Проблема была в движении судна и влиянии этого движения на ее постуральные (участвующие в поддержании позы) мышцы.
Рефлекторная эпилепсия – это группа особых эпилептических синдромов, при которых припадок вызывается определенным стимулом. Самая распространенная разновидность рефлекторной эпилепсии – фоточувствительная. Более редкие разновидности только доказывают, насколько таинственен мозг.
Бывают эпилепсии, при которых припадок вызывается определенным стимулом. Им может быть алкоголь, запах духов, ссоры с тещей, солнечный свет через занавеску, музыка и даже мысль.
Хуссейн – один из нескольких моих пациентов, у которых случаются припадки во время еды. Приступ не происходит каждый раз, когда Хуссейн ест, но в другое время припадков практически никогда не бывает. Это довольно распространенная форма эпилепсии. Если в отделении видеотелеметрии человек говорит, что у него случается припадок, только когда он ест пиццу пепперони, мы приносим ему ее, чтобы спровоцировать приступ. Триггеры бывают очень странными, и, когда мои пациенты называют даже самые невероятные из них, я всегда им верю. Мы экспериментируем практически со всеми предложенными триггерами: алкоголем, запахом духов, ссорами с тещей, солнечным светом через занавеску и внезапным шумом.
Припадки Филипа были особенно необычными. Они случались, когда он слышал определенную музыку. Однажды он был в кафе, когда звуки акустической гитары неожиданно раздались из громкоговорителей. Филип тут же упал и стал биться в конвульсиях. Такая эпилепсия называется музыкогенной. В случае с ней мозг не может выносить определенный жанр музыки, частоту или высоту звука. Иногда даже мыслей о музыке достаточно, чтобы вызвать припадок. Это перекликается с еще одной редкой разновидностью эпилепсии, связанной с мыслительной деятельностью. При ней приступ могут спровоцировать кубик Рубика, определенная настольная игра, решение задачи и даже какая-то конкретная мысль.
Люди с рефлекторной эпилепсией, возможно, имеют гиперчувствительные области коры мозга, совпадающие с теми областями, которые физиологически активизируются во время определенной сенсорной стимуляции и когнитивной или двигательной активности. Когда на эти области воздействует конкретный стимул (чтение, мышление, движение, питание), активизируется значительная область коры мозга, и случается припадок.
Была ли странная история Элеанор примером рефлекторной эпилепсии? Атонии, вызванной движением? Ответы на эти вопросы я получила позднее на той же неделе. Мы продолжали вести видеозапись, чтобы посмотреть, какую еще информацию можно будет получить. Каждый день число ее припадков увеличивалось. К концу недели стало ясно, почему Элеанор неделю в году не покидает постели. На пятый день у нее случилось пятьсот приступов. Она вообще не могла двигаться. Короткий путь до уборной стал недостижимой целью. Медсестры поставили горшок прямо у кровати Элеанор. Когда ей нужно было им воспользоваться, она звала их на помощь. Они тактично направляли камеру в потолок и помогали девушке переместиться. Я удивлялась, как ей удавались даже такие маленькие движения, как вдруг заметила еще одну закономерность. Когда Элеанор нужно было сесть на край кровати, она волновалась. Она начинала готовиться к движению. Она двигалась – и тут же случался припадок. Однако сразу после этого была пара минут, в которые приступы не происходили и она могла сделать то, что задумала. Вскоре я поняла, что Элеанор иногда намеренно вызывала припадок. Она двигалась, он случался, а затем наступало временное окно, когда она могла сделать то, что необходимо: поднести вилку ко рту, сесть на горшок, устроиться в постели поудобнее.
Эпилептический статус может представлять собой скопление маленьких припадков, между которыми пациент не успевает полностью восстановиться.
Я сомневалась в необходимости усиленных мер предосторожности, когда Элеанор только зашла в палату с родителями. Вскоре мне стало стыдно за это. Ее страх был более чем обоснован. Когда число ее припадков за день достигало нескольких сотен, становилось очевидно, что при отсутствии мер предосторожности ситуация станет опасной. Она не теряла сознание, и приступы были очень короткими, но полная потеря двигательного контроля делала ее крайне уязвимой. На записи я увидела, как Элеанор подносит бутерброд ко рту и кусает. Как только она это сделала, все ее тело обмякло, и она рухнула на подушки. Ее руки опустились, но бутерброд каким-то образом остался во рту. Ее мать, которая большую часть времени проводила у постели дочери, на секунду отвлеклась. Она повернулась к Элеанор как раз вовремя, чтобы убрать бутерброд и дать дочери закончить пережевывать и глотать пищу. В другой раз Элеанор ела суп, как вдруг упала вперед. Она ударилась лицом о стол и оказалась буквально в сантиметре от тарелки. Она поцарапала лоб, но, к счастью, избежала ожога. После этих случаев во время еды за Элеанор присматривали особенно внимательно.
К концу недели Элеанор даже не пыталась вставать.
– Думаю, нам нужно что-то срочно предпринять, – сказала я ей.
Эпилептический статус в случае генерализованного тонико-клонического припадка грозит скорой смертью пациента. Если быстродействующие противоэпилептические препараты не помогают, то пациента необходимо срочно поместить в реанимацию. Там человека обездвиживают, подключают к аппарату искусственного дыхания, а мозг анестезируют, чтобы снять патологическую электрическую активность. Однако эпилептический статус может представлять собой череду коротких бессудорожных припадков, между которыми пациент не успевает полностью восстановиться. Элеанор никогда не теряла сознание, поэтому ее приступы были не так опасны для жизни, как непрекращающиеся конвульсии. Тем не менее они были настолько многочисленны, что являлись эпилептическим статусом и, соответственно, поводом для тревоги.
– Я хочу увеличить дозировку вашего противоэпилептического лекарства, чтобы посмотреть, можно ли взять припадки под контроль.
В прошлом, когда Элеанор оказывалась прикована к постели, она не искала лечения. Она ждала, когда проблема решится сама. Я не могла просто наблюдать за тем, как много припадков у нее случается в день, и надеялась снять эпилептический статус таблетками. Элеанор сомневалась.
– Не знаю, хочу ли я принимать больше лекарств, – сказала она мне.
Элеанор принимала очень низкую дозировку одного противоэпилептического препарата на протяжении многих лет. Это ей не помогало.
– Вы можете избежать травм во время припадков сотню раз, но на сто первый вам может не повезти. Я также беспокоюсь по поводу того, как такое число приступов сказывается на мозге.
Обычно во время эпилептического статуса человек находится без сознания. Его жизнь в опасности, поэтому меры экстренной помощи необходимы. Элеанор была в полном сознании и беседовала со мной о том, как поступить. Однако она была прикована к постели, не могла посещать уборную и находилась под постоянным наблюдением. Для нас обеих это была нереалистичная ситуация. Я опять спросила, не желает ли она принять быстродействующий противоэпилептический препарат. Она согласилась.
Сначала я давала ей таблетки, постепенно повышая дозировку. Припадки продолжались. Когда ситуация лишь ухудшилась, я назначила ей тридцатиминутные капельницы с препаратом. Такое лечение обычно действует за минуты, однако в этот раз от него не было никакого эффекта. Каждый день мы с медсестрами считали припадки. Их было больше сотни ежедневно. Они все были одинаковыми: после каждой попытки сдвинуться с места Элеанор падала, как тряпичная кукла.
Нахождение Элеанор в больнице не было плодотворным. Диагноз «эпилепсия» был однозначно подтвержден. Я понимала, что припадки возникают в дополнительной моторной области, но Элеанор от этого не становилось лучше. Эта череда приступов была самой продолжительной за все годы. Как это часто бывает в случае с эпилепсией, мне пришлось лечить Элеанор, не понимая проблемы целиком. Мозговые волны, зафиксированные электроэнцефалографом, были единственным объективным доказательством того, что с ее мозгом что-то не так. ЭЭГ подтверждала эпилепсию, но место зарождения разряда было неоднозначным, а результаты томографии – нормальными. Я могла работать лишь с тем, что увидела своими глазами и о чем прочитала в медицинской литературе.
У шестнадцатилетнего подростка из Пенсильвании было тоническое напряжение руки и ноги, которое провоцировалось ползанием по канату, отжиманиями, бегом и многими другими видами физических нагрузок. Результаты всех тестов были в норме. Предполагаемым диагнозом стала эпилепсия, но от лечения мальчику не стало лучше. У шестнадцатилетнего итальянского мальчика немела рука в ответ на движение пальцами. Поиск монет в кармане всегда провоцировал припадок. Согласно результатам томографии возможная патология могла располагаться в правой лобной доле. Противоэпилептические препараты позволили взять приступы под контроль. У тридцатипятилетнего жителя Лондона одна из конечностей напрягалась и билась в конвульсиях, когда он делал упражнения на растяжку. Это также могло произойти из-за стресса или сильного смущения. Лекарства не помогали. В результате диагностической операции врачи обнаружили рубец на дополнительной моторной области левой лобной доли. После удаления рубца мужчина периодически испытывал слабость в правой руке, однако припадки прекратились.
Элеанор принимала припадки как нечто неизбежное и использовала перерывы между ними, чтобы успеть сделать как можно больше.
Ни у одного человека из тех, кого я знаю, не было такой же эпилепсии, как у Элеанор. Даже если бы такой человек был, двое не могут воспринимать ситуацию одинаково, и на лекарства все тоже реагируют по-разному. Мы с Элеанор обе учились чему-то новому, пока шли по этому пути. Я пыталась найти подходящий для нее вариант лечения, а она показывала мне, как человек справляется с уникальной болезнью, в случае с которой даже врачи не знают, что посоветовать. Элеанор знала об опасностях и о том, как их можно избежать. Она принимала припадки как нечто неизбежное и использовала перерывы между ними, чтобы успеть сделать как можно больше. Она научилась понимать, какая еда безопасна, а каких горячих блюд ей стоит избегать, если она не находится под строгим наблюдением.
Через некоторое время отсутствие прогресса стало очевидно всем нам.
– Мне кажется, от лекарств мне только хуже, – сказала мне однажды Элеанор.
– Противоэпилептические препараты могут усугубить припадки, – подтвердила я, – однако я не думаю, что стоит прекратить их принимать и ничего не делать. Нужно попробовать другое лекарство и надеяться, что оно поможет.
Несмотря на все убеждения, Элеанор не хотела принимать другие лекарства. Ее родители тоже были против.
Однажды на видеозаписи я наблюдала за тем, как медсестра попросила Элеанор немного посидеть в кресле. Постоянно лежа в постели, девушка подвергалась риску образования пролежней и тромбов. Ей нужно было немного подвигаться или хотя бы сменить положение тела. Я видела, что Элеанор боится двигаться и нуждается в значительной поддержке. Я заметила, что припадок начался в тот момент, когда она планировала движение, то есть еще до того, как она действительно успела переместиться. Дополнительная моторная область играет роль именно в планировании движения. Увидев это, я забеспокоилась о том, что приступы Элеанор усугубляются из-за страха и тревожности, окружавших каждое ее движение. Я вспомнила об одном клиническом случае, в котором припадки мужчины усугублялись под воздействием стресса. Возможно, ей стало хуже не из-за лекарств, а из-за стресса, связанного с пребыванием в больнице.
Я решила пойти по другому пути и согласилась отменить противоэпилептические препараты. Элеанор была счастлива, ведь она этого хотела. Действительно ли ей стало хуже именно от лекарства – спорный вопрос, но ей определенно не стало лучше. Я сфокусировалась на ее страхе перед началом движения, который провоцировал припадки не меньше, чем само движение. Я попросила физиотерапевта попробовать выводить ее на прогулки, надеясь, что так она снова обретет уверенность. Психиатра я попросила поработать с ее страхом перед ходьбой. Хотя страх был оправдан, он замедлял ее выздоровление.
Когда Элеанор только помещали в отделении видеотелеметрии, планировалось, что она проведет там семь дней, но в итоге она задержалась на семь недель. Ни лекарства, ни психологическая помощь не приводили к положительному результату. Эта череда припадков определенно была самой длительной из всех, что у нее были. Похоже, только время служило ей лекарством. Припадочный цикл завершался. Приступы становились все реже и реже. Мы обе согласились с тем, что это произошло скорее несмотря на все мои попытки помочь, чем благодаря им. Знаю, Элеанор и ее родственники думали, что я сделала ей хуже, убедив ее принимать противоэпилептические препараты. Я согласна, что сделала ей только хуже, но это произошло потому, что я встревожила ее, уделяя так много внимания припадкам. Если движение, питание, мигающие огни, музыка и определенная мысль могут вызывать приступы, то тревожность, несомненно, делает то же самое.
Все это произошло более десяти лет назад. Несмотря на мою неудачу, Элеанор осталась моей пациенткой. Я несколько раз так переживала из-за того, что не могу ей помочь, что направляла ее к другим специалистам. До сегодняшнего дня никому не удалось улучшить ее состояние. Предложенное мной лечение, хоть и неэффективное, оставалось единственным вариантом.
К сожалению, состояние Элеанор ухудшилось. Ее припадки перестали приходить сериями дважды в год. Они стали спонтанными и провоцировались не только движением. У нее также стали возникать конвульсии. Это означало, что электрический разряд теперь не только охватывал маленький участок лобной доли, но и распространялся на весь мозг.
Ни лекарства, ни психологическая помощь не приводили к положительному результату. Похоже, только время служило Элеанор лекарством.
Я продолжала искать способы ей помочь. В 2014 году произошло то, что принесло с собой проблеск надежды. Аппарат МРТ нового поколения наконец-то обнаружил патологию в мозге Элеанор. В ее левой дополнительной моторной области была доброкачественная опухоль, которая скорее всего присутствовала с рождения. Я всегда подозревала, что она там, но теперь она была видна и находилась как раз в том месте, где, согласно предположениям, зарождались припадки. Обнаружение причины приступов не равняется исцелению, но открывает новые возможности. Все испытали облегчение, когда причина стала известна.
Это открытие заставило нас с Элеанор долго и упорно выяснять, можно ли избавить ее от припадков путем хирургического удаления опухоли. Результаты МРТ и клиническая теория совпадали. Для проведения операции необходимо, чтобы было известно точное место зарождения приступов и чтобы патология не располагалась в области мозга, связанной с речью.
Элеанор сделали функциональную МРТ и посмотрели на ее мозговую активность в тот момент, когда она сначала хлопала правой рукой, а потом топала левой ногой. Кровь прилила к областям мозга, отвечающим за руки и ноги, что отразилось на томограмме. Активизированная область мозга, ответственная за работу ноги, располагалась предательски близко к опухоли. Практически непосредственно над ней. Когда эту проблему обсудили с хирургом, она сказала, что операция может избавить Элеанор от припадков, но привести к параличу ноги. Она рисковала остаться в инвалидном кресле, но уже по другой причине.
Элеанор приспособилась к своей эпилепсии, но не позволила ей определять свою личность.
Будучи невероятно храброй и целеустремленной, Элеанор согласилась на внутричерепную ЭЭГ, чтобы точнее оценить риск. Хирург вскрыла череп Элеанор и поместила множество стерильных электродов прямо на поверхность мозга пациентки: на саму опухоль и область вокруг нее. Затем на голову Элеанор наложили стерильную повязку, из-за чего голова стала похожа на луковицу. С проводами, которые шли сквозь бинты с поверхности мозга, Элеанор снова поместили в отделение видеотелеметрии для наблюдения.
– Ненавижу все это, – сказала мне Элеанор, когда я пришла ее навестить. – Я не привыкла плохо себя чувствовать.
Мое сердце сжалось. Слова Элеанор подтвердили то, что я всегда о ней думала. У нее были ежедневные припадки, из-за которых ей пришлось кардинально изменить жизнь. Однако она не считала себя больной. Элеанор приспособилась к своей эпилепсии, но не позволила ей определять свою личность.
Покинув круизный лайнер и вернувшись в Великобританию, она устроилась на работу в местный ресторан. Не работать она не могла. Ей нравилось находиться среди людей, и она легко заводила новых друзей. Когда Элеанор хорошо себя чувствовала, ей нравилась работа в ресторане, так как она подходила ее общительной натуре. Но, как только начальник узнал об ее эпилепсии, Элеанор почувствовала, что к ней стали относиться подозрительно.
– В то время мои припадки были не так плохи, – сказала она мне. – Но, думаю, он захотел меня уволить, как только узнал о них. Однажды он увидел, как я упала, и перестал мне доверять.
Как-то раз Элеанор несла тарелку с горячей пищей, споткнулась и уронила еду рядом с посетителем. Она знала, что такое припадки. Проснувшись утром, Элеанор сразу понимала, что у нее будет плохой день. Если это случалось, она старалась не разносить еду посетителям и просила дать ей другое занятие. Она знала, что в тот день споткнулась не из-за припадка, однако начальник вызвал ее на разговор и предложил уволиться. Элеанор пришлось побороться за то, чтобы остаться. Даже при отсутствии приступов эпилепсия угрожала всему в ее жизни. Она научилась мириться с непредсказуемостью своего заболевания, но другие люди не всегда делали то же самое.
Элеанор боялась, что, если перестанет ходить, она никогда уже не сможет это делать.
Через год Элеанор решила уволиться. Ее припадки стали регулярнее, и она понимала, что это может быть опасно. Ей было сложно найти другую работу. Так как она не умела лениться, она устроилась волонтером-аниматором в детскую больницу. Она любила детей и с удовольствием проводила с ними время, сидя на полу.
– Я не могла брать их на руки или бегать за ними, но рядом всегда были медсестры, которые делали это за меня, – сказала Элеанор.
Время от времени Элеанор задумывалась о том, чтобы завести собственных детей. С одной стороны, ей очень этого хотелось, и она радовалась при одной мысли о детях, но, с другой стороны, она с ужасом думала о том, как же она справится.
В последнюю пару лет припадки Элеанор стали настолько частыми, что она уже не могла ходить без помощи. Рядом всегда должен был быть кто-то, кто поймал бы ее. Я хотела, чтобы Элеанор перемещалась в инвалидном кресле, ведь так она была бы в безопасности. Однако она боялась, что, если перестанет ходить, она никогда уже не сможет это делать.
«У меня все равно будут припадки, пусть и в кресле, – говорила она. – Я не смогу толкать себя. Кому-то придется возить меня, будто я инвалид».
Элеанор нужен был кто-то рядом вне зависимости от того, была она в кресле или нет. Возможность ходить, пусть и очень осторожно, давала ей ощущение контроля и нормальности.
Без происшествий не обошлось. Однажды Элеанор упала на стеклянную дверь. Будучи в полном сознании, она видела, как приближается к стеклу и как оно разбивается. Она приземлилась на кучу разбитого стекла. Осколки были у нее в волосах и на одежде, но она чудом не поранилась. Она встала, отряхнулась и не позволила произошедшему остановить ее.
Еще одно происшествие случилось во время отпуска. Сестра фотографировала Элеанор, стоящую в купальнике в море. Это была надежная и верная девушка, однако она была обычным человеком. По какой-то причине она на мгновение отвернулась, а Элеанор резко оказалась под водой. У нее случился припадок, и она упала в воду лицом вниз.
«Я осознавала все, что происходит, но никак не могла контролировать свое тело, – рассказывала мне Элеанор. – Моя голова была под водой, и я захлебывалась. Я почувствовала, что тону».
Мужчина, стоявший неподалеку, заметил ее и поднял ей голову. Уже через минуту она вышла из воды, будто ничего не случилось.
«Я думала, что умру», – делилась она.
Сегодня Элеанор и ее семье приходится не терять бдительности ни на секунду. Элеанор начала носить шлем. Она редко бывает одна и не ест, если за ней никто не присматривает. Она поднимается и спускается по лестнице сидя, даже если прекрасно себя чувствует. Так, на всякий случай.
Человек решается на внутричерепную ЭЭГ только в том случае, когда других вариантов не остается.
Когда я пришла проведать ее после установки электродов, я ужаснулась. Она выглядела кошмарно. Половина лица, казалось, опухла. Я могла бы прикоснуться к проводам, идущим от электродов, находящихся прямо на поверхности ее мозга, и она бы ничего не почувствовала. Она не ощущала электроды, фиксирующие мозговые волны, но испытывала на себе побочные эффекты анестетика и последствия вскрытия черепа.
– У меня уже было много припадков, – сказала она.
– Я знаю. Чуть позже хирург снимет электроды.
– Как скоро вы поймете, можно ли мне делать операцию?
– Боюсь, пройдет еще несколько недель. Мы снова соберемся с коллегами и обсудим все результаты обследования, включая сегодняшнюю ЭЭГ.
– Но жизнь идет. Почему это занимает так много времени?
Элеанор хотела, чтобы ей стало лучше. Она никогда не переставала верить, что это случится.
«Я осознавала все, что происходит, но никак не могла контролировать свое тело».
Через неделю у нас состоялся консилиум. Размер опухоли был неясен: томография не показала ее четких очертаний, и многие из нас считали, что она больше, чем кажется на снимке. Видна была лишь верхушка айсберга. Внутричерепные электроды показали, что электрический разряд начинается на участке, расположенном слишком близко к моторной области, отвечающей за работу ноги. Местами опухоль задевала первичную моторную кору. Удалить можно было лишь часть опухоли, и было неизвестно, поможет это или нет. После консилиума Элеанор встретилась с хирургом.
– Она сказала, что операцию делать нельзя, – сообщила мне Элеанор, когда мы увиделись в следующий раз. – Сейчас я могу ходить, а в процессе операции меня может парализовать, и я уже никогда не буду ходить. Шансы на то, что операция будет успешной, лишь 20 %. Может быть, мне сделают операцию, после которой я не только не избавлюсь от припадков, но и окажусь в инвалидном кресле.
Элеанор расстроилась и немного разозлилась. Понадобилось два года снимков, обсуждений и инвазивных процедур, чтобы операцию признали слишком опасной.
– Мне очень жаль, – сказала я.
– Я знаю, что вы пытались мне помочь.
– Все меняется каждый год. Возможно, в будущем появятся более безопасные хирургические методы.
Я чувствовала, что мне нужно что-то ей предложить. Дать надежду. У Элеанор случалось по сто припадков ежедневно.
– Я подожду, потому что у меня нет выбора, но какое-то время я не хочу пробовать ничего нового. Никаких лекарств, операций. Ничего.
– Хорошо.
12. Марион
Жизнь коротка, искусство долго.
ГиппократВ начале моей карьеры был период, когда я паниковала при каждом сигнале пейджера, зовущем меня в отделение интенсивной терапии. Я знала, что меня вызывают к Марион: на протяжении нескольких недель каждый сигнал говорил о том, что у нее очередной приступ. Я была не единственным врачом, который пугался, услышав имя Марион. Думаю, мой супервизор чувствовал то же самое. Ни один из предложенных им вариантов лечения не оказался действенным. Припадки Марион не прекращались. Мы вливали в нее лекарства, но ее мозг реагировал так, будто это была вода.
Марион работала старшей медсестрой в региональной больнице. Я никогда не встречала ее, когда она была здорова, но говорили, что это умная женщина, доброжелательная и легкая в общении. Благодаря ей отделение, рассчитанное на тридцать пациентов, функционировало слаженно. У нее была репутация ответственной и умелой медсестры. Когда у нее появились признаки депрессии, окружавшие ее люди не могли в это поверить. Это было для нее совсем не характерно.
Проблемы начались примерно за два месяца до нашей первой встречи. Коллеги заметили, что Марион стала тихой и необщительной. Она несколько раз расплакалась в ответ на сложное поведение пациентов. До этого она всегда была спокойной и рассудительной.
Проблемы нарастали очень быстро. Подавленное состояние стало чередоваться с периодами крайнего возбуждения. Она говорила, не замолкая. Марион делилась грандиозными и нереалистичными идеями, как улучшить работу отделения. Она также начала сильно пить. Часто после работы она приглашала всех присоединиться к ней в пабе напротив больницы.
Сбитые с толку коллеги не предлагали ей обратиться к врачу до тех пор, пока у нее не появились галлюцинации. Сначала она слышала голоса. Она говорила, что люди постоянно ей что-то шепчут. Затем ей стали повсюду мерещиться грызуны и змеи. Голоса смущали ее, а галлюцинации пугали и возбуждали. Близкие друзья убеждали ее обратиться к врачу. Она злилась. Она не понимала, что видит то, чего нет.
С самого начала команда психиатров думала, что в психозе Марион есть нечто странное.
Однажды на работе Марион не могла перестать говорить. Она спорила с подругой-коллегой, которая убеждала ее, что с ней что-то не так. В конце спора Марион дала подруге пощечину, а затем пришла в неконтролируемое возбуждение. Она ходила по коридору туда-сюда. Никто не мог нормально с ней поговорить. В итоге охранник и две подруги отвели Марион в отделение первой помощи. Ее осмотрел психиатр. Он сказал, что у нее острый психотический приступ. Марион против ее воли поместили в палату психиатрического отделения.
С самого начала команда психиатров думала, что в психозе Марион есть нечто странное. Он начался остро. Пострадал ее интеллект, а особенно память. Она не узнавала людей, с которыми была близко знакома. Марион направили на компьютерную томографию. Ее результаты были нормальными. Анализ на наркотики и другие анализы крови тоже были в норме. Ей назначили антипсихотический препарат. Он успокоил ее, но не устранил галлюцинации.
Через несколько дней медицинский персонал заметил, что у нее появились тики. Ее лицо и плечо периодически подрагивали. Несколько раз в час она гримасничала и слишком часто дышала. Она стала неугомонной и не могла сидеть на месте. Было решено пригласить невролога. Пока его ждали, Марион упала и забилась в конвульсиях.
Марион отвезли в отделение интенсивной терапии. На ЭЭГ была видна электрическая буря, которая свидетельствовала об эпилептическом статусе.
Психиатрическая больница была далеко от местной многопрофильной больницы. Вызвали «Скорую помощь», которая срочно доставила Марион в отделение экстренной помощи. Во время ожидания «Скорой помощи» и по пути в больницу у Марион случались припадки один за другим. Ее тело билось в конвульсиях, затем расслаблялось, а после снова билось. Лекарства, которые дали ей парамедики, а затем и врачи отделения экстренной помощи, не помогли. Марион отвезли в отделение интенсивной терапии. На ЭЭГ была видна электрическая буря, которая свидетельствовала об эпилептическом статусе. Марион ввели пропофол – наркозный препарат, который подавил припадки и обездвижил ее тело. Женщину подключили к аппарату вентиляции легких. Ее кровяное давление поддерживалось с помощью специальных препаратов.
В итоге Марион осталась в отделении интенсивной терапии на шесть месяцев. Каждая попытка отменить седативные препараты приводила к припадкам. Врачи пробовали один противоэпилептический препарат за другим. Приступы стали происходить реже, но неизвестно, по какой причине: лекарства помогли или же заболевание само начало сходить на нет. Как бы то ни было, Марион сильно не пострадала.
За время пребывания в больнице Марион прошла всевозможные обследования. Результаты ее первой МРТ были нормальными, однако на последующих снимках был виден отек в обеих височных долях. Ей сделали люмбальную пункцию, чтобы проверить, нет ли разгадки в спинномозговой жидкости, окружающей мозг. Пункция показала небольшую воспалительную реакцию. Марион поставили диагноз «лимбический энцефалит» – воспаление обеих лимбических областей на срединной поверхности височных долей. Но это было скорее описание проблемы, а не ее объяснение.
Вирус герпеса может вызвать энцефалит, причем обычно в лобных долях, поэтому Марион начали лечить от него. Однако анализы крови и спинномозговой жидкости на герпес были отрицательными, и противовирусная терапия не имела положительного результата. Марион даже сделали биопсию мозга. Хирург изъял кусочек мозга из отекшей правой височной доли. Патологоанатом заключил, что это нормальная мозговая ткань.
«Материал для биопсии, должно быть, взяли не в том месте», – решили мы.
Марион поставили диагноз «лимбический энцефалит». Но это было скорее описание проблемы, а не ее объяснение.
Во время нахождения Марион в отделении интенсивной терапии меня регулярно просили осмотреть ее. Иногда у нее случались судороги лица, но никто не понимал, припадок это или нет. В ответ на это я обычно увеличивала дозировку седативного препарата. Лечение имело ряд негативных последствий: инфекция мочевого пузыря, легочная инфекция, аллергическая реакция, запор, вздутие живота.
Анестезиологи старались пробуждать ее при первой возможности. Я обычно при этом присутствовала. Постепенно дозу седативного препарата уменьшали. Иногда его не вводили вовсе, и Марион просыпалась. Когда это случалось, она пыталась вырвать трубки и катетеры из своего тела. Медсестрам приходилось ее успокаивать. Если Марион везло, она проводила без седативных препаратов день или два. Однако припадки всегда возобновлялись. Чаще всего ее даже не отключали от аппарата ИВЛ. Как только дозировку пропофола снижали, ее лицо начинало дергаться, а потом она билась в генерализованных конвульсиях.
Я терпеть не могла, когда меня вызывали к Марион. Она была лишь немного старше меня, и ее жизнь была похожа на мою. Она заставляла меня ощущать собственную уязвимость. Я не знала, как ей помочь, и чувствовала себя бессильной.
«Как думаете, у нее припадок?» – спрашивала меня медсестра отделения интенсивной терапии, когда у Марион дергались лицо или другие части тела.
Я не знала.
В итоге Марион все же пришла в себя. Эпилептический статус был снят, хотя припадки периодически возникали. Ее перевели в общую палату, а затем и в реабилитационное отделение. В общей сложности она провела в больнице год. Последствия болезни были очевидны: обе височные доли покрылись рубцами, гиппокампы уменьшились, часть воспоминаний была утрачена. Всем, кто приходил ее навестить, приходилось представляться. Она не запоминала новых людей, если только они четко не представлялись при каждой встрече.
Карьера Марион была закончена. Она практически утратила способность учиться новому. Марион стала крайне тревожной и испытывала резкие перепады настроения. Даже мелочи могли ее расстроить или разозлить. Спокойная и ответственная женщина, какой она была раньше, уже не существовала. Больнее всего близким Марион становилось тогда, когда они вспоминали ее прежнюю. Когда я пришла к ней в реабилитационное отделение, у нее в палате были развешены фотографии из ее прошлой жизни. Это сделали ее родственники в надежде, что снимки помогут вернуть ее к прежнему состоянию. Однако этому не суждено было случиться. Мозг Марион был поврежден, и с этим ничего нельзя было поделать.
Спокойная и ответственная женщина, какой она была раньше, уже не существовала.
«Знаете, я была медсестрой, – сказала она тогда мне. – Я заведовала отделением в Сент-Кристофере».
Конечно, я уже знала об этом. Однако вряд ли Марион напоминала об этом мне. Она напоминала самой себе.
* * *
За последние двадцать лет я видела много пациентов, которые прошли через то же, что и Марион. Большинство неврологов могут сказать то же самое. Обычно такие пациенты еще молоды. Часто, если не всегда, это женщины. Ни с того ни с сего у них начинаются страшные припадки и психические проблемы, а височные доли воспаляются.
На протяжении многих лет никто не понимал, что вызывает у молодых людей тяжелые необратимые мозговые повреждения. Многим людям вроде Марион пришлось изменить свою жизнь до неузнаваемости. Кто-то не выжил. В 2007 году одно научное открытие пролило свет на лимбический энцефалит. Были обнаружены антитела к NMDA-рецепторам. NMDA-рецепторы находятся в мозге и выступают в качестве ворот, контролирующих движение ионов внутрь клетки и из нее. Их работа влияет на электрическую возбудимость клеток. NMDA-рецепторы защищают здоровье нейронов и очень важны для памяти. Антитела – это определенный тип белков, который вырабатывается для борьбы с внешними патогенами, например вирусами. Антитела к NMDA-рецепторам являются аутоантителами. Вместо того чтобы бороться с внешними угрозами, они борются с собственными NMDA-рецепторами человека. Антитела к NMDA-рецепторам – один из нескольких видов антител, которые были открыты не так давно. Они вызывают опасный для жизни энцефалит, какой был у Марион.
В 2007 году были обнаружены антитела к NMDA-рецепторам, которые вызывают лимбический энцефалит.
Открытие механизма лимбического энцефалита принесло пользу многим людям. У некоторых антитела вырабатываются из-за наличия опухоли, особенно опухоли яичников. Если обнаружить ее и удалить, то производство антител остановится. Однако не у каждого можно обнаружить причину появления этих антител. При отсутствии опухолей лечение заключается в подавлении иммунной системы. Быстрая диагностика и своевременное лечение дарят таким людям, как Марион, надежду на выздоровление, что было невозможно до 2007 года.
* * *
Мозг остается загадочным органом, и его заболевания до сих пор до конца не поняты, однако прогресс есть. Неврология начинает деталь за деталью собирать мозаику. Но в клинической неврологии гигантские научные открытия могут показаться крошечными врачу, работающему с пациентами. Требуется много времени, чтобы научное открытие можно было применить на практике. Многие заболевания мозга до сих пор неизлечимы, и у нас пока нет возможности восстанавливать утраченные функции. Тем не менее все, что мы узнаем о здоровом мозге, дает нам большее представление о том, почему что-то идет не так.
Грядут большие перемены. В 2013 году стартовал проект «Человеческий мозг». Он объединяет исследователей из всех областей неврологии с целью ускорить прогресс. Одна из его задач заключалась в создании Большого мозга – 3D-атласа человеческого мозга в высоком разрешении. Это современная версия полей Бродмана и гомункулуса Пенфилда. Атлас создали из фрагментов мозга шестидесятипятилетней женщины, умершей из-за проблем со здоровьем, не связанных с неврологией. Ее мозг разрезали на слои шириной двадцать микрометров (один микрометр – это одна тысячная миллиметра). Каждый из них пометили и сфотографировали. Из этих слоев был создан Большой мозг. У МРТ разрешение составляет один миллиметр, так что Большой мозг позволил получить более детальное изображение мозга, чем когда-либо до этого.
Разумеется, с особым нетерпением мы все ждем новых методов лечения. Некоторые из недавних открытий могут к ним привести. Именно в области генетики, возможно, сосредоточены самые большие надежды. Сегодня известно, что гены могут включаться и выключаться, что зависит от внешних факторов. Если бы мы могли воздействовать на них, то болезни можно было бы предотвращать. Нейропластичность тоже представляет собой большой интерес для исследователей. Поскольку мозг обладает способностью образовывать новые связи, нам необходимо научиться улучшать ее. Это может подарить шанс на выздоровление даже людям с тяжелыми мозговыми травмами.
В 2013 году стартовал проект «Человеческий мозг», в рамках которого создали 3D-атлас человеческого мозга в высоком разрешении.
Несомненно, появятся и новые хирургические процедуры. Уже в ближайшем будущем хирургия мозга может измениться до неузнаваемости. Компьютеризированные навигационные системы уже позволяют хирургам фокусироваться на очень ограниченных областях мозга, что делает операцию максимально щадящей. Однако минимально инвазивные техники, которые сейчас разрабатываются, дадут возможность оперировать, даже не вскрывая черепа. Для удаления патологии будет использоваться управляемый компьютером лазер или ультразвук, а здоровая мозговая ткань при этом останется нетронутой.
Еще больший интерес представляет развитие робототехники, в основу которой положены знания о нормальных физиологических механизмах. Мозг посылает свои сообщения с помощью электрических сигналов. Управляемые разумом протезы конечностей могут распознавать эти сигналы и позволять пользователю двигать конечностью и чувствовать ей. Видеть это в действии – настоящее чудо.
Моя работа заключается в лечении не заболеваний, а людей.
Я радуюсь, когда читаю о каждой инновации, однако мой оптимизм всегда сдержан. Каждая консультация и больничный обход возвращают меня к реальности по нескольким причинам. Большинство открытий связаны с нашим пониманием работы мозга, его развития и организации. Не стоит ждать практического применения этих открытий в скором будущем. Недостаток возможностей лечения и профилактики рассеянного склероза, эпилепсии, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, аутизма, шизофрении и многих других заболеваний сильно отрезвляет.
Иногда я не могу не думать о том, что практически никак не могу помочь многим своим пациентам. Мне понадобились годы, чтобы обнаружить патологию, вызывающую приступы бега Огэст. Даже когда мне это удалось, я не смогла ее вылечить. Сегодня ей лишь немного лучше, чем когда мы только встретились. Я бы сказала, что я оказалась для нее бесполезной, хоть Огэст так и не думает. Быстрый медицинский прогресс последних двадцати лет, а также большое внимание, уделяемое заболеваниям и их лечению, заставили меня думать, что я хорошо выполняю свою работу лишь тогда, когда ставлю верный диагноз и помогаю пациенту почувствовать себя лучше. Такой результат далеко не всегда возможен при работе с заболеваниями мозга, но Рэй, Майк, Адриэнн и другие выразили мне свою благодарность за помощь, которую я им оказала. Даже если помощь была неэффективной и, быть может, ухудшила их состояние, они все равно были благодарны за старания. Это удивляет меня каждый раз, ведь я забываю, что моя работа заключается в лечении не заболеваний, а людей. Медицина – это не только героические процедуры, которые спасают жизнь. Это не просто попытки исцелить.
Прорывы в сфере медицины и новые технологии воодушевляют, однако в неврологии постановка диагноза до сих пор зависит от подробностей истории пациента, сравнения его с другими и интуиции. При изучении мозга исследователи опираются на истории пациентов не меньше, чем на любой томограф. Исторические открытия часто связаны с конкретным пациентом: Финеасом Гейджем, Таном, Генри Молисоном. Здесь ничего не изменилось. Большой мозг принадлежит одной женщине. Она жила, даже не подозревая, насколько важным окажется оставленное ею наследство. Возможно, в будущем ее имя будет таким же известным среди нейробиологов, как и все вышеперечисленные. Для всего, что нам неизвестно, найдется пациент (человек, а не его томограмма или анализ крови), который даст нам ответы.
Я учусь у своих пациентов каждый день. Многие из историй, рассказанных ими и приведенных в этой книге, сначала были для меня абсолютной загадкой. В моем учебнике по неврологии не было главы, в которой объяснялись бы странные симптомы Элеанор. Метод, который я использовала для поиска причины ее проблемы, – это клинико-анатомический анализ, описанный врачами XIX века. Слушание, наблюдение и ожидание были моими диагностическими инструментами. То, чему меня научили такие люди, как Элеанор, в меньшей степени связано с эпилепсией и анатомией мозга. Они показали мне, что такое борьба за жизнь и как продолжать жить, несмотря на все трудности.
Такие люди, как Элеанор, показали мне, что такое борьба за жизнь и как продолжать жить, несмотря на все трудности.
В наших знаниях о мозге до сих пор есть огромные пробелы. Даже на некоторые самые простые вопросы все еще нет ответа. Мы и сегодня не знаем, зачем мы спим и какова роль снов. Мы не знаем, как мозг создает ум или сознание. Не знаем, откуда берется свобода воли. Мы до сих пор обладаем лишь базовым представлением о мозге, и мы еще далеки от ответов на эти вопросы. Лично я даже не уверена, что хочу получить ответы на все вопросы. Если бы мы знали все о работе мозга, то кем бы мы были? Сложными компьютерами? Машинами, которые можно перепрограммировать? Я хочу, чтобы все люди, позволившие рассказать их истории в этой книге, выздоровели. Я хочу, чтобы в будущем было известно, как предотвращать развитие заболеваний. Этого мне было бы достаточно. Я не вижу необходимости в том, чтобы раскрывать все тайны человечества. Но разумеется, мне не стоит беспокоиться по этому поводу, ведь мы еще так далеки от этого.
Благодарности
В первую очередь я от всей души благодарю всех невероятных людей, которые позволили мне рассказать их истории в моей книге. Ваши великодушие и сила служат примером для всех нас. Чтобы сохранить конфиденциальность своих пациентов, я слегка изменила некоторые детали их историй, но перемены не коснулись медицинских аспектов или характера человека.
Спасибо всем неврологам, с которыми я работала, особенно Адель Ларкин, Дженнифер Найтингейл и непревзойденной Фионе Фаррелл.
Я в долгу перед Беки Харди из Chatto & Windus за ее мудрость и безграничное терпение. Спасибо Дэвиду Милнеру, чья способность замечать самые маленькие детали потрясает. Спасибо Мэтту Браутону за чудесный дизайн обложки, который мне понравился с первого взгляда. («Но почему на обложке кролик?» – спросила моя сестра. Чтобы это узнать, нужно прочитать книгу!)
Мой агент Кирсти Маклахлан открыла мне дверь в писательский мир. Я никогда этого не забуду и всегда буду за это благодарна. Спасибо за неиссякаемую поддержку.
Каждый напуганный и неуверенный в себе писатель нуждается в группе поддержки. Моя состоит из Джеммы Элвин Харрис и Дженни Джонсон. С ними мы беседовали в пабе, вкусно ужинали и обсуждали мою книгу. Я жду с нетерпением, когда прочту плоды ваших трудов.
И, наконец, прошу прощения у своих родственников и друзей, которые вытерпели мою занятость и постоянные жалобы на дедлайны.
Примечания
1
При подозрении на эпилепсию обследование в обязательном порядке включает томографическое исследование головного мозга и ЭЭГ. – Прим. науч. рец.
(обратно)2
Нарушение запоминания событий, происходящих после воздействия (операции). – Прим. науч. рец.
(обратно)3
Мидазолам – это препарат, который впрыскивают в рот человека во время продолжительного припадка, чтобы его прекратить. – Примеч. авт.
(обратно)4
Электрокардиограмма.
(обратно)5
Искаженное восприятие человеком окружающего мира. – Примеч. ред.
(обратно)6
Прионное заболевание с изменениями в мозге, аналогичными им при коровьем бешенстве. – Прим. науч. рец.
(обратно)7
Разновидность каналопатии. – Примеч. ред.
(обратно)
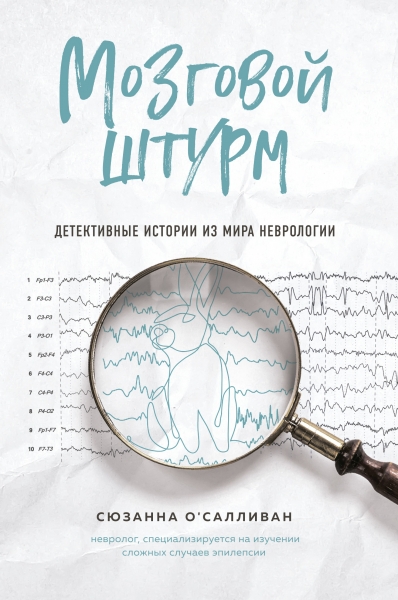
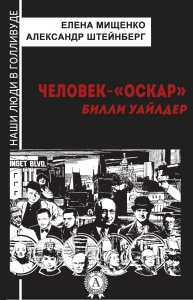

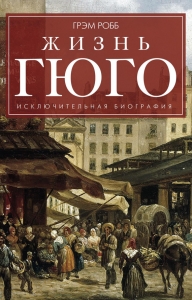

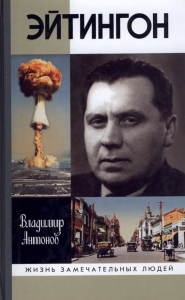
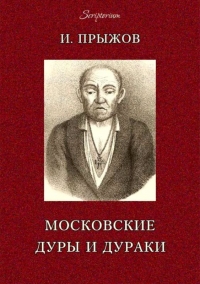

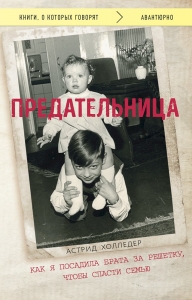
Комментарии к книге «Мозговой штурм. Детективные истории из мира неврологии», Сюзанна О'Салливан
Всего 0 комментариев