МИХАИЛ СМОЛИН. От Бога все его труды.
Современный феноменальный интерес к теоретикам консерватизма, будь то русские мыслители (скажем, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, И. А. Ильин или И. Л. Солоневич) или европейские (де Местр, Шатобриан, Карл Шмитт или Эрнст Юнгер), создает уникальную за последние два века ситуацию: в русском обществе появляется надежда на особую миссию традиционалистской мысли в деле возрождения национального бытия. Русское общество и — что самое удивительное — современная властная элита, взращенная демократическими восьмидесятыми и девяностыми годами, начинают использовать если не идеи консервативного патриотизма, то по крайней мере его язык.
В связи с этим умонастроением современного общества перед исследователями русского консерватизма стоит громадная задача создания новой истории русской мысли, перестановки приоритетов и определения истинного значения разных мыслителей в общей исторической схеме развития отечественной философии.
В предисловии к последнему, и незавершенному, труду жизни Льва Александровича Тихомирова — его воспоминаниям — нам бы хотелось попытаться определить его место в истории русского самосознания. Дело это представляется чрезвычайно сложным, поскольку оценки трудов Л. А. Тихомирова при жизни не последовало, и любой исследователь его творчества принужден по необходимости руководствоваться лишь собственными интуицией и знаниями, практически не имея для облегчения своей задачи никаких авторитетных суждений прошлых лет.
Лев Александрович Тихомиров, как, впрочем, и другие русские мыслители конца XIX — начала XX века, попал под революционный каток, вмявший всю интеллектуальную почву в идеологический асфальт классового подхода и марксистских оценок. Его наследию суждено было оставаться вне исторической науки, не воспринимавшей труды Л. А. Тихомирова как объект исследования. Историческая наука, будучи сама сильнейшим образом изуродована революционными идеями, имела в своем багаже в основном либеральные и социальные ориентиры — у нее не было самостоятельных сил (как и спокойной академической обстановки) для определения значения и места русских консерваторов в истории отечественной мысли.
Со времен французской революции 1789 года политическая история человечества и политическая борьба, в сущности, идут вокруг идеи государства. Либеральное сознание стремится выхолостить идею государства — сузить, насколько возможно, сферу влияния этого наиболее крупного института человеческого общежития. Взамен выставляются различные контридеи, начиная от всевозможных коммун, конфедераций и федераций и кончая идеей абсолютно автономной, самоопределяющейся личности. Демократу в государстве видится — и не без веских доводов — институт, в основе своей не демократический, а авторитарный, который не терпит внутри себя ни сугубо автономных личностей, ни каких-либо закрытых от его влияния и контроля обществ.
В отношении к государству демократ выступает в роли политического сектанта — его убеждения зачастую столь же хаотичны и многообразны, как и у религиозных сектантов, перманентно делящихся в своих воззрениях на все новые и новые группы. Политическим сектантам так же не свойственно глубокое осознание неизбежности и необходимости института Государства, как и религиозным сектантам непонятна (и неприемлема) идея Вселенской Церкви.
Политические сектанты всегда искали и будут искать идеи, которые возможно поставить выше или взамен идеи патерналистского государства. Это видно из всей истории демократии последних веков, где идеи свободы, равенства и братства выдвигались в пику традиционному монархическому государству. В каждом новом поколении демократических идеологов идею общего дела (идею государства) пытались подменить то классовой борьбой и перманентной мировой революцией, то заменить государственные функции контроля, защиты и управления обществом экономическими рыночными отношениями, то устранить институт государственности, реализуя вариации анархизма. Чем активнее демократические принципы навязывались обществу (прежде всего через революции), тем более осязаемой становилась потребность в государственном воздействии на структурирование социальных отношений.
Метафизика и государство
Представления о государственности напрямую связаны с метафизическими воззрениями — от того или иного восприятия идеи Бога непосредственно зависят и теоретические рассуждения о государстве и обществе. В сфере теологической Бог и Церковь занимают то же главенствующее место, что в политической области — Государь и Государство. Здесь нет приравнивания одного к другому, но есть понимание, что все положительное (иначе говоря — от Бога) в этом мире человек стремится утвердить по образу и подобию им понимаемого Божества. Так же как защита догмата о Церкви являлась краеугольным камнем в богословской полемике и религиозной борьбе последних ста лет, так и идея государственности, осаждаемая либеральными, социалистическими и анархистскими идеологами, была для Л. А. Тихомирова главным пунктом обороны.
Государство как институт упорно стремятся лишить связи с Церковью, а в более широком смысле вообще с метафизическими представлениями о Власти. Отделение Церкви от Государства ослабляет обе части былого союза. Церковь остается без земной защиты. Государство остается один на один с политическими партиями, тайными союзами и религиозными сектами, каждая из которых постоянно работает на подрыв государственных устоев, в том числе и основанных на нравственных понятиях. Поле деятельности этих государствоборцев — более или менее узкий мирок, партийный или сектантский.
Современная нам российская государственность находится в столь же критически-переходном состоянии, что и 90–100 лет назад: государственный корабль крошится, разъедаемый различными антигосударственными политическими кислотами, нация пребывает в страхе перед будущим. Сравните с тем, что писал в начале XX столетия Л. А. Тихомиров: «Наши сограждане... совершенно растерялись. В ужасе они не знают, где искать спасения. Обычная жизнь человека в нормальное время со всех сторон окружена ясными рамками политических и социальных учреждений, охранена законом и властью. Теперь же все кругом рассыпается. Вся страна вообще и все ее жители в частности не знают, что с ними будет завтра, не знают, что будет сегодня: не ограбят ли? не сожгут ли? не застрелят ли или не взорвут ли?.. Вокруг него (обывателя. — М. С.) все перевернулось вверх дном, и жители, как слепые среди пропастей, не знают, куда ступить, где гибель, где торная дорога.
Как же им тут не обезуметь? А когда человека охватывает безумный страх перед жизнью, все его нравственные устои неизбежно расшатываются. Все соблазны низости, корысти, злобы, эгоизма усиливаются в десять и сотню раз, а спасительная нравственная сила сопротивления во столько же раз ослабляется в душе.
Как известно, главная опора духовной силы есть самообладание, а тут у всех является, напротив, полная растерянность». [1]
Л. А. Тихомиров считал, что христианская проповедь при подобном государственном хаосе способна заменить отсутствие правильного понимания социальных и государственных принципов. Политическая наука у нас крайне молода и пока не может быть ведущей в области формирования положительных государственных идеалов. Христианская же проповедь возрождает должное отношение личности к обществу и государству па основе христианской нравственности и, имея двухтысячелетнюю историю, на исторических примерах раскрывает те основы общественности, которые пе исчезают, по подвергаются временным искажениям ради социальных экспериментов.
«Отрешившись от руководства, — утверждал Л. А. Тихомиров, — какое имели наши предки в христианстве, мы теперь не столько ведем строение, как мечемся среди противоречивых принципов, которыми доводим свое общество и государство до истинного разложения.
Если бы христианская проповедь твердо стала на свою почву, она, несомненно, снова помогла бы русскому пароду выйти из этого мятущегося состояния. Но для этого нужно, чтобы христиане не боялись твердо противопоставить свою правду тем спутанным фантазиям, которые у нас выдаются за якобы научные системы общественного и политического строя». [2]
Не надо делать из Церкви партию, сводя ее на уровень борющихся за земную власть. Для возрождения традиционной государственности в России необходимо дать политике духовную опору в христианском учении, внести его философию как системообразующую в нашу политическую жизнь. Л. А. Тихомирову претило понятие «светского» государства, рожденного суемудрием французских освободителей XVIII столетия: «Свое представление о том, в чем состоит главная, высшая мировая сила, и свое стремление быть с ней в гармонии человек налагает на все области своего творчества, в том числе и на государственность.
Поэтому государству приходится заботливо беречь и поддерживать все то, в чем происходит самое зарождение нравственного чувства». [3]
Он гениален в своем упорном и последовательном протесте против сумасшествия антигосударственных сил XIX и XX века, решивших (с большей или меньшей степенью радикализации этого требования), что социальная жизнь возможна и без государства в традиционном его понимании. Используя терминологию крупнейшего немецкого правоведа XX столетия Карла Шмитта (1888–1985), о Тихомирове можно сказать, что он был политическим теологом, метафизиком монархической государственности.
Молодой Карл Шмитт писал об отношении метафизики и государства, по сути дела, в том же духе, в каком всю жизнь о них писал и Л. А. Тихомиров. «Все точные понятия, — утверждал Шмитт, — современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия... Чрезвычайное положение имеет для юриспруденции значение, аналогичное значению чуда для теологии. Только имея в виду подобные аналогии, можно понять то развитие, которое проделали в последние века идеи философии государства. Ибо идея современного правового государства реализуется совокупно с деизмом с помощью такой теологии и метафизики, которая изгоняет чудо из мира и которая так же отклоняет содержащееся в понятии чуда нарушение законов природы, устанавливающее исключение путем непосредственного вмешательства, как и непосредственное вмешательство суверена в действующий правопорядок». [4]
Чудо, о котором говорит Шмитт, в государственном праве может быть названо чрезвычайным управлением, диктатурой или какой-нибудь подобной формой правления, не предусмотренной в обыкновенном (конституционном) порядке, но без которой государственность во времена глубоких кризисов, крупных (мировых) войн или каких-либо глобальных катастроф рискует пасть под напором антигосударственных разрушительных сил, стремящихся использовать и использующих подобные ситуации. Это понимание было сформулировано Карлом Шмиттом в самом начале 20-х годов. Для него, да и для Л. А. Тихомирова, [5] Верховной Властью была та, которая могла учреждать чрезвычайное положение в государстве.
Это понимание метафизики Верховной Власти — поставленной для творения «чудес», диктата вне законодательных актов управления государством — занимает особое место в системе, разработанной Л. А. Тихомировым. [6]
Л. А. Тихомиров был прежде всего христианским и православным мыслителем, что очень важно для понимания его системы взглядов на государство и Верховную Власть. Идея жертвенности, столь понятная религиозным людям, ставится Л. А. Тихомировым в основание мощи государственной. Как Церковь стоит кровью мучеников, укрепляющих дух верующих и пополняющих сонм Небесных молитвенников, так и государство строится разнообразной жертвенностью его граждан. Никакие законы не заменят жертвенности. Юридические законы могут обеспечивать личные права гражданина и сохранность его собственности, но только жертвенность граждан относится к области неписаного нравственного императива, единственно жизненно необходимого для поддержания самого существования государства. Государство стоит до тех пор, пока граждане видят смысл жертвовать всем или многим во имя общего достояния.
Поэтому выражение «Россия превыше всего» не является эмоциональным преувеличением или шовинистической риторикой, а только ответом на вопрос: быть нам или не быть исторической нацией? Строительство государственности — дело не одного поколения, но дело длинной преемственной чреды поколений, наращивавших веками нашу территорию, экономическую и военную мощь.
Наследник многих и многого
К 1888 году, когда Л. А. Тихомиров пришел в правую публицистику, в ней происходила смена поколений: только что с политической сцены ушли такие крупные политические писатели, как Н. Я. Данилевский (1885), И. С. Аксаков (1886), М. Н. Катков (1887). Идя вослед, Тихомиров столь же глубоко осознавал различие в восприятии идеи Власти и государства в России и в Европе. Его протест против демократии — это протест против европеизма, разрушившего свой идеал государственной власти и навязывающего демократический принцип России, следствием которого было уничтожение национального идеала Верховной Власти русских Царей. Это протест против финансовых и гражданских «папам», виденных Л. А. Тихомировым на Западе (в частности, в его время особенно явственно во Франции), во имя яркого идеала возрожденной Самодержавной Монархии в лице Императора Александра III.
Многообразные писательские интересы Льва Александровича и глубокая вера в русскую мысль сделали его духовным наследником многих отечественных мыслителей.
В нем во всей глубине проявилась «универсальность» русского духа, проявилась возможность вбирать в себя, испытывать на себе влияния большого числа разнообразных идей, не теряя при этой идейной самобытности.
Трудно найти русского мыслителя, который хотя бы отчасти не был бы еще и историком. Вся русская мысль историологична. Возможно, в этом сказывалось еще и влияние Карамзина, впервые столь сильно и широко возбудившего интерес к историческим обобщениям, да и вообще интерес русских к самим себе. Поколение славянофилов и такие люди, как профессора Погодин, Шевырев, Катков, безусловно, имели опору в исторических трудах Карамзина.
Л. А. Тихомиров не был здесь исключением, напротив, его творчество стало, пожалуй, наиболее ярким воплощением историчности русской мысли. Убежденный, что психологический тип русской нации уже не одно столетие неизменен, он не считал большой опасностью включение множества иных народов и государств в русское государственное тело в процессе перерастания России в Имперскую державу.
Л. А. Тихомиров никогда не боялся влияния чужих идей на себя как мыслителя. Его гибкий и сильный ум [7] способен был, воспринимая чужое, не перенимать его бессмысленно, некритично, а переосмысливать в нужном ему ракурсе. Все, что было им изучаемо, проходило идейную переплавку и добавлялось в его систему мыслительной «специей», придававшей идеям Л. А. Тихомирова большую выразительность.
Универсальность писательства Л. А. Тихомирова имеет свои корни в философско-богословских традициях русской консервативной мысли XIX столетия; он вобрал в свой исследовательский инструментарий весь теоретический арсенал, выработанный предыдущими поколениями. Он тот мыслитель, который смог переместить наши государственные идеалы из области только лишь интуитивной и чувственной в область сознательного понимания и уяснения. Идея самобытности русского исторического Самодержавия была им возведена на уровень научно исследуемого факта человеческой истории. И после Л. А. Тихомирова русские мыслители в рассуждениях о судьбах русской государственности не могли уже обойтись без пройденного Л. А. Тихомировым пути (как профессор П. Е. Казанский, Н. А. Захаров, И. А. Ильин, И. Л. Солоневич или, скажем, такой эмигрантский писатель, как Н. Кусаков).
Процесс объединения разных консервативных течений русской мысли — традиций славянофильской и карамзинско-катковской — начался, пожалуй, еще с К. Н. Леонтьева, смогшего стать бойцом этих двух станов консерватизма (хотя и поздние славянофилы, вроде А. А. Киреева, и сам Катков не видели в К. Н. Леонтьеве своего последователя). В нем причудливо совмещались славянофильство в области культуры и карамзинско-катковское отношение к государству.
Следующим связующим звеном русской мысли нужно признать Л. А. Тихомирова: и по личной высокой оценке леонтьевской деятельности, и по внутреннему содержанию сочинении самого Льва Александровича. Леонтьев писал (в письме от 7 августа 1891 года) из Оптиной пустыни Л. А. Тихомирову: «Приятно видеть, как другой человек и другим путем (выделено К. Н. Леонтьевым. — М. С.) приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали». Это признание родственности убеждений и духа мысли. А выделенное К. Н. Леонтьевым в этом письме место и есть ключ к пониманию самобытности следующего этапа русской мысли, олицетворенного в Л. А. Тихомирове.
Будучи прямым наследником К. Н. Леонтьева (и даже не в том смысле, что он развивал его идеи, а в том, что продолжил саму пить размышлений над проблемами Православной Церкви, монархического государства и подобными вопросами), Л. А. Тихомиров пришел в русскую консервативную мысль из идеологов народовольчества. И это очень важно для понимания особенности его мышления.
Его мысль, вероятно, довлела над его натурой и характером зачастую заставляя подчиняться выводам логики не менее, чем чувствам. Его переход в мир традиции может быть сравним лишь с путем Ф. М. Достоевского — участника серьезной тайной эволюционной организации петрашевцев, прошедшего через личный глубокий атеизм, ожидание расстрела и каторгу. Их предощущения революции удивительно схожи психологически. «Бесы» Ф. М. Достоевского могут быть гениальной иллюстрацией к политологическим рассуждениям о феномене революции в работах Л. А. Тихомирова конца 80–90-х годов XIX столетия. [8]
Революционные течения первой половины XIX столетия еще не были столь ожесточенно-богоборческими, как к концу века. Невозможно представить Ленина, Бухарина или, скажем, Каляева не расстающимися всю революционную жизнь с образком святого, тогда как с Л. А. Тихомировым всегда был подаренный матерью образок святителя Митрофана Воронежского, или же увозящими в политическую эмиграцию Евангелие. Атеизм или даже богоборчество, всегда в большей или меньшей степени связанные с идеей революции, все же еще не были догматически усвоены многими народовольцами, сохранявшими некоторые христианские понятия — например, о честности. Л. А. Тихомировым и другими народовольцами было отвергнуто предложение использовать английские деньги для подготовки революции в России. По уже во время первой революции 1905 года кадеты легко брали деньги от финнов на свою разрушительную деятельность, а во время Первой мировой войны большевики Ленина по идейным соображениям получали деньги от военного противника (немцев) на свою революцию. Вряд ли можно представить, чтобы революционеры-народовольцы могли послать письмо турецкому султану с поздравлением по поводу неудачного штурма русскими войсками Плевны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Во время же русско-японской войны 1904–1905 годов такие поздравления японскому микадо имели место, не говоря уже о тотальной аморальности большевиков, желающих поражения своей Родине во время Первой мировой войны. Так что революция в своем нравственном состоянии «развивалась» в сторону все меньшей обремененности моральными понятиями. Сила революции возрастала ее безнравственностью.
Революция во времена народовольчества была, если так можно сказать, более «честна» по отношению к своему Отечеству и не имела еще на своем знамени лозунга: «Чем хуже, тем лучше». Вероятно, поэтому с революционной средой могли порвать отношения такие люди, как Л. А. Тихомиров или Ю. Н. Говоруха-Отрок. И хотя в те годы революция еще не была способна сломать Империю, Л. А. Тихомиров уже видел потенциальные ее сатанинские глубины. После перехода в 1888 году на сторону исторической России он ощущал мистически-реально приближение революционного безумия и всеми своими силами вел борьбу с этим направлением.
Побывав в водовороте революции, в самой середине его, и чуть духовно не сломавшись под ее давлением, он всю оставшуюся жизнь чувствовал страшное дыхание этого чудовища. Причем это ощущение его не сковывало, не лишало сил, а лишь мистически подстегивало к борьбе, к противодействию, к предостережению. Возможность революции представлялась ему настолько реальной, что окружающие зачастую сомневались в адекватности его оценки ситуации. [9]
Тихомиров глубоко религиозно переживал надвигавшуюся революцию — так же как переживал бы приближение будущего побывавший в нем и знавший, что трагедии этого будущего не минуют его жизни. «Все эти страдания, — писал Вл. Маевский, — пережитого духовного и жизненного перелома оставили свой неизгладимый след и в душевном настроении, и на внешнем облике Льва Александровича.
Никогда, например, не видели его веселым, смеющимся, беззаботным... Если среди веселой беседы приятелей и набегала на его сосредоточенное выражение лица едва заметная улыбка, то она тотчас же и слетала. Волосы упрямо торчали, брови хмуро сдвигались, со лба и лица не сходили борозды напряженных дум и тяжелых переживаний. Вся фигура Льва Александровича — нервная, худая, с явными следами переутомления (Л. А. Тихомиров много лет [был] выпускающим редактором „Московских ведомостей“), диетического недоедания и переутомления — отражала на себе неиссякаемую заботу и тревогу души. Он производил впечатление человека, ежечасно, ежеминутно боящегося и ожидающего какого-то безвестного и тайного удара». [10]
Эта чувствительность его души в сочетании с пытливостью ума, всегда живо реагировавшего на окружающее, создала тот тип мыслителя-энциклопедиста, который одинаково успешно мог трудиться в различных сферах...
Страдание и подвижничество
Мыслители мыслителям рознь. Есть мыслители партикулярные, для которых идеи не есть «кровь» их жизни, а лишь холодные умственные штудии. А есть мыслители, как бы являющие собой бескорыстных идейных доноров для нации, отдающие с каждой своей книгой, брошюрой или статьей часть своей «крови», жизни. Это — подвижники, жертвователи; только от них способна зажечься в сердце другого та вера в идеал, о котором они проповедуют.
Многие современники Л. А. Тихомирова, в частности Вл. Маевский и младший Фудель, говорили о его усердных молениях, о религиозности, углублявшейся с годами жизни. Вся его квартира была в церковных образах. Некоторые рассуждали о его ханжестве, не понимая духовной жизни этого человека, его серьезного религиозного настроения, так же как и не чувствовали его большого писательского подвига. Нарастание религиозного настроения способствовало развертыванию писательского дарования. В связи с этим интересна одна цитата из его дневника: «Да наша единственная сила в православии, и, утрачивая его, мы становимся, видимо, презреннейшими из людей, ничтожнее всех ничтожностей Европы. Удивительно, каждый, кого видишь из православных: мужик, купец, священник или хоть наш брат, „образованный“, — несокрушимый перед всеми „Европами“. Но как только нет веры — непременно оказывается слепым, ничтожнейшим, всемирным холуем». [11]
В 1900–1904 годах Л. А. Тихомиров все явственнее ощущал, что его смерть, может быть, уже очень близка. [12] Врачи не могли ничего существенного для него сделать. Он готовился к близкой кончине; в дневнике постоянно появляются его размышления о своем духовном несовершенстве, слова покаянного размышления об участи своей и семьи. «Болезнь заставляет подумать о душе, и в результате моих размышлений я вижу, что мне серьезно следует истреблять свои главные пороки. Нужно достигать с этой точки зрения вот каких качеств: 1) не осуждать, 2) негневливость, 3) чистота, 4) спокойствие вообще, при всех случаях, 5) предоставление всего Воле Божией, 6) терпение. Против всего этого я чаще всего погрешаю, можно сказать, ежесекундно — не то, так другое, а то и сразу по всем пунктам. Но как бы это себя воздержать?». [13]
И что же делает этот человек в столь катастрофическое для своего физического и тяжелое для духовного состояния время? Он работает над «Монархической государственностью». Пишет и сомневается в своей способности написать, продолжает снова писать и тут же с грустью размышляет о крайне малой возможности принести пользу своим трудом современной ему России: «Занят по горло приведением в порядок своего большого сочинения о государственности... Я все свободное время занят этой работой, и она так трудна, что я прихожу к грустному убеждению, что не могу дожить до ее окончания». [14]
«Я что-то опять расклеиваюсь. Сверх того, моя „Византия“ (часть II в книге „Монархическая государственность“ называлась „Римско-Византийская государственность“, или же речь идет об отделе третьем в этой же части — „Византийская государственность“. — М. С.) идет скверно. Голова устала, не вяжется мысль... И потом думаешь: из чего я тружусь, для чего? Даже берет сомнение: точно ли есть у меня ум, способный отыскать и указать правду? От Бога ли все мои труды, для совершения которых мне нет удачи, ни сил внутренних, ни внешних? Вот это уж очень тяжкая мысль». [15]
«Болезнь прервала мою „Византию“. А ведь это лишь небольшая доля труда — весь в 10 раз больше... Не видать мне его конца. Да боюсь, что все это „академический труд“. Наша Монархия так разрыхлилась, что Господь один знает, каковы ее судьбы... Главное — в обществе подорвана ее идея, да „самого“ общества-то нет. Все съел чиновник. Система „монополий“ и казенных предприятий проводит чиновника и в экономику страны. Ну а на этом пути — Монархия может быть только „переходным моментом“. Нужен гений, чтобы поставить Россию на путь истинно монархического развития. Мое сочинение, может быть, могло бы послужить будущему Монархической реставрации. Но для настоящего оно бесполезно. Ни очами не смотрят, ни ушами не слушают. Слишком вгрузли все в бюрократию и абсолютизм». [16]
И в этих борениях со своими духовными слабостями, физическими болями, печальной будущностью всей семьи (в случае смерти Льва Александровича остающейся и без тех скромных средств к существованию, которые доставляла изнурительная работа выпускающего редактора газеты «Московские ведомости») [17] Л. А. Тихомиров не прекращал своего труда.
Это то, что можно смело назвать настоящим подвижничеством во благо Отечества.
На склоне лет, уже завершив главные труды своей жизни и поселившись в Сергиевом Посаде, поближе к преподобному Сергию, с 1918 года, в обстановке торжествующей революционности, Лев Александрович Тихомиров начинает писать воспоминания с общим названием «Тени прошлого». Воспоминания были задуманы очень широко — он предполагал написать около восьмидесяти очерков о событиях и людях, которые дали бы возможность почувствовать атмосферу его жизни, попять состояние русского (или заграничного — периода эмиграции) общества второй половины XIX — начала XX столетия. Все, что прошло перед глазами этого выдающегося человека па протяжении более чем семи десятилетий его жизни, нашло отражение в мемуарах.
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, с прошлым, а создание документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений. В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Воспоминания не были закончены автором, но и в этом виде они представляют очень интересный и ценный материал об общественной жизни переломной пореформенной эпохи Российской империи.
Михаил СМОЛИН
Вступительное объяснение
Я всегда рассчитывал составить воспоминания о своей жизни, в которой передо мной прошло много достопримечательного. Но это намерение мне не удалось исполнить по множеству дел и занятий, поглощавших время и силы. Наконец с 1913 года, казалось, наступил для этого благоприятный момент.
Давно уже у меня начинало назревать истинное отвращение к политической деятельности, более всего вследствие нараставшего во мне понимания, что я к ней совершенно непригоден по своим силам и характеру. В 1913 году, ликвидировавши лежавшее на мне издание и еще раньше освободившись от службы, я порешил отстраниться совсем от всяких политических и общественных дел, в которых вечно стоял особняком, вне партий, будучи вследствие этого еще более неспособен к какому-нибудь полезному действию. Это намерение свое я и действительно исполнил, оставшись с тех пор совершенно частным обывателем.
Но это не значит, чтобы я ничего не делал. На мне, по суждению моему, осталось два дела, которых было более чем достаточно для окончания моей жизни. Это именно, во-первых, сочинение об «Основных религиозно-философских идеях истории», во-вторых — мои воспоминания.
Первое я считал в высшей степени важным для людей каких бы то ни было направлений, так как оно раскрывает ту сторону истории, о которой менее всего думают. Можно сказать, что экономика и религиозно-философские идеи — это в истории все. А между тем в наше время обе главные действующие силы — то есть буржуазия и пролетариат — стоят на одной экономике, что хотя естественно при классовой борьбе, но ошибочно. Какую бы экономическую основу ни выбрало для себя человечество, оно не устроится без основы религиозно-философской, так что если не думать о ней сознательно, это приведет лишь к тому, что она не исчезнет, но осуществится уродливо, мешая, конечно, и гармоничности жизни. Поэтому я взялся за эту работу со всей энергией, видя в ней свою «лебединую песнь».
Но она оказалась труднее, чем я первоначально думал, и потребовала пересмотра громадной литературы, так что с ней провозился целых пять лет. Сверх ее сложности, большой помехой явились для меня возникшая всемирная война, а потом — революция неслыханной в мире сложности и глубины. Хотя я и при этом остался вне политики и совершенно не вмешивался в эту страшную борьбу социальных стихий, более чем когда-либо раскрывавшую давно сознанную мной непригодность мою к общественной деятельности, но эти грозные, потрясающие события не могли, конечно, не задевать души моей. Только глубокая уверенность в важности моей работы для человечества, на каких бы основах оно ни устраивалось, давало мне силы продолжать ее в таких катастрофических обстоятельствах.
И вот она наконец окончена... почти. Немногое следовало бы еще подправить, кое-что развить, сделать заключение. Но даже и в настоящем виде она годится к печати. Я даже думал об этом, и при благоприятных условиях войду в соглашение с издателями.
Наступает очередь воспоминаний. Но трудности являются и здесь. Я стал на четыре года старше, и силы, соответственно, еще более ослабели, а жизнь становится все труднее. Меня устрашает мысль, что если я начну сплошные воспоминания, хронологически, сначала до конца, то я ни за что не окончу. Сверх того, в буре расколыхавшихся стихии невозможно сосредоточиться на такой громадной картине. Эта буря постоянно чем-нибудь от нее отвлекает.
Поэтому я решил писать воспоминания в виде отдельных эпизодов и картинок. На каждом из этих маленьких очерков легче сосредоточиваться. Между тем если я успею сделать их много, то это фактически даст то же, что сплошные воспоминания, особенно если их потом связать хронологическим порядком с небольшими вставками. А до тех пор эти отдельные картинки легче публиковать, чем громадную книгу.
При этом я не прибегаю ни к каким литературным справкам. Я пишу не историю моего времени, а чисто личные воспоминания: то, что сохранилось в памяти, итак, как оно сохранилось. Мне кажется, что с таким характером эти очерки будут иметь более документальной ценности, а в то же время для меня будет легче их писать.
Точно так же я решил писать эти воспоминания не в хронологическом порядке и не в каком-либо другом систематическом порядке, а просто как вспомнится, хотя б по какому-нибудь случайному побуждению или настроению. Пусть эти «тени прошлого» прилетают ко мне свободно, как им вздумается. Мне легче будет вслушаться в их голос, легче будет записать. Не беда, если что-нибудь «менее важное» захватит мою душу скорее, чем «более важное». Сказать по правде, для современника даже нелегко решить, что более важно, и из мелочей складываются великие события. Эти мелочи также нужно знать будущему историку. Они составляют фон жизни.
Моя же работа пойдет тем легче и скорее, чем менее я буду преднамеренно думать, что важно и что неважно. Раз осталось у меня па душе, значит, для меня имело какую-то психологическую важность, а если имело для меня, то, значит, имеет и для человека вообще.
И во всяком случае, такая система воспоминания для меня наиболее легка и удобна, а следовательно, при ней работа пойдет скорее.
Л. Тихомиров
10 (22) сентября 1918 г.
Из семейной хроники
I
Мой отец и мать, за исключением ранней молодости, весь век прожили на Кавказе, а мы, дети их, все там родились и выросли. Там же мы приписаны к обществу (Дворянское общество Северного Кавказа). В Новороссийске у меня и посейчас имеются кое-какие крохи недвижимости. Отец и сестра так и умерли в Новороссийске, а мать, хотя по случаю всемирной предреволюционной войны должна была уехать оттуда ко мне в Москву и скончалась в Сергиевом Посаде, ни о чем не мечтала так страстно, как о том, чтобы покоиться в одной могиле с мужем и дочерью на новороссийском кладбище. За этой могилкой она с любовью ухаживала много лет и заранее наметила на ней себе местечко. Но не послал ей Господь этого утешения. Я мог лишь обещать ей при возможности перенести ее прах в эту скромную могилу, осененную молодым дубком и задумчиво глядящую на наши родные горы и бухту. Увы, не даст Бог, конечно, и мне исполнить заветное желание матери. Я могу лишь оставить это наставление детям своим. Авось хоть им удастся, да и то сомнительно...
Из моих детей обе дочери выросли в Новороссийске у дедушки и бабушки, а оба сына там живали, и все мы смотрим на Новороссийск как на свое родное место. Вообще, наша семья — настоящие кавказцы.
И однако оба они, отец и мать, — люди пришлые на Кавказе. Судьба свела их сюда из очень дальних мест: отец родом туляк, мать из Бендер Бессарабской губернии. Совсем молодыми они сошлись в Геленджике, на так называемой Береговой линии, и затем весь век уже провели на Кавказе.
Отец, покойник, родился в селе Ильинском, верстах в двадцати-тридцати от Тулы, не помню, Тульского или Алексинского уезда. Родом он был чистокровный великорус, из старинной духовной семьи, с незапамятных времен служившей в Ильинском приходе. Точные семейные воспоминания Тихомировых восходят, впрочем, только до царствования Анны Иоанновны. При ней родился отец Родион, бывший священником в Ильинском. После него там священствовал его сын, Александр Родионович, от которого 8 сентября 1813 года родился мой отец, Александр Александрович. Ильинский приход преемственно оставался в руках рода Тихомировых, не всегда, однако, носивших эту фамилию. Тогда в семинариях очень произвольно давали и изменяли фамилии. Так, например, родной брат моего отца, Дмитрий Александрович, получил в семинарии фамилию Белоусов. Эта привычка выдумывать фамилии в основе, вероятно, произошла оттого, что многие семинаристы совсем их не имели; их и наименовывали по приходским храмам — Знаменский, Рождественский и т. д., или по приметам, или просто по фантазии. Но в тогдашнем крепком родовом быте духовенства все очень хорошо помнили свое родство независимо от фамильных прозвищ. В Тульской губернии есть Тихомировы, не состоящие с нами ни в каком родстве, тогда как Белоусовы, Каменевы, Лавровы — все кровные родственники ильинских Тихомировых. Старший в сонме этих разнофамильных родичей был среди них истинным патриархом, заботился о нуждах всех их, следил за поведением и т. д. В мое время таким патриархом был брат моего отца, отец Дмитрий Александрович Белоусов. Он священствовал уже не в Ильинском, где при мне был отец Лавров, а в селе Сергиевском, недалеко от Ясной Поляны, состоял благочинным над несколькими десятками приходов и пользовался глубоким уважением всего населения. Я знал его уже почтенным старцем, крепким, благообразным, очень похожим на моего покойного отца. Это был человек умный и хороший, а уж о своих родовичах постоянно думал: кого пристроить к месту, кого определить в учебное заведение, кого замуж выдать и т. п.
В то время, когда я навестил Тульскую губернию, большинство нашей родни уже покинуло духовное звание и разбилось по разным другим профессиям, но оставалось между собой в крепкой связи. В село Ильинское на приходский праздник Ильи Пророка, 20 июля, ежегодно съезжалось много родных разных фамилий и званий: духовенство, врачи, учителя и т. д., чтобы вместе попраздновать и поклониться могилам предков. Я был на одном из этих праздников, где тогда съехалось человек пятьдесят. Очень любопытное зрелище представлял этот съезд, о котором я как-нибудь дальше расскажу подробно.
Вот в такой-то атмосфере родился и воспитался мой покойный отец. Попавши на Кавказ, он уже ни разу не мог вырваться на родину, но помнил и любил ее, поддерживал переписку с братом Дмитрием и регулярно помогал своей матери деньгами. О временах детства у него сохранились самые светлые воспоминания, и родное Ильинское стояло перед его воображением как потерянный рай. Он любил рассказывать нам, детям, о родовом гнезде и рисовал на бумаге план «бабушкина домика», который я увидел в натуре через тридцать лет.
Они жили в этом домике небогато, но и без нужды. Мой дед, Александр Родионович, и бабушка, Марья Алексеевна, были люди добрые, патриархальных нравов, трудящиеся. В семье долго жила и вдова отца Родиона, моя прабабка, достигшая чуть не столетнего возраста. Это было существо кроткое и ласковое, любимица внучат, и трудилась по хозяйству, можно сказать, до последнего вздоха. Она так и умерла на своем хозяйственном посту. Нужно было что-то пересмотреть в сундуке, она наклонилась над ним да так и не встала: скончалась, погасла как искорка.
Детям жилось в Ильинском привольно. Собственно села, в смысле одного большого поселка, там нет, и общий план его довольно своеобразен. Центр Ильинского составляет погост, стоящий совершенно одиноко. На погосте — церковь Ильи Пророка, кладбище и дома причта, а теперь еще школа с помещением для учительницы. Около церкви сосновая роща — большая редкость для Тульской губернии; и сосны старые, высокие, строевые. Я видел эту рощу уже после того, как она была испорчена вырубкой нескольких сотен стволов для построек, и то она была чудно красива. Дальше вокруг погоста тянутся обширные поля причта, так как ильинской церкви принадлежит что-то около трехсот десятин: щедрый дар прежних помещиков. Никакого жилья глаз не схватывает с погоста. Однако оно есть. Вокруг церковных земель по периферии расположено девять деревень, а по другую сторону, с четверть версты от церкви, — помещичья усадьба, скрытая в деревьях. Все это вместе и составляет то, что называется селом Ильинским.
Дворы духовенства тянутся вдоль крутого, заросшего деревьями и кустарником склона, спускающегося к узкой речушке. Тут находятся и фруктовые садики, и огороды причта. А речка ниже по течению расширяется и образует озерки и запруды, богатые рыбой. За речкой, по дороге в Тулу, порядочные рощи и лески. В старину, при отце, тут тянулись большие леса. В общем, есть где детям разгуляться на разнообразном просторе.
Эти леса памятны были отцу по веселым каникулярным возвращениям домой из Тульской семинарии. Семинаристы шли по домам пешком совершенно так, как описано у Гоголя. Из города выступали большой толпой, которая постепенно редела, по мере того как мелкие группы сворачивали на проселки к родным приходам. По дороге веселая молодежь собирала ягоды, грибы, варила себе пищу, отдыхала, играла, дурачилась. Приходилось переживать и тревожные минуты, потому что в лесу водилось тогда много волков.
По давешнему порядку, отец был рано отдан в Тульскую семинарию, где скоро выдвинулся своими успехами. Обстановка семинарского быта была бедна, но учили тогда, пожалуй, искуснее, чем впоследствии, при всяких усовершенствованиях. Отец, например, кончая семинарию, говорил и писал по-латыни так же свободно, как по-русски. К концу курса он стал звездой семинарии. Начальство хотело отправить его в Духовную академию. Ему пророчили блестящую карьеру по духовному ведомству. Сам архиерей непременно требовал отправки его в Духовную академию, понятно, на казенный счет. Перед отцом раскрывались торные дороги, но он не захотел идти но духовному ведомству. Почему — не знаю. Всю жизнь он оставался верующим и благочестивым человеком, но по духовной части не пошел, не останавливаясь ни перед ссорой с епархиальными властями, ни перед тем, что не имел никаких средств. От отца он не мог получить никакого пособия, а жизнь и учение в Москве требовали денег. Но он непременно хотел быть врачом и поступил в Московскую медико-хирургическую академию.
Она впоследствии была присоединена к Московскому университету в качестве медицинского факультета, а помещалась и при отце в том же самом здании, где и при мне еще находилась большая часть медицинских аудиторий, то есть в так называемом старом здании университета. Там жили и стипендиаты-пансионеры. Но отцу не сразу пришлось попасть в их число.
Вступительный экзамен он выдержал очень хорошо. Труднейшую часть его составляло сочинение на латинском языке, но для отца это был совершенный пустяк; он успел написать сочинения даже еще для нескольких экзаменовавшихся, не доверявших своим латинским познаниям. Он мог бы получить стипендию, но тогда за каждый год стипендии нужно было пробыть на казенной службе чуть ли не три года. Отец предпочел остаться свободным, поселился на вольной квартире, а средства на содержание добывал уроками. Замечательно, что он еще в Туле видел во сне с мельчайшими подробностями ту самую квартиру, в которой ему пришлось поселиться. Жил он при тогдашней дешевизне очень хорошо: мог даже завести собственную лошадь, чтобы ездить на уроки. Но скоро на него обрушилось несчастье: умер его отец, Александр Родионович. Ильинская семья очутилась на попечении молодого студента. Еще хуже было то, что у Александра Родионовича оказались значительные долги. Не знаю, на какие потребности он так задолжал, но мой отец считал делом чести расплатиться со всеми кредиторами Александра Родионовича, хотя он этим привязывал себе страшный камень на шею. Воспоминание об этой душившей его тяжести так врезалось в душу отца, что он потом всю жизнь относился к долгам с каким-то суеверным ужасом. Уже будучи в крупных чинах, он, бывало, ходил сам не свой, когда неоплаченный забор по книжке в лавочку доходил до нескольких сотен рублей. Напрасно упрашивал купец: «Да бы не беспокойтесь, берите сколько хотите, мы будем ждать сколько угодно...» Нет, это его мучило, и он торопился расквитаться.
Содержать себя, содержать семью, да еще очищать долги — превышало всякие силы отца, и он должен был закабалить себя на стипендию, продолжая в то же время давать и уроки. При усиленных занятиях в академии жизнь получалась очень трудная. Но общей обстановкой своего академического существования отец вообще был доволен. Кормили, конечно, очень скверно и скудно, да и студенческая семья была далеко не блестяща. Попадались студенты, которые не стеснялись даже грабить прохожих, так что ночью считалось небезопасным проходить по Никитской около академии. Дисциплина в интернате — по духу времени, да и по характеру студентов, — была весьма строгая. Но инспектор [18] был хорошим представителем николаевского времени, то есть настоящий отец-командир, который умел отличить порядочного человека от непорядочного и не подводил под одну мерку простую шалость и проявление действительной испорченности. Порядочным студентам он давал всякую льготу, да и по серьезным проступкам не был жесток и старался не губить людей бесповоротно.
В научном отношении преподавание в академии было поставлено вообще хорошо. Но среди профессоров находилось несколько немцев, тогда не знавших по-русски. Лекции читались большей частью по-латыни, иногда по-немецки и только в виде исключения по-русски. Я теперь перезабыл фамилии профессоров, но среди них было несколько истинно ученых. Относились к студентам они вообще хорошо, к некоторым студенты ходили и в гости. Особенной приветливостью отличался профессор богословия, у которого были дочери-невесты. Веселый и добродушный, он любил и пошутить. Однажды на проповеди в церкви он говорил, что нигде нельзя скрыться от Бога: ни на земле, ни на небе, ни под землей... «Ни даже в Индии», — прибавил он, лукаво поглядывая на студентов, едва удерживавшихся от хохота, тогда как простые богомольцы в церкви, конечно, даже не заметили шутовской выходки проповедника.
В 1840 году, 26 июня, отец блистательно кончил академический курс с большой золотой медалью с надписью: «Преуспевающему». Профессорская коллегия хотела оставить его при академии, но злополучная стипендия стала поперек дороги научной карьере. Военное ведомство нуждалось во врачах, и особенно в таких местах, куда добровольно никто не хотел ехать. К таким местам принадлежал Кавказ. Стараниями друзей отцу выхлопотали назначение в Московский военный госпиталь (1 августа 1840 года) в надежде оттянуть время и добиться причисления его к академии, но это оказалось тщетным. В конце того же, 1840 года (2 декабря) его уже двинули на далекий юг — в Феодосийский военный госпиталь, и даже сверх штата, очевидно, для того, чтобы вырвать его из Москвы. В Феодосийском госпитале он не пробыл и месяца, да и то только на бумаге, и не успел он приехать, как уже был назначен врачом в 3-й Черноморский батальон, и судьба его была решена. Академические друзья и покровители, провожая его, утешали, что не перестанут хлопотать о его возвращении в Москву, но понятно, что раз не удалось задержать его в Москве, тем более ничего не могло выйти из попыток возвратить его туда с Кавказа. Он был навсегда приговорен к Кавказу, навсегда остался военным врачом.
II
Нелегко было перенести крушение всех мечтаний об ученой карьере. Но отец впоследствии говаривал, что, пожалуй, все вышло к лучшему и что он, быть может, обязан Кавказу жизнью. Напряженная работа в академии в соединении с необходимостью добывать средства для себя, для отцовской семьи и уплаты отцовских долгов в конце концов совершенно подорвали его силы, и у него грозила развиться чахотка. Жизнь на Юге, на вольном воздухе, теплом и сыром, быстро поправила его здоровье, и он стал крепким, плотным мужчиной, каким оставался потом всю жизнь.
У меня до сих пор сохранилась его раскрашенная фотография конца пятидесятых годов, да я его и так хорошо помню. Он, как и мама молодых лет, стоят передо мною как живые. Отец был высокого роста, очень плотный, но стройный, без всякой наклонности к полноте. Физически он был силен и вынослив, хорошо ездил верхом и плавал. К езде он до того привык, что мог даже спать в седле. За всю жизнь я помню его больным только один раз — когда он перенес тиф. Только к концу жизни он, по рассказам мамы, стал прихварывать. Лицо у него было чисто великорусского типа: высокий лоб, правильный нос, губы, часто складывавшиеся в добродушную улыбку. Русые волосы спереди немножко кудрились хохолком. По николаевской форме, он носил только длинные усы и никогда не обзаводился бакенбардами, но, выйдя в отставку, отпустил бороду. Я не видал человека более хладнокровного и с таким самообладанием. Не могу себе представить его в испуге или каком-нибудь азарте. Всегда ровный и спокойный, он никогда не кричал и не хохотал. Только улыбка освещала его лицо при веселом разговоре, в котором он часто подпускал удачные и обыкновенно безобидные остроты.
Раз загнанный на Кавказ, отец за всю жизнь ни разу не мог урваться побывать на родине и лишь поддерживал переписку с братом Дмитрием, на котором остались заботы о семье, так как он кончил курс семинарии и получил священническое место. Но матери своей отец высылал пособие всю ее жизнь. Нужно заметить, что с поступлением на службу средства его не увеличились, а уменьшились. Жалованье тогда было ничтожное. В 1853 году, например, после тринадцати лет службы, его годовой оклад составлял всего 250 рублей. Были, конечно, кое-какие добавочные выдачи, случались и денежные награды, но все это составляло очень немного. Доходов же от частной практики отец никогда не имел. Его очень ценили как врача, и от больных не было отбоя, но получал он с них гроши. С людей сколько-нибудь бедных он принципиально ничего не брал, а богатые платили сколько вздумается и вообще очень скупо, потому что размеры гонорара не имели никакого влияния на его врачебное усердие и внимательность. Ни днем, ни ночью он не отказывался идти к какому бы то ни было больному. Вспомню один пример из множества. Прибежали как-то около часа ночи из подгородной слободки звать его к какой-то бабе, которая мучилась родами. В те времена врачу приходилось быть всем: и хирургом, и акушером, и ветеринаром... Отец уже спал. Его разбудили, и он немедленно отправился к роженице, у которой и провел несколько часов. За это он не взял и не получил ни копейки. Такова была его «практика». Вообще, отец был большим идеалистом в отношении своих обязанностей и смотрел так, что он должен оказать помощь каждому больному. В результате его все любили и уважали, а денег не давали. Зато, когда он умер, его провожал на кладбище весь Новороссийск, а Джубскую улицу, на которой находится наш дом, народ самовольно переименовал в Тихомировскую, и так упорно, что в конце концов даже и на официальных планах бывшая Джубская улица стала именоваться Тихомировской.
Он вообще был очень равнодушен к имуществу. Жили мы всегда скромно, в карты он не играл, в кутежах и с молодости не участвовал. Под конец жизни у него был маленький дом, который он построил за пять тысяч рублей по выходе в отставку только потому, что в городе нельзя было найти дешевой сухой квартиры. В Новороссийске тогда песок добывался из моря, так что все постройки делались неисправимо сырыми. Купил отец также двадцать десятин земли по льготной казенной цене (10 рублей десятина), но это по настойчивым просьбам мамы. Вообще, имущество у него было самое скромное, и он не имел к нему никакого вкуса. Может быть, такое настроение у него развилось тридцатилетней цыганской жизнью военного врача.
Что касается службы и Кавказа, которые были ему насильно навязаны судьбой, — он скоро их полюбил и привязался к Кавказу, как большинство служивших там. И действительно, жизнь на Кавказе была проникнута глубоким смыслом гораздо белее, чем в любой другой области России, и этот общий смысл придавал особый интерес всем частностям и даже мелочам кавказского быта. Тут человек сознавал, что он недаром живет на свете, а совершает некоторую, хотя бы и малую, долю великого дела. Если бы спросить жителей любой губернии, для чего они существуют на свете, они бы очень затруднились объяснить это. Но старый кавказец знал, для чего живет, знал, что исполняет великую национальную и культурную роль в трудном, непрерывном подвиге, в сложной непрестанной борьбе с природой и людьми. Оттого-то старые кавказцы и были такими патриотами своего края. Он был их детищем; своими трудами и жертвами они достраивали здесь Россию, созидали новую могучую ее окраину, где разнородные туземные племена приобщались к культурной жизни под гегемонией России, щедрой и милостивой для всех, способных воспринять приносимые им блага, и грозной для всех, осмеливающихся становиться поперек дороги русской миссии. Здесь русский мог говорить себе как античный гражданин Рима:
Tu regere imperio populos, Romane, memento... Parcere subjectis et debellare superbos! [19]Таков был общий тон кавказской жизни, но мои семейные воспоминания относятся, собственно, к Северному Кавказу, и по преимуществу к его «правому флангу». Русское население края все так или иначе примыкало к армии, которой левый фланг шел по Тереку к Каспийскому морю, а правый фланг — по Кубани к Черному. По левому флангу растянулись казаки гребенские, едва ли не древнейшие в России, и моздокские, впоследствии, с прибавкой новых станиц, составившие Терское казачье войско. К правому флангу относилось Линейное казачье войско, потомки донцов и крестьянских деревень, зачисленных в казаки, и Черноморское казачье войско, потомки запорожцев и различных малорусских переселенцев. Вся крайняя полоса русских владений со стороны Кавказского хребта была обрамлена линией укреплений, стоявших на границах земель враждебных горцев. По берегу же Черного моря тянулась так называемая Береговая линия, то есть линия укреплений на землях враждебных горцев от Анапы до Закавказья. Эти маленькие укрепления, имевшие целью отрезать горцев от Турции, находились в верной блокаде. На сухом пути между ними не было никаких сообщений, и они связывались между собою только судами Черноморского флота и так называемой казачьей гребной флотилией. Черноморский флот находился в вечном крейсерстве у берегов Кавказа, перехватывая все турецкие суда, привозившие черкесам разные необходимые для них товары, особенно военные, а с Кавказа увозившие по преимуществу женщин для турецких гаремов. В этом крейсерстве и воспиталось героическое поколение моряков, которое позднее прославило себя при Севастопольской обороне.
Несмотря ни на какие бури и штормы, блокаду берегов нельзя было прерывать, и наши суда, в то время почти исключительно парусные, ходили взад и вперед вдоль Черноморского побережья. Беда была кораблю потерпеть аварию. Ему некуда было укрыться, негде было получить помощь, кроме укреплений Береговой линии, если погода позволяла к ним пристать. Бухты были только в Геленджике и Новороссийске, но при сильном норд-осте, господствующем здесь осенью и зимой, входить в них парусному судну было нелегко, иногда даже невозможно. Впоследствии, когда я уже был гимназистом, мой товарищ Ключарев вздумал поехать из Керчи в Новороссийск на кочерме (парусное судно); так они, попавши сюда в норд-ост, должны были лавировать у входа в бухту несколько дней, так что Ключареву наконец надоело ждать, он высадился на берег на лодке и пошел в Новороссийск пешком. Конечно, моряки старого Черноморского флота были искусные, но во всяком случае при норд-осте входить было нелегко.
Гребная флотилия так называемых азовских казаков, состоявшая из больших баркасов, выдерживала еще более трудные испытания. На шхуне или бриге есть хоть каюта, в которой можно обсушиться и обогреться, есть кают-компания, где можно с удобством пообедать и поболтать с товарищами. На баркасе некуда укрыться, кроме крохотной каморки, в которой и одному человеку ни встать, ни сесть. А между тем волна, еще очень сносная для шхуны, заставляет уже баркас черпать обоими бортами. Страшны для него и смерчи, бегающие по морю иногда целыми стаями в пять-шесть штук. Этот крутящийся водяной столб, сливающийся с низкими облаками, закручивает и топит лодку, на которую набежит. Его можно разбивать орудийными выстрелами, но на баркасе нет, по большой части, даже крошечной сигнальной пушчонки. При искусстве команды гибель баркасов происходила нечасто, однако такие случаи бывали. Однажды жестокий шторм захватил в море два баркаса, которыми командовали родные братья. Один вышел из передряги благополучно, но другой был затоплен бушующими волнами и пошел ко дну. Экипаж весь погиб на глазах своих более счастливых товарищей. Командир спасшегося баркаса слыхал отчаянный крик брата: «Брат, спаси...» Но напрасно. Немыслимо было оказать никакой помощи... Этот предсмертный крик, доносившийся из водяной мглы сквозь рев ветра, не смолкал уже никогда в ушах спасшегося брата. Он был так потрясен, что сошел с ума и постоянно слышал бесплодный призыв гибнувшего брата.
Огромную опасность даже для большого корабля представляло сесть на мель или быть выброшенным на берег. Горцы прятали большие лодки в устьях речек, среди непроходимых камышей, и на этих лодках смело абордировали обессилевшее судно, а очутившись на берегу, наш экипаж не имел никаких шансов пробиться сквозь скопища горцев к какому-нибудь русскому укреплению по неприступным лабиринтам гор без всяких дорог, кроме черкесских троп, вдобавок и неизвестных нашим. В этом крейсерстве, вечно перед лицом смерти, с одной надеждой на свои силы, воспитывались черноморские «морские волки», бестрепетные, выносливые, неистощимо находчивые, достигшие высшей виртуозности в управлении парусным кораблем и баркасом, связанные от офицера до матроса самоотверженным товариществом и железной дисциплиной. Истинным создателем этого беспримерного флота, единственного за всю русскую историю, был адмирал Лазарев, из школы которого вышли Нахимов, Корнилов и Истомин. Но дух моряков был одинаков как у этих звезд флота, так и у скромнейших чинов службы. Они гордились своими начальниками, своими подчиненными, любили свои суда, знали их до тонкости и умели доводить до высшей степени их морские достоинства.
Не помню ни имен капитанов, ни названий шхун, на одной из которых разыгралась трагедия, служащая образчиком страстной влюбленности тогдашних моряков в свое судно. Одна из шхун была чуть ли не «Дротик». Во всяком случае, обе считались лучшими ходоками флота. И вот однажды в Геленджике капитаны заспорили на пари, кто кого обгонит в море. Событие сенсационное. Все население крепости высыпало на берег, когда обе шхуны выходили из бухты. Некоторое время они соперничали в быстроте и искусном маневрировании, но потом одна стала обгонять. Капитан отставшей делал сначала все усилия поправить неудачу, а потом, убедившись в бесплодности этого, сбежал в каюту и перерезал себе горло бритвой. Он не в силах был пережить позора любимой шхуны, в котором, может быть, считал и себя чем-нибудь виновным. На парусном судне скорость хода зависит далеко не от одних морских качеств его, но еще более от искусства в пользовании средствами различных парусов, кливера, руля, малейших капризов ветра, движения волны и т. п. Парусное судно, как фея-волшебница, живет в непрерывном взаимодействии с силами природы и само, как они, начинает казаться одушевленным существом, с которым моряк заключает такой же союз, как всадник со своим верным конем.
Суда Черноморского флота и гребной флотилии не только блокировали черкесские берега и поддерживали сообщение между укреплениями, но и помогали действиям сухопутных отрядов. Когда требовалось наказать горцев или предотвратить их нападение, военным отрядам, за отсутствием дорог, нельзя было предпринимать экспедиции иначе как посредством десантов. Их грузили на суда и высаживали где нужно, в устьях широких долин, откуда они поднимались в намеченные раньше горные трущобы. В этих десантах не раз приходилось участвовать моему отцу вскоре по поступлении на службу. Часто плавая на судах, он подружился с моряками, хорошо узнал их быт, хорошо знал и все устройство судов, действие парусов, так что мог показаться настоящим моряком. Часто он рассказывал нам, детям, о морских поездках, увлекаясь красотой своих воспоминаний, и передо мной доселе живут картины того, как легкая шхуна, распустив все паруса и прилегши на бок, быстрой стрелой летит по морю, взлетая на волны и плавно сползая с них. Покойный отец, на родине не видавший воды шире Оки, здесь полюбил беспредельное море в его зеркальном спокойствии и в его бешено ревущих бурях.
Как я упоминал выше, его назначение в Феодосийский госпиталь было чисто фиктивным. 2 декабря 1840 года он был назначен туда, но немедленно по прибытии, 23 января 1841 года, был назначен в 3-й Черноморский батальон, стоявший в Новороссийске, а немного спустя (11 октября 1841 года) — в Новороссийский военный госпиталь. Таким образом, он начал свою кавказскую службу в Новороссийске.
Новороссийск был столицей Береговой линии и местопребыванием ее начальника, Серебрякова. Я хорошо знаю план Новороссийска по его развалинам, среди которых бродил пятнадцать лет спустя с такими же, как я, мальчуганами. Это был довольно большой городок, обнесенный стеной, со рвом и бастионами, занимавший пространство без малого от нынешнего нового базара до нынешней станички, но на гору он не поднимался выше нынешнего городского сада; за Цемесом, на месте вокзала и французского городка, не было ничего. Но на другой стороне бухты, в самом начале, был маленький форт, охраняющий колодцы, в которых наливались моряки. В самом городе, около адмиралтейства, были также прекрасные благоустроенные колодцы, в новом Новороссийске иссякшие и пришедшие и запустение. Со стороны бухты город защищен был также бастионами поблизости нынешнего мола. Новороссийск имел несколько хорошо застроенных улиц, казармы, больницу, дома частных жителей, всегда собирающихся около военных центров. Были хорошие магазины. Дом Серебрякова, на нынешней Серебряковской улице, представлял целый маленький дворец в два этажа. Его руины были так прочны, что в них, когда я был мальчиком, устраивались танцевальные вечера. Около него находилась большая роща из огромных вековых деревьев. Единственный недостаток ее составляло то, что все эти великаны были сильно наклонены к юго-западу — вследствие давления норд-оста, под которым они родились и выросли. Замечательно, что теперь деревья в Новороссийске не испытывают этого изуродования. Вероятно, в старину северо-восточные ветры были более постоянные, чем теперь. Эта роща была вся вырублена при восстановлении нынешнего Новороссийска: поступок, нельзя не сказать, довольно варварский.
Огромная Цемесская бухта, в двадцать верст длиной и пять-десять верст шириной, была закреплена в русских руках более всякого другого куска Черноморского прибрежья. На южной стороне стоял город Новороссийск. На северной стороне — башня, защищавшая колодцы. При входе в бухту, около мыса Доба, на устье речки Кабардинки, находилось небольшое кабардинское укрепление. Речка теперь давно превратилась в жалкий ручей, а тогда в нее могли входить кочермы.
Кабардинское укрепление очень интересно по принятой в нем системе сторожевой собачьей охраны. Вокруг стен в глубоком рве была поселена большая стая собак, которые не трогали русских, но на черкесов нападали с озлоблением и чуяли всякое их приближение. Однажды черкес, неосторожно подъехавший ко рву на коне, когда не было никого из русских, погиб страшной смертью. Собаки бросились на него. Он пытался ускакать, но разъяренная стая догнала его, стащила с коня и растерзала. Не знаю, кто изобрел эту караульную собачью службу, и не слыхал о других ее примерах. Но в Кабардинке она была признана официально, и собаки получали даже казенный паек.
Сообщение Новороссийска с Кабардинкой поддерживалось на баркасах, так как сухим путем можно было идти лишь вокруг бухты, у подножия хребта Маркотх, круто обрывающегося в бухту и по всем ущельям густо заселенного горцами. Не знаю, откуда произошло название Кабардинка, но только не по имени черкесов. Никаких кабардинцев здесь не было. На всем пространстве от Анапы до Новороссийска и по всему Маркотху к Кабардинке и Геленджику, и даже южнее Геленджика, жило племя натухайцев, или, как их звали по-ученому, натхокуадцев.
Вообще западный фланг боролся против адыгейских племен, древнейших обитателей края, в собственном смысле черкесов — «керкезов» древних греков. Их было пятнадцать племен, из которых главные жили около Черноморья и Береговой линии. К северу от хребта Маркотх, к Кубани и Екатеринодару, тянулись обширные земли шапсугов, самого многочисленного из адыгейских племен, а за ними, к Майкопу, жили абадзехи. По нижней Кубани жили бжедухи, когда-то многочисленные, а потом, еще до прихода русских, почти совершенно истребленные чумой. Южнее Геленджика скоро начинались земли убыхов. Это воинственное племя жило по всей Береговой линии почти до самой Абхазии. Абхазцы — уже не адыге. По верховьям Кубани до вершины Эльбруса находилась земля карачаевцев, которые всегда были мирными и с русскими не враждовали, почему и пережили благополучно страшную катастрофу адыгейских племен. Карачаевцы — тоже не адыгейцы. Из всех укреплений Береговой линии только Новороссийск имел сухопутное сообщение с Россией, а именно на Анапу, через, так называемое Анапское ущелье. Широкая долина речки Цемеса, около которой расположен Новороссийск, в своей верхней части превращается в узкое ущелье, через которое и нужно было проходить к Анапе. Как везде на Кавказе, сообщение происходило при посредстве «колонны», то есть отряда, который прикрывал обозы и проезжающих. Все, кому нужно было ехать, так и ждали времени отправки колонны. Проезжая теперь Анапским ущельем, трудно представить себе, что оно славилось непроходимостью и опасностями. Но это потому, что теперь дорога идет прямо через перевал, а в прежние времена приходилось двигаться внизу, по ложу ручья, имея с обоих боков крутые склоны гор, поросших лесом. С этих склонов черкесы могли на выбор расстреливать войска и обозы, и на протяжении нескольких верст не осталось бы в живых ни одного из безумцев, вздумавших сунуться в ущелье без обычных кавказских предосторожностей. Но по обе стороны колонны, по верхам ущелья, всегда пускали цепи солдат, которые все время отражали попытки черкесов прорваться к идущей внизу колонне. Только эти цепи и делали возможным пройти ущелье без больших уронов.
Отец прослужил почти два года в столице Береговой линии. [20] Здесь он впервые познакомился с кавказским обществом, впервые же побывал и в боевом огне.
Разумеется, Новороссийск был слишком сильной крепостью, чтобы черкесы могли даже подумать о нападении на него. Но их партии бродили в окрестностях, грабили, убивали и уводили в плен всех, кто попадался на рубке леса, на покосе и т. п., они угоняли скот и лошадей, они нападали, наконец, на колонны. Для наказания их и усмирения иногда снаряжались небольшие экспедиции, а при всяком таком отряде непременно находился врач. По тогдашним нравам, он обязан был стоять не в тылу, а по возможности в передовых рядах для успокоения солдат мыслью о близости медицинского пособия. Впоследствии отец купил под хутор клочок земли, на котором он впервые понюхал пороху. Это было по дороге в Анапское ущелье, верстах в трех в сторону. Аул был взял штурмом и сожжен. Я мальчиком видел на нашем хуторе заросшие остатки черкесского кладбища с каменными памятниками, а на месте самого аула однажды отыскал ручной черкесский жернов.
Военные действия в Новороссийске все-таки составляли редкое явление. Но скоро отцу пришлось окунуться в них глубже. 8 октября 1842 года он был назначен медиком в 5-й Черноморский батальон, стоявший в Геленджике, и отправился на новое место службы.
Здесь жизнь была уже много беспокойнее. Небольшое укрепление находилось вечно на военном положении, в постоянных столкновениях с горцами, которые иногда осмеливались даже атаковывать его.
Уже на третий месяц по прибытии в Геленджик отцу пришлось идти в экспедицию на реку Вулань. Туда прибыло турецкое контрабандное судно, вооруженное орудием, и из Геленджика был по этому случаю отправлен десант. Разумеется, контрабандное судно было захвачено, но только после жаркого дела. Отец особенно отличился в нем мужеством и самоотверженностью при оказании помощи раненым и получил денежную награду, почти равную годовому окладу жалованья. .
Первую награду он получил еще в Новороссийске.
В Геленджике ему суждено было обзавестись и своей семьей.
III
Моя мать, Христина Николаевна, урожденная Каратаева, родилась в 1829 году в Бессарабии, в крепости Бендеры, где служил ее отец, инженер-подполковник Николай Каратаев. Отчество его я, к стыду моему, позабыл. По крови он был малоросс. Жена его, Екатерина Алексеевна, урожденная Шекарадзина, по племени была из польских татар, издавна совершенно ополяченных, однако по вере православная. В то время по всей Западной России и в Бессарабии господствовали польское влияние и польская культура. В семье Каратаевых даже и говорили немножко по-польски, чему способствовала и польская прислуга. Каратаевы не были богаты, но жили в полном довольстве, имели много серебра и драгоценных вещей, из которых кое-что досталось и моей матери. Так, у нее было от родителей много жемчугов, гранатов, алмазная брошка (точнее, турецкий орден меджидие), золотые браслеты и т. п. Но семья их скоро распалась. Екатерина Алексеевна умерла от жабы, скоро после нее скончался и сам Каратаев — человек слабого сложения и с наклонностью к чахотке. После них осталась куча малолетних сирот: Варвара, Христина, Настасья, Александра и Николай. Конечно, и лети, и имущество были взяты в опеку; из имущества, говорят, большая часть распропала, но дети все были пристроены на казенный счет в разные учебные заведения: сын — в кадетский корпус, Настасья — в Московский Николаевский институт, Александра — не знаю куда, Варвара же и Христина — в Керченский Кушниковский институт. Так осиротелые птенцы были разбросаны по свету, и об участи брата и сестры Александры моя мать долгое время почти ничего не знала. Настасья лишь много лет спустя была вызвана в семью сестры Варвары. Моя же матушка и Варвара — тетя Варя — вместе выросли и всю жизнь затем оставались в близких сношениях и самой нежной дружбе.
При одном случае моя матушка была даже обязана жизнью Варваре Николаевне. Дело было в институте, в Керчи. Воспитанниц как-то повели на купание в море. У института была собственная купальня. И вот в то время, когда веселая толпа девочек резвилась и барахталась в воде, с моей мамой сделался обморок. Она стала опускаться на дно и рассказывала потом, что не чувствовала ни страха, ни удушья — ничего неприятного. Напротив, ей было легко и весело, а в ушах звучала какая-то тихая, чудная музыка... С этой музыкой она, конечно, и перешла бы в лучший мир, если бы не тетя Варя. Вечно внимательно следившая за сестрой, она заметила, что та долго не показывается из воды, нырнула за ней и вытащила ее на поверхность. Очевидно, моя мама не успела еще сильно захлебнуться, гак что скоро очнулась и стала дышать. Замечательно, что это происшествие так и осталось неизвестным классной даме, наблюдавшей за детьми. Сама она ничего не заметила, а институтки, боясь появления каких-нибудь строгостей, совершенно все скрыли от начальства.
Неприветливо протекала их жизнь в институте. Я живо помню это мрачное здание на Воронцовской улице против собора. Затененное огромными деревьями и само какого-то серо-зеленого цвета, словно заплесневелое, погруженное в вечное безмолвие, оно снаружи казалось нежилым. Впоследствии я часто ходил в институт, где учились моя сестра Маша и кузины Савицкие. Внутри все казалось тихо и уныло, и эхо, точно в пустыне, глухо разносило шаги посетителя в тиши полутемных сводчатых коридоров. Невесело глядели и приемные комнаты. Все производило впечатление тюрьмы. Во времена учения моей мамы и тети Вари тут должно было быть еще тоскливее. Начальница института, мадам Телесницкая, которую воспитанницы называли не иначе как maman, петербургская барыня, в душе была женщина добрая, но страшная педантка и формалистка. Дисциплина, муштровка, порядок, тишина, книксены затягивали детей словно в тесный корсет. Если им и позволяли резвиться, то не иначе как в назначенное время, когда уже нужно было хочешь не хочешь резвиться, конечно, тоже в предписанных формах и рамках. Приличные манеры и французский язык неукоснительно вкоренялись с утра до ночи. Но кормили детей плохо, и они вечно оставались полуголодными. Перед своей преднамеренно холодной и строгой maman девицы трепетали, хотя она по-своему искренне заботилась об их благе, а бедных или сирот старалась пристроить, провести в пепиньерки или классные дамы или — еще лучше — выдать замуж. Но последнее требовало, конечно, немало хлопот и большой дипломатии.
Не знаю, каким образом она успела выдать замуж и тетю, Варвару Николаевну, и даже очень хорошо, за молодого врача Андрея Павловича Савицкого, Царство ему Небесное... Много обязан я ему в моей жизни... Это был прекраснейший человек.
Андрей Павлович происходил родом из Нежина, от зажиточной семьи, полугреческой-полумалорусской. Нежин когда-то был наводнен греческими эмигрантами из Турции, впоследствии обрусевшими и забывшими даже свой язык. На красивом, энергическом лице Савицкого греческий тип выразился очень ярко, передавшись даже его дочерям. Во всех прочих отношениях он носил печать барского аристократизма и тонкой культурности. Это был человек властный, благородный, всесторонне развитый и очень образованный. Он много читал, следил за движением мысли в России и Европе, уже не говоря о его медицинской специальности, в пределах которой имел признанную репутацию выдающегося врача. Между прочим, он не забывал малорусского языка, любил Шевченко — впрочем, только как поэта, к его же запорожцам относился не лучше кровного польского хана. Как-то он обозвал запорожцев «харцизами» (разбойниками). Я ему возразил: «А почему же вы, дядя, читаете „Гайдамаков“ Шевченка?» «Что же такое, — ответил он, — я любуюсь у него художественной картиной, вслушиваюсь в музыку стиха. Но разве я могу разделять симпатии Шевченко? Запорожцы были чужды гражданственности и пропитаны буйными разбойничьими инстинктами. Их непременно нужно было уничтожить». С головы до ног Андрей Павлович был барином своего века, англоманом воронцовского типа. Он был сторонником освобождения крестьян, земских учреждений и т. п., почитывал Герцена, но всегда и во всем требовал порядка и дисциплины. Одет он был всегда с иголочки, в белоснежных воротничках и манжетах, коротко острижен, гладко выбрит, не носил ни усов, ни бороды. Изысканные манеры, всегдашняя выдержка, безукоризненно приличная речь выделяли его изо всей толпы, проносящейся теперь перед моими воспоминаниями. В семейной жизни, оставаясь при той же вежливости и приличии, он переходил немножко в деспотизм и держал свой дом в большой строгости.
Тетя Варвара Николаевна была добрейшее и кротчайшее существо, которое и само нуждалось в такой твердой опоре, как Андрей Павлович. Она любила его, преклонялась перед ним, побаивалась его и была вполне счастлива иметь такого главу семьи. А для него тоже нужна была именно такая жена. Вообще, трудно было лучше подобрать супружескую пару.
Я не знаю, почему Савицкий, со всеми данными на выдающуюся карьеру, мог попасть в Керчь, а потом в такое захолустье, как Геленджик. Может быть, его привлекала мысль служить под управлением графа Воронцова, {1} тогда являвшегося наиболее идейным устроителем русских окраин. Как бы то ни было, в бытность в Керчи Андрей Павлович женился на Варваре Николаевне, только что кончившей курс, а когда отправился с молодой женой в Геленджик, то они взяли с собой и маму, Христину Николаевну. Телесницкая оставила было маму у себя пепиньеркой, но это было плохое устройство, тем более что мама унаследовала от отца слабогрудие и была вообще очень хрупкого здоровья. В институте она рисковала совсем зачахнуть, и естественно, что при тесной дружбе обеих сестер Варвара Николаевна пригласила ее жить с собой. У такого невинного существа, конечно, не могло быть при этом никаких задних планов. Но Андрей Павлович, человек высокопрактичный, легко мог рассчитывать, что в Геленджике молодая, красивая родственница не долго засидится у него в девушках.
В те времена Береговая линия была своего рода рынком невест. Множество молодых офицеров, переполнявших крепости, нарасхват брали барышень, которые у них появлялись. Среди благоразумных папаш и мамаш это было хорошо известно и учитывалось в их расчетах. Одна керченская дама — не помню ее фамилии, — .имевшая трех дочерей-невест, форменно просила у начальства разрешения отправиться на Береговую линию «для выдачи замуж своих дочерей». Без разрешения тогда нельзя было туда ездить посторонним. Но Савицкий, как служащий, имел право привезти с собой членов своей семьи.
Таким образом Христина Николаевна прямо из институтской тюрьмы попала на своего рода остров Святой Елены. Он, впрочем, должен был ей показаться и гораздо обширнее, и веселее, чем хмурый приют г-жи Телесницкой.
Геленджик со стороны природы чрезвычайно привлекательный уголок. У него все соединено в художественной пропорции. Горы не душат его, а только придвигаются с одной стороны несколькими вершинами мягких очертаний, зеленеющими лесом и кустарником. Круглая, как блюдечко, бухта с превосходными купаньями на мягком песчаном фунте достаточно велика, чтобы на нее не наскучило смотреть, и не настолько велика, чтобы противоположные берега скрывались в мглистом тумане. По другую сторону бухты тянется широкая равнина, слегка обрамленная горами. Через недалекий вход в бухту можно, если угодно, любоваться беспредельной далью моря. А воздух прозрачен, чист и свеж, он не заражен болотными миазмами, и яркое южное солнце заливает золотыми лучами эту картину, в которой нет недостатка ни в чем, способном ласкать глаз изящным пейзажем.
Правда, всей этой красотой тогда можно было любоваться только издали. За пределы крепости нельзя было выходить. Пуля и аркан черкеса угрожали неосторожному и в горах, и в долине. Если бы у горцев были орудия, в Геленджике совсем нельзя было бы жить, так как он расположен у самого подножия гор. Но укрепления строятся применительно к тому оружию, которое имеется у неприятеля. А в те времена до ближайших гор не хватали пули даже наших гладкоствольных ружей. Черкесы наблюдали за крепостью в полной безопасности. Потом, когда к нам привезли вновь появившиеся нарезные штуцера, их прежде всего испробовали на этих соглядатаях. Черкесы сначала очень хладнокровно смотрели, как в них стреляют, но когда пули стали чиркать о камни около самых их ног, это произвело большую сенсацию. Наблюдатели разбежались, и им пришлось выбирать себе более отдаленные обсервационные пункты.
Вообще, по тем средствам нападения, какие имелись у горцев, Геленджик составлял укрепление, очень хорошо защищенное. Приезжему нужно было только привыкнуть к вечному пребыванию настороже, с неожиданными тревогами, перестрелками и вылазками. Но опасности серьезной в обычных условиях не могло являться. Гарнизон был достаточно силен и мог выделять команды даже для наступательных экспедиций. Часовые день и ночь сторожили на своих постах. Каждой части гарнизона заранее было указано место, куда она должна была моментально являться по первому звуку тревоги. Раздавался грохот барабанов, и в несколько минут крепость со всех сторон ощетинивалась штыками, орудия готовы были палить, резервные и кавалерийские части, назначенные для вылазок, стояли в готовности на указанных местах. Таким образом, даже неожиданное нападение не могло застать нас вполне врасплох. Но неожиданных нападений почти не могло являться, потому что среди черкесов у нас всегда были лазутчики, извещавшие о всех замыслах горцев.
Впрочем, наши никогда не забывали, что может случаться даже и невероятное, и мысль об опасности никогда не исчезала из головы защитников Береговой линии. Горцы были нешуточными противниками и доказали нам это очень чувствительно в 1840 году, так сказать, накануне прибытия моего отца на службу. Убыхи, собравшись в значительных силах, более десяти тысяч человек, взяли тогда ряд слабых укреплений наших: форт Лазарев (в Сезуане), Вельяминовское (Туапсе) и Михайловское на реке Вулани. В последнем тогда покрыл себя славой рядовой 1-й роты Тенгинского полка Архип Осипов.
Начальником Михайловского укрепления был храбрый штабс-капитан Лико. У него было пятьсот человек команды, а укрепление было ограждено одним низким валом, не имея даже стены. Предвидя невозможность отбить при таких условиях десять тысяч горцев, Лико увещевал своих умереть со славой и в последний момент взорвать крепость. Это было 22 марта 1840 года. Черкесы ринулись на вал. Закипел отчаянный бой. Лико был изрублен, четыреста двадцать человек пали убитые. Но когда горцы нахлынули к пороховому погребу, Архип Осипов крикнул своим: «Если кто останется в живых, скажите, что Архип Осипов взорвал погреб». Он зажег порох и погиб с толпой врагов, взлетевших на воздух. Из гарнизона восемьдесят человек, большей частью раненых, были взяты горцами. В ознаменование подвига Император Николай Павлович приказал на вечные времена зачислить Осипова в списки 1-й роты Тенгинского полка, и когда на перекличках вызывают Осипова, первый в шеренге отвечает: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении».
Во время нападений горцы любили прибегать к поджогам и раз наделали переполоху в Геленджике, зажегши леса на горах, спускающихся к укреплению. Что они замышляли — кто их знает! Но при подходящем ветре головешки и искры перебрасываются далеко, а в крепости были постоянно огромные склады военных снарядов и продовольственных припасов. Когда Император Николай Павлович навестил Геленджик в 1837 году, при салютационной стрельбе один пыж попал в провиантский склад. Сильный норд-ост раздул эту искру в пожар, и двенадцать тысяч войска, стянутые для маневров в Геленджик, не могли даже в личном присутствии Императора справиться с морем огня, так что все склады погорели дотла. Успели отстоять только пороховые погреба... Таким образом, угроза пожаром со стороны черкесов была всегда очень страшной. Но в данном случае, по соображениям обитателей Геленджика, пожар никак не мог им угрожать. Поэтому жители, испытывая несколько возбужденное состояние, не беспокоились серьезно, и по вечерам на берегу бухты гуляли целые толпы, любуясь живописной иллюминацией пылающих гор, своим заревом освещающих крепость. Но на военном судне, шедшем в Геленджик, это зарево возбудило большую тревогу. Моряки думали, что это горит самое укрепление, зажженное горцами. С большими предосторожностями судно входило в бухту, и моряки были приятно удивлены, когда попали прямо на гулянье геленджикского гарнизона.
Для недавних кушниковских питомиц новая обстановка представлялась чем-то волшебным, прекрасным, но также страшным. Однако они скоро привыкли к необычной обстановке. Жизнь в крепости быстро привязывала к себе тем духом сплоченности и дружности, который ее пропитывал насквозь. Все население жило как одна огромная семья. Тут не было чужих, все были свои, никто не мог оказаться беспомощным и заброшенным. Все знали друг друга и находили вокруг себя людей, достойных симпатии и уважения.
Нужно вспомнить, что офицерский состав кавказских войск стоял в те времена очень высоко и в умственном, и в нравственном отношении. Среди офицеров было много людей серьезно образованных и развитых, в том числе из ссыльных. На Кавказ тогда отправляли в наказание за разные мелкие проступки, нарушение дисциплины, дуэли, оскорбление начальства, а также за политические преступления, особенно по польскому восстанию. Император Николай Павлович любил эту форму наказания, которая не лишала государство работы талантливых людей и не губила человека, открывая ему возможность воссоздать свою жизнь на новом фундаменте. Люди этой категории были по большей части очень порядочные и развитые. Люди же, добровольно шедшие на Кавказ, хотя и рассчитывали здесь скорее выслужиться, но асе же выбирали для этого путь труда и опасности, а не ухаживания за начальством где-нибудь в Петербурге или Москве. Это были лучшие люди, способные заинтересоваться делом и самоотверженно служить ему. Упомяну для примера обследование капитаном Новицким тогда совершенно неизвестных земель натухайцев и шапсугов. Он выучился адыгейскому языку и, подружившись с одним горцем, объехал с ним самые недоступные тогда горы, населенные враждебными нам племенами. Он осмотрел все дороги, посетил множество аулов, ознакомился с людьми, наиболее опасными для России и с такими, из которых можно было извлечь какую-нибудь выгоду. Я когда-то читал его доклад о своей поездке и мог только удивляться тонкости его изучения местностей, хорошо мне известных после покорения Западного Кавказа Новицкий не упустил из виду ни одного поворота ущелий, ни одной черкесской тропы, при осмотре которых ежеминутно рисковал головой. В те времена все так относились к своему делу, и этот общий дух охватывал своим веянием даже и средних людей. Под этими веяниями вырабатывалось общеобязательное требование благородства, бесстрашия, готовности умереть за исполнение долга.
Командный состав старался привить этот дух и ко всей массе солдат, видя в нем главную основу дисциплины. У нас любят говорить о жестоких телесных наказаниях «николаевских времен». Читывал и я рассказы о «тысячах шпицрутенов». Не знаю, может быть, внутри России, среди частей войск, не нюхавших пороху, дисциплину и строили на страхе перед палкой капрала. Но к боевой Кавказской армии это не относится. Я со дня рождения своего жил в кавказской военной среде и скажу, что ни разу не слыхал ни об одном случае сечения солдат, а кулачную расправу офицера лично видел только один раз, да и тут солдата бил «по морде» не настоящий офицер, а интендантский чиновник из армян (Герсеванов). Нужно еще заметить, что в Кавказской армии, жившей на вечном военном положении, жестокость, несправедливость и оскорбительность в отношении нижних чинов были даже опасны. Офицер, возбудивший против себя негодование солдат, хорошо знал, что может жить спокойно только до первой экспедиции в горы, где наверное получит пулю в лоб из русской же винтовки. Об этом мне рассказывали солдаты, когда я еще был мальчиком. Такие убийства сваливались на черкесов и не возбуждали никаких расследований.
Телесные наказания часто и в очень жестоких формах практиковались только во флоте. Особенно страшны были «кошки» — кнут из пучка ремней, оканчивающихся узелками. Это орудие обдирало всю кожу и возбуждало ужас. Мне рассказывали один случай, когда на судно привезли с берега мертвецки пьяного матроса. Никакими силами невозможно было привести его в чувство, но боцман крикнул «кошек», и пьяный моментально зашевелился и кое-как поплелся в каюту. Впрочем, телесное наказание тогда господствовало во всех флотах мира. У нас же масса матросов была особенно груба, отличалась неукротимой буйностью и при всяком удобном и неудобном случае напивалась пьяной до полного самозабвения. Вероятно, их часто невозможно было сдерживать в порядке без страха жестоких наказаний. Иначе к «кошкам» не стати бы прибегать офицеры флота, составлявшие, можно сказать, цвет военных сил Береговой линии. Морские офицеры и сами очень любили кутнуть, но в отношении образования и развитости стояли едва ли не выше всех других. Старинное сатирическое четверостишие гласило, что
Богач в кавалерии, Умник в артиллерии, Пьяница во флоте И дурак в пехоте.Но флотские офицеры, поголовно из дворян, более всех других отражали в себе культурно-идеалистическое развитие передового слоя дворянства с его требованиями благородства, бесстрашия, уважения к личности и рыцарского преклонения перед женщиной.
Я говорю это, конечно, о настоящем военном флоте, а не о гребной флотилии, персонал которой, напротив, отличался особой грубостью. Лихие моряки, вечно глядевшие не сморгнув в глаза смерти, матросы гребной флотилии, да и их офицеры по степени общего развития стояли, конечно, на последнем месте среди всех разрядов береговых военных сил. При ловле контрабандных кочерм бывали случаи даже чистого корсарства. В этом отношении приобрел печальную известность казачий полковник Барахович. Он любил лично ходить с баркасами на поиски контрабанды и некоторое время прославился своими подвигами, как действительными, так и выдуманными им же самим. Были даже табакерки с его портретом и надписью: «Храбрый полковник Барахович». На самом деле моряки-военные очень скептически относились именно к его храбрости.
Говорили, что он терялся в опасности и во избежание малейшего риска готов был на всякие жестокости. «Бийте усих, хлопцы, — кричал он команде, — рушьте усе, палите». И «хлопцы», такие же казаки, как он, добросовестно истребляли на кочерме все и всех, не разбирая, кто сопротивлялся, кто сдавался. Рассказы о зверствах Бараховича возбуждали негодование среди военных и моряков регулярного флота, тем более что ходили слухи о грабежах Бараховича на захваченных кочермах. Для того чтобы скрыть грабеж, конечно, было выгодно перебить весь экипаж кочермы, а то даже пустить ко дну ее под предлогом, что она сильно сопротивлялась и что с ней нельзя было иначе сладить. Эти слухи впоследствии подтвердились, и Барахович понес какое-то наказание. Но некоторое время он славился у начальства как гроза контрабандных судов. Нужно сказать, что этот безграмотный казак был очень хитер. Когда Император Николай был в Геленджике (или, может быть, в Анапе), Барахович разыграл такую комедию. Он знал, что Император любил патриархальность и простодушность наивных представителей старого казачества, и обратился к нему со словами:
— А дозвольте ж, ваше величество, прохати вашей великой милости...
— Что такое?
— Та, ваше императорское величество, сынок у мене у Петербурге, у корпусе.
— Ну что же?
— Цидулку бы треба было спосылати. Чи дойде почтой, чи ни... Як бы ваша милость була...
— Ты хочешь, чтоб я передал твое письмо сыну? — усмехаясь, спросил Император.
— Да вже ж, ваше величество, як не прогнивается...
Император взял письмо. Простодушие казака ему очень понравилось. Он и не подозревал, что Барахович ловко эксплуатировал его любовь к наивной патриархальности и выдумал всю эту штуку, чтобы запечатлеть в уме Царя память и о простодушном казаке, и о его сыне. Может быть, впрочем, это не послужило ему на пользу, когда пришлось разделываться за свои пиратские подвиги.
Нахальство Бараховича было так велико, что он однажды, когда ему долго не попадалась в море никакая добыча, представил донесение, будто бы он принужден был истребить сильно вооруженное контрабандное судно, с которым иначе нельзя было справиться. В пояснение он присоединил к докладу и рисунок этого воображаемого судна. Кто-то из знакомых, услыхав от гребных матросов, что при поиске не было встречено ни одного судна, посмеялся над Бараховичем: «Как же это вы нарисовали кочерму, которой никто даже не видел?» Тот пренахально ответил: «Эге ж, и биса никто не бачив, а малюют».
Таков был храбрый полковник Барахович. В семье не без урода.
IV
Не помню, когда Савицкие приехали в Геленджик, но моя мама недолго прожила у них и скоро вышла замуж за врача Соколова, точнее сказать — была выдана замуж.
Этот Соколов был человек вечно больной, чахоточный, угрюмый и неласковый. Я даже не понимаю, каким образом Савицкий, сам врач, мог устроить этот брак. Молоденькая Христина Николаевна Каратаева была, конечно, бесприданница, но при своей наружности легко могла найти партию получше, особенно на Береговой линии. Она была очень хороша собой. Роскошные черные косы своеобразно сочетались у нее с серыми искрящимися глазами. Правильные тонкие черты лица малорусского типа увенчивались высоким польским лбом. Выразительное лицо светилось мыслью, а в складке губ сквозила энергия воли. Стройная и грациозная, она в молодости была очень худощава, что, впрочем, не портило ее, а только придавало ее фигуре какую-то воздушность. Я живо помню ее чудное лицо еще очень молодой, лет двадцати пяти. По характеру она уже с молодости отличалась серьезностью и редким отсутствием всякой тени кокетства.
Лет двадцать после Геленджика она как-то при мне встретилась со старым геленджикским знакомым, капитаном Спицыным. Пошли, конечно, воспоминания, и он с хохотом спросил: «А помните, Христина Николаевна, как я ухаживал за вами, весь таял?» Она немножко затруднилась: «Да, право, я что-то не вспоминаю». — «Ну вот я и говорю: вы всегда были такой бесчувственной. Как ни ходишь вокруг вас, а вы и внимания не обращаете, ничего не замечаете». Ее действительно не интересовало ухаживание мужчин, и хотя она была всегда оживлена и часто весела, но не была любительницей балов и всяких общественных развлечений. Может быть, раннее сиротство и бесприютность подавили в ней молодую беззаботность и наложили на нее отпечаток серьезности не по летам.
Этого оттенка грусти, конечно, не мог снять с нее первый брак. Она не любила даже вспоминать о нем, говорила так редко и неохотно, что я теперь не могу припомнить самого имени Соколова: не то Николай Иванович, не то Иван Николаевич, а может быть, как-нибудь совсем иначе. Страх перед мужем был, кажется, единственным чувством, которое она к нему испытывала. Притом же она сразу попала к нему в положение сиделки у постели больного. Ему становилось все хуже, и он скоро умер. Они прожили в браке, кажется, менее года, и мама моя осталась молоденькой вдовой, почти девочкой, лет семнадцати.
Но умирающего Соколова лечил его товарищ по службе, Александр Александрович Тихомиров. У постели больного он познакомился с вечно задумчивой его сиделкой. Они сблизились и привязались друг к другу и скоро после смерти Соколова, не выждав даже срока траура, обвенчались, в 1847 году. Только тут Господь послал ей наконец вознаграждение за долгое безрадостное сиротство. В своем Александре Александровиче, как она его всегда называла, она нашла все, чего женщина может ожидать от мужа. В ней и он нашел верного до смерти друга, источник всего светлого, чем дарила его время от времени скупая на радости жизнь военного скитальца-врача. Семь лет, проведенных ими в Геленджике после свадьбы, были лучшим временем их жизни и навсегда остались для мамы окружены светлым ореолом. Она любила припоминать в этой жизни все до мелких подробностей: и маленький хорошенький домик, где они жили, и террасу, обвитую диким виноградом, где было так прохладно сидеть во время солнечного зноя, и ручную черепаху, жившую у них и однажды съевшую их канарейку, и фаянсовый кувшин, который денщик разбил, выбросив его за окно вместе с водой, — все, всякая мелочь геленджикская осталась при ней родным воспоминанием. Нигде для нее не могла повториться и та интимная общественная обстановка, в которой она прожила здесь около семи лет. Я уже говорил, что обитатели Геленджика жили очень дружно. Впоследствии наши встречали каждого бывшего геленджикца уже с оттенком дружеского и родственного чувства. А некоторые из геленджикских друзей потом живали по тем же городам, как наша семья. Так, Федор Михайлович Ольшанский, крестивший меня вместе с тетей, Варварой Николаевной, жил потом в Ейске в то же время, как мы. Семья Рудковских переходила вместе с нами из города в город: мы в Ейск, и они тоже, мы в Темрюк — и они туда же, пока не закрепились окончательно, как и мы, в Новороссийске. Достаточно было общих геленджикских воспоминаний, чтобы сохранить навсегда между собой близкие отношения. Само собою, ближайшими людьми с нами были Савицкие. Отец сошелся с Андреем Павловичем в тесной дружбе. Из других друзей его с особенным уважением наши вспоминали капитана не помню какого корабля Певцова, капитана же Масловича, священника иеромонаха отца Паисия. Этот всеми почитаемый иеромонах был, между прочим, достопримечателен как один из немногих, переживших катастрофу Михайловского укрепления. Он там находился на службе и в 1840 году, при взятии укрепления, был захвачен горцами в плен. Они заставляли его работать, а потом продали каким-то армянам, которые возвратили его обратно на Береговую линию. Певцов — превосходный моряк — выдавался своим благородным характером и человечностью. Маслович был одним из храбрейших кавказских офицеров, хотя ирония судьбы однажды захотела, чтобы он был заподозрен в малодушии известным, даже знаменитым командующим войсками генералом Вельяминовым. {2}
Вышел однажды случай такого рода. Когда Маслович был с отрядом в лесу, вдруг показались всадники, во весь карьер скачущие к отряду. Приняв их за горцев, Маслович дал по ним залп из орудия. Между тем это были, оказалось, казаки. По докладе об этом прискорбном происшествии Вельяминов заключил, что Маслович растерялся и, не дав себе времени убедиться, действительно ли перед ним черкесы, а не казаки, начал пальбу по своим. Это, по мысли Вельяминова, доказывало малодушие офицера, и с тех пор на карьере Масловича был поставлен крест. Какими бы выдающимися делами он ни заявлял себя, Вельяминов систематически вычеркивал его из представлений к наградам или чинам. Это начало наконец приводить Масловича в ярость и отчаяние, но ничто не помогало делу. Опале был положен конец только после следующего происшествия. В какой-то экспедиции Маслович шел поляной вдоль леса с ротой солдат при двух орудиях. Вдруг огромная партия черкесов внезапно атаковала отряд из лесу. Открыв отчаянную пальбу, черкесы бросились в шашки. Солдаты смешались, произошла паника, и рота бросилась бежать, а горцы, захватив оба орудия, увезли их в лес и продолжали осыпать пулями бегущую роту. Маслович пришел в бешенство. Остановивши кое-как наконец своих беглецов, он решился примерно наказать солдат и, выстроив роту в учебный порядок, начал муштровать ее разными эволюциями. А черкесы, смотря из лесу на это необыкновенное учение, продолжали осыпать солдат пулями. Никто, конечно, не подвергался при этом большей опасности, чем сам Маслович, но он оставался неумолим и продолжал муштровать солдат, не обращая внимания на то, что они валились вокруг него раненые и убитые. Когда наконец он счел роту достаточно наказанной, он скомандовал строй в атаку и на ура двинул ее в лес. Тут уже ничто не могло остановить пристыженных и озлобленных солдат. Лес был взят штурмом, черкесы разогнаны и орудия отбиты назад. И вот только этот случай переменил гнев Вельяминова на милость. Он признал, что Маслович — храбрый офицер и настоящий командир, и с тех пор производство по службе пошло нормальным порядком.
Нужно сказать, что оскорбительное подозрение Вельяминова приводило Масловича в отчаяние не только потому, что клало конец его карьере, а и потому, что Кавказская армия высоко чтила Вельяминова и дорожила его мнением. В нем уважали ум, знания, готовность всем жертвовать интересам дела и из ряда выходящую независимость. Всем было известно, как он не побоялся воспротивиться Императору Николаю Павловичу, от гнева которого и неробкие люди падали в обморок. При составлении плана военных действий Император лично прислал Вельяминову приказ расположить движение войск в указанном высочайше порядке. Находя этот порядок совершенно ошибочным, Вельяминов письменно ответил Николаю Павловичу, что Государь волен казнить его, но он не станет исполнять его приказа, а начнет действовать совершенно иначе. И он изложил Императору свой план. Успех увенчал действия Вельяминова, а Николай Павлович, сознав свою ошибку, не только не рассердился, но горячо благодарил непослушного генерала.
Понятно, как много значило худое или доброе мнение такого начальника для офицера, дорожащего своей честью, как Маслович.
Замечательна судьба его. Участвуя во множестве битв и схваток, подвергаясь множеству опасностей, он никогда не получил ни малейшей раны, и все это счастье было для того, чтобы умереть в Крымскую кампанию от холеры!
Не перечисляю множества геленджикских добрых знакомых. Но во время пребывания наших в укреплении подобрался также персонал прислуги, с которой они потом провели полжизни. В те добрые старые времена прислуга составляла тоже в своем роде членов семьи, с ней свыкались до дружбы, о ней заботились даже тогда, когда приходилось расставаться. Я был слишком мал, чтобы помнить весь этот люд в Геленджике, но впоследствии они были и друзьями моими, и во многом учителями. Это была нянька моя Аграфена, ее муж Алексей Гайдученко, наш повар Иван и черкешенка Наташа. Алексей и Иван были денщиками отца, и впоследствии, когда семья наша должна была разлучиться, Иван всюду следовал за мамой, а Гайдученко оставался при отце. Аграфена была обыкновенная наемная прислуга. Что такое была Наташа — это довольно трудно объяснить.
После какого-то столкновения с горцами, может быть при захвате кочермы или при разорении аула, в Геленджик были приведены две молоденькие девушки, сестры, которых забрала к себе начальница гарнизона. Обе значились пленницами, не были приписаны ни к какому сословию, не имели никаких прав, однако не были и крепостными, а скорее находились в опеке у взявших их. Начальница гарнизона окрестила их и назвала одну Натальей, другую Любовью. Наташу она отдала моей матери, Любу — какой-то другой даме. Как она их обращала в христианскую веру, не знаю. Вероятно, очень просто: попали к русским, значит, нужно принять и русскую веру. Однако же обе они вышли очень религиозными. Магометане, принимающие православие, вообще отличались набожностью; так было по крайней мере в стародавние времена. Скоро обе они были выданы и замуж за наших же солдат и вышли прекрасными женщинами. У Любы было потом чуть ли не трое сыновей, известных рыбаков в Новороссийске. У Наташи детей, кажется, не было или, может быть, умерли в младенчестве. До своего замужества оставалась в нашей семье вроде прислуги, а наполовину как воспитанница и горячо ко всем нам привязалась. Замечательно, что и Наташа, и Люба отличались каким-то особым благородством характера и перенимали все манеры у господ, а не у прислуги. Не было у них ни грубых слов, ни лживости, ни воровства, ни лености — ни одного из тех пороков, которые так портят даже порядочных людей из русской прислуги. Это тоже общечеркесская черта: поступая в услужение, они смотрят на себя как на членов семьи, держат себя с достоинством и отличаются редкой верностью. На сторожа-черкеса всегда можно положиться больше, чем на русского: не выдаст и не продаст.
Собственно, как прислугу я совсем не знал Наташу, был слишком мал, чтобы ее помнить, узнал же только впоследствии, потому что она никогда не прерывала сношений с нашей семьей.
Аграфена, общая наша няня, была совсем иной тип. Я. конечно, и ее помню лично только уже в других городах. Полухохлушка-полурумынка из Бессарабии, она по-своему тоже любила господ, а уж особенно нас, детей, но без зазрения совести тащила всякое господское добро в свой огромный сундук, который вечно держала на строжайшем запоре. Лгунья была тоже чрезвычайная. Но умная, домовитая, находчивая, практичная, она оставалась большой опорой для мамы, особенно когда нам пришлось жить одним, без отца. Своих детей у нее был только один сын Яков — Яшка, как его все называли. С мужем ей редко приходилось жить, так как она всюду сопровождала маму. Впрочем, ни она, ни Алексей Гайдученко не обнаруживали по этому поводу большого горя.
Алексей — это был тип солдата-мужика, не задетого даже фронтовой культурой. Высокий, дюжий, неуклюжий, очень любивший выпить, он был насквозь пропитан запахом «тютюна», крепчайшего табака. Со своей огромной «люлькой» (трубкой) он не расставался. Помню, бывало, побежишь на кухню: Алексей развалился на кровати и спит, а у самого висит изо рта потухшая люлька, крепко зажатая в зубах. Он был очень добродушен и разве под пьяную руку побьет жену, которую очень уважал и боялся. Он хорошо знал лошадей и ухаживал за ними; иногда у Гайдученки бывали и свои лошади, конечно, одна какая-нибудь, которую он выращивал для продажи на нашей конюшне, на наших сене и овсе. В одиночной жизни отца он и стряпал ему кое-какие первобытные блюда — щи да кашу. Верхом же его кулинарного искусства было какое-то яблочное пирожное, которое у них называлось «пшадским», потому что Гайдученко научился делать его во время пребывания с отцом в Пшаде. «Алексей, — говорил ему отец, — я пригласил пообедать к себе полковника Остовского... Надо бы нам сделать что-нибудь получше». «Пшадское пирожное сделаем», — отвечает Алексей с достоинством. Впрочем, он умел еще хорошо готовить вареники со сметаной, до которых был великий охотник пан Остовский. Приходит иногда к отцу и охает: «Живот болит, мочи нет». «Ну, — говорит отец, зная его штуки, — видно, приходится тебя лечить. Готовь, Алексей, нынче вареники». И, убрав несколько тарелок вареников со сметаной, Остовский прояснялся: «Ну вот, слава Богу, полегчало, ничего не болит». Сам изготовитель лекарства, Алексей, должно быть, отроду никогда не болел. Не проявлял он и никаких следов умственной или вообще духовной жизни, ел, пил, спал, мог бы при своей медвежьей силе и работать, но у нас мало было работы, разве на покосе или на рубке дров. Но в странствиях отца он был ему очень полезен. Заседлать ли коня, заложить ли лошадей, завязать веревочками порванную упряжь и сбить кольями поломанную телегу — на все это он был мастер. Умел и добыть пищу в пути. Во время странствий отца по Черноморью там была такая патриархальность и обилие, что казачки ничего не продавали. У всех была своя пища, людей, которые ее покупали бы, в станице никогда не бывало. Хохлушке казалось дико продавать, например, молоко или яйца, да она и не знала, что за них спросить. И вот ходит Алексей по хатам, нигде ничего не продают. А барину нужно принести чего-нибудь поесть. Алексей вдохновляется, берет добрую кринку молока и уходит. Тут только баба подымает крик: «Да ты мой глечик отдай назад!» Ну, глечик он добросовестно приносил потом обратно. Так же прихватывал он и краюху хлеба. Но яичницу хохлушка уже соглашалась сделать за деньги. Она брала не за яйца, а за свой труд, и, конечно, брала гроши. Умел Алексей и на почтовой станции уличить смотрителя, что он врет, будто бы лошадей нет. Но зато когда они с отцом взбирались наконец на перекладную, то Алексей моментально засыпал мертвым сном, и отцу приходилось постоянно придерживать его за кушак, чтобы он не слетел на землю на каком-нибудь ухабе.
Мы, дети, имели мало дела с Алексеем. Но Аграфену очень любили. Она умела угодить нам разными лакомствами, знала множество прекрасных сказок и преданий, которые мы готовы были слушать по целым часам. Фантастический мир коллунов, ведьм, леших и т. п. раскрылся передо мной прежде всего от Аграфены. Она же знала и всякие гаданья, и все малорусские праздничные обычаи, колядки, щедровки и т. п. Много рассказывала она разных примечательных случаев из народной жизни. Особенно врезался в мою память рассказ о каре сына за оскорбление отца, который она передавала каким-то трагическим, в душу проникающим тоном. Она уверяла, что это происходило при ней, в ее деревне. Дело в том, что сын одного крестьянина ударил своего отца, а за это, говорила Аграфена, сыну должна быть отрублена преступная рука. И вот она картинно описывала потрясающую сцену. Сын был поставлен на колени в церкви, бил земные поклоны и просил отца простить его. Толпа народа наполняла церковь. Тут же стоял оскорбленный отец. А священник молился в алтаре. Потом он вышел и спросил отца, прощает ли он сына. «Не прощаю», — отвечал отец. Так повторилось два раза. Если бы отец отказался простить и в третий раз, сыну немедленно отрубили бы руку. Но на третьем вопросе священника сердце дрогнуло у него, и он помиловал виновного сына. Я не знаю, откуда она все это взяла. Не было ли в законах гетманщины такого постановления? Как бы то ни было, мы, дети, верили Аграфене, и я до отроческих лет думал, что у нас действительно существует такой закон.
Разумеется, все эти рассказы относятся к позднейшему времени. В Геленджике я был слишком мал. Но Аграфену я помню с трехлетнего возраста.
С этого же времени помню я и Ивана. Это был довольно еще молодой нестроевой солдат с большой ямочкой на левом виске. Это был след пули, которая, будучи, очевидно, на излете, застряла у него в височной кости. Иван отделался от смертельной опасности только легкой глухотой. Это был уже не Алексей. Чистый великоросс, довольно еще молодой, он был очень развитой малый, довольно плохой повар и очень искусный сапожник. Я любил сидеть у него на кухне и смотреть, как он тачает сапоги, что мне казалось непостижимым искусством. От него я наслушался также немало интересного.
Моя мама вышла из института, не имея ни малейшего понятия о хозяйстве, и в этом отношении должна была всему учиться у Аграфены и отца, который знал домашнее хозяйство весьма порядочно. Он, помню, очень любил сам делать и закупки на рынке. В Геленджике рынком служила только черкесская «сатовка». В крепости было достаточно магазинов со всевозможной мануфактурой и галантереей, разнообразными консервами, ликерами, винами, все почти исключительно заграничного привоза. Гарнизон имел также огороды и порционный (убойный) скот. Но все же огородные овощи и молочные продукты, так же как фрукты, в значительной степени всякое зерно, разную живность приходилось покупать у горцев на сатовке. Это название происходит от адыгейского слова «сату» — продавать. Сатовка была расположена вне пределов крепости, из которой на мирную торговлю грозно глядели жерла орудий. Черкесы на время торга должны были сдавать свое оружие караулу. Мама заглядывала на сатовку только из любопытства: она долго не умела различать качества продуктов и торговаться. Да и дома у нее постепенно прибавлялось все больше дел и хлопот.
Они с отцом повенчались в 1847-м, а уже в 1848 году, 7 июня, у них родился старший сын Владимир. После него был еще сын Лев, не я, а мой брат, скоро умерший. Свое необычное имя он получил в честь генерала Альбранда {3} Льва Львовича, которого наши чрезвычайно любили и уважали. В 1847 году он был начальником Береговой линии. Это был истинный Баярд, рыцарь без страха и упрека, беззаветно храбрый и благородный. Он, между прочим, исключительной силой нравственного влияния уговорил возвратиться на родину русских дезертиров из Персии, где им жилось превосходно. С истинно рыцарской отвагой у него соединялось такое же рыцарское преклонение перед женщиной, что, как мне рассказывала мама, было и причиной его смерти. Надо сказать, что он был весь изранен пулями, а в Чечне потерял и руку, так что ходил весь в лубках и перевязках. Назначенный на службу в Закавказье, он ехал в Тифлис, и по дороге одна дама пришла поблагодарить его за спасение своего мужа. Уж не знаю, как и от чего его спас Альбранд, но дама в порыве благодарности упала перед ним на колени, он же не мог снести вида женщины на коленях, бросился поднимать ее, разбередил себе раны, они открылись, и он скончался, к отчаянию дамы, невольно погубившей своего благодетеля.
Эта причина смерти Альбранда остается, кажется, неизвестна его биографам (например, Берже), рассказывающим, что он умер от простуды. Но моя мама положительно передавала мне то, что я сейчас написал.
Вот в честь рыцарственного Альбранда и был назван мой недолго живший братишка. После того, 19 января 1852 года, родился я. Мама хотела дать мне имя Митрофан, потому что перед рождением видела во сне святителя Митрофана Воронежского в какой-то обстановке, произведшей на нее особенное впечатление. Она и впоследствии продолжала считать его моим покровителем и, отпуская меня в гимназию, благословила образом святителя Митрофана. Но брат Володя упорно называл меня Левой. «Пусть у нас опять будет Лева», — говорил он. Из уважения к этому детскому требованию меня и окрестили именем Льва, папы римского. Так я и вышел с двумя небесными покровителями, обращаясь одинаково к обоим в молитве. Еще через год после меня, 29 октября 1853 года, родилась моя единственная сестра Мария, и этим завершился круг семьи нашей. Больше детей не было. Но, конечно, и с этими было достаточно хлопот. В особенности много их доставлял я, потому что в детстве постоянно страдал какими-то страшными припадками головных болей. Не знаю, что это такое было, не пришлось ни разу расспросить покойника отца.
Кроме ухода за детьми и хозяйства, мама много шила, вязала, вышивала, на что была большая мастерица. Любила она и почитать. В Геленджике не было недостатка в книгах не только русских, но и французских. Ее излюбленным местечком были скамейки под знаменитым дубом, которым славился Геленджик. Бывало, заберет детей, книгу или какую-нибудь работу и наслаждается прохладой на вольном воздухе, под роскошной кущей этого великана. Сюда часто собирались и другие дамы. Я видел это прекрасное дерево лет тридцать спустя, когда разоренный Геленджик стал снова возникать из развалин в виде бедного селения. Дуб был замечательный, обхватов пять толщиной, и своей густой короной прикрывал площадку шагов пятьдесят в диаметре. Потом его срубили, потому что он приходился по плану посреди улицы. Варварские составители плана не догадались сделать небольшой площадки вокруг этого памятника старого Геленджика, способного стать украшением нового.
Ни отец, ни мать не были большими любителями общественных увеселений, но в Геленджике не было в них недостатка. Общество укрепления умело скрасить монотонность своего блокадного существования. У них часто устраивались концерты, любительские спектакли, танцевальные вечера, а также пикники где-нибудь в окрестностях укрепления. Такие увеселительные вылазки были, конечно, не совсем безопасны.
Однажды офицеры устроили пикник на сенокосе. Это была прогулка с чаепитием и походным обедом, изготовленным тут же на кострах, с неизбежными шашлыками на вертелах. Беззаботная компания кавалеров и дам, среди которых была и моя мама, весело благодушествовала на душистом просторе лугов, радуясь хоть несколько часов пробыть вне пределов прискучивших стен своей крепостной тюрьмы, как вдруг неожиданно затрещали сигналы тревоги и послышалась перестрелка. Впоследствии объяснилось, что партия горцев, незаметно подкравшись, бросилась на крепостной скот. Но как бы то ни было, веселой компании пришлось моментально бросить свой пир и бежать под защиту крепости. Дамы пустились улепетывать во всю прыть, озираясь, не скачут ли за ними черкесы. Из мужчин далеко не все могли их охранять и ободрять, потому что многим приходилось спешить на свои посты, назначенные им в случае тревоги, однако все обошлось благополучно и гулявшие отделались одним перепугом.
В другой раз, наоборот, русские увеселения стали причиной большого переполоха в горах. В Геленджик приехала труппа акробатов, и антрепренер между прочим, для развлечения публики, пустил на привязи воздушный шар. Ветер сорвал его, и шар пошел шаркать туда-сюда по горам, возбуждая ужас во всех аулах. «Это шайтан», — говорили горцы, уверенные, что русские гяуры напустили на них злого духа.
Нужно заметить по поводу горцев, что хотя мы и резались с ними пятьдесят лет, но среди них было немало таких, которые охотно сближались с русскими. У наших в Геленджике было тоже несколько знакомых из черкесов. Да и целые племена, враждебные нам, без сомнения, поискали бы способов жить в мире с русскими, если бы не укоренившаяся у них привычка к грабежам, на которые молодежь смотрела как на молодечество гораздо более, чем как на средство наживы. Другую причину военного упорства черкесов составляло их невежество, вследствие которого они не могли оценить сил России и понять, какую опасную игру ведут, враждуя с нами. Один раз какой-то их делегат, будучи в Геленджике, заинтересовался географическими картами и просил указать ему два укрепления, между которыми ему приходилось проезжать, так что он хорошо представлял себе расстояние, их разделяющее. Потом он просил указать ему на карте Петербург. Сопоставивши масштаб, он только хитро улыбнулся и остался при убеждении, что ему показывают фальшивую карту, для того чтобы устрашить его безмерной величиной России.
Очень умные по природе, очень даже развитые во всем, непосредственно им знакомом, они не имели понятия о силе и отношениях европейских государств, а турецкие и английские эмиссары ловко пользовались этим незнанием для возвеличения в их глазах значения падишаха. Черкесы не представляли себе ясно сил России, а силы Турции до крайности преувеличивали. От этого они и оставались так упорны в борьбе, а в то же время они не умели и даже не хотели сплотиться, что могло бы удесятерить их силы.
Они жили родовым и племенным бытом. Чувство государственное у них отсутствовало. На левом фланге, в Чечне, Шамиль успел объединить большую часть горцев только страшными деспотическими мерами, а на правом фланге не являлось личности даже и для этого. У горцев даже национальное чувство было очень слабо.
Они жили мелкими племенами, во главе которых стояли родовые князья, а у шапсугов не было и князей и господствовало демократическое самоуправление. Своему племени, или клану, черкес был предан. Но все жившие за пределами клана были для него иностранцы, хотя и более близкие, чем русские. Поэтому при малейшем образовании черкес легко сходился с русскими, не продаваясь им, а искренне сближаясь, хотя и получал деньги за роль лазутчика. Те, которые поступали на русскую службу, полагаю, никогда не делались изменниками. Единственное, кажется, исключение составил сын Шамиля, который, получив в Петербурге образование и дослужившись до полковничьего чина, эмигрировал во время освободительной турецкой войны и перешел на турецкую службу. Но это — сын Шамиля, имама, который и сам, в случае победы Турции, мог сделаться владыкой Чечни. Массу же горцев характеризует поведение во время той же войны черкесской милиции Западного Кавказа. Когда турецкая армия, взявши Сухум-Кале, продвигалась по берегу к Новороссийску, горская милиция не стала стрелять в турок и разбежалась. Но что же? Стоило начальнику отряда разругать милиционеров, объявить их трусами и отнять у них оружие как у недостойных носить его, и милиционеры чуть не со слезами просили прощения, обещали впредь служить честно и действительно сдержали слово: дрались против турок самым добросовестным образом.
В наши геленджикские времена из черкесских друзей русских были особенно известны Пшекуй Могукоров и другой, которого все называли Куй Иванович, а настоящего имени его я не знаю. Пшекуй Могукоров был важной особой, принадлежал к высшей горской аристократии и числился на русской службе, имея какой-то маленький чин. Жил он у себя в ауле и между прочим славился как искусный коневод. У него была знаменитая тройка неутомимых бегунов, превосходно выдрессированных. Этих коней хозяин даже не привязывал, они жили на воле и прибегали по первому зову. Кто-то из наших влиятельных чинов стал приставать к Могукорову: «Продай тройку». Тому это очень не нравилось, но в конце концов он нашел неудобным отказать. Но оказалось, что лошади, до тех пор смирные и кроткие, превратились у нового хозяина в неукротимо бешеных, никого к себе не подпускали, не давались запрягать, лягались, кусались. Побился с ними новый владелец, и пришлось просить Пшекуя Могукорова взять своих коней обратно.
Куй Иванович был из незнатных горцев, но добрый и простой человек, очень любивший русских и сам бывший общим любимцем офицеров. У наших он был частым гостем.
Тихо и благоденственно протекала наша геленджикская жизнь, особенно первые годы, когда маме редко приходилось беспокоиться об отце, уходившем в экспедицию. Но с приближением Крымской кампании дела стали понемногу переменяться. Турецкие и английские эмиссары начали настойчиво возбуждать горцев уже в то время, когда на взгляд непосвященных спокойствию Европы еще ничто не угрожало. Военная контрабанда усиливалась. Горцы делались все более дерзки. Умножились и наши экспедиции в горы, и отцу все чаще приходилось уходить от семьи под пули со своим батальоном.
В мае 1850 года он отравился морем с отрядом генерала Вагнера в довольно дальний путь — в укрепления Новотроицкое и Тенгинское, где требовалось усмирить разбушевавшихся горцев. Тут ему пришлось участвовать 7 мая в жарком деле. Вагнер произвел десант в долине реки Вулани, и горцы, конечно, не могли воспрепятствовать высадке, происходившей под защитой орудий морских судов. У черкесов было большое гребное судно, которое у них без труда отняли. Но когда отряд стал продвигаться к аулу Кермсу, который требовалось разорить, дело изменилось. Горцы, скрытые в лесах, оспаривали каждый шаг отряда, и он подвигался в непрерывной перестрелке. Разумеется, это сопротивление не спасло аула Кермсу. Он был взят штурмом и сожжен. После этого пошли тем же порядком на аул Беш, около Новотроицкого укрепления, и по разорении Беша цель экспедиции была закончена. Оба наши укрепления были несколько обеспечены от нападений, и наш отряд возвратился в Геленджик.
Но эти усмирения имели, в сущности, мало значения. Горцы принимали все более вызывающее положение даже около Геленджика. Весь 1853 год, еще и до начала Крымской кампании, был полон столкновений с ними. 5 июня они произвели нападение на саму крепость, и в перестрелке с ними крепостной команде опять потребовалось присутствие отца, а через несколько дней ему пришлось сопровождать колонну, при возвращении которой, 11 июня, снова произошло нападение горцев. 15 июня они атаковали колонну, препровождавшую скот на продовольствие гарнизону, и в таких значительных силах, что на помощь колонне пришлось послать из Геленджика две роты. Отец также участвовал в этом бою, а через несколько дней, 19 июня, его присутствия потребовали события гораздо более значительные.
Горцы напали на сам Геленджик и хотя были отражены, но для обессиления их пришлось двинуть резервные войска на преследование. Однако настойчивость неприятеля требовала разузнать более точно размеры его сил, и для этого была послана особая колонна. Отец был во всех этих делах, и для мамы наступило время беспрерывной тревоги о нем. Нужно сказать, что в отношении пуль отец был очень счастлив. За всю свою жизнь он ни разу не был ранен, несмотря на множество боевых столкновений, в которых участвовал.
В конце месяца ему снова пришлось идти в дальнюю экспедицию. Наши решили серьезно наказать горцев, и генерал Вагнер двинулся 30 июня сухим путем на реку Мезыб, где разорил черкесский аул. Но все эти карательные экспедиции не оказывали никакого действия, и когда Вагнер пошел обратно в Геленджик, горцы преследовали его всю дорогу.
В сентябре отец снова пошел в отряде Вагнера, который возобновил поход на Мезыб в более значительных силах. Этот храбрый и умный генерал понял, что теперь вопрос не в простых карательных экспедициях. Разжигаемые агентами Турции и Англии, горцы начали против нас не обычные грабительские набеги, а настоящую войну. Крымская кампания у нас официально делилась на три периода. Первый — с 15 октября по 31 декабря 1853 года — назывался кампанией против турок и кавказских горцев, а два других периода — войной против соединенных сил Турции, Англии, Франции, Сардинии и кавказских горцев. Но в сущности, был еще четвертый период, когда выступали одни кавказские горцы. Они явились застрельщиками и двинулись на нас несколько месяцев раньше Турции, уже летом 1853 года, и жестоко поплатились за это безрассудство по окончании Крымской кампании, не получив от своих европейских союзников ни малейшей помощи, не защищенные даже единым словом мирного договора их с побежденной Россией.
Генерал Вагнер понял, что перед ним не простые набеги, а война, и в интересах безопасности Геленджика искал уже не устрашения горцев, а обессиления их, искал центр их силы, ударив на который можно было бы надолго их подорвать. С этой целью он снова двинулся 14 сентября на реку Мезыб, но уже отрядил часть сил в ущелья Иногда и Осепс. Сверх того, одну роту пришлось направить к Геленджикской бухте для прикрытия обоза сена. Все эти задачи были исполнены, по Иногде и Осепсу были разорены все аулы, но когда Вагнер потянулся к Геленджику, горцы его все время жарко преследовали. Однако это не был еще конец задуманной им операции. На следующую же ночь, 15 сентября, он неожиданно двинулся в сторону Новороссийска к аулу Адербе, где теперь находится селение Адербеевка. Это, по-видимому, и был главный опорный пункт горцев. Вагнер взял его штурмом и разорил дотла. Этим и был завершен сокрушительный удар, после которого горцы притихли.
Однако участь Геленджика уже была решена. Его судьбы теперь зависели не от черкесов, а от сил гораздо более важных. Надвигалась Крымская кампания. 18 ноября Нахимов истребил турецкий флот в Синопе, и это заставило Англию и Францию раскрыть свои карты раньше, чем они рассчитывали. Неприятельские эскадры вошли в Черное море, и никакая доблесть парусного Черноморского флота не могла бы спасти Береговую линию от несравненно сильнейшего парового флота союзников. С началом войны положение всех укреплений ее становилось критическим. С сухого пути их блокировали горцы. Со стороны моря их уже не мог прикрывать наш флот. Береговую линию решено было снять, и можно лишь удивляться, что сложная операция могла быть так удачно исполнена.
V
Кончались прекрасные дни геленджикского Аранжуеца. Рассыпалось здание Береговой линии, под кровлей которого свила свое гнездо покойница мама для своих птенцов. Приходилось вылетать, искать другого убежища. А из птенцов этих сестре Мане было всего шесть месяцев, мне — два года, а старшему брату Володе — пять лет. Мама привыкла жить за попечениями отца как за каменной стеной. Теперь приходилось и с ним расстаться.
Савицких в это время уже не было в Геленджике. Он предусмотрительно вышел в отставку перед самой войной. Такой поступок в те времена очень не одобрялся. Но граф Воронцов, наместник Кавказский, сделал то же самое демонстративно. По своему англоманству он не одобрял войны с Англией, не хотел в ней участвовать и ушел в отставку, покинув должность наместника. У Андрея Павловича не было таких тенденций. Он оставил службу просто по практическим соображениям и увез семью в Керчь. Там они и пребывали в момент снятия Береговой линии. К ним отец решил отправить и нашу семью.
Ликвидация Геленджика была совершена двумя путями. Всех женщин и детей решено было вывезти на военном судне в Керчь. Гарнизон же, освобожденный от этой обузы, должен был пробиваться сухим путем в Новороссийск. Гарнизон и жители прочих укреплений были вывезены, кажется, частью в Новороссийск, частью на юг, в Закавказье. Но мне хорошо известно лишь то, что происходило в Геленджике.
Перспектива везти женщин и детей в то время, когда по Черному морю уже разгуливал англо-французский флот, была очень не по сердцу морякам. Что было делать в случае встречи с неприятелем? Сдаваться? Или сопротивляться с неизбежной гибелью женщин и детей? Капитан Певцов, которому была предложена эта щекотливая операция, прямо отказался, объяснив, что сдаваться в плен не хочет, а губить женщин и детей не имеет духа. Тогда поручено было везти какому-то другому капитану, человеку решительному и суровому, и он принял поручение, но заявил, что в случае чего не станет сдаваться из-за женщин и детей, а будет драться и при безвыходности положения взорвется.
У наших в Геленджике постепенно накопилось большое хозяйство, а на судно позволено было взять лишь незначительный багаж. Все остальное приходилось бросать. Черкесы, радуясь уходу русских, который считали окончательным, ожидали себе большой добычи после них. «Прощай, Иван!» — весело кричали они солдатам. Среди наших было такое множество Иванов, что горцы называли этим именем каждого русского. Но «Иваны» вовсе не расположены были оставлять черкесам свое наследство и истребляли все, чего нельзя было взять с собой. Мама рассказывала, как и она собственноручно уничтожила все свое хозяйство, разбивала и жгла все веши, которые так усердно собирала целых семь лет. А потом, когда, по отправке женщин и детей на корабль, гарнизон и сам двинулся в путь, крепость со всеми зданиями, казенными и частными, была взорвана. Немногое досталось горцам среди опустошенных развалин.
Не знаю с точностью, когда вышло судно, увозившее женщин и детей, и в какой день гарнизон покинул Геленджик. Но произошло все это в конце марта 1854 года.
Не часто на плечи женщины надавливает такой камень, какой судьба навалила на мою маму в момент расставании. Неопытная, привыкшая к попечениям умного и доброго мужа, она теперь должна была сама спасать себя и троих детей, отправляясь в совершенно неведомые условия жизни. Конечно, в Керчи ее ждали Савицкие; из прислуги с ней были Иван и Аграфена. Наташи уже не было у нас, она еще раньше вышла замуж. При отце остался Алексей Гайдученко. Я, разумеется, был слишком мал, чтобы помнить сцену расставания, но легко представить себе, как оно было тяжело.
Плавание наших беглецов сначала совершалось очень благополучно. Трудно было с удобством разместить такое множество женщин и детей, но моряки делали все возможное для этого и готовы были лишить себя всего, лишь бы получше устроить своих несчастных пассажиров. В конце концов мама кое-как поместилась, приладила местечко и для меня, и для маленькой Мани. Погода была хорошая, и все начинали засыпать, как вдруг на судне поднялась внезапная суматоха. Пассажиров будили и приказывали со всей поспешностью спускаться в трюм. Напрасно перепуганная мама спрашивала, что такое случилось. Никто не отвечал. Повторяли только: «Спускайтесь, спускайтесь поскорее...» И вот трюм был битком набит беспорядочной толпой женщин и детей. Негде присесть. Дети плачут. Нечем их успокоить. А наверху, на палубе, заслышалась какая-то военная суета, негромкие приказания и громыхание каких-то тяжелых предметов... Прибежал сверху офицер: «Сидите тихо, не шумите, уймите детей...» Барыни бросились к нему: «Бога ради, что такое делается?» — «Ничего, ничего, не тревожьтесь, только сидите тихо». И он снова исчез.
Наконец в трюм спустился Иван, бледный как смерть Его, как мужчину, оставили на палубе. Он рассказал, что в море, поперек курса корабля, виднеются огни. Наши боятся, что это неприятельские суда. Капитан приказал потушить все огни и сохранять полную тишину, но также приготовить орудия. Их-то и передвигали на палубе. Он хочет попытаться проскользнуть незаметно, но если неприятель нас увидит, то капитан будет драться до последних сил и потом взорвет судно.
Можно представить, с каким ужасом выслушали в трюме эти новости!.. Они звучали смертным приговором. И если в эти роковые минуты тревожно билось сердце у самих моряков, то во сколько раз невыносимее были чувства женщин, запертых в трюме, трясущихся над своими детьми и принужденных в пассивном бездействии ожидать своей участи.
К счастью, все обошлось благополучно. Наше судно обогнуло линию огней и через несколько времени оставило их позади себя. Полным ходом помчалось оно к северу, и только тут выпущенные из трюма женщины поверили своему спасению.
По прибытии в Керчь нашим пришлось попасть в своего рода тюрьму. Тогда уже кое-где появилась холера, и приезжие должны были выдержать обсервацию в карантине. Обширный керченский карантин, расположенный на северо-восточном берегу бухты, был порядочно наполнен такими невольными гостями. Территория карантина, обнесенная высокой стеной, была довольно обширна, но помещения для жительства тесны и неудобны. Скучно тянулись для всех бездейственные дни, и единственное развлечение для всех доставлял только шаловливый Яшка — обезьяна, сидевшая в карантине вместе со своими хозяевами-греками. Но все на свете кончается, и мама с детьми и прислугой могла наконец переехать к Савицким и несколько отдохнуть от дорожных волнений в городе, после Геленджика наиболее ей родном.
Однако и в Керчи убежище было уже ненадежно. Неприятельские корабли шныряли около берегов Крыма и подходили к Керчь-Еникальскому проливу, очевидно, стремясь проникнуть в Азовское море. Татарское население волновалось, и ежедневно можно было ожидать его восстания. В то время русского сельского населения в Крыму почти совершенно не было. За пределами городов всюду жили татары. Неподалеку от Керчи было только одно греческое поселение — Еникале, на самом берегу пролива, небольшой городок эмигрантов, ушедших из Греции после восстания и очень гордившихся своим чисто эллинским происхождением перед крымскими греками смешанной крови. Все остальное пространство было занято татарами, которых русские боялись больше, чем турок. Татары, видимо, ждали только прихода неприятеля, чтобы восстать. Их вооруженные всадники нередко группами скакали по базарам и улицам Керчи. Савицкий сам видел этих первых ласточек кровопролития и грабежа и решил, что нужно поскорее убираться подобру-поздорову, тем более что если бы неприятель вошел в Азовское море, то уже нельзя было бы и убежать. Сухим путем из Керчи, через татарские деревни, было бы слишком рискованно ехать. Да и куда ехать? Трудно было сказать, какая местность Крыма останется безопасной.
Андрей Павлович решился на радикальную меру: увезти семью на родину, в Нежин, где у него жили родные. Но куда деваться маме с детьми? Савицкому приходилось и нас брать с собой. Не бросать же! Мама списалась с отцом, который в это время был в Анапе. Он с благодарностью согласился на предложение Андрея Павловича. Положение безвыходное, выбора не было, хотя для нас ехать в Нежин было совсем не то что для Савицких. Они ехали на родину, к ближайшим родственникам. Мама же ехала на чужую, неведомую сторону, где у нее не было даже знакомых. И если бы родные Андрея Павловича, его сестры и мать, которая, кажется, была еще жива тогда, приняли нас, как он обещал, то все же положение мамы — на чужой шее, с кучей детей и прислуги, было бы крайне неприятно. Но ничего не оставалось делать. И вот все стали спешно собираться. По общему ходу военных действий видно было, что Керчи вряд ли уцелеть. Что касается Азовского моря, то казалось бы, что наше военное начальство должно было принять серьезные меры к охране пролива и недопущению неприятеля прорваться сквозь него. На Азовском море был ряд цветущих портов: Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Ейск, уже тогда ведших большую торговлю. В этих городах находились большие запасы провианта для войск. Однако никаких серьезных мер к защите пролива не было заметно. Правда, при входе в пролив, недалеко от Керчи, стоял небольшой отряд, и его присутствие пугало неприятельский флот. Но батарей на проливе не воздвигалось и для спасения азовских портов ничего не делалось. Каботаж наш по морю продолжался, и Савицкий рассчитывал отправиться на каком-нибудь судне в один из азовских портов.
Но я до сих пор не сказал о судьбе моего отца и геленджикского гарнизона. В конце марта 1854 года, взорвав и разрушив все здания, казенные и частные, и уничтожив все, чего нельзя было взять с собой, гарнизон двинулся к Новороссийску. Отец пошел со своим 5-м Черноморским батальоном. Мне не приходилось слышать, беспокоили ли черкесы наших на этом пути. Дорога от Геленджика до Кабардинки проходит по широкой долине, хотя и заросшей лесом, но свободной от всяких горных теснин, так что эта половина пути, при таком значительном числе войска, едва ли представляла для горцев удобства нападения на наших. Напротив, начиная от Кабардинки до самого Новороссийска дорога идет у подножия гор, обрывающихся множеством ущелий в бухту. Эти ущелья приходится пересекать, беспрерывно то поднимаясь, то спускаясь с горы на гору. Тут что ни шаг, то удобные места для нападения на отряд, обремененный обозами... Но я не знаю, насколько горцы этим воспользовались. Во всяком случае, отряд благополучно пришел в Новороссийск, 5-й же Черноморский батальон проследовал прямо в Анапу, которую рассчитывали сохранить в наших руках. Что касается Новороссийска, то его по завершении снятия Береговой линии предполагалось также очистить.
Но неприятель не дал этого сделать спокойно. Его корабли скоро вошли в Новороссийскую бухту и начали бомбардировку. Наши отвечали огнем своих батарей. Самая сильная батарея стояла на возвышенном берегу неподалеку от нынешнего южного мола. Я через десять лет еще видел ее развалины, окруженные глубоким рвом. Она стреляла по неприятельским судам калеными ядрами. Тут, между прочим, отличился Маслович. На одном французском корабле капитан, щеголяя храбростью, все время командовал, ходя без всякого прикрытия на рубке. Когда наши это заметили, Маслович, задетый за живое, приказал принести себе халат и трубку с длинным чубуком и, нарядившись по-домашнему, стал спокойно разгуливать по брустверу, покуривая трубку и отдавая сверху приказания. Эта выходка не осталась не замеченной неприятелем, и по окончании бомбардировки русские и французы взаимно осведомлялись об именах этих бесстрашных соперников в храбрости.
Я не знаю, какой вред наши орудия причинили неприятелю. Но бомбардировка Новороссийска была очень сильна. Десять лет спустя я и прочие мальчуганы находили в развалинах города бессчетное количество ядер. Местами они буквально усыпали почву, и прошло много лет, пока жители воскресшего города успели растаскать их на разную домашнюю потребу и материал для кузниц. Этот набег послужил для наших красноречивым напоминанием, что нужно убираться, и Новороссийск скоро был очищен. В нем не оставлено было камня на камне. Все, начиная от Серебряковских палат и до последней хижины, было взорвано и разрушено. Омертвевшие берега Цемесской бухты со всех сторон желтели одними развалинами. На одном берегу виднелись пятна Кабардинки и форта в глубине бухты. На другом берегу — рассыпанные камни прежней турецкой крепости Суджук-Кале и свежие руины ее преемника Новороссийска, разрушенной столицы стертой с лица земли Береговой линии.
Отец мой, как сказано, еще раньше пошел со своим батальоном в Анапу, откуда — с 7 мая — батальон вошел в состав так называемого Закубанского отряда, действовавшею против черкесов. Здесь отец оставался до осени, когда он расстался со своим батальоном и был назначен старшим ординатором в Фанагорийский военный госпиталь.
Фанагория — это была крепость, находившаяся в Тамани.
Но отец хотя и был 13 октября 1854 года назначен в Фанагорийский госпиталь, однако его командировали — еще 16 сентября — в Крым, в военный лазарет Феодосийского отряда.
Итак, осенью 1854 года отец попал в Крым, и очень неподалеку от Керчи. Но в это время наших там уже и след простыл.
В самом, кажется, начале мая Андрей Павлович Савицкий погрузился со своей и нашей семьями на греческое судно шкипера Буковало, шедшее в Мариуполь. Оттуда нужно было ехать в Нежин на лошадях.
Нелегки тогда у нас были путешествия. По всей России было только две железные дороги: Николаевская и Царскосельская. Начатая постройкой Варшавская дорога не была окончена во все продолжение войны. В общем у нас на всех безграничных пространствах России было менее тысячи верст железных дорог. Шоссейные дороги были в лучшем состоянии, но по преимуществу в центральных губерниях. Дорого поплатились мы в Крымскую кампанию за это бездорожье. Подкрепления, посылаемые в Крым, двигались черепашьим шагом, множество ополчений не дошли до самого окончания войны. Еще труднее была доставка артиллерии и движение обозов, которые безнадежно увязали в грязи весенней и осенней распутицы.
Мне пришлось слышать, как в какой-то губернии уже после войны отрывали из земли транспорт орудий, посланных в Севастополь и затонувших в грязи. Грязь потом обсохла, и орудия оказались похороненными в земле.
Особенно непроходима была Новороссия, которую предстояло пересечь нашим беглецам.
Бравый шкипер Буковало доставил их в Мариуполь быстро и благополучно. Здесь приходилось обстоятельно снарядиться в дальний путь, приобрести фургоны и телеги, заподрядить лошадей, запастись дорожными костюмами и разными припасами. Для всего этого Мариуполь представлял все удобства как пункт бойкий и торговый. Бремени было, казалось, тоже достаточно. Наши не торопились и впервые наслаждались полным спокойствием. Наконец-то им уже не страшен неприятель, нет ни черкесов, ни татар. Готовясь помаленьку в путь, они отдыхали, ходили по базарам и лавкам, были и у знаменитой чудотворной иконы Божией Матери, давшей городу его название.
Население Мариуполя состояло тогда главным образом из греков. Это были эмигранты, бежавшие из Турции. Они принесли с собою чтимую у них на родине икону Божией Матери, по имени которой назвали и свой город. Икона, находившаяся в соборе, была вся увешана серебряными и даже золотыми изваяниями разных частей человеческого тела: головы, рук, ног и т. п. Это были благодарственные приношения больных, исцелившихся по молитве у иконы и в память этого приносивших изображение той части тела, которая получила исцеление.
Однако же нашим пришлось благодушествовать в Мариуполе гораздо меньше, чем они предполагали. Едва прошло несколько дней, как весь город был потрясен известием, что в порту показались неприятельские военные суда. Страшная тревога охватила жителей. Встряхнулись, как от сладкого сна, и наши. Бедная мама была в отчаянии: эти англо-французы с турками решительно не давали ей нигде покоя. К счастью, экипажи были уже куплены. Моментально наняли лошадей и двинулись за город. Верстах в двадцати-тридцати от города находится греческое селение Сартана. Туда и направились наши, чтобы там окончательно изготовиться в дальнейший путь.
Что касается города Мариуполя, неприятель не сделал ему никакого вреда, потому что войска в городе не было, а жители порешили встречать врагов с хлебом-солью и заявлением покорности. Это был единственный случай капитуляции портового города в Крымскую войну.
Но каким образом неприятель попал в Азовское море? Я говорил, что наши плохо защищали вход в пролив, лучше сказать — совсем его не защищали. Почему — не знаю. Защищать пролив легко. Он очень мелок и для крупных судов непроходим. Южнее Керчи он очень суживается, и фарватер проходит близ Крымского берега. Хорошие батареи, казалось бы, должны были не пустить неприятеля. Но у военного начальства было, кажется, убеждение, что если неприятель серьезно захочет пройти в Азовское море, то у нас не хватит средств этому воспрепятствовать. Возможно. У нас в Крыму нигде ни на что не хватало средств. Но многие лица, находившиеся на месте действия, думали иначе и считали защиту возможной. Я упоминал выше, что близ входа в пролив стоял небольшой отряд и его присутствия было достаточно, чтобы неприятельский флот не решался входить. Но этому отряду приказано было отойти для зашиты какого-то другого пункта, кажется к Феодосии. Мой отец рассказывал, что, когда начальник отряда получил это приказание, он в величайшем негодовании сорвал с головы фуражку, бросил ее об землю, топтал ногами и громко ругательски ругал начальство... Но приказание все-таки должно было исполнить. Неприятельский же флот вслед за этим прошел в пролив 12 мая 1854 года, а 13 мая бомбардировал Керчь, защищавшуюся чуть ли не двумя орудиями, и занял ее. После этого неприятельские суда прошли все Азовское море, бомбардируя разные порты, как Геническ, Бердянск, Ейск, делая десанты и уничтожая продовольственные склады. Единственным непострадавшим городом был Мариуполь, умилостививший неприятеля добровольной покорностью.
Едва ли какой порт пострадал сильнее Тамани. Я был в ней десяток лет после войны и бродил по одной особенно разрушенной части города. Она напоминала какую-то Помпею. На заброшенных улицах не видно было ни единой человеческой души, а по обе стороны тянулись только полуразрушенные стены домов. Говорят, сильно потерпела и Керчь, разграбленная союзниками, но, когда я ее увидел, она уже успела залечить все свои раны. Неприятель, впрочем, недолго оставался в городе, так как все его силы сосредоточивались поблизости Севастополя, центральная же и восточная части Крыма оставались в русских руках.
Между тем мама с Савицкими медленно двигались из Сартаны на запад, к Нежину. Они все испытывали радостное чувство, что наконец избавились от неприятеля и движутся по неоспариваемой русской почве. Но тягости путешествия на лошадях по местностям не трактовым были чрезвычайны. Телеги с вещами тащились чуть не шагом, а с ними сообразовывались и фургоны с пассажирами. Неподвижное скорченное сидение с утра до ночи, изо дня в день утомляет наконец сильнее, чем маршировка пешком. Продовольствоваться приходилось кое-как, ночевать — со всеми неудобствами. На руках у мамы дети то простужаются, то схватывают расстройство желудка. Она совсем замучилась, а в то же время теперь, когда исчезла мысль, куда бежать от неприятеля, ярче и настойчивее стала осаждать другая: где же устраиваться, где осесть? Каждая верста пути к Нежину отдаляла ее от мужа. А что будет с ней в Нежине? Но какой же можно было придумать другой исход?
Так дотянулись они до немецких колоний, охватывавших огромную территорию, и остановились на продолжительный роздых в их столице Грунау. Это была большая цветущая колония, благоустроенная как немецкий городок, окруженная роскошными полями и садами, служившая резиденцией барона Штемпеля, попечителя колоний. После всех тягостей пути в тесноте и грязи Грунау мог показаться земным раем. Хотя в колониях мне было только три-четыре года, я уже довольно хорошо помню Грунау. Чистые широкие улицы обрамлялись в нем красивыми чистенькими домиками и даже большими домами, на огромной площади посреди колонии было несколько хороших магазинов. Повсюду по дворам виднелась масса зелени — деревьев и кустов. Дом барона Штемпеля представлял роскошную усадьбу, которая по величине своей не охватывается моим детским воспоминанием. Помню только какие-то отрывки разубранных комнат, какой-то сад, представлявшийся мне бесконечно большим и непроходимо густым. Сам барон Штемпель жил каким-то владетельным герцогом посреди своих колоний и, говорят, получал с них большие доходы, был умным администратором и колонии у него процветали. Он держал себя в отношении войны патриотом и, сверх того, был вообще человеком любезным. Поэтому он встретил наших беглецов очень ласково, отвел им хорошие помещения, приглашал к себе, расспрашивал об их положении и планах.
Эти расспросы не были пустым разговором. Вникнув в положение мамы, он сам сказал ей, что, может быть, ей лучше всего остаться совсем в Грунау.
Это было лучом света для мамы, тем выходом, которого она тщетно искала. Чем более она об этом размышляла, тем более мысль остаться в немецких колониях ей нравилась. Она посоветовалась с Андреем Павловичем. «Сестрица, — отвечал он, — это Сам Бог внушает вам такую мысль. Вы понимаете, мне самому неловко было бы сказать вам, могло бы показаться, что я хочу от вас отделаться. Но когда вы сами это надумали, я скажу, что ничего лучше нельзя найти. Конечно, оставайтесь здесь».
На том и порешили, и, конечно, это был самый умный исход. Даже сношения с отцом здесь были легче и быстрее, чем были бы в Нежине. Сюда ему легче было даже приехать, когда настанет время.
Итак, мы остались в Грунау, а Савицкие, отдохнувши, продолжали свое путешествие в Нежин.
VI
Немецкие колонии сделались нашим убежищем на целых два года, до самого окончания войны, так что мои первые «впечатления бытия» были получены в немецкой среде. Убежище это оказалось очень недурное, бесцветное, но тихое и покойное. Не помню нашей квартиры в Грунау, но мама была ею довольна. Только хозяин дома, немец с славянской фамилией (что-то вроде Рожинского), был не из любезных. Но, кажется, он отдавал квартиру не по найму, а обязательно в качестве постойной повинности, и в этой случае наше присутствие, конечно, не могло быть особенно приятно для него. Впрочем, он вел себя во всяком случае прилично. Население Грунау тогда должно было принимать немало таких непрошеных гостей, а именно солдат, выписанных из лазаретов и отправляемых в немецкие колонии на поправку. Жители, кажется, принимали их радушно и кормили хорошо. Я помню этих солдат, они имели вид здоровый и даже упитанный. В моих детских воспоминаниях сохранилась картина, о которой мне никто не мог говорить и точного смысла которой я тогда даже не понимал. Вижу как сейчас толпу народа, немцев, перемешанных с нашими солдатами. Посредине, на площадке, две или три высокие качели, на доске которых стоят, с одной стороны, солдаты, по одному, по два, а с другой стороны и посредине — дюжие и краснощекие немецкие девицы. Солдаты размахивают качели до небес, девушки неистово визжат и хохочут. Их юбки развеваются по ветру, как пузыри, обнажая нижнюю часть тела, а из толпы с хохотом выбегают солдаты, бросаются под качели и лежа смотрят снизу на полуобнаженные прелести девиц. Визг подымается отчаянный, а в толпе из конца в конец пробегает смех. Видно, что галантные шуточки солдат всем приходятся по вкусу, в том числе и самим девицам...
Население Грунау мне вообще вспоминается веселым и ласковым. Не помню ни одной обиды, а только приветливость. Жители были эмигранты откуда-то из Южной Германии, какие-то сектанты, может быть меннониты. Среди них попадались и славянские фамилии, говорили же они на каком-то жаргоне: «ютен даг» вместо «Guten Tag», «ишь танке» вместо «ich danke». Мы, дети, скоро выучились болтать по-немецки, только мы говорили на правильном языке — очевидно, учились больше у Штемпелей. Помню, я часто просил «ein Glas Bier», не понимая, что это означает именно «стакан», а желая попросить просто «пива». Жители Грунау истребляли этот напиток в огромном количестве.
Маме жилось в колонии сравнительно хорошо. Материальных затруднений она не испытывала. Отец присыпал достаточно денег. Но жили мы очень уединенно. Знакомств было мало. Я сам даже не вспоминаю никого, кроме доктора Рениуса, который иногда лечил нас. Это был крупный, плотный немец, кажется, хороший врач, но молчаливый и флегматичный человек. Кое-кто к нам все-таки заходил, главное же общество наше составляло семейство Штемпелей. Их было четверо — барон, баронесса и двое детей. Старшая дочь, Каролиза, уже совсем не годилась в компанию детям, а сын, Карлуша, был ровесник нашему Володе, так что и я вращался среди них. Это был мальчик избалованный, капризный шалун. Одно время он долго ходил с перевязанной рукой, которую сломал в каких-то шалостях. Когда отец и мать не исполняли его требований, он сердился и начинал теребить гипсовую повязку, угрожая снова разбередить руку, если его желание останется неисполненным. Впрочем, кроме избалованности, он, кажется, был мальчик недурной. Когда я был совсем маленький, они с братом Володей возили меня на колясочке, и одно из самых ранних моих воспоминаний связано с этой колясочкой. Вижу себя как во сне — в какой-то корзинке, среди густой чащи. Мне не видно ни земли, ни стволов кустов, а только гибкие ветки плотно окружают меня, зеленые листы и цветы теснятся у самых глаз, а около суетятся какие-то дети, и я все это внимательно рассматриваю. Никакого неудобства или страха я не испытываю, а только любуюсь этим царством зелени и цветов. Впоследствии, уже взрослым, я говорил маме об этом воспоминании, и она объяснила, что оно относится, очевидно, к одному действительному случаю, наделавшему ей много беспокойства. Володя с Карлушей однажды затащили колясочку в такую густую чащу, что не в состоянии были вытащить обратно, и, бросивши меня в кустах, прибежали домой за помощью.
К маме Штемпели были очень внимательны, хотя, конечно, ей пришлось учиться в Грунау дипломатии, чтобы сохранять добрые отношения с семейством этого властного князька колонии, от которого зависело и доставать нам всякие блага, и отравить жизнь притеснениями. Но отношения установились очень сносные. Штемпели часто приглашали нас на свои поездки полуделового-полуувеселительного характера. Лошади у барона были превосходные, но очень бойкие, так что с ними не раз происходили разные приключения. Один раз они так бились и брыкались, что одна распорола себе брюхо крючком от дышла и издохла. Другой раз прогулка едва не обошлась маме очень дорого. Она отправилась со Штемпелями в поле зимой кататься в санях по роскошному степному снегу. Лошади почему-то взбеленились и понесли. Мама страшно испугалась и выскочила из саней. К счастью, она ничего не повредила себе, но получила такое сильное сотрясение, что у нее долго после того делались припадки, темнело в глазах и кружилась голова. Помню я, однако, и более веселые поездки, при которых узнавал много поразительного для меня. Так, однажды мы ездили на мельницу, приводимую в движение волами, и я с изумлением смотрел на непонятный для меня механизм ее. Непостижимее всего мне казалось, что юлы с усилием идут по земле, передвигают ногами и остаются все на одном и том же месте. Дело в том, что в глубокой выемке в земле был установлен широкий вал, вертящийся колесом, и поверх его шагали быки, приводя ногами его в движение, которое системой разных приводов передавалось к жерновам. Ездили мы также и на лесные плантации. В немецких колониях, среди безграничных степей, не знавших до того времени и кустарника, искусственно разводили леса. В Грунау лесные плантации были еще молодые, лет двадцати, но уже представляли свежую, веселую древесную растительность. На опушке несколько человек при нас рыли новые ямки для посадки деревцов. Все это были колонисты, наказанные за разные провинности. У немцев установлено было правило: вместо того чтобы сажать их под арест, посылать по воскресеньям работать на лесных плантациях.
Впрочем, нам, детям, жилось в Грунау привольно и без этих поездок. Было где погулять и поиграть и по зеленым улицам, было где понаблюдать и вольных пташек, и всякую мелкую тварь Божию, всяких козявок, жуков, ящериц и т. п. Один раз зимой Иван прикатил к нам в комнаты ежа, свернувшегося в иглистый шар. Другой раз большую сенсацию в детском мире произвел волчонок, которого где-то изловили колонисты. Ходил его смотреть и я с Володей и Аграфеной. Это был хорошенький зверек темно-шоколадного цвета, совершенно похожий на стройную собачку, поджарый, на высоких ножках. Привязанный бечевкой к дереву, он беспокойно бегал из стороны в сторону, сверкая глазами, и был очень злой, так что детей не подпускали к нему близко. Другой раз много переполоха наделал хорек, передушивший кур и у нас, и у хозяина. Аграфена, пришедшая доложить об этой печальной новости, рассказала нам, что хорек не поел кур, а только выгрыз у всех мозги. На меня это произвело большое впечатление, и хорек долго мне представлялся каким-то страшным зверем, тем более что мне не пришлось, конечно, его видеть.
В дешевых, всем изобильных колониях мы жили без материальных лишений, но маме, конечно, приходилось беречь каждую копейку, а потому пришлось самой приниматься за хозяйство. Аграфена была ее драгоценной помощницей, но, по ее вороватости, за каждым ее шагом приходилось глядеть в оба. Да и то, конечно, никогда нельзя было быть уверенной в том, хорек ли загрыз курицу или Аграфена сбыла ее экономным немцам. А все-таки мы все ее любили, и она выручала нас не только по хозяйственным делам. Что стали бы мы делать без нее в зимнее время, когда степные бураны и метели по целым неделям держали нас взаперти? Маша уединенная жизнь делалась тогда затворнической. В долгие зимние вечера, когда только буря громыхала по крышам, Аграфена то убаюкивала нас, то нагоняла бессонницу от страха своими рассказами при тусклом свете сальной свечки.
Теперь многие и не знают, что такое сальная свеча, а тогда других не было даже у богатых людей, кроме разве совершенно парадных восковых. Свеча из скотского сала, с толстым фитилем светила тускло, дурно пахла и очень оплывала, а фитиль скоро нагорал и начинал чадить, гак что истлевший кончик его приходилось постоянно снимать. Бедные люди делали это просто пальцами, предварительно поплевав на них. У зажиточных же для этого существовали особые щипцы, которые срезывали нагоревший фитиль и забивали его в маленькую металлическую коробочку, находившуюся на конце щипцов. Конечно, их приходилось потом очищать от накопившегося нагара. Этот инструмент иногда делался из стали, изящной формы, совсем не в гармонии с его грязным употреблением.
Но для страшных сказок мигающая сальная свеча и ее колеблющееся пламя, бросавшее на стены какие-то шевелящиеся тени, шли лучше, чем нынешнее электричество. Они сами по себе наполняли комнату чем-то фантастическим. А Аграфена рассказывала о ведьмах и привидениях с такой глубокой верой в них, что одним тоном своим нагоняла страх. Она была очень суеверна, и в действительной жизни ее окружал тот же фантастический мир, что в сказках. Когда зимняя вьюга, разгуливая по крышам и трубам, завывала на все голоса, Аграфена серьезно слышала, что на чердаке воют и пляшут домовые, и мама никак не могла убедить ее, что это просто чудит ветер. «Нет, барыня, то ветер, а то домовые. Вот послушайте — опять заголосил какой-то». Однажды она, встревоженная, пришла ночью к маме и рассказала, что сейчас видела ведьму... «Какую ведьму? Почему ты знаешь, что это ведьма?» — «А вот видите, барыня, я вышла на двор, смотрю — идет копна сена. Я обомлела. А она потихоньку перешла весь двор и перевалилась через забор к соседу...» Несомненно, что это просто кто-то крал сено у нашего хозяина и нес огромный ворох его на вилах, так что его самого не было и видно, а потом перевалил через забор. Но Аграфену никакими силами нельзя было переубедить.
Разумеется, сказки и рассказы няньки могли развлекать и увлекать детей, а не маму. Для нее однообразные дни и ночи становились еще более унылы при мысли об отце. Война разгоралась и становилась все тяжелее. Центр ее ужасов составлял Севастополь, куда отец ни разу не попадал. Но его служба в Феодосийском отряде проходила в самых трудных условиях, особенно при развитии в войсках холеры и тифа. Он там пробыл самое горячее время — с 16 сентября 1854 года по 26 февраля 1855 года и именно за это получил орден Анны 2-й степени «В воздаяние самоотверженных и неутомимых трудов при пользовании раненых в Крыму», как выражено в официальной мотивировке награды. Но пользование раненых — это было сравнительно легкое дело. Гораздо большего самоотвержения и неутомимого труда требовала борьба с холерой и тифом, в которой врач подвергался большей опасности, чем при севастопольских бомбардировках. Средства для изоляции больных, дезинфекции и принятия предохранительных мер были самые жалкие. Медицинский персонал — крайне недостаточен. Заготовленных и оборудованных заранее больниц не было. Все приходилось устраивать кое-как, по-походному, постоянно рискуя в первую голову самому заразиться и свалиться с ног от натуги. Впоследствии отец говаривал, что из всех своих орденов — а он имел их немало, включительно до Владимира 3-й и 4-й степени — он чтит более всего Анну 2-й степени. [21] «Вот уже можно сказать по чистой совести, что действительно заслужил этот орден верой и правдой. Такой тяжкой работы никогда больше не было, особенно с холерными и тифозными», — пояснял он, столько раз работавший под пулями и ходивший с отрядами в зимнюю экспедицию: все было легче, чем борьба с холерой и тифом в Крыму.
Отец не тревожил маму в письмах рассказами об обстановке своей лазаретной работы. Но в немецких колониях прекрасно знали положение врачей на театре военных действий, и мама ни на один день не была уверена, что остается еще в живых он, единственная поддержка всей семьи. Только горячая вера спасала ее, только в молитве находила она успокоение.
Собственно военные действия мало затрагивали отца, так как они лишь отдаленным рикошетом достигали до Феодосийского отряда. Однако ему пришлось присутствовать при одном довольно громком эпизоде Крымской войны, а именно при бомбардировке Феодосии неприятельским флотом. Это было в декабре 1854 года. Незадолго до того наши захватили контрабандное судно «Филомелу», которое и стояло в Феодосийском порту. Неприятель сделал попытку отнять это судно обратно. Наши совершенно не ожидали нападения.
День был веселый и праздничный, память Николая Угодника (6 декабря) и царские именины. У командующего местными войсками после богослужения и развода происходил парадный обед. Собралось множество чинов военных и гражданских. Присутствовал на пиршестве и мой отец. Обед уже кончался, подходило время тостов, как вдруг неожиданно раздался гром неприятельских орудий. Несколько военных пароходов, быстро войдя в порт, начали обстрел города, в котором поднялось страшное смятение. Но оно не коснулось гостей командующего войсками. Очень догадливо рассчитав время, когда неприятельские суда будут палить с другого борта, он провозгласил, поднимая бокал шампанского: «За здоровье его императорского величества. Ура!» Тост был дружно подхвачен присутствующими, и в тот же момент загремел залп неприятельских пушек... «Союзники салютуют тосту за Государя!» — крикнул командующий войсками, и эти слова вызвали шумный взрыв энтузиазма среди присутствующих. Отец говорил, что это была сцена потрясающая. Все неистово кричали: «Ура! Да здравствует Государь Император!» Исчезла малейшая тень мысли об опасности. Однако слишком долго шуметь с тостами было нельзя. Большинству присутствующих нужно было бежать к своим частям — отражать неприятеля и возможный десант.
В Феодосии было несколько наших батарей, которые немедленно стали отвечать на бомбардировку неприятельских судов, и это артиллерийское состязание происходи по при самых невыгодных для флота условиях. В море было сильное волнение, которое не давало неприятельским судам брать верный прицел. Они от качки то не-добрасывали, то перебрасывали свои ядра. Отец рассказывал, что это было очень интересное зрелище. Залпы всем бортом то попадали в воду, не долетая до берега, то переносились далеко за город. Наши же батареи имели, конечно, возможность брать верный прицел. Неприятельские суда через несколько времени поняли, что бесполезно отдают себя на расстрел, и ушли в море, отказавшись от попытки десанта и захвата «Филомелы».
Этот случай показывает, как велики были слабые стороны орудийного огня во флоте, пока не были изобретены способы парализовать действие качки на правильность прицела.
Итак, бомбардировка не только не причинила никакого вреда батареям, но и в город залетело только несколько случайных бомб. Однако на первое время неприятельская пальба вызвала в городе страшное смятение. Жители бросились бежать в поле, захватывая с собою вещи поценнее. Произошло немало и комических сцен. Одна обывательская семья только что уселась обедать, когда раздался гром канонады. Отец семейства до того перепугался, что лишился всякого рассуждения. Он схватил со стола горшок щей и опрометью бросился бежать за город с этой драгоценностью. Только очутившись в чистом поле, он наконец опомнился и, бросив о землю с досадой свой горшок, возвратился домой спасать более важные вещи. Впрочем, переполох был непродолжителен. Увидав безвредность неприятельской пальбы, жители успокоились, а когда пароходы ушли в море, общее ликование сменило недавние страхи.
К 1855 году соотношение сил на театре военных действий совершенно определилось. С самого начала борьбы было ясно, что единственный шанс на победу нам могло дать наступление в Европейской Турции, где уже Дибич {4} показал нам дорогу до самого Адрианополя. Если бы мы могли угрожать Константинополю, союзники не могли бы и подумать высаживаться в серьезных силах на крымские берега и весь план войны был бы поставлен как-нибудь иначе. Но Австрия отняла у нас возможность наступления за Дунай и угрозой войны принудила нас стать в оборонительное положение, в котором мы никоим образом не могли оказаться победителями. Правда, мы вели наступление от Закавказья и уже осаждали Карс — этот турецкий Севастополь, который турки обороняли с таким же упорством, как мы свой Севастополь. Но даже по взятии Карса дойти от него до Константинополя было так же далеко, как англо-французам — от Севастополя до Москвы. Итак, никакого решительного удара мы не могли нанести союзникам. В крымской же обороне обозначилось не менее ясно, что при самых напряженных усилиях мы не в состоянии выбросить неприятеля с нашей территории. Он превосходил нас не только в военно-техническом отношении, по качеству оружия и снарядов, но даже численно, так как морем подвозил войска гораздо успешнее, чем мы по своим непроходимым путям сообщения. При таких условиях наших сил едва хватало на героическую оборону Севастополя, падение которого у нас, однако, давно предвидели как неизбежное.
К этому следует добавить, что Россия должна была напрягать все силы для борьбы. Приходилось держать войско по всем границам, и к концу мы выставили 2,5 миллиона человек регулярного войска и ратников. Государственные доходы были ничтожные. В 1854 году мы имели 260 миллионов дохода, в 1855-м — 264 миллиона и к 1856 году 353 миллиона, а расходы требовались огромные, так что бюджет сводился с тяжкими дефицитами: в 1854 году — 123 миллиона, в 1855 году — 261 миллион, а в 1856 году — 265 миллионов дефицита. Торговля вывозная падала при общей блокаде страны. Кредита нельзя было иметь в самых богатых странах — Англии и Франции. Словом, положение страны становилось критическим.
Однако и союзники не могли себя поздравить с большими успехами. Они преодолевали сопротивление России тоже лишь с величайшим напряжением сил и не могли добиться, в сущности, никакого решительного превосходства. Все их усилия сосредоточились на Севастополе, который как клад не давался им в руки. Да чего они могли ожидать даже после победы в этом отдаленном уголке безграничной России? Этот удар ранил только кожу ее, но не задевал никаких важных органов, и если бы союзники, одолев наконец Севастополь, вздумали идти далее в глубь страны, то могли на своем пути встретить еще целый десяток других Севастополей, гак же упорно обороняющихся. Союзники одержали несколько побед, но все они были частичные и не клали основания для победоносного окончания войны.
Таким образом, окончание этой бесплодной бойни становилось все более желательным для обеих враждующих сторон. Но для союзников предварительное овладение Севастополем являлось вопросом чести. Для русских таким же вопросом являлась его оборона. Союзники никак не могли кончить войны без каких-нибудь уступок со стороны России, а Николай Павлович ни за что не хотел признать Россию побежденной и не пошел бы ни на какие уступки. Он привык видеть гегемонию России в Европе и считал бы себя обесчещенным, если бы признал это первенствующее положение ниспровергнутым. Пока жив был Император Николай I — мир был немыслим, потому что Россия не могла победить и не хотела признать себя побежденной. Для преемника Николая Павловича возможность выпутаться из этого сложного положения была гораздо легче. Он не руководил политикой, приведшей к войне, не начинал войны, а потому мог без порухи своей чести выразить желание мира и даже сделать уступки, ответственность за которые падала не на него, а на его предшественника.
По совокупности обстоятельств жизнь Императора Николая Павловича становилась в полное противоречие с тем, что было необходимо для блага России, то есть с окончанием истощающей ее войны, не сулящей ничего не только хорошего, но даже сносного. И он — умер.
Тогда все говорили, что он приказал врачу дать себе яда. Официально он скончался от паралича легкого — последствия воспаления, схваченного на смотру войск. У Устрялова, {5} в приложении к его «Истории России», есть даже подробное описание его смерти. Это воспаление не исключает возможности самоотравления. Человек с таким характером мог искать смерти, когда убедился, что жизнь его потеряла смысл и стала вредна для государства.
Как бы то ни было, он скончался 19 февраля 1855 гада. После этого мир был заключен только через год, но уже в начале 1855 года, среди продолжающегося взаимного истребления сотен тысяч человек, в воздухе запахло миром.
Союзники не могли и думать о ликвидации войны, не взявши Севастополя. В русских интересах было, напротив, развить всю силу сопротивления для того, чтобы неприятель видел, как невыгодно продолжать войну. Преемник Императора Николая, всей душой желавший выпутаться из этой бойни, не мог слишком обнаруживать этого желания, чтобы не портить почвы для мирных переговоров. Но Севастополь наконец пал 27 августа 1855 года. Это спасало честь союзников. А через несколько месяцев пал и Карс — 28 ноября 1855 года. Это давало компенсацию чести России. К концу года завязались через нейтральных посредников переговоры о мире. Они шли медленно, потому что Александр II не хотел показать настоятельной потребности для себя мира и старался выторговать возможно более выгодные для России условия его. Наконец Парижский трактат 30 марта 1856 года покончил истребительное международное столкновение.
Мой отец покинул Крым задолго до окончания войны. В феврале 1855 года Феодосийский военный госпиталь был закрыт, и отец возвратился в свой Фанагорийский госпиталь, куда назначен был давно, но где до сих пор фактически не служил. На этот раз он застрял в Фанагории почти на полтора года, в такой же тяжелой трудовой обстановке, до самого заключения мира. Здесь началось его близкое знакомство с Черноморьем и с казачеством. После заключения мира госпиталь был закрыт, а отец 5 июня 1856 года прикомандирован к Ейскому военному госпиталю. И вот для нас наступил наконец час свидания с почти неведомым для нас, детей, отцом.
Он сам приехал в немецкие колонии для того, чтобы забрать нас и перевезти в Ейск, где рассчитывал остаться надолго. Я не имел о нем ни малейших воспоминаний. О маленькой сестренке Маше и говорить нечего. Может быть, Володя и помнил его немного. Но мне он представлялся каким-то мифическим существом. Мама рассказывала о нем много, а все-таки мы жили какими-то сиротами. У всех окружающих были отцы, у нас же он витал где-то далеко в пространстве. Какой он? Кто он? Все было смутно. И вот он наконец появился осязательно — и превзошел все мои ожидания.
Он был в это время в самых цветущих годах, высокий, стройный шатен с длинными усами. Мне казалось, что на свете нет ни одного человека красивее его. Он овладел всем моим воображением. Теперь уже нечего было завидовать другим детям: у нас оказался такой отец, лучше которого нет ни у кого. Я гордился его военным медицинским мундиром, его саблей, орденами, шпорами, вообще всем, что только было у него. Я чувствовал, как будто сам получил какой-то важный чин, и он вообще сразу сделался для меня авторитетом. Вероятно, и другие дети имели те же самые ощущения, и вследствие этого он сразу получил для семьи огромное воспитательное значение, которое сохранил несмотря на то, что и впоследствии часто и надолго разлучался с нами. В Грунау он приехал только на несколько дней, пока мы собирались в дальний путь, и мне нередко приходилось ходить с ним по улицам колонии. Когда он вел меня за руку, а встречные немцы вежливо раскланивались с ним, я чувствовал себя как будто под покровительством некоторой великой силы. С глубоким вниманием следил я за каждым движением его. Помню как сейчас, как мы шли с ним через широкую площадь в лавку колбасника, и я бы, кажется, мог и теперь нарисовать план колбасной с ее полками и прилавками, к которым подходил отец. Он отчасти запасался припасами в дорогу, отчасти хотел полакомить семью чем-нибудь вкусным к обеду. Перебирал он разные колбасы, ветчину, все вещи хорошо мне знакомые, наконец спросил у немца сальтисон. Ну это уже был предмет мне неизвестный. Помню, как отец приказал отрезать ломтик для пробы, дал и мне... Всякая мелочь так и стоит перед моими глазами. Отец набрал целый пакет разных разностей, и мы пошли в другие лавки через площадь, заросшую травой. Я бы не устал ходить с ним целый день.
Другой раз я порезал себе палец, и отец залил мне рану коллодиумом — средством, тогда только что изобретенным в Германии. Мама смотрела на эту операцию, и я помню, как отец ей объяснял, что это средство очень хорошее, но, к сожалению, немцы скрывают его состав. Я не понимал, почему немцы делают это, но так как отец досадовал на них, то я совершенно убежденно сознавал, что они поступают нехорошо. Каждое суждение отца воспринималось мной как бесспорная истина.
Удивительно, что, так отчетливо помня всякую мелочь, связанную с отцом, я не сохранил никаких воспоминаний о том, как мы собрались в дорогу и распростились с гостеприимным Грунау. И в дороге передо мной встает с необычайной ясностью только одна картина. Мы ехали, конечно, на лошадях и, для того чтобы достигнуть Ейска, должны были обогнуть Азовское море где-нибудь около Ростова. Но я не помню ни одного города, не помню даже Дона, а вижу только один наш ночлег где-то в степи, перед какой-то речкой, через которую нужно было потом переправляться. Черная южная ночь с мириадами небесных светил нависла над нами. В темноте едва виднеются очертания экипажей, иногда освещаемые отблесками костра, около которого мы сидим и ужинаем на сон грядущий. В теплом воздухе разносится степной аромат травы и цветов, а где-то вблизи слышится фырканье и чавканье лошадей, пасущихся тут же, около экипажей. Эта картина почему-то врезалась неизгладимо в мою детскую память, и замечательно, что мама не могла определить, где это было, когда я рассказывал свое воспоминание.
Не помню я и того, как прибыли мы в Ейск, хотя и город, и наша первая квартира в нем видятся мне вполне отчетливо.
Здесь, в Ейске, настал новый продолжительный этап нашей страннической жизни. Мы здесь прожили почти пять лет.
VII
Богатая черноземная степь ровной скатертью докатывается до лимана реки Еи, или Ейского залива, и круто обрывается в Азовское море. На этой здоровой сухой плоскости раскинулся Ейск над морем и заливом, у самой границы Черноморского казачьего войска и даже на казачьих землях. Войсковые «паны», владевшие тут огромными наделами, охотно сбывали их городским жителям за ничтожную цену, хоть потом им и приходилось каяться в таком расточении своей «батьковщины». Один знакомый казак, Литевский, рассказывал, что когда-то охотился на тех местах, где находилась наша первая квартира. Тогда необозримое пространство земель этих составляло его собственность. Вспоминая былые времена, он сокрушенно качал головой и говорил: «Взлупцевали бы нас батьки, как бы встали из могил да посмотрели, что мы сделали с казацкой землей». Ейск со всех сторон был окружен казаками, их полями и хуторами. Земледельческого крестьянского населения около города совсем не было. Деревни крестьянские начинались только по ту сторону залива. Одна даже виднелась в неясных очертаниях. Это была Глафировка, населенная крепостными, большая редкость в нашем вольном крае. Я даже не понимал, что такое «крепостные», и думал, что это люди, живущие в крепостях, вроде геленджикцев. Ейские мещане имели под городом лишь хуторки, бахчи и некоторое количество садов. Казачье население состояло сплошь из кровных малороссов, город же был заселен великороссами, с незначительной примесью греков и армян. В значительной степени жители были бывшими крепостными, убежавшими от господ. В наше время в городе находился «коммерсант», как любят выражаться на Юге, некто Блан, якобы француз, в действительности беглый крепостной, ушедший за границу и принявший французское подданство. Его настоящая фамилия была Белый. Во время нашего прибытия Ейск был еще совсем молодой город, хотя уже хорошо обстроился, раскинулся на широкое пространство и вел бойкую торговлю хлебом, шерстью и рыбными продуктами.
Во время войны он подвергся бомбардировке и грабежу союзнического десанта. Жители, со своей стороны, ходили партизанскими группками «бить французов». В том числе ходил со своими приятелями наш знакомый, смотритель уездного училища Шинкаренко, известный охотник. Не думаю, чтобы они много «набили» врагов, да и бомбардировка сделала городу мало вреда. За большую редкость показывали при нас ничтожные следы пушечного огня. Как раз в нашей квартире одна стена была пробита неприятельским ядром.
В общем, Ейск представлял тогда чисто русский типичный уголок, каких тогда на прибрежном Юге было немного. Жизнь в нем живо сдула с нас, детей, немецкий налет, начавший было покрывать нас в колониях.
Отец рассчитывал основаться в Ейске прочно и надолго, и хотя ошибся в этих предположениях, но все-таки мы здесь прожили некоторое время нормальной семейной жизнью, в присутствии отца, который имел огромное влияние на весь наш семейный уклад. Правда, ему приходилось надолго отлучаться, но потом он снова возвращался, и заведенный им порядок поддерживался одинаково при его отлучках, и мысль о главе семейства, о его приезде, никогда не разлучалась с нами.
Он был образцовый глава семьи, умел создать в себе твердый авторитет для всех. Он совсем не был строг, не гневался,, не кричал. Напротив, вероятно, он и влиял на нас так сильно неизменным спокойствием и хладнокровием. Это была натура в высшей степени уравновешенная. Никогда он не волновался, не растеривался, не торопился, но быстро соображал, что нужно делать, и тогда уже вел свою линию неукоснительно. С детьми он был кроток и ласков, любил многое показывать им и рассказывать, но не фамильярничал, не нежничал, не обнимал, не целовал — все это оставалось в исключительной области мамы. Отец держался авторитетно; если что приказывал, то нужно было исполнять без прекословия. В семье даже и по внешности было поставлено на такую ногу, что отец и мать как бы начальственные лица, а мы, дети, подчиненные. Мы обращались к ним на «вы», они нам говорили «ты». Маму отец всегда называл «Христенька», а она его «Александр Александрович». Только уже совсем в старости они стали называть друг друга «папа» и «мама», как всегда говорили им мы. Ровный, спокойный отец никогда не проявлял нервности или тревоги. В этом отношении он хорошо влиял и на маму, очень нервную, склонную ко всяким порывам, легко огорчавшуюся и даже раздражавшуюся, несмотря на свою редкую доброту. При переломе лет на старость мама тоже чрезвычайно успокоилась и производила впечатление какой-то святой души. Но в молодости она была вспыльчива, часто кричала на прислугу... «Христенька, успокойся», — кротко, но настойчиво повторял ей отец, и этот призыв действовал на нее успокоительно. Мы чрезвычайно любили маму и были с ней более откровенны, но все-таки не очень слушались, тогда как каждое слово отца являлось для нас законом. Это достигалось исключительно нравственным влиянием. Наказаний для детей почти не существовало. Очень маленьких мама, бывало, иногда, рассердившись, отшлепает рукой, но розги мы не знали. Иногда ставили в угол, и только. Один раз — мы все уже были по шесть, по девять лет — разыгралась у нас трагедия. Старший брат Володя выкинул какую-то, должно быть, очень нехорошую штуку. Что именно — не знаю. Но отец был в высшей степени рассержен и объявил, что высечет его. Весь дом был погружен в страх и уныние от такого неслыханного решения, которое отец, однако, не торопился приводить в исполнение. Мама же, очевидно по соглашению с ним, якобы потихоньку сказала мне и Манечке, чтобы мы шли просить у папы простить Володю. Со страхом отправились мы в необычную миссию, а мама поддержала нас, сказав отцу, зачем мы явились. Он сделал вид, что очень тронут нашей просьбой, и простил виновного. Так Володя отделался только страхом и стыдом.
Мер физического воздействия мы, можно сказать, совсем не знали — и это в то время, когда в школах сечение было в полном ходу. Но зато с самых нежных лет нам внушали, что мы должны вести себя «благородно», не лгать, не воровать, не браниться. Все это не только грех, но и постыдно для благородного человека. Это настойчиво развиваемое чувство чести меня потом очень сильно воздерживало в жизни от дурных поступков. Выучился я потом в гимназии и браниться, и лгать, но всегда, всю жизнь останавливался с отвращением от всякого соблазна сделать «подлость». Что касается воровства, то я с детства не помню ни одного случая, чтобы я в этом провинился. Да и вся семья выросла людьми «непрактичными», но честными.
В помощь увещаниям матери на тему о благородстве и честности всегда являлся пример отца. Когда мы стали подрастать, она упоминала о взяточничестве и злоупотреблениях служащих, чтобы иметь случай сказать о том, что отец чист от всяких подобных грехов. «Вы должны гордиться своим отцом, — говорила она, — вы должны быть достойными детьми его». И образ его вырастал идеально перед нами. Так он — и установленной им системой, и личностью своей — постоянно давал тон нашей жизни, даже когда уезжал. «Что скажет папа?» — этот вопрос всегда стоял перед нами.
Как мы должны были быть честными и благородными, так точно мы должны были быть и образованными. Это была вторая основа нашего воспитания. Учиться мы все начинали очень рано, и я даже не помню, когда выучился читать. Выучился я сам, наглядкой по книжкам. Писать нас учили, и это была очень неприятная часть образования. Учили также арифметике, грамматике, Закону Божию, то есть Священной Истории и Катехизису. Это был какой-то очень краткий Катехизис, который я зубрил от слова до слова: «Един Бог, в Святой Троице поклоняемый есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца Своего бытия, но всегда был, есть и будет. Кроме Бога, все имеет начало, Бог сотворил все из ничего» и т. д. Память у меня была превосходная, и я легко заучивал наизусть что угодно; брат Владимир был еще много способнее меня. Учили нас и географии, и помню, как я затвердил, что «путь Земли около Солнца называется землею обритою»; написано было «земною орбитою», но я, не понимая, переделал по-своему. Однако по всем предметам я знал больше всего из чтения книг.
Отец уже в Ейске, когда нам было по семь, по девять лет, выписал от Вольфа довольно большую библиотечку по всем отраслям знаний. Тут были и Бюффон, и «Любопытные явления природы», и химия, и «История» Устрялова, и «История» Берта, и очень хорошие карты всех частей света и России, и очень подробная Священная История с картинками и т. д. и т. д. Была тут также и «Библиотека для воспитания» Редькина. Кроме того, отец выписал журналы «Вокруг света», тогда очень хороший, и «Природа и землеведение». Вообще у нас составилась разнообразная, умно подобранная библиотека. В ней недоставало русской Библии, вместо которой Вольф прислал французскую. Но хотя нас учили по-французски и мы знали несколько ходячих разговорных фраз, однако читать французские книги никто из нас не мог. Для мамы были выписаны французские журналы; «Семейное обозрение» и еще какой-то. Очень нескоро впоследствии я и их научился читать с пятого на десятое. Но в русские книги мы все были погружены по уши, чрезмерно, читали взасос и рано перешли к повестям и романам. И отец, и мать относились к книгам с преувеличенным доверием и полагали, что никакая книга не повредит, что хорошее останется, а дурное само отскочит. Они не знали еще, как могуча книга в прививке именно дурного и как много она подорвет из того, что выращивало в нас их воспитание. А впрочем, лично у меня то, что они засеивали, не погибло и готом неудержимо снова поднялось в душе, сбрасывая все наносное, казалось, совсем было овладевшее ею.
Однако я ушел слишком далеко от того времени, когда мы прибыли в Ейск.
Из колоний мы приехали на совсем уже готовую квартиру. Вероятно, ее подготовил отец, отправляясь за нами в Грунау. Эта квартира составляла особняк во владении мещанина Морева, который и сам тут жил в другом доме. Мы же занимали целый наш особняк с большим двором, в конце которого находились наша кухня и сараи. От кухни до дома вела дорожка, вымощенная кирпичом, и по ней целый день бегали из дома на кухню и обратно. В те времена кухни редко находились при самой квартире, но большей частью в особом домике, иногда довольно далеко. Видно, тогда не очень-то боялись простуды, но зато избегали кухонного чада и дыма. Кухня эта была очень обширная, и при ней находилась особая комната для Алексея Гайдученко и Аграфены, при которых жил и их единственный сын Яшка, то есть Яков. Иван жил, помнится, в самой кухне. Кроме того, у нас тогда были и горничные, сменявшиеся довольно часто. Помимо двух денщиков, у отца был еще сменный вестовой. Одно время, только позднее, уже на другой квартире, у нас жила и сестра Наташи, Люба, со своей дочерью Настей, нашей сверстницей. Не помню, в чем состояла служба Любы. Кажется, больше по части разного домашнего шитья и рукоделия. В общей сложности жилище наше было достаточно набито народом. Везде было шумно и весело, и, кажется, все жили дружно. По крайней мере, не помню особенных ссор.
В сарае стояли лошади, которых у нас всегда было несколько. Тут же находилась и Лыска Алексея, молоденький подросточек-кобылка. Он ее выращивал на продажу. Коровы в Ейске мы не держали. Была только коза Машка, молоко которой требовалось для сестры, довольно болезненной в детстве. Разумеется, у нас держали много птицы — кур, индюшек, уток. Держали всегда и свиней. Часть двора была отгорожена плетнем под огород, в котором мама выращивала цветы да разную легкую овощ для летнего употребления: редиску, салат и т. п. Было в этом огороде и несколько кустов смородины. Ее очень любила наша маленькая Маша, хотя ей не позволяли рвать ягод из опасения, чтобы не наелась зеленых. «Титяс плиду», — говорила она маме, сидевшей тут же, на огороде, и скрывалась в кустах, чтобы сорвать украдкой несколько ягод. Мать прекрасно знала ее уловки и улыбалась, слыша это «титяс плиду», но, чтобы не огорчать малютку, давала ей свободу на две-три минуты. Я на огороде облюбовал другое местечко — какую-то высокую кучу земли, густо обросшую дерном. «Пойду на губорчик (бугорчик)», — говорил я, стоял на нем и скатывался с него. Огород этот, впрочем, был очень невелик и только самым маленьким детям давал достаточно места для игры.
Года через два мы переменили квартиру и перебрались в гораздо больший дом с огромным двором, на котором наши родители отвели и порядочный кусок под огород. Здесь нам уже было гораздо привольнее, тем более что двор был очень чистый, заросший веселой, зеленой муравой. А в огороде Володя, в то время уже большой мальчик, устроил на удивление нам, младшим детям, беседку, казавшуюся нам чудом строительного искусства. Он врыл высокие колья, прибил к ним поперечные доски и все покрыл переплетом из тонких дранин. Не помню, долго ли простояла наша беседка, но удовольствия она нам доставила много. Володя был у нас вообще большой искусник и научился делать даже бенгальский огонь. Нечего уж и говорить о бумажных змеях, которые он делал артистически и которые было очень удобно пускать в нашем дворе.
На этой квартире мы жили вплоть до того времени, как совсем уехали из Ейска.
Само собою разумеется, что в Ейске наша семья, в противоположность замкнутой жизни в Грунау, быстро перезнакомилась со всем городом. Отца все любили, уважали и дорожили им, как врачом одинаково искусным и бескорыстным. На служебные занятия у него выходило много времени. Военный госпиталь был расположен за городом, довольно далеко от нас, и отец ездил туда верхом. У нас был хороший верховой конь, Черкес, белый как снег, крупный, красивый и хороший бегун, казачьей выучки, то есть иноходью не умел ходить, но «ходью» шел быстро и спокойно. В упряжь его никогда не пускали, на то были две другие лошади. Экипажей у нас было тоже два: дрожки, на висячих рессорах, и дроги, хорошо устланные сеном и покрытые ковром, но без подножек. Дрожки, по тому времени очень приличные, служили для пути по городу; дроги — для загородных прогулок, довольно частых у нас. Для экипажа на висячих рессорах нужна гладкая дорога, иначе он рискует опрокинуться. А нынешние, лежачие рессоры тогда еще только появлялись на свет. В Ейске, кажется, их и совсем не было. Конечно, дрожки были с верхом и фартуком, так что дождя не боялись.
Хотя отец и много занимался в госпитале, много времени уходило на врачебную практику, но все же оставалось достаточно времени и на общественную жизнь. Мама, умная, интересная, умевшая и приодеться, поддерживала знакомства и все светские обязанности больше, чем отец. Она тогда еще даже немного танцевала. Они с отцом ездили изредка и в клуб, точнее, в Собрание, как это называлось. Больших приемов у себя мы не делали, и бесконечные вереницы визитеров обивали наши пороги только на Новый год и на Пасху. Но все же гости подчас собирались по вечерам, иногда и обедали, больше в именинные дни. Со своей стороны, и наши бывали и на вечерах, и на обедах. Они, конечно, перезнакомились со всем городом. Мы тут встретили и старых геленджикских друзей — Гавриила Степановича Рудковского с его женой Олимпиадой Дмитриевной и детьми, а также моего крестного отца Ольшанского. Из местных жителей мне вспоминается семья Худобашевых. Сам глава семьи, Аким Степанович, был полицмейстер, главный начальник города. Он, кажется, был большой взяточник, но человек ласковый и любезный. Его дом мне представлялся необычайно роскошным, и действительно, Худобашев воздвиг себе хотя одноэтажные, но просторные хоромы. Были у него и большие залы для танцев. Меня особенно занимали окна с цветными стеклами, а наших — как и многих в городе — бани Худобашевых. В городе порядочных бань не было, а у Худобашевых — устроены прекрасно, и радушные хозяева охотно предоставляли их в пользование знакомым. Наша семья часто в них мылась. Знакомство с Худобашевыми поддерживалось тем охотнее, что их дети, Коля и Степа, были моими сверстниками. Для Володи они были маловаты. Его главными приятелями были Митя Рудковский и Митя Пестов, из семьи доктора Бергау, начальника моего отца. Сам Бергау был, помнится, довольно противный, вечно жалующийся на болезни, скучный и нелюбезный. Но он был женат на вдове Пестова, которая имела двух сыновей — Порфирия, бывшего уже студентом, и Дмитрия, учившегося в Ейском уездном училище. Это был очень хороший мальчик, хотя несколько старше Володи. С Бергау наши по обязанности поддерживали знакомство, но, к их удовольствию, Бергау не любили принимать и жили уединенно. С Митей же Пестовым мы виделись, тем более что его очень любила моя мама, жалевшая его за безрадостную жизнь у строгого и сухосердечного отчима. Я смотрел на Митю в молчаливом почтении, особенно поражало меня то, что он хорошо стрелял и ходил на охоту. Он был очень способен, но его жизнь сложилась неудачно и безрадостно. Он мог окончить только курс уездного училища и пошел на военную службу. Как военный, он по храбрости и сообразительности был на очень хорошем счету, но скоро явилось требование образования, так что он остался навеки в низших офицерских чинах. Впоследствии он как-то заходил, по старой памяти, к маме, в Новороссийске. Жил он бедно, одиноко, даже не женился и хотя подбадривал себя, но вряд ли был счастлив. А впрочем, как знать, кто на свете счастлив?
Из-за Мити, моего идеала, я охотно ходил к Бергау, когда меня брали. Но вот где было раздолье — это у Трандофиловых. Это было богатое греческое семейство, купцы. Жили они почти роскошно и имели единственного сына, Колю. Это был балбес, жирный, обрюзгший, низколобый, почти идиот лет шестнадцати; учиться он не мог, но Трандофиловы в нем души не чаяли и не знали, как только ублаготворить своего несчастного, природой обиженного сынка. Он имел особую комнату, прекрасно обставленную и битком набитую всякими затейливыми игрушками. Чего у него только не было! И панорама, и тир, и всякие самострелы. Он охотно позволял играть всеми этими драгоценностями, из-за чего я, конечно, и любил ходить к Трандофиловым. Однажды Коля устроил целое представление разных фокусов, на которое была приглашена целая куча знакомых. Фокусы — это было, кажется, единственное занятие, в котором он проявлял некоторые способности.
А у нас дома было очень мало покупных игрушек. Мы большей частью готовили их сами: лепили всевозможные фигурки из глины, вырезывали из бумаги, устраивали стада свиней из картофелин, в которые втыкали палочки вместо ног, и т. д. Сами же устраивали мы себе духовые ружья из бузины, стрелявшие жеваной бумагой, луки и стрелы и т. д. Луки наши были такие сильные, что я раз чуть не выбил глаз у сестры. К счастью, стрела вонзилась ниже глаза, но сделала порядочную рану. Сами же делали разные дудки из камыша. Учителями нашими во всем этом игрушечном производстве были денщики и Яшка, брат же Володя быстро усваивал и усовершенствовал всякую идею по этой части. Вспоминая наши игры, я думаю, что отец с матерью поступали очень умно, не заваливая нас игрушками и приводя нас к самодельному их производству. Мы на этом очень развивали и свое соображение, и художественную фантазию. Мы, например, выдалбливали корабли из мягкого дерева «барбелки» (которое употреблялось для рыбачьих сетей) и оснащивали их очень искусно в виде шхун, бригов, корветов, сообразно этому делая и рангоут. Отец, хорошо знавший устройство судов, помогал нам советами. А лучшие кораблики долбили все-таки денщики. Таким образом, наши игрушки были вдесятеро более разнообразны, чем у Коли Трандофилова, с тем еще преимуществом, что их не жалко было ломать, играя, например, и морское сражение или в охоту на диких зверей. Мы не игру приспособляли к игрушкам, а игрушки делали сообразно тому, во что приходила фантазия играть.
Но самое веселое время составляли праздники — Рождество, Пасха, Троица. Особенно интересно проходили рождественские праздники. Само собою, у нас в семье и постились, и в церковь ходили, но правду сказать, к церковной молитве не были уж чересчур усердны. Может быть, потому, что церковь была далеко. Священник, которого я помню и с которым мы были знакомы домами, отец Павел Ярошевич, был из образованных и интересный в разговоре. На квартире его помню очень любопытные вещи, как деревянную модель Иерусалимского храма, но совсем не помню его «пастырской» деятельности. Помню его больше по разным бывшим с ним приключениям. Один раз зимой, во время поездки куда-то, он обрушился в занесенный снегом глубокий овраг и едва не погиб в нем. Выбраться было невозможно, и он уже готовился к смерти, но выручили какие-то проезжие. Другой раз на его квартиру нагрянули грабители, привлеченные слухами о том, что у него много денег. Отец Павел мужественно вступил с ними в борьбу, но уже совсем изнемогал, когда проснулся от шума его сын Виктор, студент, здоровый малый. Он бросился на помощь отцу и, схватив стул, стал изо всей силы колотить этим оружием разбойников. Эта диверсия ошеломила их, а когда проснувшиеся домочадцы подняли крик на всю улицу, грабители обратились в бегство. «Видите, какой счастливый Витя Ярошевич, — говорила нам по этому поводу мама, — много ли найдется таких сыновей, которые спасли отца от смерти!» Но собственно церковных служб в Ейске я совсем не помню: видно, редко меня водили. Дома, конечно, духовенство являлось когда полагается, с крестом и молитвой. Было это и на рождественских праздниках несколько раз и придавало этим дням особую торжественность. Отец ходил и в церковь, мама же стала очень усердна к храму только тогда, когда дети совсем подросли. Во вторую половину жизни она постоянно посещала церковные службы, но малые дети связывали ей руки. Вообще же на молитву у нас в семье обращали большое внимание. Все, в том числе дети, молились и утром, и на ночь. Читали молитву перед обедом и перед уроками. Нас учили, как и за кого молиться. Мама часто рассказывала нам о Спасителе, иногда даже о святых, из которых она знала немногих, потому что житий святых у нас не было. Вообще тогда в наших местах религиозные книги трудно было достать.
К Рождеству бытовые приготовления начинались рано. Кололи кабана, обшмаливали его, заготовляли окорока, делали всех сортов колбасы. Мы, дети, ужасно любили смотреть на все эти операции. Обшмаливаемый кабан распространял на свежем воздухе чудный запах, по крайней мере, нам он казался приятным. Резали также кур и поросенка. Но все эти скоромные снеди употреблялись только с 25 декабря. Сочельник был еще постный день, и ужин для него имел особый характер. Готовили кутью, варили взвар. Кутья была пшеничная с разными приправами, хотя далеко не такая вкусная, какую мне пришлось есть в Керчи и вообще там, где царствует греческая кухня. Для взвара непременно нужны были мелкая сушеная груша и чернослив. Готовили еще превкусные коржики — засушенные ломтики пресного теста, густо политые толченым маком и маковым молоком с сахаром. Было также что-нибудь рыбное. Вечером, по мере того как жители кончали эту праздничную пищу, по всем улицам начинали слышаться как бы выстрелы — удары поленом или дрючком в ворота. В старину был обычай стрелять после ужина, но потом, когда уже и ружья повывелись у всех, выстрелы заменили стуком в ворота. Такой же стол был и под Крещение, на «голодную кутью». Она называлась «голодной» потому, что обязательно было весь крешенский сочельник ничего не есть «до звезды», до позднего вечера. В крещенский сочельник, сверх того, на посуде с кутьей и взваром ставили мелом крестики, а также делали их на всех дверях и окнах. Причина такого обычая состояла в том, что на Крещение бесы убегают из воды и прячутся, где только найдут убежище. Вот именно для того, чтобы не допустить их нашествия, и делали эти крестики.
В те времена на рождественские праздники еще повсюду колядовали. Парни и девушки большими группами ходили по всем домам и пели колядные песни, а им за это давали в торбы колбасы или какой-нибудь хлеб и т. п. Даже и наша прислуга приходила к нам колядовать. Но, по-видимому, народ уже забывал колядные песни — наследие язычества, потому что они какие-то бессмысленные. Я через это никогда, ни в Ейске, ни в Темрюке, не мог их запомнить, хотя мотив и до сих пор прекрасно помню. В одной колядке воспевалась какая-то Маланья, которая мыла фартук и почему-то плакала:
Наша Маланья стояла Горькие слезы роняла, —и обращалась к разным стихиям:
«Повий, витер, из болота, Высуши фартук краше злота...»Такие же отрывочки помню из щедровок, восхвалявших «щедрый вечир, добрый вечир». Из двух вечеров с кутьей — один «голодный», а другой «щедрый». Приходит даже в голову: не назывался ли прежде вечер — «колядный», а потом его переделали в «голодный», забывши смысл слова «коляда»? Из щедровок помню тоже только отрывочек:
Щедрик-ведрик, Дайте вареник, Грудочку кашки, Кильце кивбаски...Но если и колядки, и щедровки в нынешнем виде не могут заинтересовать ни поющих, ни слушающих, то все же эти вечера очень веселы: шляющаяся толпа, разные шутки, остроты, своего рода состязание, кто больше наколядует, ухаживание за девушками — вообще, всеобщее оживление так неудержимо захватывает, что эти вечера вспоминаются в светлом ореоле всю жизнь.
На рождественские праздники какая-нибудь группа школяров всегда ходила по домам с «вертепом». Это был большой вращающийся фонарь из бумаги, на котором был изображен в красках вертеп, где родился Христос, и бегство в Египет; Божия Матерь с Младенцем на осле, а Иосиф — идущий рядом пешком. Вращение фонаря придавало вид движения убегающей группе. Разумеется, носителям вертепа давали разные праздничные припасы или деньги.
В эти же праздники появлялись на улице и ряженые. Те ряженые, которых я видел, изображали зверей. Наряжался кто-нибудь в вывороченный тулуп, шерстью вверх, и шел на четвереньках, рыча и бросаясь на публику, которая хохотала и разбегалась, притворяясь испуганной. Масок совсем не помню у народа.
Разумеется, тут же шли всевозможные гадания: с зеркалом, с петухом, со швырянием за ворота башмака и т. д. Самое страшное гадание происходило с зеркалом в бане, которая считается жилищем домового, а также и бесов, в христианской интерпретации прежних семейных духов (домовой, чур, дедушка).
Ну, гаданий у нас в семье не одобряли, так что о них я каждый год слышал только множество страшных рассказов от прислуги, а в семье никто не гадал, кроме как на картах и на «Соломоне». [22]
На Новый год был еще обычай ходить по домам и обсыпать всех присутствующих пшеницей и другим зерном, приговаривая пожелания, чтобы Бог так осыпал нас урожаем. Помню, как-то довольно рано утром вошла прислуга в детскую спальню, когда мы еще лежали в постелях, и осыпала нас горстями пшеницы, приговаривая: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Вся комната была усыпана зернами.
Устраивалась у нас на Рождество и елка, но никак не в сочельник — день постный, не допускающий таких развлечений. О елке нечего и говорить — была такая же, как всегда, и тоже с подарками для детей. Только у нас она устраивалась довольно скромно.
Веселы были рождественские праздники, но ничто не сравнится с торжественными впечатлениями Пасхи. Беспрерывный колокольный звон, иллюминация под Светлую заутреню, бесчисленные визиты и посещения знакомых. Тогда христосовались все, даже барышни. И на улицах несколько дней, бывало, видишь на каждом шагу целующихся: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Большинство народа немножко подвыпивши, было, конечно, множество и совсем пьяных. Впрочем, на Пасху все так объедались, что нужно было уж чересчур много выпить для того, чтобы опьянеть совсем. Правда, бывали артисты... Один солдат весь Великий пост не пил ни капли и сберегал свою ежедневную порцию. Когда наступил праздник, он сразу все выпил — и умер от такого невероятного приема спирта. Ну, это, конечно, случай исключительный. А вообще-то были только дни веселья и всеобщего благодушия — при торжественном, приподнятом настроении, при сознании, что на Пасху грех ссориться и враждовать. Сверх того, все были сыты, у всех было запасено вкусное и обильное продовольствие, у всех были отброшены всякие заботы о завтрашнем дне. Это светлое и беззаботное настроение и придавало такую прелесть пасхальным праздникам.
У нас дома также заготовлялись груды всяких съедобных вещей. На Юге то, что в Центральной России называется пасхой, именуется сырной пасхой. Пасхой же называют то, что здесь именуется бабой, — высокий хлеб. Низкие хлебы называются куличами. И пасхи, и куличи готовились из сдобного теста с разными приправами и всячески разукрашивались. Особенную гордость хозяйки составляли пасхи. Их изготовляли из особенно сладкого теста с примесью шафрана и кардамона, так что они были желтого цвета. Пекли их в особенных бумажных формах, чем выше, тем лучше, хоть бы в аршин, лишь бы пасха не перегибалась, а стояла ровно. Ее верхушку покрывали сахарной глазурью (толченый сахар с белком), в которую, пока она была еще жидкой, вставляли разнообразные круглые шарики-конфекты. Они приставали к глазури прочно. Поверх же всего втыкали искусственные цветы, а иногда ставили сахарного барашка. Все это было очень вкусно и красиво. Куличи делались менее затейливо и не такие сладкие. Этих пасох и куличей пекли штук десять, для своего стола и для прислуги, их было так много, что за всю Пасху невозможно было съесть, и недоеденные пасхи потом разрезывались и высушивались в виде кренделей. Сырную пасху готовили из творога с огромным количеством коровьего масла, сахара и всяких приправ: корицы, мелко изрубленных засахаренных фруктов и т. п. Изготовление сырных пасох было обязанностью отца Задача состояла в том, чтобы весь сок хорошо вытек из творога и он был возможно более сух. Для этого творог в деревянных формах держали несколько дней под прессом. Готовили их также несколько штук и ели всю неделю. Пасхи и куличи готовила мама при деятельном участии Аграфены, которая знала тесто гораздо лучше нее. Пасхи у нас выходили очень хорошие, хотя им далеко было до произведений первостатейных хозяек вроде Олимпиады Дмитриевны Дудковской. Яиц у нас красили бесчисленное множество, большую часть просто сандалом, десятка же три делали мраморными. Великим постом мама и мы надергивали из разнообразных шелковых лоскутков нечто вроде корпии и этими кусочками ниток обматывали потом яйца и варили. Нитки раскрашивали их совершенно мраморными жилками. Не могу понять, как могли люди съедать безвредно такое огромное количество яиц, но их съедали... Кроме еды, они служили и для игры, во-первых, в битки, во-вторых, для катания. Игра в битки состояла в том, что яйца били носик об носик, и кто разбивал чужое яйцо — выигрывал его. Крепкие яйца — «битки» — очень ценились детьми. Впрочем, в битки играли и взрослые. Катание же яиц состояло в том, что играющие расставляли ряд яиц, а против них устраивали горку или деревянный желобок и скатывали свое яйцо. Если оно выбивало яйцо из ряда — катавший выигрывал его.
Для игры в битки некоторые мошенничали: выпустив в несваренном яйце и желток, и белок, наливали его воском и потом уже красили. Разумеется, такое фальсифицированное яйцо разбивало все прочие. Но за такими проделками дети зорко следили, и фальшивый биток совершенно отнимался у виновного.
Визиты на Пасху происходили больше всего на второй и на третий день. Гости, конечно, приглашались закусить и выпить на пасхальном столе. А стол этот накрывался роскошно и стоял целую неделю. Он был весь заставлен пасхами, сырными пасхами, куличами, яйцами, окороком, колбасами, жареной птицей, особенно индейками, батареей вин. Гость обязательно должен был перепробовать всего, похвалив пасху и хозяйку за ее искусство. И хотя волей-неволей целая сотня человек ела с пасхального стола, но обилие заготовленной пищи было таково, что дня два-три на кухне ничего не готовили, кроме бульона, которым за обедом запивались все эти яства.
Третий веселый праздник составляла Троица. К нему весь дом превращался в сад. Множество нарубленных веток и целых деревьев декорировали все комнаты, а полы густо устилались свежескошенной травой вершка на два и больше. Свежий запах листа, травы и цветов наполнял весь дом целых три дня. Удивляюсь, как у нас ночью не болела голова от этих благоуханий.
Трудно выразить, как украшал детскую жизнь весь этот церковно-религиозный быт, хотя бы и с примесью «фольклора», как много светлых лучей сияло в нем даже для самого бедного, заброшенного ребенка. Что же сказать о нас, окруженных попечением таких добрых отца и матери. Прошло с тех пор более полстолетия, а воспоминания детских праздничных дней радужными цветами переливаются и до сих пор в моем стариковском воображении.
VIII
За ейскую жизнь у меня сохранилось и два очень подавляющих впечатления. Одно было произведено страшным пожаром торговых рядов. Мы тогда жили в Мореве, и ряды были далеко от нас. Но дым пожара застилал четверть горизонта. Неперестающий набат бил прямо в сердце. Народ был в ужасе, никто не мог знать, не охватит ли пожар весь город. Наша прислуга бегала к пылающим рядам, возвращалась и с искаженными чертами лица сообщала, что там делается. Эта общая паника охватила и меня. Я сидел в каком-то подавленном трепете, и пережитые за несколько часов ощущения оставили на много лет на мне свои следы. Много лет я испытывал тот же томительный ужас при звуке набата, при одном слове «пожар». В Ейске бедствие, впрочем, ограничилось истреблением чуть ли не всех рядов. Дальше пожар не пустили.
Очень сходные чувства возбудила во мне и комета. Не знаю, какая это была комета (приблизительно 1857–1858 годы), но отлично ее помню. Зрелище было величественное и страшное. Комета в длину охватывала три четверти неба, с очень широким хвостом какого-то желтого цвета. Народ был перепуган, но и образованный слой тревожно толковал, что комета небывало близко подошла к Земле и — как знать? — возможно столкновение, страшная мировая катастрофа. Эти общие тревожные настроения невольно охватывали меня тоской и трепетом...
Замечательно, как отражаются на детях настроения взрослых. Уж, кажется, что страшнее грозы, а я ее нисколько не боялся, конечно, потому, что не видел страха перед ней вокруг себя. Мама, собственно, побаивалась ее, но не до такого ужаса, как многие женщины. Отец же прямо любил грозу. Когда гремели потрясающие раскаты грома, когда молнии били вокруг сверкающими извивами, он всегда выходил куда-нибудь на галерею или под навес и любовался этой картиной. «Молнии нечего бояться, — говорил он, — она может убить, но от этого уберечься нельзя, а случается это чрезвычайно редко». Точно так же я долго не боялся моря и вообще воды, потому что этого страха не было у него. Только очень нескоро, когда я чуть не утонул в Москве-реке, у меня явилась боязнь воды.
В Ейске мы часто ездили за город гулять. Иногда и пешком ходили. И папа, и мама это очень любили. Бывало, запрягут наши дроги, запасутся провизией, захватят зонтики — и едем всей семьей куда-нибудь на берег моря или бухты или в степь.
Один раз, гуляя пешком, зашли мы на хутор казачьего офицера Литевского, под самым городом, которому он продал большую часть своих «степов». У него остались, однако, огромные сады и его дом — типичный казачий дом. Большое низенькое здание, бревенчатое, обшитое тесом, оно было окрашено снаружи в какой-то серый или от времени потемневший цвет. Комнат много, просторные, но все очень низкие. На дверях нарисован масляной краской казак чуть не в натуральную величину, тоже порядочно потемневший. Но сады были роскошные, огромные яблони, должно быть, имели много лет, но были еще в полной силе. Этот фруктовый сад тянулся на большое протяжение, а дальше его начинался сад не фруктовый, еще более обширный, с высочайшими толстыми деревами. Все это глядело, однако, довольно пустынно. Незаметно было никакой работы, не видно было людей, все безмолвно и скучновато. Правда, Литевские были из уже беднеющих казачьих «панов». Впоследствии мне пришлось быть на хуторе одного простого, но богатого казака. Там жизнь била ключом. А комнаты были такие же большие. Казаки любят простор. Передняя горница смотрится чуть ли не залой. В образном углу стоял большой стол, чисто накрытый, со скамейками около него. Казачьи дома вообще очень чисты. Малорусы в целом резко отличаются от великорусов, нечувствительных ни к простору, ни к чистоте.
Больше всего мы любили бывать на море. Азовское море в этих местах своеобразно красиво. Там, где обрыв берегов не доходит до воды, от этого крутого склона до моря тянется низкое-пренизкое обширное пространство, похожее на обнаженное дно моря. Грунт чисто песчаный, со множеством двустворчатых ракушек, иногда очень затейливых форм. Попадаются чисто черного блестящего цвета. Мы их особенно любили собирать. Это песчаное пространство почти незаметно погружается в море, тоже очень мелкое. Вообще северная часть Азовского моря очень мелка. Путь парохода, поддерживающего сообщение от устья Дона до Таганрога, обозначен просто крепкими дрючками, вбитыми в дно. В Ейской гимназии был очень высокий учитель, Бергер. Так гимназисты зубоскалили, что Бергер может дойти вброд от Ейска до Таганрога. Шутка, не очень преувеличивающая действительность. Пароход в Ейске останавливается так далеко, что едва виден с берега.
Здесь на море находились мойки шерсти. Мы их осматривали. Это были плоты со множеством прорезанных в них люков, около которых сидели женщины с кучами овечьей шерсти. Они брали ее, опускали в воду, полоскали и откладывали. На таком мелководье не было опасности, чтобы шерсть затонула, если женщина случайно выпустит ее из рук. Тут же поблизости находился рыбный завод богатого купца Грибанова, куда мы также заходили. Он изготовлял больше балыки. Заведение это немудрящее. После просола туши красной рыбы просто развешиваются на горячем солнце и провяливаются. С них все время стекают на землю словно янтарные прозрачные капли жира. Отец лечил семью Грибановых, почему купец был очень любезен и подносил ему в подарок превосходные балыки, которые мы тут же пробовали. В лавках и за большую цену не достанешь такого вкусного балыка, потому что в лавках он во всяком случае сохнет и твердеет, а тут, прямо снятый со своей подвески, он чрезвычайно нежен и мягок.
Азовское море и теперь богато превосходной рыбой, а тогда было еще обильнее. Рыбачье население промышляет и летом, и зимой, когда море замерзает. Зимний промысел даже лучше летнего, но представляет большие опасности, если буря ломает льдины и уносит их вместе с ватагами рыбаков в море. Таким образом ежегодно погибает немало народу. Один знакомый казачий офицер, Кривцов, рассказывал, какого страху натерпелся он с компанией других охотников, когда, забравшись далеко в море, они были оторваны на огромной льдине. Тщетно ходили они взад и вперед, отыскивая, нельзя ли где перебраться на твердый лед. Вместе с ними попал в это бедствие и волк, но в минуты общей опасности ни он их не боялся, ни они его не стреляли. И он и они бегали, не обращая друг на друга внимания, занятые одной и той же мыслью: отыскать какой-нибудь выход из гибели. И волк именно спас людей. Охотники заметили, что он вдруг исчез, и догадались, что, вероятно, он скорее их нашел место, где льдина уперлась в берег. Стали внимательнее расследовать и действительно увидали, что в одном месте их плавучая тюрьма уткнулась в прибрежный лед. Разумеется, они поторопились воспользоваться этим, пока льдина не оторвалась снова.
Не помню, в 1858-м или в 1859 году у нас состоялась более серьезная прогулка, целое путешествие в Керчь, к Савицким. Андрей Павлович совсем обосновался в Керчи, где занял должность старшего врача в Карантине. Поселились же они на Воронцовской улице в доме Карчевских. Наши надумали их навестить. Путь предстоял морской, на пароходе Русского общества пароходства и торговли, тогда только что начавшего свои действия. Мы екали всей семьей, то есть, значит, с большим багажом. Когда мы прибыли на берег, то пароход еле-еле виднелся на горизонте. Это была «Ифигения». Все это огромное пространство нужно было проплыть на баркасе вместе с целой кучей других пассажиров, а багаж везли на других лодках. Мелководное море волновалось довольно сильно, и чем дальше на глубину, тем больше. Плыть нам пришлось что-то бесконечно долго, часа два, так что нас начало даже укачивать. Чтобы развлечь нас, отец обращал наше внимание на все окружающее: на волну, на чаек, на устройство нашего баркаса, который изнутри был обит толстым слоем пробки. Это должно было помешать ему затонуть в случае несчастья. Наконец «Ифигения» вырисовалась перед нами ясно. Еще немного, мы подошли и стали взбираться наверх по трапам. Нас, детей, подняли на руках. До сих пор я только играл в кораблики, теперь очутился на настоящем корабле и увидел воочию и фок-мачту, и грот-мачту, и бизань, хотя на пароходах все эти части рангоута были очень слабы, за ненадобностью. Зато машина пыхтела, и свистела, и обдавала жаром все окружающее. Бесчисленные колеса виднелись в ней, и непонятные еще для меня поршни, и множество других приборов. «Ифигения» была, собственно, невелика, но в то время считалась из крупных пароходов, а каюты убраны даже роскошно. Вообще, было где глазами разбежаться и внутри, и на палубе, где неутомимая лебедка нагружала трюм. Скоро по водворении нашем «Ифигения» тронулась в путь, и я впервые увидел безбрежное море, которого, конечно, не помнил по той поездке, когда мы убегали в Мариуполь на судне Куковало.
Переезд наш был благоприятен, и только в Керченском проливе нас порядком потрепала буря. Тут мы даже подвергались опасности, о которой нам, конечно, никто не сообщил. Дело в том, что волны были очень велики, а пролив очень мелок, и «Ифигения» два раза стукнулась о дно моря. Капитан, который быстро сошелся с отцом, стоявшим с ним на рубке, обратил его внимание на эти тревожные толчки. «Если это будет повторяться, — заметил он, — да если волны будут расходиться еще сильнее, то, пожалуй, дно „Ифигении“ может треснуть». Но мы ничего этого и не подозревали.
Разумеется, Савицкие встретили нас с распростертыми объятиями. Мы, дети, впервые познакомились сознательно с двоюродными сестрами. Тогда у Савицких один сын уже умер, а другой, Коля, еще не родился. Дочерей было четверо: Леля, Маша, Лида и Соня, еще очень маленькая. Савицкие привезли с собой из Нежина и сестру Андрея Павловича, Александру Павловну, которая у них заведовала всем хозяйством и была действительно образцовая хозяйка. Детей она, старая девица, очень любила и баловала. Мы все очень охотно заглядывали к ней в обширную кладовую, в которой у нее всегда находилось какое-нибудь лакомое угощение для детей. Особенно баловала она из своих детей Марусю, а из наших Володю. С кузинами мы быстро подружились, и некоторое время нам жилось в Керчи очень весело. У Савицких дом был просторный, двор большой, а сад даже огромный. Играть было где. Кроме того, Керчь и как город казалась столицей в сравнении с Ейском. Со времен генерал-губернаторства князя Воронцова приморские города, особенно градоначальства, сделались очень благоустроенны, пожалуй, получше, чем потом, при городском самоуправлении. В них сооружалось много даже бесполезно роскошного. Так, например, на горе Митридат, где никто и не жил, была устроена превосходная каменная лестница такой ширины, что по ней бы могла проходить целая толпа, а не только одинокие любители живописных видов. Нечего и говорить, что Керчь была сплошь очень хорошо вымощена, на всех улицах были прекрасные тротуары и фонари. Тогда только что явилась новость, которую Андрей Павлович не без гордости показывал отцу, — именно фонари с керосиновым освещением. Керосин, который называли фотогеном, только что явился на смену прежнего масла. Народ еще не умел правильно и назвать его и вместо «фотоген» говорил «светогон». Лавки керченские были также гораздо лучше ейских.
Однако наше пребывание у Савицких скоро омрачилось тем, что у детей появилась корь. Уже не знаю, кто из нас первый заболел, но перебрала она по очереди всех. Весь дом надолго превратился в больницу, и я совсем уже не помню, когда уехали мы восвояси. Может быть, отец уехал отдельно от нас на Темрюкские минеральные грязи.
Вообще, надежды отца на прочное устройство в Ейске, как я говорил выше, не оправдались. Совершенно спокойно он прожил всего год, когда исполнял должность главного доктора госпиталя. Но уже в 1857 году (10 июля) он был назначен старшим лекарем 20-го стрелкового батальона, продолжая жить в Ейске. Так дело шло до 1859 года, когда он получил командировку на Темрюкские лечебные грязи — 12 мая. С тех пор он два года регулярно то откомандировывался на Темрюкские грязи на летнее время, то возвращался к осени до весны в Ейск. Из Ейска в Темрюк тогда была и прямая дорога, наиболее короткая, но проселками, и почтовой гоньбы на ней не было. Почтовая же дорога шла из Ейска на Екатеринодар, а оттуда вдоль Кубани — в Темрюк. Это составляло крюк, почти вдвое удлиняющий дорогу. Но отцу, ездившему на перекладных, приходилось пользоваться этим путем. Таким образом он из конца в конец исколесил несколько раз все Черноморье, постоянно в сопровождении неизменного Алексея Гайдученко. Весь этот край он узнал очень хорошо, останавливался и по станицам, живал и в Екатеринодаре, выучился и свободно объясняться по-малорусски. Впрочем, он и раньше хорошо знал казаков и говорил «по-хохлацки». Немало насмотрелся он интересных вещей, каких в других местах не увидишь. Так, рассказывал он о казацком коневодстве и об обучении табунных лошадей. Теперь этого не увидишь, вероятно, во всем свете или по крайней мере в России.
Черноморские «паны» — казаки тогда напоминали пушкинского Кочубея.
Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы; Там табуны его коней Пасутся вольны, нехранимы...Так было и по Черноморью. Только нужно сказать не «его луга», а «его степь необозримы. Казачья „старшина“ захватывала войсковые „степа“ безбожно, нередко очень обездоливая рядовое казачество. В этих необозримых степях, покрытых роскошной травой, паслись табуны коней, числа которых не знал и сам хозяин. Лошади жили вольно, как дикие. Обязанность пастухов (чабанов) состояла только в том, чтобы следить за табунами и знать, где они находятся. Обязанности хозяина состояли в том, чтобы заготовить на зиму стога сена, около которых и питались кони, да еще устроить кое-где плетни, за которыми лошади могли несколько укрываться от снежных бурь. Во всем остальном лошади жили по своему усмотрению. Каждый табун распадался на множество „косяков“, то есть семейств, состоявших из жеребца и нескольких кобыл с жеребятами. Косяк так и держался около жеребца, который им управлял, водил на пастбище и на водопой, зубами и копытами строго наказывал за всякое неповиновение. Табун представлял нечто вроде лошадиного племени, у которого были кое-какие общие дела. Косяки соединялись для защиты от стай волков, строясь в круг, причем жеребята загонялись внутрь этого лошадиного каре, а жеребцы стояли вокруг, отражая хищников копытами, да и зубами, которые у них, пожалуй, пострашнее волчьих. Косяки соединялись также для защиты от снежных бурь, строясь таким же кругом, только при этом все лошади опускали головы вниз. Сходились табуны и около стогов заготовленного им сена. Впрочем, эти полудикие кони умели отрывать траву копытами и из-под снега. Так жили они, и рождаясь, и иногда умирая в вольной степи. Когда же хозяину требовались кони для себя или на продажу ремонтерам, в степь отправлялся опытный казак на лихом скакуне ловить их арканом. Немало приходилось ему бешено мчаться за каким-нибудь намеченным конем, прежде чем он успевал накинуть на него аркан и потом полу-задушенного тащить в неволю. Наловленных таким образом лошадей спутывали и помещали в конюшню, где они приучались понять, что без человека им невозможно ни поесть, ни воды напиться, приучались понять, что удары кнута очень больны и что в случае протеста аркан снова начнет душить за горло. Вместе с тем лошадей начинали объезжать. Отец лично видел это обучение, изумительное по бесстрашию и ловкости объездчика. Коня выводили на аркане, объездчик вскакивал на него, конечно без седла, с одним арканом. Конь, как только казак вскакивал на него, начинал неистово биться, подниматься на дыбы, старался кусаться и делал все усилия сбросить всадника. Но это оказывалось невозможно. Конь бросался на землю и начинал кататься по ней. Но казак моментально спрыгивал, а когда лошадь вскакивала на ноги, он в ту же секунду снова оказывался у ней на спине и все время хлестал ее. Она как бешеная пускалась во весь карьер и по дороге снова проделывала те же штуки: бросалась на землю и т. п. Но в этой неистовой скачке животное наконец изнемогало и падало бессильно, а неутомимый человек надевал на него узду, а когда лошадь могла снова шевелиться, направлял ее домой. С этой минуты, убедившись в непобедимости человека, лошадь сдавалась, и дальнейшее обучение шло сравнительно легко, хотя, конечно, порывы протеста еще и проявлялись от времени до времени. Понятно, что, испытывая наказание за всякий бунт, лошадь должна была видеть также внимание к себе и ласку, когда вела себя хорошо.
Темрюкские грязи я сам через несколько лет увидал. На их целебные свойства то возлагали преувеличенные надежды, то разочаровывались в них совсем, и летнее открытие лечения было нечто вроде пробы, на которую и гоняли отца три года. Он не умел ни интриговать, ни заискивать, и в то время, как другие устраивались на спокойных теплых местечках, его, с самого Геленджика, бросали в хвост и в гриву где понадобится, держа для этого вечно „исправляющим должность“. В 1861 году его оторвали и от Ейска, назначив опять-таки исправляющим должность главного лекаря Темрюкского военного госпиталя. Между тем в эти последние годы в Ейске назревало событие, которое особенно требовало бы присутствия отца. Володе пора была учиться, а в Ейске как раз собирались открыть гимназию. Собственно говоря, это не было открытие новой гимназии, а перевод из Екатеринодара Кубанской войсковой гимназии. Директор войсковой гимназии, Рендовский, терпеть не мог казаков и находил, что в Екатеринодаре, в самом центре казачества, невозможно порядочно поставить ни обучения, ни воспитания молодежи. Он воспользовался тем, что в Екатеринодаре помещения гимназии совершенно никуда не годились, и вступил с ейским городским управлением в такое соглашение, что если в Ейске выстроят хорошее помещение, то он добьется перевода туда гимназии из Екатеринодара до тех пор, пока войско не воздвигнет новых зданий для гимназии. Он думал, что этого никогда не будет, в чем ошибся: через несколько лет войско построило в Екатеринодаре очень хорошие помещения и взяло свою гимназию обратно. В Ейске же тогда была основана новая гимназия. Но как бы то ни было, ейское городское управление охотно ухватилось за предложение Рендовского, при осуществлении которого город получал даровую гимназию, ибо она содержалась на войсковые средства. Городу нужно было только построить дом, за что он и принялся со всей энергией. Дом этот находился как раз за забором нашей второй квартиры» так что мы два года наблюдали, как вырастало это здание от фундамента до второго этажа. Строили его быстро и, по тогдашней мерке, на широкую ногу. Приблизительно за год до нашего отъезда в Темрюк все было готово, и гимназия перебралась из Екатеринодара в Ейск. Не знаю, насколько ейскую атмосферу можно было считать более цивилизованной, чем екатеринодарская, но, несомненно, гимназисты-казаки были довольно грубоваты. В Екатеринодаре гимназия была войсковая, и воспитанники росли в той мысли, что они предназначены быть воинами. Они обучались и стрельбе, и фехтованию, и — очень усердно — гимнастике. Казачий идеал не исключал ни гульбы, ни пьянства, ни буйства, зато воспитанники старались быть молодцами-казаками. Однажды, когда Екатеринодару угрожало нападение черкесов, гимназисты были вооружены ружьями для отбития горцев, и, хотя нападения не состоялось, воспоминание об этом приведении гимназии на военную ногу осталось живо среди воспитанников, и они с гордостью рассказывали о нем. Форма гимназистов весьма отличалась от общегимназической. Воспитанники тогда носили черные сюртуки с золотыми пуговицами и красным воротником (в мундире — золотые галуны на воротнике и рукавах). У кубанцев сюртуки были темно-синие с серебряными пуговицами. Вся Ейская гимназия сплошь и преднамеренно говорила по-малорусски, и только на уроках отвечали на русском литературном языке. Вновь поступающие из великорусов, как мой брат и его товарищ Митя Рудковский, были принуждены очень скоро выучиться по-малорусски, иначе насмешки преследовали их повсюду. А по части остроумия хохлы не уступят русским. Рудковского, например, живо прозвали Руда Кошка (Желтая Кошка). Да неприятно и то, когда постоянно тычут в глаза слово «кацап» или «москаль», тем более что в те времена казаки по большей части говорили не просто «москаль», а «треклятый москаль». Поэтому иносословные гимназисты живо научались по-малорусски. Брат Володя стал говорить даже очень хорошо.
Впрочем, Рендовский был все-таки прав. Постепенно гражданская среда и великорусская атмосфера города вытравливали у воспитанников и казачьи вкусы, и малорусскую «мову». Если казачата дразнили иносословных, пока их было мало, то с умножением воспитанников из городских семейств равновесие сил приводило к равноправности языков. Учителя, между которыми не было, кажется, ни одного казака, тоже являлись русификаторским элементом. Малорусский язык у них употреблялся только для каких-нибудь комических анекдотов. Рассказывает, например, учитель, как один балбес зубрит урок: «Кир, Кир, победыв уси народи, уси народи...» Класс хохочет, но остается все-таки впечатление, что мало-русский язык служит для употребления балбесов.
Вообще, великороссы сочиняли о малороссах множество анекдотов, в которых «хохол» неизменно играет роль простачка или вовсе дурачка. Так, хохол будто приехал в город и ищет, где бы ему купить говядины. Заходит в галантерейный магазин и спрашивает: «А скажите, будьте ласкови, чи тутечки, чи оздечки продается мьясо говядина?» Его гонят в шею. Или: едет хохол на повозке, зацепился осью за верстовой столб и ворчит: «Ото ж трекляти москали понастувляли столбив, що й не пройдешь...» А то еще пьяный хохол заснул, вытянув ноги поперек дороги. Вор стащил с него сапоги, а тот все храпит. Вот едет ямщик и кричит: «Эй, хохол, прибери ноги, а то отдавлю». Пьяный открывает глаза, осматривается и говорит: «Изжай соби, це не мои ноги, мои були в чоботах...» Таких анекдотов множество. Но в них никогда не затрагивают казака, а насмехаются над хохлом-мужиком и над всем малороссийским. Под влиянием этих насмешек малоросс и сам приучается смотреть на свой родной элемент как на нечто низшее.
Но у малорусского элемента есть одно могучее орудие самозащиты, которым он даже покоряет себе великоруса, — это малорусская песня. Мне потом пришлось узнать оценку специалистов-музыкантов, которые находят, что великорусский мотив выше, сложнее и тоньше малорусского. Может быть. Но я знаю только то, что мало-русская песня очаровывает и покоряет сердца, так что ее перенимают сами великорусы. Лично я вырос на малорусской песне, знал не один десяток их. По Черноморью тогда сохранялось еще много «дум», которые также распевались хором казаков. Особенно популярна была дума о гетманах национальной борьбы:
Ой на гори та женци жнуть, А попид горою, Попил зеленою Козаки йдуть. А попереду Дорошенко Веде свое вийско, Хробро запоризке, Хорошенько. А посередине пан хорунжий, Пид ним кинь вороный, Пид ним кинь вороный, Сильный дуже. А позаду Сагайдачный, Що проминяв жинку На тютюн да люльку, Необачний. «Мени з жинкою не возиться, А тютюн да люлька Козаку в дорози Знадобиться».Хотя воспоминания о древних гетманах и жили на Кубани, но я не слыхал даже от брата из гимназии песен о «руйновойной» Сечи Запорожской. А по Малороссии еще поют такую думу. Она вспоминает, что запорожцы (одна их партия) хотели силой воспротивиться уничтожению Сечи.
Васюрченьский Козарлюга просит атамана:
«Дозволь, батько отамане, и с шаблями стати».Но атаман не позволяет. Тот возражает:
«Не дозволишь и с шаблями — дозволь с кулаками: Нехай слава козацькая на свити не гине».Но атаман (очевидно, Кальтишевский) решает иначе:
«Поидемо у столицю прохати царицю, Щоб виддала стипь та рики по першу границю».И вот поехали и, конечно, ничего не получили.
Тече ричка невеличка, размивае писки, Ой, поихов козак до царици, видтил прийшов пишки. Тече ричка невеличка, размывае кручи, Та й козаченьки вид царици йдучи. Ой, не гаразд, козаченьки, не гаразд зробили: Степь широкий, край веселый та занапастили.На Кубани я не слыхал этой думы. Вероятно, получивши не менее широкие «степа» и богатые рыбные ловли, переселенцы-казаки постепенно перестали горевать о Запорожье и примирились с новой долей
Но вообще о казачьей жизни, о походах и тому подобном поют много.
Засвистали козаченьки В поход з полуночи; Заплакала Марусенька Свои ясны очи.Мать казака тоже плачет и говорит сыну, чтобы он не заживался на чужбине:
«Чрез четыре недилоньки До дому вертайся».А он отвечает:
«Ой, я рад бы, матусенько, Скорише вернуться, Та вже кинь мой вороненький В воротах спиткнувся».Это значит — плохая примета. Общая грусть увеличивается, как вдруг казак весело объявляет:
«Не плачь, не плачь, Марусенька, В тугу не вдавайся, Заграв мий кинь вороненький, Мене дожидайся».Разумеется, на все лады воспевается ухаживание казаков за дивчинами:
Соньце низенько, вечир близенько, Выйди до мине, мое серденько. Ой выйди, выйди, не бийсь морозу, Я твои ниженьки в шапочку вложу.«Шапочка» эта была, без сомнения, громадная папаха, в которую можно закутать какие угодно «ниженьки».
Другой прельщает красавицу музыкой:
Ой пид гаем, гаем, гаем зелененьким, Там орала дивчинонька воликом чорненьким. Ой орала, ой орала, зачала гукати, Тай наняла козаченька на бандуре грати. Козаченько грае, бровами моргае, А черт его батьки знае, на що вин моргае? Чи на мои воли, ой чи на корови, Чи на мое било личко та на чорны брови?Прелестны то бойкие, то нежные мотивы этих песен беззаботной любви. Но Черноморье пело и о ее трагедиях.
Ой не ходи, Грицю, тай на вечорницю, Бо на вечорници дивки чаривницы. Котора дивчина чорни очи мае, То тая дивчина чарувати знае, —то есть настоящая, истинная чаровница.
Но Грицько не слушает предостережения, ходит по вечерницам, и вот совершается страшное дело. Девица
У недилю рано — зиллячко копала, А у понедильник переполоскала, Прийшов вивторок — зилля заварила, У середу рано Гриця отруила. Прийшов четверг — Гриценько вмер, Прийшла пьятниця — поховали Гриця.Но не удалось дивчине сохранить тайну своей мести.
А в субботу рано мати дочку била:
— Ой, нащо ты, доню, Гриця отруила? — Ой мати, мати, жаль вваги немае, [23] Нехай же Гриценько нас двох не кохае, Ой нехай не буде ни тий, ни мени, Нехай достанеться та сирий земли. Оце тоби, Грицю, такая расплата, С четырех дощок темненькая хата.Это очень старая песня, времен Гетманщины, составленная самой преступницей, которая славилась поэтическим даром. Она была приговорена к смерти, но гетман ее помиловал, мотивируя это тем, что она имеет чудный дар песнопения, а убийство совершила «од великия жали», то есть как бы под давлением неодолимого жгучего чувства, под влиянием аффекта, как сказали бы теперь. Все Черноморы; распевало эту песню, которой протяжный мотив превосходно передает все оттенки грустной любви, нежного сожаления и жгучей злобы оскорбленного чувства.
Это песнь древняя, привезенная казаками с отдаленной родины. Есть и более любопытные образчики связи Черноморья с днепровской украйной. Мне пришлось от брата слышать сатирическую песню о приключениях другого Грицька:
Був Грицко мудрый родом с Коломыи, Та учився добре на филозофии, Пьятнадцать лит Псалтирь мемрив, А на шестнадцатый выучив увись.Эта песня явно галицкая, так как нигде нет другой Коломыи, кроме Галиции. Сатира рассказывает, как Грицько, совсем одуревши от своей науки, громко декламировал по-латыни и перепугал этим свиней, которые разбежались. Старый отец освирепел:
Бачивши батько Грицькову причину — Черк его зараз за честну чуприну: «Оце тоби по латыни, Щоб не ганяв чужи свини».Но в Черноморье были не только старые песни. Создавались и новые, как «Ганзя». Ее сочинил бывший атаман войска генерал Кухаренко, как мне передавала его родная дочь, Анна Яковлевна Лыкова. Эта очень популярная песнь восхваляет красоты некоей Ганзи:
Ганзя рыбка, Ганзя птичка, Ганзя цаца, молодичка, Ганзя розовый квиточек, Брови тонки, як шнурочек.Я, впрочем, слишком заговорился о малорусской песне. Возвращаюсь к Ейску.
Расчеты Рендовского на то, чтобы отшлифовать своих питомцев по общерусскому фасону, до известной степени оправдались, но нужно сказать, что гимназисты из казаков все-таки остались верны своему родному языку. Отец довольно хорошо сошелся с Рендовским, которого русификаторские тенденции вполне одобрял. Из других же учителей мы познакомились еще с инспектором Ананием Даниловичем Пузыревским, который преподавал также историю. В то время, вероятно стараниями Рендовского, и в войсковой гимназии стало являться все больше учителей новой школы, которые старались заинтересовывать учеников, объяснять им смысл исторических событий и т. д. Но Ананий Данилович, хороший человек и умный инспектор, принадлежал к отживающим старым типам учителей. От учеников он больше всего требовал знания хронологии и сам славился как живой справочник всех годов каких бы то ни было исторических событий. Спроси его любой год — он сейчас скажет. Но гимназисты, проникавшиеся уже новым духом преподавания, относились к этакой учености уже насмешливо и обращались со справками к Ананию Даниловичу только в шутку. С другими учителями у нас не завязалось знакомств, потому что нам пришлось уезжать из Ейска.
Володю оставили в гимназий пансионером. В то время пансионеры платили за все содержание, костюм и учение всего сто двадцать рублей. Времена были дешевые. Митя Рудковский тоже отдан был в пансион, потому что Рудковские, по странной случайности, тоже переезжали туда же, куда и мы, — в Темрюк.
Отец, как я выше упомянул, был назначен исправляющим должность главного доктора в Темрюкский военный госпиталь. Рудковский же, служивший в таможне, был переведен на такое же таможенное место. Но ехали мы отдельно; я не знаю, кто двинулся в путь раньше.
Нам предстоял длинный путь, верст почти до трехсот, считая со всеми крюками и извилинами, хотя мы поехали не столбовой дорогой на Екатеринодар, а проселком, прямо на Темрюк. Сборы были большие. Нужно было взять очень много вещей, а стало быть, отобрать их и уложить. Двинулись целым маленьким караваном. Для нас, то есть для семейства, соорудили большой, прочный и -просторный фургон, разумеется крытый, внутри которого устроен был ящик для провизии и всяких вещей, служивший также и для сидения. Другой ящик находился под козлами кучера. Третий торчал сзади фургона, а в самом фургоне понаделано было несколько карманов. Все это было битком набито дорожными вещами. Под козлами кучера находился целый арсенал разных инструментов, которые могли понадобиться в дороге: топор, молоток, клещи, пилка, напильники и т. п. Приходилось думать о поломках экипажа. Нужно было иметь под руками все, что требовалось для починки. Дно фургона было набито сеном, сверху закрытым ковром. Кроме того, забрали целую груду подушек и одеял. Вообще устроились мягко и уютно, хотя в тесноте. Прочие вещи везли на нескольких возах, нанятых на весь переезд. Ехали мы не на почтовых лошадях, а на своих собственных и нанятых. Народу было много, считая возчиков и прислугу. Взяли мы с собой и нашего общего любимца — цепную собаку Орелку. Это был крупный пес, очень умный, который в Ейске соорудил себе целую квартиру: выкопал просторную яму, которая загибалась под землей, и тут прятался от дождя, зимнего мороза и летней жары, тут же сохранял разные свои драгоценности: кости, куски хлеба и т. п.
Не помню хорошенько, кто из прислуги отправился с нами. Кажется, Алексей и Аграфена с Яшкой. Иван в Ейске вышел в отставку и уехал на родину. Горничная осталась в Ейске, и семейство Гайдученко тоже скоро покинуло нас, но все-таки позднее — уже в Темрюке.
Сборы были долгие. Но наконец все кончается. Отслужили напутственный молебен, уселись, разместились, отец высунулся за парусиновое окошко, перекрестился и крикнул: «С Богом! Трогай!» Двинулись в путь.
Хотя нам, детям, и хорошо жилось в Ейске, но мы были ожив-ленны и радостны. Вся эта необычная обстановка, хлопоты, дорога в чистом поле увлекали нас, и мы все время смотрели в окна фургона, закатанные и поднятые кверху. Но в первый же день путешествия наше радостное настроение было испорчено судьбой бедного Орелки. Сильный и крепкий, он совсем не мог долго бежать, потому что вечно сидел на цепи, не привык бегать. Теперь он скоро подбил себе ноги, не мог идти, прямо ложился на землю. Пробовали класть его на воз, думая, что он отдохнет и побежит, но это не помогало. Что делать? Невозможно было везти на нагруженном возу все время такую крупную собаку, он даже падал с брезента; решили бросить его на дороге, пока от Ейска было еще недалеко и умный Орелка потихоньку мог туда добраться. Ну а такую хорошую собаку всякий охотно примет к себе. С большим сожалением оставили ему немного корма и поехали без него. Жалели о нем не одни дети, а все, но ничего другого нельзя было придумать.
А ровная черноземная степь тянулась вокруг необозримой гладью, на которую, сколько ни гляди, нельзя наглядеться. Странное дело — красота степи! Кажется, ничего нет, не на что смотреть — а не оторвешься. В насмешку над южанами сочинили анекдот, будто какой-то приезжий с Юга остался недоволен ландшафтом Центральной России, говорил: «Это что за виды! Вот у нас действительно виды: куда ни посмотри на все стороны — ничего не видно». Это шутка. Но безграничность, в которой как будто ничего не видно, имеет действительно чарующую прелесть. Она дает свободный полет воображению и тянет зрителя вдаль, обещая там что-то необычайное. Ничто не возбуждает сильнее ощущения вечности. Правду сказал Лермонтов:
И мысль о вечности, как великан, Ум человека поражает вдруг, Когда степей безбрежны океан Синеет пред глазами.Впрочем, в степи всегда найдется что посмотреть. Тонкие переливы окраски неба и земли на горизонте нигде не бывают более изящны. Тень от облака, на которую мы не обращаем внимания во всяком другом месте, пробегает по степи как странное живое существо. Ковыль при ветре колышется настоящими морскими волнами. Там и сям бегают вздымаемые вихрем миниатюрные смерчи пыли. И все это видно особенно отчетливо именно потому, что безбрежная пустыня ничего не скрывает, ничего не заслоняет.
На этом пути я впервые увидел кусты перекати-поля. У нас перед глазами иногда бежало их штук по пяти, по шести. Странное растение. Куст имеет вид совершенно шарообразный. Когда почва пересыхает, корешки перекати-поля отрываются от земли и куст начинает быстро катиться по воле ветра, бежит неустанно вдаль, пока не найдет сырого места. Тут его корни снова углубляются в почву и куст начинает расти лентовидно и неподвижно, пока и здесь не иссякнет влага. Мы без устали наблюдали эти катящиеся шары, производящие впечатление одушевленных существ. Но мы проезжали не одни гладкие степи. Одно время пришлось пересекать долину реки Бейсуга, заросшую камышом и высокими кустами. В этих чащах жили стаи фазанов, которые бесстрашно перебегали нашу дорогу в расстоянии каких-нибудь двадцати шагов. Время от времени отец останавливал караван, чтобы перекусить чего-нибудь и дать нам всем возможность размять закоченелые члены тела. Тогда мы гуляли по кустам, собирали ягоды и разные предметы, показавшиеся достопримечательными, какой-нибудь камешек или корень, рвали цветы. Провизия у нас была запасена обильная: жареные куры, пироги, ветчина и т. п. Для питья были заготовлены бутылки черного кофе с сахаром, потому что отец во избежание лихорадки не позволял пить воду. Иногда разводили костер и варили что-нибудь вроде кулеша с салом. Я не помню, где мы останавливались в жилых местах и где ночевали. Раз это было, кажется, в станице Полтавской, а потом на переправе через рукав Кубани на Коти, если не ошибаюсь. Ехали мы несколько дней. В степи, кажется, ни разу не ночевали. Останавливаться же для кормежки лошадей, да и для еды людей приходилось несколько раз в день. Мы, дети, разумеется, спали и в фургоне, на ходу, потому что уставали, да на вольном воздухе и дремота нападала сильнее.
В одном месте мы проезжали мимо больших кошар — овечьих загонов, сожженных пожаром. Тут погибло какое-то огромное количество овец, и безобразным черным пятном тянулись близ дороги кучи угольев, среди которых кое-где поднимались обгорелые столбы, не дотлевшие до конца. Среди пожарища виднелись местами сгоревшие, совершенно обуглившиеся овцы, как горные статуи — в неподвижной позе, на всех четырех ногах. Видно было, что несчастные животные не делали никакой попытки спастись и погибали в огне как парализованные. По этому поводу нам рассказывали, что овец совершенно невозможно было выгнать из загонов, хотя в каких-нибудь двухстах шагах, в степи, они были бы уже в полной безопасности. Они как будто оцепенели в гипнозе. Если бы удалось двинуть хоть передние ряды их, остальные так же безвольно двинулись бы за ними. Но этого в палящем жаре огня нельзя было достигнуть, и стада овец погорели, как поленья дров.
Дальше, уже, помнится, за Бейсугом, пришлось проезжать мимо соляных озер, совсем близко от берега. Я живо помню это любопытное зрелище. В полную летнюю жару озера представляли совершенно зимний вид. На большое пространство около берега они казались обмерзшими ледяным поясом, и только посредине плескалась вода. Это были отложения соли в неисчислимо громадных количествах. Тогда она, кажется, не добывалась здесь, и я не знаю, насколько хлористый натр в ней чист от примеси других, несъедобных солей.
В течение всего пути, особенно в долине Бейсуга, нас жестоко кусали по вечерам и ночам комары. С приближением к Кубани эта пытка достигла высшей степени. Но зато мы были у конца путешествия. Может быть, именно через комаров и захворала сестра, так как их укусы заражают болотной лихорадкой, хотя мама мне впоследствии говорила, что Маня распростулилась в дороге. Как бы то ни было, она в Темрюке прямо из фургона поступила в постель и что-то долго проболела.
Наша темрюкская квартира находилась в самом здании госпиталя, расположенного на самом краю города. Это был длинный одноэтажный дом с двумя флигелями по обеим сторонам. В одном флигеле и была квартира главного врача, довольно большая, Одна из комнат, служившая нам и гостиной, и столовой, была, помню, даже очень просторна. Во всяком случае, мы разместились в новом жилище довольно удобно.
Темрюк в сравнении с Ейском был довольно захолустный город. В нем не было даже уездного училища. Но он вел значительную торговлю, рыбный промысел был чрезвычайно богат. Город расположен на довольно возвышенной плоскости, спускающейся с двух сторон к огромным кубанским «плавням» — болотам. Громадный толстый камыш покрывает их, а кубанские протоки изрезывают плавни узкими полосами воды, доходящими до самого подножия плоскости, на которой стоит город. Сама Кубань, как известно, разделяется на два рукава, или гирла, из которых главный, сохраняющий название Кубань, впадает на так называемом Бугазе в Черное море, другой же рукав, гораздо менее значительный, впадает в Азовское море. Таким образом, река образует дельту, на которой находятся и Темрюк, и Тамань, и несколько станиц. Оба гирла Кубани обтекают Темрюк, но проходят около него в расстоянии двух-трех верст. Значительная часть кубанской дельты занята огромными лиманами, из которых самые большие Ахтаншовский и Курганский. Все они находятся в плавнях и до моря не доходят. В этих огромных водяных бассейнах и в сети кубанских протоков в то время кишели массы рыбы — и красной (севрюга), и белой (тарань). В настоящее время никто не может себе и представить того рыбного богатства, которое мы застали в Темрюке, а в старые времена оно было еще значительнее. Старики казаки при нас жаловались, что их реки оскудели рыбой. «Прежде, бывало, — говорили они, — пойдешь на речку, скинешь штаны, завяжешь их снизу, пройдешь таким мешком по воде — и штаны полны рыбой: хочешь — юшку вари, хочешь — жарь...» В наши времена такого обилия уже не было. Однако мама, бывало, посылала дроги на места ловли красной рыбы и давала денщику копеек десять-двадцать. За эти деньги рыбаки насыпали полные дроги превосходной крупной таранью, потому что они из сетей выбирали себе только красную рыбу и сомов, а тарань совсем выбрасывали либо в воду, либо просто на берегу. Себе они оставляли тарань только на обед да на ужин. Там же, где тарань ловили для вяления, ее была такая масса, что какие-нибудь две-три сотни ничего не составляли для рыбацких ватаг.
Этих рыболовов-забродчиков, как их называли, было множество по Кубани, и зарабатывали они хорошо. Но забродчики подбирались больше из разных бездомовных, нередко бродяг, беглых — народ буйный и пьянствовали отчаянно. Отец знал одного загадочного забродчика, который в трезвом виде ничем не отличался от своих товарищей, но когда был пьян — любил говорить по-французски, и говорил очень хорошо; о нем были слухи, что он принадлежал к высшему обществу и попал в забродчики, спасаясь от каких-то преследований. Юг тогда был убежищем для всех беглых, а уж особенно казачьи земли. Многие из них прекрасно устраивались на новых местах под фальшивыми паспортами или вовсе без паспортов. В 60-х годах, при мне, в Керчи при введении нового городского самоуправления полиция тщательно проверяла документы обывателей. При этом оказалось, что один домовладелец и довольно богатый купец, старожил, лет тридцать пребывающий в городе, не имеет никаких документов. Он сознался, что он беглый крепостной. За давностью лет и ввиду совершившегося освобождения крестьян ему дали паспорт и оставили в покое.
Происхождение от беглых и всякого рода протестующих элементов наложило на южан особый отпечаток независимости и упорного поддержания своих прав. Однажды при нас в Темрюке полицмейстер Кудревич объяснялся с толпой обывателей с крыльца своего дома. Второпях он вышел без шапки, и вся толпа стояла перед ним тоже без шапок. Нужно вспомнить, что тогда «простонародье» снимало шапки перед всеми «господами» и стоять перед начальством в шапке было величайшей дерзостью. Потом Кудревич нашел, что голове холодно, вернулся в комнату и вышел уже в фуражке. Вся толпа моментально тоже надела шапки...
Жители Темрюка состояли частью из такого рода людей, отчасти из казаков.
Из городских обывателей тогда на весь город славился Иван Лукич Посполитаки. Фамилия Посполитаки была из греков. Их в Черноморье было трое братьев, все богачи. Самый богатый был Александр Лукич, страшный кулак, эксплуататор, которого весь народ ненавидел; про него говорили, что он продал душу черту, и рассказывали с ужасом о его смерти, когда черт пришел за его душой и Александр Лукич страшно мучился и неистово кричал. Два других брата, Иван Лукич и Лука Лукич, были люди хорошие. Иван Лукич издавна основался в Темрюке, где вел большую торговлю. Двое старших сыновей его, Семен и Митрофан Посполитаки, были на службе, казачьими офицерами, и имели свои особые хутора, а младший, имя которого я позабыл, учился тогда в гимназии и был моим сверстником. Впоследствии он приобрел некоторую известность как живописец. Иван Лукич был патриархом Темрюка и держал себя важно, как лицо значительное. Наши скоро познакомились с ним, больше всего из-за его вечно болевшей жены, которую немножко лечил отец, и иногда бывали у них. Но я решительно не помню, чтобы Посполитаки бывали у нас. Жена Ивана Лукича, кажется Фотинья Федоровна, нигде не бывала под предлогом своего здоровья. Чем она была больна — Господь ее ведает, вероятно, просто ожирением. Толстая была такая баба, неподвижная, вечно в постели или на кресле, в обществе своей любимицы болонки. Собачка эта была презлющая, никого не подпускала к своей барыне, за исключением врачей, которых умела как-то распознавать и с которыми была кротка как ягненок. Я хорошо помню дом Посполитаки, большой, с просторными залами, богатой мебелью, со множеством канделябров, блестевших хрустальными подвесками. В зале висел, в золоченой раме, под стеклом, лист, на котором было каллиграфически изъяснено, что в этом доме помещался в бытность свою в Темрюке, в сентябре 1861 года, Император Александр Николаевич. Конечно, в Темрюке для высокого гостя нельзя было выбрать лучшего помещения, и Иван Лукич навеки сохранил об этом горделивое воспоминание.
Впрочем, тогда и весь Темрюк был полон воспоминаниями царского проезда. В те времена к царям относились не так, как теперь, — с благоговением и любовью. Для Темрюка это посещение составило эпоху, и городок был полон рассказами о каждом шаге Императора. Народ теснился при его поездках так, что лошадям трудно было двигаться. Все пробивались к дверям кареты, чтобы взглянуть на Царя и как-нибудь прикоснуться к нему. Наша молоденькая горничная с восхищением и смехом рассказывала, какое приключение выпало при этом на ее долю. Когда она протолкалась до окна кареты, оттуда выглянула царская собака и дружелюбно лизнула ее прямо в губы. Это осталось у девушки вечным воспоминанием.
А прекрасный дом Посполитаки при нас чуть было не сгорел. Загорелись почему-то конюшни, где у Ивана Лукича стояло несколько дорогих лошадей. Обширная конюшня и сараи горели громадным костром, и трудно было думать, чтобы пламя не перекинулось на дом. Жильцы в ужасе молились и вынесли иконы против огня. Но все обошлось благополучно, и Иван Лукич сиял от радости. Конечно, убытки были значительные, но уцелел не только дом, а даже успели вывести лошадей.
Я вспомнил Посполитаки только как семью темрюкского нотабля. Знакомство у нас с ними было самое поверхностное. Ближайшими же приятелями нашими были госпитальный ординатор Казимир Казимирович Янковский, семья Рудковских, акцизный чиновник Караяни да еще, пожалуй, Шиллинги, семья какого-то инженера на частной службе.
Караяни был у нас «новый человек», ласточка той весны, от которой растаяла старая историческая Россия. Таких мы еще не видали, а через пять-шесть лет они заполнили все. Высокий, худой, еще носящий на выразительном лице следы своего греческого происхождения, Караяни не носил ни усов, ни бороды, отчего вся игра мускулов физиономии была еще заметнее. А они были вечно в движении. Остроумный, насмешливый, едкий, постоянно все высмеивающий и порицающий, он, разумеется, не верил в Бога и был в политике крайний радикал. Конечно, в разговоре он не мог не заинтересовывать, но наши, особенно мама, сблизились с ним больше из-за его жены, очень милой особы, доброй, кроткой, совсем не походившей на мужа. Прежде она была актрисой и вспоминала о легкомысленной театральной среде с самым неприятным чувством. Все ее симпатии были в тихой семейной жизни, и она быстро сошлась с мамой, которая и сама была в таком же роде, только гораздо умнее m-me Караяни.
Шиллинги были простые, добродушные финляндцы, ничего не отрицающие, ни о чем не рассуждающие и по-своему верующие. Я помню, как накануне Пасхи m-me Шиллинг напомнила маме, что в день Воскресения Христа солнце при восходе «играет», то есть радостно кружится, и что нужно не упустить случая посмотреть это чудесное явление. Мама, никогда об этом не слыхавшая, очень заинтересовалась и, конечно, я тоже. Рано утром мама со мной и обоими Шиллингами выходила посмотреть на солнце, и как она, так и m-me Шиллинг нашли, что солнце как-то особенно кружится. Мама, впрочем, заметила, что, вероятно, это зависит от колебания воздуха, насыщенного на заре испарениями. Уж и не знаю, что там было и было ли что, кроме воображения наблюдательниц.
Доктор Янковский был милейший человек, с которым нельзя было не сойтись, раз с ним столкнулся, совсем во вкусе отца: веселый, умный, бескорыстный, внимательный к обязанностям и чуждый жадности к благам земным. Жил он холостяком, совершенно довольный своей своеобразной семьей, которая состояла из денщика Ивана, кота, собаки и ворона. Иван бесконтрольно распоряжался всеми деньгами и хозяйством своего барина, которого очень любил, кормил его и поил и присматривал за тем, чтобы он был прилично одет, вообще ухаживал за ним, как редко ухаживает жена за мужем. Нужно заметить, что тогда денщики такого типа были нередки, и многие офицеры жили с ними в величайшей дружбе. Это была черта патриархального быта, в котором слуга не был наемником, а членом семейства, верным и преданным; господин же в свою очередь так и смотрел на слугу, как на своего, родного человека. Так жили и Янковский с Иваном. О прочих членах его семьи, кроме кота, я мало знаю. Собака, кажется Дианка, ничего особенного не представляла. Раз я был у Казимира Казимировича за обедом и видел своеобразную картину. Около стола сидел Янковский, а на другом стуле — кот, на спинке кресла сидел ворон, а Дианка под столом. Иван носил кушанья, частички которых перепадали и прочим застольникам. Что касается кота Васьки, то это было животное достопримечательное, любимец хозяина, который иногда брал его с собой к нам в гости. Это был кот какой-то особенной породы, громадной величины, подобного которому я не видел в жизни, и умен, как человек, только очень обидчив. Помню такой случай. Янковский обедал с ним у нас, и Васька, по обыкновению, сидел на стуле около стола. В веселой разговоре о Ваське совсем позабыли, и он, наскучивши дожидаться какой-нибудь подачки, вздумал сам позаботиться о себе. Отвернувши голову в сторону, как будто он совсем не интересуется обедом, он начал время от времени подталкивать лапкой кусок хлеба к краю стола. Заметив его проделку, Казимир Казимирович подмигнул нам, и все мы стали наблюдать за котом, притворяясь, что не обращаем на него внимания. Когда кусок хлеба очутился совсем на краю, Васька слегка дернул скатерть, хлеб очутился на полу, и Васька тотчас спрыгнул, чтобы схватить его. Мы все громко расхохотались, а Васька сконфузился и рассердился, не стал есть этого куска хлеба, убежал в другую комнату и потом не хотел уже ничего есть, даже когда ему собрали кушаньев в тарелку. Янковский объяснил нам, что кот обижен тем, что попался в воровстве и подвергся общему посмеянию. Он всегда очень обижался, когда над ним насмехались.
С Рудковскими, старыми геленджикцами, мы были всегда хороши еще и потому, что г-жа Рудковская, Олимпиада Дмитриевна, которую за глаза называли просто Липочкой, училась тоже в Кушниковском институте. Она была родом Апостолова, из почти уже совсем обрусевшей греческой керченской семьи. Пресмешная была она, маленькая, вертлявая, старалась изображать светскую даму и до конца дней трепала в разговоре десяток институтских французских выражений. На каждом шагу она повторяла: «imaginer-vous», а без «ma chere» не могла и слова сказать: «Imaginer-vous, ma chere, сегодня на базаре арбузов навалили целые горы». Но, как все гречанки, она была прекрасная хозяйка; особенно искусно готовила она разные сласти, пирожные и варенья. Трещотка и сплетница, Липочка была, впрочем, очень добродушное существо, и мама, хотя и подсмеивалась над ней, всегда обращалась с ней по-дружески. Отец семейства, Гавриил Степанович, был по-своему очень интересный человек. Толстый, жирный, с очень солидным брюшком, он вечно восседал на широком, мягком кресле с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке и, пуская клубы дыма, со значительным видом разглагольствовал с каждым, кто только желал выслушивать его речи. А говорил он больше о политике и разных общественных делах. За политикой он очень следил, читал газеты, по таможенной службе своей видел много иностранных торговцев и расспрашивал их о всем, что делается на свете. Шло ли дело о хитрых замыслах англичан, о движениях греческих и славянских, о планах Наполеона III — обо всем Гавриил Степанович мог порассказать с хитрой и многозначительной миной, тонко улыбаясь, иногда с чисто хохлацким юмором. Своих, русских, он, как водится, критиковал, любил привести о них какой-нибудь забористый анекдот или вспомнить какие-нибудь запретные исторические события, вроде смерти Императора Павла или Петра III, о чем громадное большинство публики тогда не имело ни малейшего понятия. Любил он толкаться на базаре, узнавая много любопытного и настроения народа. Сам он был малоросс (из Одессы) и умел разговаривать с народом. Подходит к какому-нибудь казаку на базаре, приценивается, торгуется и будто мимоходом спрашивает:
— А что ж, земляче, скоро за Кубань уходить?
Казаков тогда хотели выселять за Кубань, и от этого едва не вспыхнуло общего бунта. Казак вздрагивает:
— Чого мини робити за Кубанью?
— Да ведь переселяют.
— Того не буде.
— Как же, говорят — приказано.
— А грамота царська? Маемо грамоту на земли.
— Это так. Да ведь коли прикажут, так пойдете.
— Побачимо! Маемо шаблюки.
Казак гордо и вызывающе выпрямляется и протягивает руку к воображаемой шашке.
Таких рассказов с базара у Гавриила Степановича было множество.
Дом Рудковских охотно посещался молодежью, особенно когда стали подрастать их дочери, Соня и Серафима, которую называли Сарой, обе очень хорошенькие. Сыновей у них было трое. Гавриил Степанович любил беседовать с молодежью, и его охотно слушали. Говорил он очень интересно, нередко остроумно. У Рудковских было хорошее фортепьяно, а семья была поголовно музыкальная, особенно сыновья, так что можно было и потанцевать запросто, и с барышнями полюбезничать, а Олимпиада Дмитриевна и угостить была мастерица. Так эта семья жила, небогато, но весело, и в Темрюке, и впоследствии в Новороссийске, пока бедного Гавриила Степановича не разбил под старость паралич. К счастью, дочери в то время уже повыходили замуж, а старший сын, Дмитрий, кончил курс Московского медицинского факультета. Соня вышла замуж, кажется, за Шатлина, а Сара за лесничего Николаева.
Нам в Темрюке жилось тоже очень недурно, но, к сожалению, недолго. В конце 1861 года отца опять сняли с места и отправили в Адагумский отряд, действовавший за Кубанью против черкесов. Особенно тяжело пришлось отцу во время зимних военных действий 1861-1862 годов.
Как известно, в наместничество князя А. И. Барятинского {6} было решено окончательно разделаться с горцами. Крымская кампания показала, какой опасности подвергается Россия, пока черкесы остаются независимы. Если бы союзники, вместо того чтобы бороться с нами в Крыму, высадили свои армии на Кавказе, мы бы рисковали потерять все свои владения и на Северном Кавказе, и в Закавказье, потому что черкесы могли в помощь туркам и англо-французам дать тысяч триста поиска, хотя иррегулярного, но храброго и готового резаться с русскими до последней капли крови. Князь Барятинский, один из замечательнейших русских государственных людей, задумал с корнем, навсегда вырвать эту опасность. С внешней стороны ему благоприятствовало то обстоятельство, что он был личным другом Императора Александра II еще в то время, когда он был наследником. Принадлежа к высшей аристократии и к семье придворной, князь Барятинский близко сошелся с наследником престола. Оба молодые люди, они вместе веселились, кутили и были даже на «ты». Рассказывают, что, когда князь Барятинский отправлялся в 1859 году на Кавказ, они на прощание сильно кутнули с Александром Николаевичем. Склонный к чувствительности и сентиментальности Император жалобно сказал: «Ах, Саша, вот я скоро уже не буду тебя видеть». «Ах, Саша, — отвечал князь Барятинский, — а я тебя уже и теперь не вижу». Дружеские отношения с Императором составляли основной шанс князя Барятинского в задуманном им гигантском предприятии, потому что все главные препятствия для каких бы то ни было крупных национально-государственных дел на окраинах шли всегда из петербургских высших правящих сфер. Это испытали на себе Муравьев-Амурский, {7} Муравьев-Виленский, {8} Черняев-Ташкентский {9} и т. д. и т. п. Барятинский имел опору в Царе, который, может быть, и устрашался его планов, но по личному доверию к другу уступал ему, хоть и не без сопротивления.
Второй шанс Барятинского, его счастье и его заслугу составляло то, что он нашел, умел оценить и выдвинуть на первый план Николая Ивановича Евдокимова, {10} впоследствии графа. Барятинский сам называл его «золотым самородком». Они действовали вместе и в деле покорения Северного Кавказа — их невозможно разделить, нельзя сказать, чьи заслуги больше. Общий план покорения Западного Кавказа был составлен, однако, все-таки Евдокимовым, а Барятинский только принял его и отстоял против генерала Филипсона, {11} который хотя и служил на Кавказе, но был полон чисто петербургского духа. В сентябре 1860 года Барятинский созвал во Владикавказе совещание о мерах покорения Западного Кавказа. Филипсон предложил план гуманных и миролюбивых воздействий на черкесов. Евдокимов, разбив мечтания его, предложил полное изгнание черкесов. По его плану, войска должны были изгонять черкесов с востока и севера, от Лабы и Кубани, а в тылу войска очищенные земли горцев должно было немедленно заселять казачьими станицами, подвигаясь таким двойным фронтом все дальше на запад, пока черкесы не будут притиснуты к Черному морю. Все это я расскажу подробнее несколько ниже. Теперь я хотел только объяснить роль Адагумского отряда.
Этот отряд был из первых, начавших операцию изгнания черкесов от Кубани по течению реки Адагума. Командовал им генерал Бабич, {12} известный по всему Черноморью «вояка». Он был черноморский казак, хотя именно в это время произошло, по тому же плану Евдокимова, соединение Черноморского и Кавказского линейных войск в одно Кубанское войско для объединения всей операции изгнания горцев и заселения их земель казачьими станицами.
Действия Адагумского отряда происходили при самых трудных условиях. Время было зимнее. Черкесы — это были шапсуги и натухайцы, — видя, что дело идет о самом существовании их, дрались с мужеством отчаяния, не давая отряду передышки. Земля шапсугов была покрыта дремучими лесами, облегчавшими партизанскую борьбу. Кроме постоянной вооруженной борьбы, отряд должен был вырубать леса для расчистки мест под станицы и для проложения широких просек, имеющих значение дорог. А жить приходилось зимой в палатках, так как, постоянно передвигаясь, отряд не мог копать землянок. Отец рассказывал, что согреваться в палатках они могли только мангалами, то есть угольными жаровнями, сидя в вечном угаре, потому что мангал, полный пылающих угольев, нагревал палатку только на минуту. Потухали уголья, и мороз снова охватывал ее. Приходилось вносить новый разожженный мангал. Спали, конечно, не разуваясь и не раздеваясь. Но нельзя было не умываться, и отец рассказывал, что, бывало, пока умоешь лицо — на усах и на волосах образуются ледяные сосульки. Самое железное здоровье не выдерживало такой жизни. А между тем и работа у отца шла усиленная, потому что и раненых, и больных было много. Шесть месяцев такой службы настолько расшатали силы его, что он наконец не выдержал и просил перевода на более спокойное место. В это время, в связи с той же операцией изгнания горцев, были восстановлены некоторые укрепления на берегу Черного моря, в том числе Новороссийск под наименованием Константиновского укрепления. В нем был учрежден и военно-временный госпиталь. Отцу предложили занять в нем место исправляющего должность главного врача, и он с радостью согласился. Это произошло 3 августа 1862 года.
А мы между тем проживали в Темрюке. Для мамы опять наступили тяжелые времена тревоги. Даже в Севастопольскую кампанию жизнь отца не была так тяжела, как в Адагумском отряде. Помню один случай, который показывает, как были у мамы раздерганы нервы вечным беспокойством за него. На Крещение были у нас священники с обычным молебном. Когда они ушли, мама взглянула на дверь и обомлела: на ней был нарисован мелком крест. Здесь, в Центральной России, нет этого обычая, но на Юге духовенство, приходя на Крещение, рисует крест на дверях. Мама этого обычая не знала, и ей пришло в голову, что батюшка избрал такой способ известить ее о смерти отца. Крест был осьмиконечный, как и надмогильные, и по углам его буквы мелком, конечно неразборчивые. Думаю, что, вероятно, хотели написать: «I. X. Ни. Ка.» — «Иисус Христос НиКа». Но маме почудилось, что написано: «Ici git А. Т.». Она разрыдалась, не находила себе места и послала за Казимиром Казимировичем. Тот, узнавши от прислуги, что с барыней что-то делается, моментально примчался: «Что такое, Христина Николаевна?» Она была чуть не в истерике и, рыдая, начала умолять его: «Ради Бога, не скрывайте от меня. Вы, вероятно, знаете, что делается с Александром Александровием?» Янковский сначала ничего не мог понять. «Христина Николаевна, да что вам пришло в голову? Почему вы думаете, что у него что-нибудь плохое?» Она с ужасом показала на дверь: «Вон священник нарисовал крест и надписал: „Ici git Александр Тихомиров“». Тут Янковский прояснился: «Христина Николаевна, я не знаю, что это за изображение, но священники только что были у меня и нарисовали такой же знак!» Разумеется, нетрудно было объяснить ей всю нелепость фантазии, пришедшей ей в голову. Ведь священник даже и не знает, конечно, что «ici git» по-французски значит «здесь покоится». Но мама была постоянно в таком нервном состоянии, когда у человека исчезает всякое рассуждение.
После зачисления отца в Адагумский отряд мы, конечно, лишились казенной квартиры и перебрались на другую, переменили даже две квартиры. На одной были что-то недолго, и о ней у меня осталось только одно воспоминание — об умнейшей собаке Казбеке, находившейся при доме. Он стоял довольно уединенно, на отлете, и Казбек, бывало, всю ночь обходил его кругом, как часовой, и лаял время от времени, предупреждая воров, что он стоит неусыпно на страже. Еще на этой же квартире я стал бояться собак, по глупейшему случаю. Дом наш без двора, не огороженный забором, выходил прямо в поле, за которым, так с четверть версты, текла Кубань. Я полюбил ходить в это поле и любоваться дивным видом на реку. Берег спускался к ней довольно круто с большой возвышенности, под которой и текла Кубань, а за ней простирались необозримые плавни до конца горизонта. Однажды, когда я стоял и разглядывал эту картину, ко мне откуда-то подбежала большая собака. Кругом пустота, ни жилья, ни души, и я почему-то испугался и пустился бежать к дому. Собака за мной. Я мчался во весь карьер, а она за мной, очевидно, не имея ни малейших враждебных намерений, потому что, если бы захотела, могла бы двадцать раз свалить и искусать меня. Но я был в панике и, добежавши, весь запыхавшись, до дому, уже не смел больше ходить в поле и стал вообще бояться собак.
Вторая наша квартира была в доме Завадских, которым принадлежала огромная площадь земли, с большим двором и двумя старыми, заросшими, запущенными садами. Хорошо в них было гулять, как в лесу, тем более что во дворе было несколько товарищей мне. У самих Завадских старший сын, Павел, был очень старше, но младший, Ваня, совсем мой сверстник; у другого жильца, Арендта, тоже был сын Ваня, моего же возраста. Через Завадских я сошелся еще с кучей соседних мальчишек, а к лету приехал на каникулы и брат Володя. Но любимыми нашими прогулками были не сады, а кубанские плавни. Дом наш спускался прямо к небольшому протоку Кубани, за которым тотчас начинались плавни. Тут-то я узнал всю прелесть болот. Громадные камыши звонко шелестят стволами и листьями. Под ними множество ярких цветов, душистая мята, «рогоз», который продается даже на базаре, потому что он сладок и вкусен. В воде — всевозможные слизняки, улитки, множество мелких рыбок. Наша протока была неглубока, ее местами можно было переходить вброд, снявши только штаны. Но к нашим услугам были и каюки. Каюк — это лодка, выдолбленная из целого ствола дерева, вроде корыта. Потонуть каюк не может, но, как плоскодонный, с круглым дном, он очень легко опрокидывается. Плавать в нем по Кубани довольно рискованно, но для протоков, которые изрезывают плавни, каюк прекрасная лодка. Так как вода неглубока, то его движут не веслами, а пихаются во дно длинным шестом, и каюк мчится с необычайной быстротой, с какой лодку немыслимо разогнать веслами. Вот мы, бывало, захватим чей-нибудь каюк и закатимся в плавание. Понятно, что и купались мы по десять раз, и вообще полоскались в своих протоках, как утки. Иногда мы предпринимали путешествие на саму Кубань через плавни. Тут, на ее берегу, приходилось быть осторожным — берег крутой, обрывистый, как ножом срезан, а под ним быстро мчатся мутные волны, крутясь водоворотами. Вид зловещий, беда — оторваться, беда, если рыхлый берег обрушится. Только рыбаки-забродчики ничего не боятся. Они подтягивают свою сеть — вентерь, пришвартовывают его к берегу как судно к пристани — боком и вытаскивают оттуда баграми громадных севрюг и сомов, которых тут наваливается целая громадная куча.
Странное это название — «вентерь». По-латыни «venter» значит «желудок», и сеть на него действительно очень похожа. Она имеет вид огромного цилиндра на обручах, который с обоих концов суживается конусами, вроде конца сигары. В этих концах отверстия, которые можно открывать и закрывать. Через один конец рыба входит в вентерь, но сетчатая дверка устроена так, что отворяется только в одну сторону, а если бы рыба вздумала повернуть назад, то собственным движением захлопнет дверку. Через другое отверстие рыбу вытаскивают, открывши его, когда вентерь уже пришвартован у берега. Прибор очень остроумный, но как могло явиться для него латинское название?
Несмотря на то что наши протоки очень близко соединялись с Кубанью, в них водилась только мелкая рыба. Лишь один раз случилось, что заплыл сом, да и то небольшой, аршина два. Кое-кто из наших мальчишек видели его, и он нас порядком напугал, так что мы день или два не смели купаться.
В этих плавнях мы пропадали по целым дням, приходя домой только есть. И мама как-то не беспокоилась, ограничиваясь увещаниями быть осторожнее.
Осенью плавни начинают гореть. Жители их нарочно зажигают, чтобы камыш лучше рос. Это зрелище величественное — целое море огня на необозримом пространстве. Густой дым охватывает чуть не весь город, дым едкий, с неприятным запахом горелого мяса. Тут, вероятно, сгорают миллиарды несчастных лягушек, все лето оглашавших плавни своим звонким кваканьем.
В Темрюке при нас произошло раз и другое зрелище, похожее на пожар, — перелет бесчисленных туч саранчи. Мы тогда жили у Завадских. У меня навеки врезалось в память, как на горизонте показалось небольшое темное облако, которое быстро вырастало и заволокло наконец все небо; это была саранча. Она всей массой спустилась недалеко от города. Но и в самом Темрюке осело порядочное количество. Когда она начала опускаться, то неприятно было даже ходить по двору, потому что она ударялась в людей, как будто камешки, как будто она ничего не видит и не замечает препятствий. Это были крупные, жирные насекомые. Множество птиц носилось по воздуху, поедая их, куры тоже клевали, но все это для массы саранчи составляло не больше убыли, чем вычерпывание стаканом воды для моря. Рассказывали, что она за городом произвела страшные опустошения и что во фруктовых садах ветки ломились от тяжести облепившей их саранчи, которая садится друг на друга толстейшими слоями, как будто и не замечая, что сидит не на траве или дереве, а на своих же собственных собратьях. Это тем страннее, что друг друга они все-таки не едят, так что это нацепливание друг на друга совершенно бессмысленно. Саранча, впрочем, и вообще производит впечатление чего-то стихийного, чуждого разуму. И однако же эти тучи совместно, словно по команде, оседают, и именно на таких местах, где есть растительность, а затем тоже совместно, словно по команде, подымаются и улетают. Кто же это управляет движениями этих хищных насекомых?
Вот я говорю о камышах, саранче, рыболовах... А между тем в Темрюке нас застало 19 февраля 1861 года, освобождение двадцати двух миллионов русского народа... Как же я ничем не вспоминаю этого дня и события? Это потому, что совершенно нечем помянуть. В наших местах не было ни крепостных, ни помещиков. Никто ничего не терял и не выигрывал от этой реформы, и личный интерес никого не побуждал говорить о ней. Но все же событие было всероссийское и даже мировое, а между тем о нем, можно сказать, совсем не было толков. У Рудковского повторялись нелепые слухи, будто бы освобождение крестьян было вменено нам в обязанность якобы секретным пунктом Парижского трактата. И это все, что я могу припомнить об отношении темрюкского общества к реформе 19 февраля. Со всех сторон было безучастное молчание. Не пытаюсь объяснять этого странного факта. Повторю только, что я, имея тогда девять лет от роду, даже не знал, что такое крепостное право, что за люди «крепостные» и «помещики». Я знал, что есть «простонародье» и высший класс — «благородные», но под ними разумел просто офицеров и чиновников, вообще людей «образованных» и прилично воспитанных.
IX
Я сказал, что отец после зимнего Адагумского похода получил назначение в военный госпиталь Константиновского укрепления, иначе сказать, в Новороссийск. Нашей темрюкской жизни наступил конец, и, когда отец подготовил в Новороссийске кое-какое помещение для семьи, нам нужно было снова перекочевывать на иное место. Ехать из Темрюка в Новороссийск прямее всего было бы сухим путем на станицу Варенниковскую и Анапу. Но тогда об этом нельзя было и подумать вследствие ожесточенной борьбы с горцами, которая кипела во всех этих местах до самого Новороссийска и дальше за ним. Единственный возможный путь вел сухопуткой до Тамани, оттуда через пролив в Керчь, а из Керчи на пароходе в Новороссийск. Так и повез нас отец. На этот раз у нас уже не было Аграфены, потому что Алексей Гайдученко получил отставку и водворился с семьей, кажется, в какой-то станице. Прислуга, то есть денщики, явились новые, так что я даже и не помню, кто именно был тогда.
На этот раз мы ехали на почтовых, но не на перекладных тележках, а в каких-то крытых экипажах, вероятно, специально для нас нанятых.
Нам пришлось пересечь весь Таманский полуостров, местность очень любопытную в геологическом отношении. Не знаю, насколько эти места исследованы теперь, но исследовать в них есть что. Под самым Темрюком, как я уже упоминал, находились лечебные грязи. Отец мне показывал их. Вся площадь их имеет какую-то странную почву беловатой глины с самой скудной растительностью, но с большой примесью каких-то необычных минералов. Я, помню, заинтересовался какими-то красно-бурыми камешками, которые очень хорошо писали красными чертами на грифельной доске. Отец мой говорил, что это такое, да я уже позабыл. Самая грязь находилась в ямах, жидкая, и из нее постоянно булькали крупные пузыри каких-то газов. К этим ямам, помню, неприятно было даже подходить: того гляди, провалишься в эту густую грязь, кто ее знает, какой глубины. Из них черпали грязь, когда была здесь лечебница.
Почва на пути из Темрюка до Тамани представляет отчасти несомненные следы кубанских наносов. Одна станция, называемая Пересыпной, проходит сплошь по зыбучим пескам. Колеса глубоко вгрузали в песок, лошади едва могли тащить экипаж и всю дорогу шли шагом. Но в некоторых местах полуострова в подпочве находятся нефтяные источники; нефть, просачиваясь кверху, пропитывает почву настолько, что она способна загораться. Однажды, рассказывал отец, земля загорелась здесь на огромных пространствах и горела что-то очень долго, не помню — неделю или две. От этого моря огня некуда было спасаться, и жители в ужасе думали, что уже настал конец света, когда, по Писанию, земля и все дела на ней сгорят. С истощением горючих материалов бедствие, однако, прекратилось.
По этой же дороге находятся грязевые сопки. Я видел только одну, находящуюся совсем близко от дороги. Это довольно высокая гора конической формы, футов, насколько помню, двести-триста вышиной. На вершине конуса находится кратер, из которого извергаются потоки грязи. Эта грязь пробила одну сторону кратера и изливалась широким потоком до самого подножия сопки, постепенно отвердевая, так что у подножия уже переставала двигаться. Какая сила производила эти извержения, я не знаю. Но жители утверждают, что сопка имеет подземное сообщение с морем. Они рассказывают, что однажды в кратер упала корова и была поглощена им, а потом труп этой коровы нашли в море. Я не знаю, далеко ли отстоит сопка от моря, но уж конечно не менее десяти верст, а может быть, и вдвое, и втрое дальше.
В Черном море у кавказских берегов случаются извержения каких-то газов, которые задушают подчас неисчислимые массы рыбы. В моей молодости однажды массы этой задохнувшейся рыбы покрыли берега моря толстенным слоем, почти в пол-аршина толщиной, на огромных пространствах. Разлагающаяся рыба заражала зловонием воздух во всем городе Новороссийске, и администрация не знала, как и справиться с таким бедствием. Кончили тем, что прибегли к помощи всех прибрежных землевладельцев и начали закапывать эти массы рыбы в землю. Но она настолько пропитала берега своим прогорклым жиром, что отвратительный запах отравлял воздух еще очень долгое время.
Если грязевая сопка действительно соединяется под землей с морем, то возможно, что эти взрывы газов в глубине моря прорываются в сопку и производят извержения грязи.
Сама Тамань была в это время чрезвычайно пустынна, не оправившись еще от Крымской кампании. На иных улицах стояли только полуразрушенные дома, почти без всякого населения. Таким же пустынным был и огромный Таманский залив, на горизонте которого слегка виднеются крымские берега. Его не могли, конечно, оживить три-четыре каботажки, разбросанные там и сям по обширному водному пространству. Море тут вообще некрасивое, мутное, мелкое, с дном, заросшим морской травой, толстые слои которой, выброшенные волнами, устилают берега. Но зато рыбы здесь множество, и нередко можно видеть, как за ней охотятся дельфины. Они устраивают нечто вроде облавы, выстроившись длинным рядом, и загоняют рыбу на мелкое место к берегу, где и хватают ее.
Мы остановились в Тамани на почтовой станции, помнится, на очень возвышенном месте, совсем на берегу, круто обрывающемся в море. Местность совсем напоминала лермонтовское описание его жилища в «Тамани». Нам приходилось дождаться парохода в Керчь, так что мы ночевали в Тамани, а может быть, прожили в ней и больше чем один день. Но ходить куда-нибудь или смотреть что-нибудь на этом пустопорожнем месте было некуда и нечего, так что город оставил во мне скучнейшее воспоминание. А жители рассказывают, что во времена турецкого владычества Тамань была богатым городом. В наше время в ней была площадь, покрытая толстым слоем мельчайшего желтого песка. Проезжие часто брали его для песочниц в письменных приборах, так как он был очень хорош для посыпания чернил. Тогда бюварной бумаги не было, и чернила посыпали песком. Это песчаное пространство, рассказывали жители, составляло дно когда-то бывшего здесь пруда, который был весь обделан мрамором, а на берегу его стоял дворец турецкого паши. В мое время тут уже не было ни следа дворцовых развалин, ни один кусочек мрамора не напоминал роскошного пруда. Вероятно, все порастаскали на постройку русских домов.
Переправа через пролив на пароходе до Керчи, каких-нибудь верст тридцать, берет не более двух-трех часов. В те времена пароходные рейсы совершались не столько для пассажиров, которых было мало, как для переправы гуртов черноморского скота в Крым. Незадолго до нас произошел целый скандал. Капитан что-то долго задержал отход парохода из-за того, что не успел вовремя погрузить скот. Пассажиры стали требовать, чтобы пароход отчаливал, а капитан грубо ответил, что для него быки все равно что пассажиры 1-го класса. Он хотел сказать, что с головы скота за переправу платят столько же, как за билет 1-го класса. Пассажиры страшно обиделись, подняли шум, подали на капитана жалобу. Не знаю, чем кончилась эта история. В наш переезд ничего подобного не случилось. Напротив, капитаном оказался старый геленджикский знакомец Спицын, который узнал наших, был очень любезен и вспоминал добрые старые времена Береговой линии. К общему удовольствию, мы наконец расстались с Таманью, в которой я был и впоследствии, всегда видя ее такой же пустынной и скучной.
Керченский залив так же очень мелок и так же заросший морской травой, как и Таманский. Большие морские пароходы разгружаются в нескольких верстах от города, сдавая и груз, и пассажиров на барки, которые буксируются до пристани. Иногда пассажиров отправляют с парохода и на баркасах. Но средней величины пароходы подходят к самой пристани. Помнится, она и называется пристанью Русского общества пароходства и торговли. Здесь же, у пристани, находится агентство общества и обширные его амбары для грузов. Такой крошечный пароход, какой ходил в Тамань, разумеется, причаливает прямо к пристани. Здесь нас уже ожидали Савицкие на своей просторной линейке и отвезли нас к себе, а свой багаж мы оставили в агентстве для погрузки на пароход, который должен был идти в Новороссийск. Не помню, сколько раз в неделю совершался этот рейс, но, во всяком случае, нам пришлось несколько дней перебыть у Савицких.
Насколько помню, Андрей Павлович в то время уже купил свой дом у Корчевских и уже выписал к себе из Москвы тетю Настеньку, то есть Настасью Николаевну Каратаеву. Впрочем, может быть, все это произошло только к следующему моему приезду в Керчь. Во всяком случае, Андрей Павлович, по своей практичности и деловитости, устраивался в Керчи очень хорошо и становился постепенно богатым человеком. Дом и весь его огромный участок он приобрел за грош. Собственно, дома было два, по обе стороны двора, с флигелями и сараями. Собственницы их, старые девицы Корчевские, могли бы тут век свековать, но одна из них влюбилась на склоне лет в молодого офицера Солдаткина и вышла за него замуж. Но офицер, конечно, не имел надобности в доме, потому что полк его переходил с места на место, и Корчевские продали свою недвижимость Андрею Павловичу, помнится, за пять тысяч рублей — цена даже и по тому времени ничтожная. После того дядя за такую же ничтожную сумму приобрел в нескольких верстах от города имение Темешу, около тысячи десятин. Правда, имение представляло голую землю, притом же плотно убитую ногами овечьих стад, но, понятно, могла быть приведена в порядок, да и земля могла быть постепенно оживлена вспашкой. Через несколько лет имение стало очень ценным, и по смерти Андрея Павловича давало его многочисленному семейству около десяти тысяч, кажется, годового дохода.
Что касается Настасьи Николаевны, она кончила курс Московского Николаевского института и в нем же осталась классной дамой. Детям Савицких уже пора было учиться, и Андрей Павлович выписал тетю Настеньку к себе. Не знаю, что он ей за это платил, но она так и вошла членом в его семью и занималась с детьми, готовя их в институт. Тогда у Савицких недавно родился второй сын, Коля, так что тете Варваре Николаевне трудно было возиться с прочими детьми. Но хозяйство семьи взяла в свои руки Александра Павловна, а занятия с детьми — тетя Настенька. Дом Савицких стал многолюден, и помещения у них были обширные.
В Новороссийск мы вышли, помнится, на пароходе «Ласточка». Средний по величине, он считался тогда самым быстроходным во флоте Русского общества. Он делал что-то около двенадцати узлов, по-нынешнему — быстрота почти ничтожная. По тогда счет был иной. «Ласточка» была также очень устойчива, так что ее мало качало, и наш переезд протекал вполне благополучно. Только против Бугаса, то есть против устьев Кубани, нас порядочно покачало. Но это уж такое место. Врываясь в море, Кубань сталкивается здесь с морским круговым течением, и на этом пространстве всегда бывает беспорядочная «толчея» волн, даже и тогда, когда остальное море зеркально спокойно. По распорядку рейсов берега кавказские показываются всегда рано утром, и пароход от Анапы идет совсем близко от земли. Замечательно красивы эти берега. Кавказский хребет погружается здесь в море боком, так что все время вертикальные обрывы гор сменяются узкими ущельями и широкими долинами. Не успеешь насмотреться на обрыв, точно ножом срезанный, открывающий зрителю все внутреннее строение горных слоев, напластованных друг на друга, как гигантские страницы геологической книги, — как вдруг они прорезываются ущельем или длинной полосой низменной зеленеющей долины. Так чередуются Цуко, Дюрсо, Озерейка (или, по-черкесски, Хозрек), Сус-Хобель, пока впереди не открывается мыс Доби, у входа в Новороссийскую бухту. Бухта также очень красива. Справа, после широкой Кабардинской долины, тянутся такие же чередующиеся обрывы и узкие ущелья хребта Маркотх, слева низменное пространство, бывшее дно моря, несколько возвышающееся только в самом Новороссийске. А зеленоватая вода бухты в те времена была чиста как кристалл, так что дно моря, камни, водоросли, плавающая рыба были прекрасно видны на глубине нескольких десятков саженей. Такой чистой воды я не видал даже на Женевском озере, и только воды самой Роны могли бы сравниться по цвету и прозрачности с водой тогдашней еще ничем не загрязненной Новороссийской бухты.
Несмотря на глубину залива, пароход все-таки не мог подходить к самому берегу по отсутствию пристаней, и пассажиров высаживали на лодках. Помнится, тогда это дело обслуживалось военными матросами. Высаживались в адмиралтействе, где была коротенькая пристань для казенных баркасов и гичек.
Наша новая квартира в Новороссийске находилась в здании госпиталя, на горе, около церкви Святого Николая. В это время города Новороссийска не существовало, он лежал в развалинах и не был еще восстановлен даже по имени. Возродилась только часть его, на горе, в виде Константиновского укрепления. Внизу, на самом берегу бухты, построено было адмиралтейство — четвероугольный двор, обнесенный каменными стенами с бойницами, внутри которого были пакгаузы, казармы для матросов и несколько домов для морских офицеров. Там же на берегу были вытащены большие баркасы. Около адмиралтейства находились прекрасные колодцы, оставшиеся еще со старых времен: несколько каменных бассейнов с прекрасной родниковой водой. Кроме того, между крепостью и берегом, начиная от самого берега, раскинулось несколько десятков домиков, составлявших так называемый форштат. Это были частные дома разных мастеровых, вроде кузнецов, жилища солдатских семейств, двор ратного хозяйства с жилищами и сараями и т. п. Такие форштаты обыкновенно возникали при всех кавказских укреплениях, обслуживая различные потребности военного населения. Но в Кон-стантиновском укреплении, помимо того, находился и особый гостиный двор с двумя-тремя десятками лавок и складами товара внутри двора, где жили также и торгующие.
Кроме всего этого, в версте или полуторе от укрепления, в направлении к развалинам Суджук-Кале, на самом берегу бухты была поставлена Новороссийская станица. Она одна только получила название, напоминающее былой Новороссийск. Это были казаки, только год назад переселенные сюда, жившие с семьями в сотне хат, еще совсем бедных и неустроенных. Станица была обнесена двумя высокими плетнями аршин пять вышиной, с аршинным пустым между ними пространством. Не знаю смысла этой кавказской фортификации. Для того ли это сделано, чтобы плетень не так скоро горел, если черкесы начнут поджигать, или предполагалось в случае надобности засыпать пространство между плетнями землей — не знаю. В двух местах в плетне были проделаны ворога, через которые в станицу въезжали и входили.
Константиновское укрепление представляло приблизительно четвероугольник, на всех углах которого находились бастионы, способные обстреливать как подступы к укреплению, так и продольным огнем стены его. Кроме того, были две отдельные батареи, из которых на одной стояло только одно орудие — единорог, направленный прямо на сатовку, куда черкесы приносили свои продукты. Отдельно стоявшая на горе двухэтажная каменная башня была также снабжена на втором этаже орудиями, стрелявшими из амбразур, а в нижнем этаже были проделаны бойницы для ружейного огня. Это был некоторый наблюдательно-защитный форпост. Вся крепостная стена была пронизана бойницами, в том числе и в казармах, пристроенных прямо к стене укрепления. Бойницы пронизывали и стены адмиралтейства — «миритичества», как звали его солдаты. Входами в крепость служили большие ворота около бастиона и калитки у батарей. Все эти входы закрывались после того, как били вечернюю «зарю», и ночью в крепость входить было нельзя. В крепости находились казармы гарнизона, дома начальства, госпиталь, гостиный двор, церковь и пороховой погреб. Вся ее середина была пуста — чистое гладкое место, на котором могли в случае опасности найти место все обитатели форштата.
Наша квартира находилась в самом здании госпиталя. Это был длинный двухэтажный дом, понятно, каменный (в Новороссийске все постройки возводились исключительно из камня, большей частью из местного плитняка). Со стороны моря дом опоясывался широкой стеклянной галереей. Наша квартира была кое-как переделана из госпитальной палаты, кое-какими перегородочками, а то и занавесками, была в высшей степени неуютна и неудобна, без малейшего дворика, так что даже кур держали в подполье. Нам принадлежала и часть галереи, неуклюжая, с продувающимися полами и стеклянными рамами, которые были одинарные. Но из нее открывался дивный вид на море с зюйд-остовой и зюйдовой стороны. Широко расстилалась половина бухты до Кабардинки и Доби, виднелись развалины Суджук-Кале, полоска Турецкого озера, отделявшегося от моря серенькой полоской валунов, а далее — беспредельное водное пространство. Редки были проходящие суда, но ни одно из них не ускользало от глаза. Они становились видны с такой дали, на какой даже корпус корабля еще не заметен, а над водой выдается только рангоут. Мы наблюдали отсюда за приходящими и отходящими пароходами. Большая часть из них были военные. В Новороссийске тогда всегда стояли какие-нибудь военные суда. При недостатке пароходов Русского общества военные суда поддерживали и пассажирское движение, кажется, не по обязанности, а по любезности начальства и по традициям Береговой линии. Все это были суда мелкие, разные шхуны, вроде таких, как «Дон», «Псезудан», «Киласури», транспорт «Новороссийск». Сильного флота на Черном море по Парижскому трактату не позволялось иметь. Величайшим судном, которое к нам приходило, был корвет «Львица». Некоторые из упомянутых пароходов были, впрочем, кажется, бриги, не упомню хорошенько. Все они уже были винтовые, но со слабыми машинами, так что развивали ход в каких-нибудь пять-шесть узлов. Самая быстроходная — «Львица» — делала, помнится, восемь узлов. Собственно, для тогдашних судов машины были даны только в пособие парусам, но в действительности моряки прибегали к парусам только в пособие машинам и чрезвычайно редко. Я не помню на них ничего, кроме кливера. Удивляюсь, как их с такими машинами ни разу не выбрасывало на берег при сильном норд-осте. Правда, они в этих случаях предпочитали уходить в море. Но это не всегда было возможно, если не сделано заблаговременно. Они любили держаться на мертвом якоре, то есть на цепи, наглухо прикрепленной ко дну, а на поверхности воды — к бочке, вечно плавающей. Но мертвых якорей было немного — один или два. Остальным судам приходилось изворачиваться как Бог даст. Помню, как «Дон», застигнутый сильным норд-остом, с каждым днем становился все яснее видимым с берега. Его дрейфовало несмотря на то, что он бросил два якоря и на всех парах день и ночь шел против ветра. Если бы норд-ост не стих еще несколько дней или запас угля истощился, «Дон» был бы выброшен на берег.
Эти военные суда очень оживляли бухту — их щеголеватые, белые, как чайки, гички поминутно шныряли на пристань и с пристани. В воздухе разносился тихий звон «стклянок», узнавать по которым часы я, впрочем, так и не выучился.
В полдень старшее судно давало орудийный выстрел. Это у нас называлось адмиральским часом. «Адмиральский час, — говорили обыватели, — пора пропустить рюмочку и закусить». Очень красиво было смотреть, когда суда салютовали в торжественные дни. Из орудия выкатывается сначала клубок густого серого дыма, постепенно развертываясь в крутящуюся ленту, через несколько секунд раздается гулкое «бум», и при сто первом выстреле судно наконец мало-помалу совсем закутывалось дымом.
В тихий летний день и еще более любил слушать, как на пароходе выпускали пары, которые плавно звенят, в сочетании каких-то тонких гармонических звуков. Лежа где-нибудь на земле, смотря бесцельно в синее небо, я готов был целый час слушать эту симфонию, которая погружала душу в неясную мечту, без содержания, но со сладостным чувством довольства и покоя.
Однако первое время нашего пребывания в крепости несколько походило на жизнь в тюрьме. Перед глазами, по ту сторону бухты, стояли разнообразные вершины гор с глубокими ущельями, поднимающиеся над морем на две тысячи футов, с другой стороны — ярко-зеленые плавни Цемеса, за которыми, кажется, совсем близко так и манит к себе чудный лес с громадными стволами деревьев. Но все это недоступно. Ни выйти, ни поехать нельзя никуда. Нас, детей, одних не пускали даже на форпост. Мы с сестрой Маней могли гулять только по крепостной площади и облюбовали себе церковный двор, где росло несколько крохотных деревцев и местами пробивалась жидкая травка. Вся почва крепости состояла из мелких камешков, жесткая, сухая, на ней и трава не росла. Около церкви мы проводили часы, собирая камешки, и особенно радовались, если находили кусочки мрамора, вероятно, оставшиеся после постройки церкви. Можно было прогуляться и к гостиному двору, но и там нечего было делать.
Лавки в Новороссийске, впрочем, были очень недурны Там можно было достать что угодно: съестные припасы, всякого рода материи, галантерею, мыло, духи, нечего уже и говорить о превосходном табаке и всевозможных винах и ликерах. Военное общество, моряки, чиновничество составляли многочисленный слой покупателей, отчасти даже зажиточных, желавших жить хорошо и очень склонных бросать деньги не жалея. Военные дамы были большие щеголихи, хотели и умели одеваться. А товар легко шел отовсюду — га России и из-за границы. Таможенный надзор несколько лет фактически не существовал. В лавках было все, что угодно, и торговцы Константиновского укрепления — Яни, Кристи, Бубленников и прочие, разбогатевши, составили потом главный контингент купечества восстановленного Новороссийска. С этой стороны в крепости жилось хорошо. Но в первое время нашего поселения приходилось сидеть взаперти. Даже и гулянье крепостного общества происходило только внутри. Бывало, каждый вечер, после того как пробьют «зарю», выползают все дамы, кавалеры и прохаживаются от крепостных ворот к дому воинского начальника взад и вперед, дыша свежим воздухом, болтая, сплетничая, ухаживая, — и так до поздней ночи. Это было нечто вроде бульвара, очень оживленного. Но уж вечеров негде было устраивать, и у иных собирались играть только в карты. Для вечеров и пикников время наступило несколько позднее.
Мы приехали в Новороссийск в момент наиболее ожесточенной войны. Черкесы, видя перед собой одну погибель, дрались отчаянно и переходили даже в наступление.
Перед самым нашим приездом Новороссийск пережил большую тревогу. Большие скопища горцев сделали набег на только что поселенные станицы по реке Бакану, собираясь, переваливши через Маркотх, ринуться на Новороссийск. Перевал через Маркотх был облегчен для них тем, что совсем незадолго до того мы провели через него дорогу, хотя и неудачную, но все же более удобную, чем черкесские тропы. Это так называемая Старая Крымская дорога, идущая по совершенно голой горе. Маркотх вообще был лесист, но когда проводили дорогу, генерал Бабич приказал вырубить весь лес на этой горе до последнего кустика, чтобы черкесам решительно нигде нельзя было делать засад. Так она и стоит с тех пор обнаженная и безжизненная. Но на самой вершине хребта, как только перевалить за него из Новороссийска, лежит живописная долинка Липки. Здесь находился казачий пост, укрепленный только плетнем. Пока главные силы горцев двигались на станицы по Бакану, один отряд пошел вперед на Липки, чтобы оттуда спуститься в Новороссийск. В народе, то есть между солдатами и казаками, говорили, что этой партией командует русский изменник Пирожок. В литературе мне не попадалось указаний на него, но народных рассказов о нем я наслушался много еще в Темрюке. В них он является личностью легендарной. Родом он был черноморский казак, имел и семью, но вел жизнь разбойничью и, избегая преследования, передался горцам, у которых приобрел большую славу как джигит. Часто он их водил на грабежи, часто попадал в совершенно по-видимому безвыходное положение, но всегда успевал благополучно ускользнуть. Казаки, считавшие его не то волшебником, не то связавшимся с нечистой силой, много раз старались его изловить, но безуспешно. «Стоит ему, — рассказывали они, — добежать хоть до одного куста, и уже его не поймаешь. Окружим, случалось, это место, обшарим всю землю, каждую веточку — нет его, исчез, как сквозь землю провалился».
Вот этот-то заклятый Пирожок будто бы вел горцев на Липки, и пост этот был взят, выжжен, казаки все перебиты. В Новороссийске поднялась тревога. Ничтожное количество наличных сил гарнизона не позволяло выслать отряда навстречу горцам. Приняты были только энергические меры к самозащите, всем жителям было роздано оружие. Все силы были привлечены к обороне укрепления... Но грозовая туча рассеялась благополучно.
Главная партия черкесов успела захватить врасплох станицу Нижне-Баканскую, но казаки отчаянно сопротивлялись по своим хатам, выскакивали и на улицу, и по всей станице шла резня среди пожаров зажженных горцами домов. Об этой кровавой истории я знаю от очевидца, хотя, к удивлению моему, не могу припомнить, от кого именно. Был у нас знакомый паренек Миша, сын черкешенки Наташи, и другой еще лучше знакомый, Яшка, то есть Яков Гайдученко. Вот один из них, служивший у какого-то торговца, кажется, в Крымской станице, поехал отвезти разный товар в Нижне-Баканскую и был там застигнут внезапным набегом черкесов. В перепуге он спрятался куда попало, под низенький мостик через овраг. Там уже сидело несколько других жителей. Черкесы мимоходом подскакивали к мостику, заглядывали под него, старались шашками зарубить прятавшихся, но те отпихивались дрючками и грозили ружьями, бывшими у двух-трех, и черкесы отбегали, бросаясь в свалку на улицах. Дело это кончилось бы такой же гибелью Нижне-Баканской, как поста на Липках, если бы некоторые казаки не догадались броситься за помощью в Крымскую, кое-как пробившись сквозь ряды черкесов В Крымской в это время стоял драгунский полк. Услышав о бедствии Баканской, драгуны марш-марш помчались на выручку. Проскакав в карьер верст двадцать, отделявших от станицы, они неудержимой лавиной обрушились на черкесов, а станичные казаки, ободрившись, с новой силой напали на них с другой стороны. Черкесы бросились врассыпную, и тут была уже не битва, а избиение бегущих. Вся партия была истреблена и рассеяна без остатка. Услыхав об этом разгроме, партия, сжегшая Липки, также рассеялась. Так окончилась попытка горцев уничтожить вновь поставленные станицы и укрепления.
При нас опасность уже прошла, черкесы ничего серьезного не затевали, гарнизон был усилен, и только раз ночью тревога всех поставила на ноги. Это уже и я сам помню. Ночью неожиданно раздался выстрел, и вслед за ним барабан затрещал тревогу. Снаружи послышался топот рот, бегущих по назначенным пунктам, шум, командные крики. У нас,’ конечно, все в испуге проснулись, поспешно оделись; отец бросился разузнать, в чем дело... История, однако, быстро разъяснилась и оказалась просто комической. В крепости отхожее место казарм выходило под стеной наружу, куда и изливались избытки нечистот. Пленный черкес, содержавшийся на гауптвахте, подсмотрел это. Ночью он попросился в отхожее место, куда с ним пошел и часовой, простоватый хохол, новичок в службе. Черкес, пользуясь темнотой, опустился в отхожее место, чуть не по горло в нечистоты, и пробрался в них под стеной на волю. Солдатик заметил его исчезновение только тогда, когда он зашумел под стеной. Страшно перепуганный тем, что упустил арестанта, он дал выстрел в воздух и выскочил с криками: «Ой, лишечко! Ой, лишечко!» Услыхав выстрел и крики, барабанщик ударил тревогу, и вот поднялась суматоха... Когда история разъяснилась, все, смеясь и ругаясь, разошлись спать. Что постигло солдата, упустившего черкеса, — не знаю. За самим черкесом была послана погоня для проформы, потому что, понятно, догнать его было невозможно. Но один знакомый офицер, кажется Винклер, попал на гауптвахту за то, что его команда лишь с опозданием явилась на свой пункт, назначенный ей по расписанию, а именно на батарею.
Но если черкесы не предпринимали ничего серьезного, то разбойничали повсюду и били русских, где только они попадались. А все горы были еще полны аулов. Местность была густо заселена горцами. Поэтому выходить из пределов своих караулов было очень опасно. Нарубить дров, накосить сена — все приходилось делать с вооруженной охраной. Сообщения с внешним миром производились с «оказией». Мы сидели как бы в некоторой блокаде. Самые далекие прогулки, которые мы делали с отцом, — это были форштат, адмиралтейство, сатовка и огороды, разведенные среди развалин старого Новороссийска.
Только, кажется, уже на следующий год удалось мне побывать в лесу. Дело вышло так. У нас пропала корова, содержавшаяся на ротном дворе и выгоняемая к лесу на пастбище. Денщик, посланный поискать ее, уверял, что она валяется убитая в лесу. Отец этому не верил и думал, что денщик просто участвовал в покраже ее ротными солдатами. Там, на ротном дворе, на форштате, уже была якобы украдена превосходная наша лошадь, иноходец, в действительности проданный солдатами куда-то на сторону. Итак, отец решил сам отправиться в лес посмотреть корову и взял меня с собой. Поехали мы на дрогах. В это время в лесу уже были прорублены дороги в разных направлениях. С любопытством и со страхом въезжал я в таинственное лесное царство, осматриваясь, нет ли где черкесов, о которых наслушался столько ужасов. Даже присутствие отца меня не успокаивало. А он, как нарочно, производил расследование самым настойчивым образом. Коровы не оказалось на том месте, где она будто бы валялась. «То, мабуть, я сбився, — отговаривался денщик, — мабуть, то на иншей дорози». «Ступай на другую», — отвечал отец. И вот мы начинаем кружить по лесу... Красота была неописуемая. Высокие, под небеса, деревья — дубы, ясени, клены — стеной стояли по обе стороны узкого коридора дороги. Заросшие кустами, обвитые диким виноградом, они шумели своими вершинами, а внизу все было тихо, не шелохнется... Свежий, ясный воздух, пропитанный благоуханиями, обдавал нас как будто волнами волшебной ванны. Но где мы? Далеко ли заехали? Где выход обратно в Новороссийск? А вдруг как выскочат из засады горцы? Я не мог ничем унять своей тревоги и успокоился только тогда, когда отец крикнул: «Ну, поворачивай назад!» Коровы, разумеется, нигде не оказалось...
X
Изгнание черкесов с Западного Кавказа началось, когда мы еще были в Темрюке, вслед за покорением Восточного Кавказа. События, касающиеся Шамиля, Дагестана и т. д., я знаю почти исключительно по литературным источникам. Но что касается Западного Кавказа, я, можно сказать, лично пережил эту страшную историческую трагедию, подобную которой едва ли знавал мир даже в эпоху великого переселения народов. Я довольно хорошо знаю и литературу этого предмета. Я знаком немножко даже с архивными данными, ее касающимися, потому что в 1887 году собирался писать историю русского завоевания моей родины и по этому поводу входил в сношения с известным екатеринодарским исследователем Фелицыным, имел архивные документы Новороссийского округа благодаря любезности его тогдашнего начальника войскового старшины Соколова. Собранные мною материалы, статистические таблицы, выписки, начерченные мною планы и карты — все это погибло вместе со множеством других моих бумаг во время нашей революции. Но помимо этих литературных и архивных данных, я знаю историю выселения западнокавказских горцев по рассказам участников этого дела; и наконец, выселение прошло перед моими глазами. Мне тогда было десять–двенадцать лет, но я был мальчиком преждевременно развитым, а рассказы участников событий слыхал в разное время вплоть до 1887 года. Таким образом, я могу говорить о всей этой истории очень уверенным голосом, и если даже что-либо позабыл или перепутал, то в общем мое свидетельство имеет известную документальную ценность. Это предисловие я делаю потому, что мой рассказ не вполне сходен с тем, что мы имеем в литературе предмета, и я, зная эту разницу, не отказываюсь от своих слов и готов был бы их отстаивать даже перед исследователями-специалистами.
Как уже упоминалось раньше, князь Барятинский после покорения Восточного Кавказа созвал в 1860 году во Владикавказе совещание для установки плана покорения Западного Кавказа. На совещании было выдвинуто два плана. Генерал Филипсон полагал, показав черкесам русскую мощь военными мерами, привлечь их сердца к России мерами гуманными, выражая уверенность, что мы можем завоевать их культурно. Это, разумеется, совершенная фантазия. С одной стороны, под властью России черкесы не могли бы сохранить той степени благосостояния, какой достигли собственными силами. С другой стороны, мы ничем не могли искоренить в них привычек хищничества в отношении соседних народов. В-третьих, западные черкесы, адыге, жили независимой жизнью больше веков, чем сколько существует сама Россия. Еще древние греки знают «керкезов», то есть черкесов-адыге, и если за истекшие с тех пор тысячелетия черкесы испытали несколько завоеваний, то совершенно поверхностных, не уничтожавших их фактической независимости; и сверх того, они за долгие века привыкли видеть, что их завоеватели скоро исчезают, а они, черкесы, остаются по-прежнему владетелями своей родины и живут как хотят, и устраиваются, как им лучше нравится. Глубокие перевороты бывали и у них, а именно у шапсугов, которые низвергли у себя князей и развили до последних выводов демократический строй. Но это сделали они сами. Чужого же владычества черкесы над собой не захотели бы признать, даже хотя бы и турецкого, несмотря на то что султан имеет для них священное значение религиозного владыки. Что касается России, она могла бы держать их под своей властью только при страшном гнете военной силы, то есть при таком условии, когда черкесы не могли бы ни жить в довольстве, ни чувствовать себя счастливыми.
План Евдокимова был совсем иной. С черкесами ужиться нельзя, привязать их к себе ничем нельзя, оставить их в покое тоже нельзя, потому что это грозит безопасности России, разумеется, не вследствие пустячного хищничества абреков, а вследствие того, что западные державы и Турция могли бы найти в случае войны могущественную опору в горском населении. Отсюда следовал вывод, что черкесов, для блага России, нужно совсем уничтожить. Как совершить это уничтожение? Самое практичное — посредством изгнания их в Турцию и занятия их земель русским населением. Этот план, похожий на убийство одним народом другого, представлял нечто величественное в своей жестокости и презрении к человеческому праву. Он мог родиться только в душе человека, как Евдокимов. Это был сын крестьянина, взятого в рекруты по набору и дослужившегося до какого-то маленького офицерского чина — уж конечно не благодушием, а силой воли, энергией, суровостью. У Николая Ивановича Евдокимова текла в жилах кровь мужика, энергичного и чуждого жалости, когда дело касается его интересов. Имея огромный практический ум, несокрушимую энергию, свободный от всякой чувствительности, совершенно необразованный, только грамотный, он спокойно взвесил отношения русских и черкесов и принял свое решение в плане «умиротворения» посредством «истребления».
Этот план нашел полный отзвук в душе князя Барятинского, потомка созидателей Руси, готовых все ломать и крушить во имя своего дела и столетия назад выработавших афоризм: «Где рубят лес, там щепки летят». Давно, с 1835 года, зная кавказских горцев, в боях с которыми получил несколько ран и заслужил репутацию бесстрашного и талантливого воина, князь Барятинский, без сомнения, имел честолюбие, которое рисовало ему славу преемника Ермолова и Воронцова, превзошедшего обоих величием своих дел. Не было еще человека, способного покорить горцев, но князь Барятинский будет таким человеком. И он действительно завоевал восточных горцев. Оставались западные, с которыми сладить было еще труднее. В Дагестане можно было совершить завоевание без уничтожения противника, и князь Барятинский охотно оставил лезгинам существование, явился покорителем, но не истребителем. Относительно адыгейских народов он ясно понял, что Евдокимов говорит дело: что тут либо мы, либо они, а вместе мы жить не можем, — и бестрепетно решил: если так, то пусть они погибнут, а мы останемся жить на их месте.
Я ничуть не думаю, что князь Барятинский подписывал этот смертный приговор целому народу с таким же легким сердцем, как Евдокимов. Нет, конечно, это ему было тяжело. Он был аристократ, образованный, культурный, даже утонченно цивилизованный, понимавший роскошь и все тонкости благ земных, дамский кавалер и рыцарь. Воевать, побеждать, завоевывать, властвовать — это была его сфера. Но истребить целый народ — это уже деяние «сверхчеловека», деяние, перед которым могут дрогнуть и Кромвель, и Наполеон. Но так как иначе нельзя поступить, чтобы свершить свое дело и заплести до конца венок своей славы завоевателя Северного Кавказа, то Барятинский решил: быть посему. Евдокимову, конечно, не приходилось переживать никаких мучительных ощущений. Ему не предстояло делать усилия сверхчеловека, а скорее наоборот — в нем говорила спокойная решимость человека со слабо развитым чувством гуманности и правосознания. Но при всей противоположности натур аристократический князь и сын человека из народа сошлись на хладнокровном понимании положения вещей и одинаковой решимости все принести в жертву величия России.
Однако, при всей широте полномочий князя Барятинского, требовалось получить разрешение от Императора. А Александр II, воспитанник Жуковского, был очень чувствителен. Крутые меры были всегда не по нем, а тут предстояло нечто такое, по поводу чего вся Европа могла закричать о бесчеловечии и варварстве. В нем жил тот же «петербургский» дух, что и в генерале Филипсоне. В довершение всего князь Барятинский уже в 1861 году стал хворать, надломилась его сила, так что в 1862 году он уже официально оставил наместничество и совсем уехал с Кавказа. Остальную часть жизни он провел за границей, где и умер. Честь завоевателя Западного Кавказа досталась не ему. Его заслуга в этом деле состоит только в том, что он выдвинул вперед Евдокимова и своим именем санкционировал его планы. Но личным воздействием на Императора поддерживать их он уже не мог. А планы хотя и были в принципе приняты Александром II, но в практическом исполнении всегда могли быть до неузнаваемости переиначены. И вот Евдокимову пришлось пустить в ход свои дипломатические таланты, оказавшиеся очень крупными.
По его плану, изгнание горцев должно было идти одновременно с переселением казаков на их место. Но как же их переселить? Генерал Филипсон, так деликатно относившийся к горцам, не считал нужным стесняться с русскими, и по его проекту решено было переселять казаков целыми полками, частью с Линейного войска, частью с Черноморского. Но в обоих войсках вспыхнул открытый бунт. Когда в Хоперский полк послана была воинская команда для побуждения бунтующих переселенцев, казаки выстроились правильными воинскими частями против присланного отряда, и между обеими враждующими сторонами ежеминутно готова была разразиться кровавая схватка. В Черноморье был заявлен такой же решительный протест. Казаки громко кричали, что будут силой сопротивляться переселению В Екатеринодаре тогда должность войскового атамана исправлял, кажется, генерал Кусаков. Он хотел убежать из бунтующего города, но казаки, узнав о его отъезде, погнались за ним и воротили его силой. «Вы наш атаман и должны быть вместе с нами, вместе отстаивать казачьи интересы», — кричали они. Черноморское так называемое дворянство, то есть попросту казачьи офицеры, «паны», составили протест, в котором заявляли, что приказ о переселении нарушает данные казачеству грамоты Екатерины II, и подали его Кусакову для передачи Евдокимову. Казаки насильственными мерами давили на всех несогласных с ними. Генерал Яков Кухаренко, {13} кровный, заслуженный казак, до сего весьма популярный, подал в Петербурге голос за проект Филипсона, и войско его за это возненавидело. Вскорости они ему жестоко отомстили. Когда он ехал в Ставрополь, они дали знать черкесам, будто бы проезжать будет генерал Бабич, которого горцы старались убить за разорение их земли. Поэтому черкесы устроили засаду и бросились на карету Кухаренко, думая, что это ненавидимый ими Бабич. Казачий же конвой моментально разбежался. Выданный таким образом в руки врагов, Кухаренко сначала храбро отбивался шашкой, но, конечно, скоро упал израненный, и черкесы потащили его на аркане в свои аулы. Когда они узнали, что их пленник не Бабич, они готовы были отдать его за выкуп, но он не пережил ран и аркана и через несколько дней умер в плену. А казаки, сверх того, сделали нападение на его хутор и нанесли тяжкие оскорбления членам его семьи, попавшим им в руки.
Единодушный отпор казачества грозил опрокинуть все планы Евдокимова. Приходилось сражаться уже не с черкесами, а со своими же казаками. Сверх того, такой оборот дела, конечно, скомпрометировал бы все планы в глазах Императора. Тогда Евдокимов пошел на уступки, требовавшие большего самопожертвования и находчивости, чем всякие сражения. Он немедленно отменил уже назначенное переселение, увел войска и в личных объяснениях с казаками выставил дело в таком виде, что это вышло простое недоразумение. Казаки давно просили дать станицам право выселять своих порочных членов. Евдокимов будто бы и хотел исполнить их желание и заселить такими людьми Закубанье... Он быстро составил новые правила переселения, не трогая целых полков и станиц, а выселяя только несколькими семьями, с большими пособиями от казны и привлекши к делу не только прикубанских казаков, а даже донских и терских. Казаки успокоились, и среди них нашлось достаточно для Евдокимова народа, выселяемого по приговору общества или добровольно решавшего попытать счастья за Кубанью. А для того чтобы у Императора не являлось и тени сомнения в целесообразности общего плана переселения, Евдокимов в личном разговоре с Александром II оправдывал казаков и обвинял самого себя в неудачно принятой первой мере, хотя в действительности виноват был не он, а Филипсон. Вообще, Евдокимов готов был сделать все, не щадя ни себя, ни других, лишь бы Западный Кавказ был покорен. Что касается переселенцев, он делал для них всевозможные льготы. Для них войсками заранее устраивались хаты и сараи, вновь образованное Кубанское войско назначило им большие пособия, даже на постройку церквей, [24] от казны им выдавалось продовольствие в течение трех или пяти лет (не помню хорошо). Со всем этим дело пошло гладко.
Оставалась только другая опасность: чтобы Император не разжалобился участью черкесов и не отменил поголовного их изгнания. В этих видах проект выселения ставил перед черкесами не требование уходить из России, а предоставлял каждому на выбор; или выселиться на так называемую «плоскость», то есть низменные прикубанские земли близ Майкопа, или уходить в Турцию. Но могла ли эта плоскость вместить всех черкесов, если бы они пожелали остаться? На этой территории могло уместиться тысяч сто народа, при наделах весьма недостаточных. И вот начали сочинять официальную статистику, до бесстыдства уменьшавшую число черкесов во всех их племенах Я, к сожалению, не могу теперь на память называть цифры, но они врали, в пять или десять раз уменьшая население гор. Цифры эти были опровергнуты через два или три года самим же официальным подсчетом выселяющихся, но они и были нужны только на минуту, чтобы обмануть петербургские высшие сферы и самого Императора. Эта статистика имела, однако, свою слабую сторону, так как малочисленность горцев могла рождать мысль о том, что они и оставаясь на местах не представляют большой опасности. Поэтому нужно было убедить Императора в их непримиримости в отношении России. Этого Евдокимов лично достиг в 1861 году, уже без участия князя Барятинского, уехавшего на излечение за границу.
В 1861 году Император Александр II прибыл на Северный Кавказ отчасти вообще для обозрения этого края, главнейшим же образом для окончательного решения черкесского вопроса, который Евдокимов, не дожидаясь окончательных приказов, фактически решал с лихорадочной быстротой. Ввиду ожидаемого приезда Императора он придумал такую хитрость. Среди черкесов у него было множество «кунаков», приятелей, и он стал собирать их у себя и вел такие речи, что сам по себе он любит черкесов и вовсе не желает их выселения, а если действует против них, то только по приказаниям князя Барятинского; но вот теперь едет сам Император и хочет лично говорить с черкесскими депутатами; это человек редкой доброты, желающий сделать счастливыми все народы; горцы могут высказать ему все свои пожелания с полной уверенностью, что он их удовлетворит; он, Евдокимов, от души советует им не упустить редкого благоприятного случая.
Приятели Евдокимова, увлеченные такими светлыми мечтами, рассеялись по горам, всюду распространяя внушенную им идею. Горцы, мало смыслящие в политике, легко вдались в обман. В сентябре 1861 года в наш отряд, стоявший на реке Нижний Ларе, прибыл Император и собрались депутаты от шапсугов, натухайцев, убыхов и других племен. На аудиенции они с чистым сердцем изложили свои требования. Они заявили, что желают уничтожения на их землях русских укреплений и вывода войск; русских поселений на их землях также не должно быть; равным образом у них не должно быть никакой русской администрации; при соблюдении этих условий они готовы признать верховную власть русского царя и жить мирно... Можно себе представить эффект таких требований, каких не мог бы представить России самый победоносный неприятель. Император убедился, что с черкесами невозможно никакое соглашение, и тут же, в сентябре, утвердил все планы Евдокимова.
И вот они с удвоенной энергией стали приводиться к дальнейшему исполнению.
Должно заметить, что горцы сначала надеялись на заступничество Европы и Турции. Они посылали туда своих депутатов. Я помню, как в Новороссийск возвратился натухайский князь Костанук, ездивший, кажется, в Англию. С ним была большая свита. Весь его табор расположился на берегу реки Цемеса, так что из Новороссийска был очень хорошо виден. Из наших знакомых у Костанука бывал доктор Дорошевич, которого вызвали по случаю болезни кого-то из приближенных князя. Но нерадостны были вести, привозимые депутатами. Никакой помощи они не нашли. Только Турция соглашалась принять переселенцев, о чем, впрочем, усиленно хлопотало и само наше правительство. Нажимая на черкесов и подгоняя их все ближе к берегу, наши, понятно, желали, чтобы на берегу было возможно более судов для их погрузки и чтобы Турция возможно шире открыла для них свои двери. Горцев всячески побуждали поскорее уходить, старались возбудить в них самостоятельное движение к переселению. С этой целью Евдокимов даже испросил ассигновку ста тысяч рублей для пособия добровольно выселяющимся семьям. Конечно, такой ничтожной суммы могло хватить лишь на самое ничтожное количество народа, но Евдокимову нужно было только пустить слух о пособиях, чтобы это побудило других поскорее сниматься с места в надежде на получение казенных денег. Однако главным средством воздействия оставалось чистое насилие.
Как я упоминал, черкесы сначала защищались, соединялись в союзы, дрались не на живот, а на смерть. Но их, конечно, всюду разбивали, и мало-помалу горцы пали духом, перестали даже защищаться. Русские отряды сплошной цепью оттесняли их и в очищенной полосе воздвигали станицы с хатами и сараями. За ними следом являлись переселенцы-казаки и поселялись в заготовленных станицах, окончательно доделывая постройки. Черкесы, когда уже совсем растерялись и пали духом, в большинстве случаев пассивно смотрели на совершающееся, не сопротивляясь, но и не уходя. Не сразу можно было подняться, не сразу можно было даже сообразить, что делать, куда уходить. Но размышлять долго им не давали. Во все районы посылали небольшие отряды, которые на месте действия разделялись на мелкие команды, и эти в свою очередь разбивались на группы по нескольку человек. Эти группки рассеивались по всей округе, разыскивая, нет ли где аулов, или хоть отдельных саклей, или хоть простых шалашей, в которых укрывались разогнанные черкесы. Все эти аулы, сакли, шалаши сжигались дотла, имущество уничтожалось или разграблялось, скот захватывался, жители разгонялись — мужики, женщины, дети — куда глаза глядят. В ужасе они разбегались, прятались по лесам, укрывались в еще не разграбленных аулах. Но истребительная гроза надвигалась далее и далее, настигала их и в новых убежищах. Обездоленные толпы, все более возрастая в числе, бежали дальше и дальше на запад, а неумолимая метла выметала их также дальше и дальше, перебрасывала наконец через Кавказский хребет и сметала в огромные кучи на берегах Черного моря. Отсюда все еще оставшиеся в живых нагружались на пароходы и простые кочермы и выбрасывались в Турцию. Это пребывание на берегу было не менее ужасно, потому что пароходов и кочерм было мало. Переселявшихся за море было свыше полумиллиона. Нелегко можно найти перевозочные средства для такой массы народа, и злополучные изгнанники по целым месяцам ждали на берегу своей очереди. Да о заготовке перевозочных средств никто и не подумал своевременно. Турецкое правительство было застигнуто врасплох такой массой эмигрантов. А почему наше ограничилось такими ничтожными мерами, как зафрахтовка грех пароходов Русского общества, да в крайнем случае перевозило на каком-то военном судне, — я не знаю. Вероятно, оно было обмануто фальшивой статистикой и тоже не ждало многих сотен тысяч душ переселенцев. К услугам эмиграции явились частные предприниматели, которые брали с горцев большие деньги и нагружали их на свои кочермы и баркасы, как сельдей в бочку. Они умирали там как мухи — от тифа и других болезней.
Вся эта дикая травля — не умею найти другого слова — тянулась около четырех лет, достигши своего апогея в 1863 году. Бедствия черкесов не поддаются описанию. Убегая от преследований, они скитались без крова и пищи, зимой — при двадцатиградусном морозе. Зимы, как нарочно, были необычайно холодные. Среди черкесов стали развиваться опустошительные болезни, особенно тиф. Семьи разрознялись, отцы и матери растеривали детей. Умирали под открытым небом и в норах. Рассказывали, что наши натыкались на случаи употребления несчастными человеческого мяса. Я говорю об ужасах изгнания горцев как очевидец. Когда понуждения их к выселению докатились и до Новороссийска, все горы, окружающие Цемесскую долину и бухту, задымились столбами дыма от выжигаемых аулов, а ночью всюду сверкали иллюминацией пожаров. Мы даже не подозревали, что наши горы были так густо заселены. Дым подымался и огонь сверкал чуть не в каждом ущелье. Эта зловещая картина стояла перед нашими глазами, пожалуй, так в течение месяца. Потом огонь с аулов перекинулся и на леса, и в течение многих лет в великолепном лесу по Цемесу можно было видеть там и сям громадные черные стволы лесных великанов.
Я был и лично на лесном пожаре по Цемесу. В это время загнанных, растерявшихся, дошедших до полной апатии черкесов уже не боялись, и меня как-то взяли в лес, горевший совсем близко от Новороссийска. Опасности от огня не было, потому что в любую минуту можно было выйти на долину, да и пожар шел больше внизу по валежнику. Через год-два мне пришлось видеть и остатки выжженных аулов. Один из них находился на том месте, где мы основали наш хутор.
Сколько горцев погибло за это время от всяких лишений, голода, холода и болезней — это известно одному Господу. Подсчитывать трупы по лесам и всяким трущобам было и некому, да и невозможно. Даже на берегу, где горцы находились уже под нашим надзором, массы умирающих закапывали поспешно и без внимательного подсчета. Думали только о том, чтобы трупы тифозных не распространили заразы. Отец показывал мне впоследствии места, где их зарывали (по ту сторону бухты), говорил, что трупы засыпались негашеной известью, что их было множество, но точного числа никогда не называл. Не попадалось мне данных по этому предмету и в литературе. Отдельные отрывочные известия говорят, что в Турции в разных местах скопления эмигрантов, например пятидесяти тысяч их, умирало человек по двести в день. Не знаю, было ли лучше у нас.
Переселяющиеся погружались в Турцию по всему Черноморскому побережью, но главным пунктом выселения был Новороссийск. Из пятисот тысяч эмигрантов, насчитываемых официальной статистикой, через Новороссийск прошло сто тысяч. Нужно заметить, что некоторое число горцев успели все-таки скрыться в совершенно недоступных горных трущобах. Их, конечно, было немного, однако время от времени в наших местах там и сям попадался какой-ни-будь черкес, озирающийся как дикий зверь и прошмыгивающий через лесную поляну в чащу. Я знаю один случай, когда казаки наткнулись, уже много лет спустя, на целый табор черкесов и атаковали их, причем один казак был убит (или ранен, не помню), а черкесы разбежались. В 80-х годах несколько сот горцев, прятавшихся двадцать лет, спустились к морю и основали два аула — один Песушко, а другой не помню. Их не тронули и позволили жить спокойно.
В Новороссийске горцы постоянно скапливались по десять-двадцать тысяч: одни приходили, другие уезжали, но огромные таборы стояли постоянно. Это были почти сплошь грязные оборванцы, напоминавшие цыган, с той разницей, что имели истощенный вид. Среди них было множество больных. В глаза бросалось огромное количество сирот. Жили черкесы отчасти близ самого укрепления, в развалинах старого Новороссийска, отчасти на болотном берегу Цемеса, отчасти по ту сторону бухты. Наиболее удобным помещением для них были развалины серебряковского дома, в котором половина стен стояла еще твердо. Тут постоянно ютилось множество черкесов почти под открытым небом, но в защите от ветра. В других местах было хуже. Там они сооружали из жердей жалкие шалаши, покрытые чем придется. Многие жили на тех же арбах, на которых приехали. Надолго никто не рассчитывал устраиваться, все мечтали не нынче завтра погрузиться на пароход или кочерму. В ожидании главное их занятие составляла распродажа своего скота и домашнего скарба — ковров, посуды, сундуков, платья и т. д. Все это они приносили и пригоняли на сатовку, которая постоянно была очень оживленна. Новороссийские жители ходили также и в таборы высматривать и покупать, что понравится. Распродажа шла в высшей степени дешево, да и, правду сказать, товар был таков, что дорого не за что было и платить. Черкесский скот был мелок и слаб. Коровы давали очень мало молока. Быки тоже по малорослости были слабосильны. Черкесские арбы, двухколесные телеги, и непривычны для русских, и удобны только на узких горных дорогах. Впрочем, их все-таки раскупали, и в течение нескольких лет арбы вошли в большое употребление среди русских. Раскупали, конечно, и скот. Лошади попадались очень хорошие, но главным образом для верховой езды. Вещей же хороших почти не было, все больше деревянные, вроде низких столиков с углубленной тарелкообразной доской, на которой черкесы месят тесто для своих лепешек. Фаянсовой восточной посуды было мало. Чаше покупали медные кувшины, железные котелки и т. п. Изредка попадались хорошие кинжалы. Черкесские скамеечки — очень низенькие, сундуки плохой работы, ковры тоже плохие. Вообще, товар весьма второго и третьего сорта, и в довершение черкесы, копя деньги для Турции, не принимали бумажек, а только серебро. Золота тогда не было и у самих новороссийцев.
Болезни и голод у черкесов так бросались в глаза жителям города, что многие стали носить им пищу и разное платье, чтобы сколько-нибудь защитить женщин и детей от холода. Моя мама, вообще очень жалостливая, едва ли не первая выступила с помощью оборванным, полуголым черкешенкам и их детям. Многие новороссийские дамы делали то же самое и наконец соединились для этого в благотворительное общество, хотя без всякого формализма, без всякого устава. Посещая таборы, они замечали огромное количество осиротевших детей, родители которых умерли или неизвестно где затерялись. Этих сирот многие стали брать к себе. Говорят, и простые казаки, при всей своей суровости, бывали тронуты жалкой участью заброшенных детей и также принимали их в сбои семьи. Относительно казачьих приемышей мне не пришлось лично ничего наблюдать. Но в новороссийском обществе я видел их несколько. Жизнь одного из них сложилась так, как он не мог бы и мечтать в своих горах. Его принял к себе доктор и винодел Михаил Федотович Пенчул. Он окрестил своего приемыша, дал ему свою фамилию, отправил на свой хутор и приучал по хозяйству. Мальчик этот, Сергей, оказался умен и очень хорошего нрава. Когда он подрос, Михаил Федотович отправил его в Магарачское училище виноделия (в Крыму), и по окончании курса Сергей стал помощником своего крестного отца на винограднике, а через несколько времени старый Пенчул дал ему возможность завести и свой виноградник тут же рядом, в той же долине Сус-Хабля. Впоследствии Сергей Михайлович Пенчул женился, завел в городе Новороссийске торговлю, был выбираем на общественные должности и стал наконец новороссийским городским головой. Он был почти богач и пользовался общим уважением. Между прочим, Сергей Пенчул был, да, конечно, и теперь остался, искренне и глубоко религиозным христианином.
Взяли к себе одного черкесенка и Рудковские. Мальчишка был так себе, ни особенно хорош, ни особенно плох, и, по всей вероятности, вышел обычным новороссийским мещанином.
Моя мама приняла к себе двух черкесских сирот — девочку Кафезу и мальчика Бжиза. Обоих она, конечно, крестила. Кафеза, когда подросла, сложилась в чрезвычайно красивую девушку. Кроткая, скромная, покорная, она впоследствии вышла замуж за одного поселившегося в Новороссийске солдата, и, насколько помнится, ее скромная доля сложилась счастливо. Но Бжиз, Алексей, как назвали его при крещении, оказался совершенно невозможной личностью. Когда его взяли к нам, он был уже не маленький, лет четырнадцати. Злой, упрямый, он презирал труд, не чувствовал никакой благодарности к людям, спасшим его от голодной смерти, напротив, он стыдился, что его заставляют работать, и относился к моему отцу и матери с какой-то враждебностью. Его идеалом было выйти в офицеры, и по своей неразвитости он не мог понять, какую тяжелую школу науки и дисциплины ему бы потребовалось для этого пройти. Он был вдобавок и совсем неумен, хотя по-русски выучился хорошо говорить. Вечно угрюмый и озлобленный, он внушал невольный страх, и держать его в семье было очень тяжело. Кончилось дело тем, что он обокрал нас, попал в тюрьму и затем исчез с нашего горизонта. Никто не знал, что с ним сделалось. Признаюсь, мне трудно и судить об Алексее. Он никому не открывал своей души. Может быть, он ненавидел русских вообще, как губителей своей родины, и был бы в своей среде гораздо лучше, чем среди русских. Во всяком случае, это была натура дикая. Сама наружность его выражала это: ястребиный, изогнутый нос, пронзительные глаза, лицо с выражением хищной птицы. Если бы он остался в горах, то, вероятно, вышел бы абреком и на этой почве мог бы даже прославиться между своими земляками.
А ненавидеть русских черкесы, конечно, имеют полное право. Таких истреблений целого народа, как на Западном Кавказе, история назовет немного. Трудно сказать, как велико было все число горцев от Черного моря до Лабы, но думаю, что его должно считать до миллиона. Из них только сто тысяч уцелели у нас, переселившись на плоскость. Свыше пятисот тысяч ушли в Турцию, причем огромное количество их перемерло на судах и в самой Турции. Погибших — во время изгнания, у нас в боях, от голода, болезней и лишений, еще не достигши до берега и на берегу, в ожидании погрузки, — я думаю, было во всяком случае несколько сот тысяч...
Таким образом, огромный, богатый, чарующий красотою край был радикально «очищен» от населения, жившего там в течение тысячелетий... Горцы не могли не чувствовать к нам жгучей ненависти, и, погружаясь на суда, огромные толпы их пели какие-то гимны, в которых проклинали русских и заклинали покидаемую родную землю не давать им урожая и никаких плодов. Но великая человеческая трагедия совершилась, а равнодушная природа продолжала сиять своей вечной красою для русских, как прежде сияла для черкесов, не ведая ни жалости, ни гнева.
XI
Днем покорения Западного Кавказа и окончания 50-летней войны с черкесами официально считается 21 мая 1864 года. В этот день отряд генерала Геймана {14} занял какие-то высоты Кавказских гор, еще не бывшие в нашей власти, и перевалил через хребет к морю. Генерал Гейман был храбрый и умный офицер, но собственно 21 мая не совершил никакого подвига, потому что на этом месте окончания войны не было уже никакой битвы. Это было просто занятие последнего пункта черкесской территории. Император Александр 11 желал, чтобы знаменательное событие было совершено великим князем Михаилом Николаевичем, которого он только что назначил наместником Кавказа. Предполагалось, что таким образом честь покорения Западного Кавказа достанется ему. Поэтому последний переход через хребет сберегался для великого князя, который и спешил для этого на военном пароходе к, кажется, Вельяминовскому укреплению. Но Гейман вовсе не желал сделать ему этого подарка, закончил дело сам, и когда великий князь высадился на берег, то был встречен на пристани генералом Гейманом, который торжественно поздравил его высочество с окончанием Кавказской войны... Эта штука была с веселым хохотом приветствуема всем боевым офицерством, которое терпеть не могло «петербургских» щеголей, приезжавших постоянно пожинать лавры боевого офицерства и получать награды за чужие труды и подвиги. Но понятно, что подвиги генерала Геймана нимало не понравились великому князю, и военной карьере генерала наступил конец. Он затем уже постоянно оставался в тени, несмотря на все свои таланты и заслуги. Правду сказать, с политической точки зрения поступок Геймана не безупречен, потому что для нового наместника было бы действительно важно иметь некоторый вид завершителя дела своего предшественника. Впрочем, великий князь обошелся прекрасно и без этой чести. Он сам по себе умел сделаться популярным, и из всех русских начальников края ни один не пользовался такой любовью грузин, как он.
Все самые горячие годы изгнания горцев прошли, таким образом, перед нашими глазами. При нас же началось и преобразование всего края сначала на полугражданский, а потом и общегражданский лад. Отец, мама и сестра прожили в Новороссийске и до того времени, когда он стал обычным русским губернским городом, и по всей Черноморской губернии только кое-где развалины аулов да многочисленные одичавшие сады напоминали, что здесь когда-то жили черкесы.
Наиболее своеобразный вид жизнь края имела, конечно, в годы войны. Русские завоеватели были полны оживления. Они, по глубокому своему убеждению, являлись совершителями великою исторического дела. Черкесов бедствующих они жалели и помогали им. Но все сверху донизу вполне разделяли евдокимовскую идею об изгнании черкесов как единственном средстве окончить полувековую борьбу. Такое самосознание совпадало и с личными интересами, потому что с военными действиями соединялись награды, повышения по службе и т. д. Тон жизни был бодрый и оживленный. Я упоминал, что мы жили в некоторой блокаде. В таком же положении находились и другие укрепления новосоздаваемой станицы. Но военное население этим не смущается и умеет жить весело среди опасностей. В то время когда с горцами еще повсюду дрались, когда происходили такие происшествия, как захват горцами генерала Кухаренко, в отрядах или гарнизонах, случалось, устраивались веселые балы, на которые приглашались гости из других отрядов. По мню, как рассказывала об этом одна наша знакомая, молоденькая m-lle Казиляри, вышедшая замуж за капитана Ардюсера (собственно, полная его фамилия была Ардюсер фон Гогендакс де ла Бельтацо). Они стояли, помнится, в укреплении Абин, а в отряде Крымской станицы офицеры устроили бал. Как удержаться от желания потанцевать? Сообщений нет, экипажа не найдешь, да и опасно: в экипаже от черкесов не ускачешь. И вот абинские дамы наряжаются в бальные платья и в сопровождении своих вооруженных кавалеров мчатся верхом на праздник за два десятка верст. Конечно, платья помяты, запылены, а то и забрызганы, и перед балом с ними приходится много повозиться. Но зато как веселы эти танцы с приключениями!
Бесшабашная военная жизнь создавала приключения и более необыкновенные. Как-то казачий офицер оскорбил (кажется, назвал подлецом) драгунского. Вызвать на дуэль — по военному времени невозможно. Тогда драгун приглашает с собой нескольких товарищей и едет к казакам, у которых давали бал. Войдя в собрание, драгун нашел своего обидчика и закатил ему здоровенную оплеуху. В тот же момент драгуны выбежали, вскочили на коней и — марш восвояси. Казачий офицер велит бить тревогу, командует взводу казаков: «На коней!» — и мчится во весь дух за драгунами. Могла выйти очень скверная штука — междоусобная битва войск разных оружий, но, к счастью, казаки не догнали драгунов. Не знаю, чем окончательно разрешилась эта история.
У нас в Новороссийске с увеличением числа войск жизнь тоже очень оживилась. Тогда к нам назначили нового воинского начальника, генерала Лыкова. Кстати сказать, мы в это время переменили квартиру и заняли один из казенных домов в ряду тех, которые тянулись к дому воинского начальника. Их и всего-то было четыре дома: в одном поселились мы, в другом — адъютант Бабича Кучковский, выздоравливавший от ран, в третьем была канцелярия воинского начальника, а в четвертом — он сам. Одно время в Новороссийске почему-то проживал генерал Бабич, который занимал дом около крепостных ворот. Это был самый популярный между казаками генерал, и сам еще совсем проникнутый стихиями казачьего быта и характера. Казаки, между прочим, считали его заговоренным, заколдованным и были уверены, что его не берут ни шашка, ни пуля. И действительно: черкесы никого не старались убить так настойчиво, как Бабича, разорителя их земли, и никогда им это не удавалось. Из-за него погибло немало других лиц. Я уже упоминал о горькой судьбе Кухаренко, принятого за Бабича. Другой случай, мне известный, относится к капитану Кучковскому. Это произошло еще в Адагумском отряде. Несколько черкесов успели в какой-то схватке пробиться до Бабича и бросились на него в шашки. В первый момент никто не подоспел на выручку генералу, кроме его адъютанта Кучковского. И что же? Кучковский был искромсан шашками и долго потом проболел, а Бабич не получил ни одной царапины. Несколько времени спустя черкесы стреляли в Бабича, ехавшего с оказией через Маркотх, по старой дороге. Но Бабич и тут остался невредим, а предназначенная ему пуля засела в горле доктора Селицкого, ехавшего около него. Так в течение своей долгой боевой жизни (до самой войны 1877 года) Бабич, вечно находившийся в огне, ни разу не был ранен и умер в старости своей смертью.
Он был большой любитель пения, и около его квартиры хор казаков каждый почти вечер пел песни. Новороссийская публика, гулявшая по нашему крепостному «проспекту», любила собираться поблизости слушать этот хор. Казаки вообще музыкальны и пели прекрасно то разные думы про старину, то песни юмористические или воспевающие любовь. Одна, очень бойкая, относилась специально к Бабичу:
Як прикажет Бабич бить, С плеч головонька летить, Ой лихо-молодцы, Храбри, брави кубанци...Репертуар был исключительно малороссийский, за исключением заключительной песни, относившейся к каждому начальнику, когда ему пел солдатский хор:
Мы тебя любим сердечно, Будь нам начальником вечно, Всякий с тобою нам край Кажется рай, рай, рай.Далее говорилось, что они рады за него идти в огонь и в воду, во всякую бурю и непогоду, и в заключение:
Рады с тобой веселиться, Рады допьяна напиться, Вот и бутылка, стакан. Выпей, хозяин, прежде сам... —при этом певцов действительно обносили доброй чаркой водки.
Воинским начальником был тогда генерал Лыков, добрый наш знакомый, Аполлон, кажется, Григорьевич... Отчество я что-то позабыл. Жена его, Анна Яковлевна, была дочерью генерала Кухаренко. Сам Лыков был крупный, красивый мужчина, в молодости порядочный гуляка, не очень далекий, но храбрый и находчивый офицер. Как все сильные, крупные мужчины, он был флегматичен, пока у него не накипал гнев, разражавшийся целой бурей. Он хорошо знал кавказского солдата и умел с ним обращаться. Однажды, когда он еще не был генералом, ему пришлось штурмовать очень сильный черкесский завал, со множеством защитников. «Вижу я, — рассказывал он потом, — что мои солдатики что-то приуныли, подозрительно посматривают на завал, мнутся... Что тут делать! Надо их как-нибудь ободрить... „А что, ребята, — говорю, — завал-то, кажется, очень сильный?“ Тут со всех сторон отзываются: „Точно так, ваше высокоблагородие, сильный, трудный завал“. „То-то, — я говорю, — сильный, не сдастся сам. Значит, нужно брать!“ Послышался смех, развеселились. Я крикнул „ура!“, и смяли черкесов... Конечно, немало и наших уложили».
У Лыковых часто собиралось крепостное общество поиграть в карты, попить чайку, поболтать. Против нас сначала жил инженер Суходольский, Константин Викентьевич, с женой, Жозефиной Станиславовной, дочерью Эмилией и сыном Вячеславом, сверстником моего брата. Эмилия была молоденькая девушка, не столько хорошенькая, сколько привлекательная, кокетливая и с головой, набитой романтическими мечтаниями, а впрочем, очень милое и доброе существо. Это была семья тоже наших добрых знакомых. Вообще, у нас было много друзей-поляков. Отец относился к полякам крайне своеобразно. Среди них было множество лиц, которых он любил и уважал, как Янковский, Гутовский и т. д. С Гутовским он находился в постоянной переписке, которая велась на латинском языке. Оба одинаково хорошо знали по латыни. Нужно заметить, что Гутовский был действительно превосходный человек, редкой честности и в то же время деловитый. Впоследствии он стал темрюкским городским головой и пользовался среди населения чрезвычайной популярностью. Но, любя многих поляков как отдельных личностей, мой отец относился к польской науке презрительно, считал ее двоедушной и легкомысленной. «Подлый лях» — было его обычное выражение... Разумеется, он не оскорблял поляков выражением этих своих чувств, но когда дело доходило до политики, то не стеснялся обрывать их самым резким образом. Тогда в Польше шло повстание, которому поляки, разумеется, сочувствовали. Однажды, помню, мы большой компанией гуляли за городом по лесу. И вот проходим в одном месте под роскошным великаном дубом. «Экое чудное дерево, — заметил отец, — дюжину повстанцев можно бы повесить на ветвях!..» А среди гуляющих было два-три поляка...
Впрочем, вообще с поляками у нас жили дружно, да и сами поляки Кавказской армии относились к русским лучше, чем где бы то ни было. Военное, боевое товарищество всех связывало. Это можно сказать и о других национальностях. Все, кого называли «благородными» и «образованными», составляли дружное, сплоченное общество. В сторонке от него стояли только купцы, но они уж никак не могли назваться образованными. По большей части это были даже не русские, а греки, люди совсем другой цивилизации, по-русски даже и говорившие плоховато. В стороне от общества стояло и духовенство, как по всей, впрочем, России. У нас в Новороссийске мы застали священника отца Иоанна Костянского. Это был вдовый военный священник, отправлявший, впрочем, духовные обязанности для всего населения, быстро у нас возраставшего. Трудно сказать, хорош ли он был или плох. С одной стороны, пожалуй, очень плох. По своему вдовству он сожительствовал с какой-то бабой. Пить он так любил, что его можно назвать почти пьяницей. Никакой благоговейности у него не было. Он был неудержимый до болезненности хохотун. Один раз, помню, мылись мы — отец, я и отец Иван — в госпитальной бане, которой тогда, как единственной, пользовалось все новороссийское общество. Кончили мыться и выходим в предбанник. Отец и говорит ему: «Ну, батюшка, с мылом изыдем...» «Ха-ха-ха! — расхохотался наш отец Иван и долго не мог успокоиться, все хохотал и повторял: — С милом изыдем». На другой день, в воскресенье, отец был у литургии. Когда отец Иван по окончании службы вышел и сказал: «С миром изыдем», он нечаянно взглянул на отца и, припомнив вчерашнее, до того был охвачен порывом к хохоту, что едва мог прочитать молитву. Не помню я у отца Ивана никаких проявлений «пастырства», кроме требоисправления. И однако же народ его до чрезвычайности любил. За что? Значит, было в нем нечто доброе. Знаю я, что он был необычайно бескорыстен, ни с кого не требовал денег и не гнался за ними. На требы являлся внимательно, без задержек. Может быть, за ним и еще что-нибудь было хорошее. Как бы то ни было, когда его изгнали из Новороссийска, толпы народу сокрушались об этом и провожали его. А изгнали его, когда Новороссийск стал превращаться в город и духовные власти сочли неприличным держать в городе такого «безобразника». Отца Костянского перевели в какую-то крепость в Закаспийской области, и, повторяю, толпы жителей с горем провожали его в изгнание. О нем еще более вспомнили при его преемнике. Новый священник представлял полную противоположность распущенному Костянскому. Он был тих, приличен, необычайно чистоплотен, одет с иголочки, носил даже крахмальные воротнички и манжетки и был из образованных. Но недолго он прожил с паствой. Его конец поразил население ужасом. Он — повесился...
Когда силы черкесов были сокрушены и окрестности Новороссийска на десятки верст кругом превратились в необитаемую пустыню, полную свежей сочной красоты, у нас начались прогулки за город, устройство пикников и т. п. Моя мама, страстная любительница природы, чуть ли не первая начала устраивать пикники с небольшой дружеской компанией, человек десять—пятнадцать. Мы ездили и в лес, но особенно облюбовали ущелья, которые прорезывают правую сторону Цемесской долины приблизительно через каждую версту. Мы их называли по счету: «первое ущелье», «второе ущелье» и т. д. Дальше десятого ущелья редко заезжали и больше любили средние: четвертое, пятое, чтобы иметь время достаточно нагуляться. Дивные это были места. Внизу — обыкновенно зеленеющая поляна, прорезанная оврагом со светлым, свежим ручьем, журчащим по камням. Выше ущелье начинало обрамляться перпендикулярными обрывами каменных пород, лежащих слоями одна на другой. Иногда обрывы были громадны. Но местами среди них были и некрутые подъемы, заросшие кустарником и лесом, точно так же, как и плоскогорья между ущельями. Все свежо, все благоухает, всюду масса цветов. Между кустарниками множество жасминов, одичалые груши и яблони осыпаны бело-розовыми цветами. Масса душистого шиповника. Местами попадались целые лески его, покрытого красно-бурыми метелками цветов. Иногда можно было попасть и в заросли «держи-дерева» — кустарника со множеством шипов, крепких, острых, загнутых как когти дикого зверя; в нем одежда рвалась в клочья, и всякий сторонился подальше от этого неприятного куста. Было также много терна, пока он не вымерз в одну жестоко холодную зиму. Над ручьями всюду масса орешника и кизила, унизанного ярко-красными ягодами, а среди кустов и на полянах — ажина со сладкими, вкусными ягодами... Кругом приволье и полная тишина, нарушаемая только чиликаньем разных птичек. Нигде ни признака человеческого существования. Звери тоже почти никогда не попадались, их распугивал шум гуляющей компании. Очень редко приходилось наткнуться на диких свиней или шакалов. Эти звери, как и волк, чаще встречались во время одиночных прогулок. Впоследствии мне приходилось видеть также диких кошек. Но, заслыша шумную компанию, все эти лесные обитатели скрываются раньше, чем люди успевают их заметить.
Веселы были эти наши прогулки. Наметив какое-нибудь удобное местечко, делаем, бываю, привал, лошади распрягаются и пасутся тут же, а мы раскидываемся где-нибудь у родника или прозрачного ручья. Одни собирают валежник и зажигают костер, другие разбредаются по горам и лескам, собирают ягоды, кизил, орехи. Моя мама оказалась неутомимым ходоком и взбиралась на такие крутизны, что и мужчины не могли за нею угнаться. Нагулявшись досыта, все собирались у привала, тут варили чай, стряпали кулеш на костре, иногда жарили шашлыки из взятой с собой баранины и пировали среди рассказов о том, кто что видел, или о приключениях во время прогулки. Мы таким образом объездили все окрестности, иногда забирались очень далеко, иногда намечая и места, которые потом приобретали под хутора. Так был выбран и наш хутор. Забравшись за нынешнюю деревню Борисовку, мы нашли очень красивое местечко, которое узнал отец: здесь он в первый раз был в бою с черкесами. Он стал осматривать все кругом и скоро нашел пожарище и развалины того аула, который они тогда штурмовали. Здесь-то наши и купили себе скоро двадцать десятин земли под хутор. На это место потом мы много раз ездили, осматривая его подробно, прежде чем решились на покупку, хотя и за грошовую цену. Казна сначала отдавала участки совсем бесплатно, но с обязательством в течение, помнится, пяти лет возвести хозяйственные постройки и развести сад или виноградник на, кажется, одной пятой доле участка. Потом было разрешено брать участки по десять рублей десятина, уже без всяких обязательств. Отец предпочел последнюю комбинацию.
Такие пикники были в большом ходу в Новороссийске. Но в нем иногда устраивались и крупные празднества за городом. Первым опытом был вечер, данный моряками не дальше как в развалинах серебряковского дома. Моряки — удивительные искусники создавать истинные феерии на пустом месте. Они задрапировали стены флагами, которые имеются на судах в бесчисленном количестве: национальные флаги всех государств земного шара, все русские флаги, сигнальные флаги. Масса нарубленных ветвей явилась на помощь драпировке. Землю в залах очистили от камней и мусора, утрамбовали и затянули парусом. Парус дает пол гладкий и скользкий, как паркет. Здесь под звуки военного оркестра отплясывали все барышни и молодые дамы целого города, а кавалеров в избытке дали местные войска и военные суда. Приглашенные нашли на празднике и обильное угощение. Вечер удался на славу и был предметом долгих разговоров, пока его не затмил праздник, данный новому атаману Кубанского войска — графу Сумарокову-Эльстону. {15}
Эльстоны — петербургская придворно-чиновничья семья, известная бездарностью и красотой своих членов. Об Австрии когда-то шутили: «Tu, felix Austria, nube!» («Ты, счастливая Австрия, заключай браки!») То же можно сказать о фамилии Эльстонов. Ее карьера совершалась посредством счастливых браков. Наш Эльстон женился на богачке графине Сумароковой, причем обе фамилии были объединены. Так явились графы Сумароковы-Эльстоны. Впоследствии сын этого графа женился на еще более богатой княгине Юсуповой, с новым объединением фамилий. Явились князья Юсуповы-Сумароковы-Эльстоны. Как известно, этот князь Юсупов был во время всемирной войны московским генерал-губернатором. У Эльстонов все высокие их должности неизменно заканчивались скандалами. Наш атаман кончил тем, что, вздумав обезоруживать черкесов (на плоскости), приказал по случаю их нежелания выдать оружие стрелять и толпу картечью и перебил множество людей. Это грозило вызвать общее восстание только что поселенных горцев, и резвого не по разуму атамана убрали с места. У князя Юсупова, как известно, генерал-губернаторство ознаменовано было страшным погромом немцев в Москве и закончилось таким же отзывом с должности... Таковы фамильные судьбы Эльстонов.
Но праздник нашему Эльстону был дан тогда, когда он еще не отличился расстрелом мирной толпы черкесов. Он тогда только что приехал, и военные с моряками устраивали свое торжество не столько для начальства, как для того, чтобы самим повеселиться. Место праздника было выбрано в большом новороссийском лесу, на поляне, которая с тех пор получила в народе название «графской поляны» или «гульбища». Соединенные усилия военных и моряков создали здесь истинные чудеса, которые стоило посмотреть. В диком дремучем лесу как по мановению волшебного жезла явились роскошные палаты. Основанием их послужило несколько огромных деревьев с гладко обрубленными ветвями. На этих столбах положили длинные перекладины, забранные парусами. Так образовалась крыша. Несколько врытых в землю столбов, точно так же обтянутых парусами, образовали стены вокруг всего этого гигантского шатра и внутри его — для отдельных комнат: танцевальной залы, столовой, разных гостиных и т. д. Все это было прикрыто и разукрашено зеленью и флагами, так что невозможно было и догадаться о легком материале постройки. Полы под паркет были, конечно, сделаны из парусов, туго натянутых на гладкой, утрамбованной земле. Танцевали до упаду. В лесу гремел огромный оркестр духовой музыки. Ночью был сожжен роскошный фейерверк. Поляна, на которой толпились многие десятки экипажей съехавшихся гостей, была всю ночь освещена кострами. Что касается комнат и зал шатра, они освещались множеством канделябров из штыков, воткнутых в обручи из веток. Свечи вставлялись в ту часть штыков, которые примыкают к стволу ружья. Понятно, что гостям был подан ужин и всякое угощение соответственно общему великолепию торжества. Пляски шли чуть не до утра. Это «гульбище» в честь Сумарокова-Эльстона было совершенно исключительное, надолго памятное всему населению.
Но я помню и более скромные пикниковые поездки, на которых мы проводили время не менее весело. Один раз Суходольский с офицерами своего отряда пригласил знакомых прогуляться на вновь пролагаемую дорогу в Крымскую через Неберджайское ущелье. Я говорил, что еще до нашего приезда в Крымскую станицу на Липки была проведена дорога через Маркотх. Но ее построили неудачно: во-первых, с очень крутым подъемом, во-вторых, на таком месте хребта, на котором всего сильнее бушует норд-ост, способный не только замучить людей и лошадей, но даже сбрасывать повозки. Суходольскому было поручено проложить новую дорогу, несколько верст левее, через живописное Неберджайское ущелье. Там было сравнительно тихо, а местами вполне затишно, и Суходольский повел дорогу с.небольшим уклоном, хотя, конечно, она от этого вышла более длинной. В это время она была доведена до самого перевала и начинала спускаться к Липкам. Я видел много знаменитых живописных мест на Кавказе, в Швейцарии, Савойе, и скажу, что эта дорога через Неберджайское ущелье по красоте выдержит какое угодно сравнение. В ней нет ничего подавляюще грандиозного, и самый хребет здесь едва доходит до 2000 футов. Но она, со своим множеством поворотов, которые каждый раз открывают новые разнообразные виды, необыкновенно изящна. Она всюду ласково нежит взор, иногда проезжаешь над обрывом, иногда через лески стройных чинар. Иной поворот показывает внутренние ущелья, другой раз открывается Цемесская долина, а то вдруг неожиданно показывается Цемесская бухта со всем своим простором, иной раз в панораме является город Новороссийск. Замечательно красивая дорога, к которой я и впоследствии имел случай присматриваться. Мы ехали целым веселым караваном и, добравшись до перевала, попали на горную поляну, занятую лагерем отряда. Это была прочная стоянка, потому что работа идет медленно. Каменные склоны горы приходится взрывать, потом расчищать дорогу и почти всегда делать предварительно просеки, так что отряду нечасто доводится менять стоянку. Солдаты жили в длинных просторных землянках, обедали под деревянными навесами. На ручье была устроена кухня и даже очень недурная баня. Палаток было очень немного, только для некоторых офицеров — любителей свежего воздуха. Суходольский показывал нам все лагерное хозяйство и самые работы по прокладке дороги. Производили их, конечно, солдаты, которые в то время должны были на Западном Кавказе делать все: вырубать леса, рубить и складывать избы и сараи для будущих станиц и окружать их плетневыми стенами, пролагать дороги, возводить каменную постройку в укреплениях и в то же время беспрерывно драться с черкесами. Менее всего оставалось времени на фруктовую службу, и они были действительно не блестящими фрунтовиками. Тот отряд, с которым работал Суходольский, как раз недавно осматривал какой-то генерал, остался недоволен выправкой и сделал за это выговор. Задетый за живое, начальник отряда горячо выставил ему на вид постоянную работу солдат и заявил, что хотя выправка слаба, но — «пошлите нас в бой, и вы увидите, что мы будем драться не хуже кого другого». Он смело мог бы сказать: «Лучше фрунтовиков внутренних губерний».
Осматривая хозяйство отряда, мы увидели новость: массу превосходных грибов, развешанных для просушки на солнце. Это было для нас открытие. Мы до сих пор думали, что в Новороссийске нет грибов, кроме ядовитых. Не знаю, употребляли ли черкесы грибы в пищу, но на сатовку они их никогда не приносили. Сами мы первое время тоже не находили. Потом, при более подробном ознакомлении с краем, оказалось, что их местами довольно много, между прочим, и на нашем хуторе.
Обедать нам приготовили солдатские повара по своему вкусу — чтобы все было солоно, густо и жирно. «Вкус воды Черного моря», — заметил один из нашей компании, Новицкий, хлебнувши щей. Гречневая кашица была изготовлена сообразно солдатским идеалам: их повар считает кашицу готовой только тогда, когда опущенная в нее деревянная ложка стоит прямо, не наклоняясь ни в одну сторону. Но щи были с мясом, была, кроме того, жареная баранина, был чай, а мы все устали и проголодались, так что уписывали солдатский обед с величайшим аппетитом, лучше, чем самые утонченные блюда господской кухни. Поздно ночью возвратились мы в Новороссийск, единодушно находя, что никогда еще не было у нас такой приятной partie de plaisir (увеселительной прогулкой).
Но беспрерывные поездки новороссийцев по изгнании черкесов вызывались вовсе не одним желанием прогуляться, а и деловыми соображениями. Многие разыскивали черкесские сады, чтобы запасаться фруктами. Из жителей иные привозили их на базар целыми повозками. Пока колонизация была слаба, начальство раздавало жителям участки в лесу и ущельях под покосы, и на несколько верст кругом, особенно по Цемесской долине, можно было видеть живописные группы косарей и их привалы около костров. Наш покосный участок был отведен очень далеко, около нынешней деревни Владимировки, и мы туда раз ездили всем семейством. Тогда еще не знали хорошо местности, не знали, где есть родники, и по большей части возили с собой воду в баклажках. Только неподалеку от так называемого Анапского моста через овраг и речку, составлявшую одно из верховьев Цемеса, все знали знаменитый родник, около которого проходили отряды с оказиями. Этот родник с чудной кристальной водой был обделан, кажется, нашими же войсками в виде бассейна, сложенного из крепкого плитняка. Впоследствии он засорился — отчасти по небрежности жителей, отчасти потому, что новороссийская округа как-то обезводнела. Множество ручьев и родничков не только пересохли, а совершенно высохли.
Много поездок за город делалось для отыскания хорошего плитняка и ломки его для городских построек. С изгнанием черкесов город Новороссийск был восстановлен с прежним именем, повсюду там и сям началась постройка домов даже раньше, чем город был распланирован. Их строили по направлению прежних улиц, обозначенных развалинами. В Новороссийской станице тоже стали воздвигать домики получше, но больше всего строились на форштате. Я не помню с точностью, когда было упразднено Константиновское укрепление и восстановлен город Новороссийск, причем и станичные казаки были перечислены в городские мещане. Но еще и до этого ежегодно возникало много построек, и прежний Новороссийск сам собою понемногу восставал из своих развалин. Гораздо слабее возникали хутора. Несколько лет их можно было перечесть по пальцам одной руки. Первые заботы властей по благоустройству края направлялись на города Новороссийск и Анапу. В административном отношении весь бывший Черкесский край причислялся сначала к Кубанскому войску, которое и колонизовало его своими станицами. Собственно на Черноморском побережье, начиная с Новороссийска до Сухума, оно поставило десять станиц. Первая к югу от Новороссийска была Геленджикская, на месте бывшего укрепления — моей родины. Потом вся прибрежная область, начиная с Анапы, была отделена от войска и разделена на пять округов с главный городом Новороссийском. Начальником новой области назначен генерал Пиленко Дмитрий Васильевич, а все жители ее — десять станиц — перечислены в крестьяне. После того началась и гражданская колонизация, поселены новые деревни. Раньше всех основана Кабардинка, на месте бывшего укрепления, заселенная анатолийскими греками. Но первые усилия направлены были на Новороссийск, в котором предусматривали главный порт всего Прикубанского края и даже всей территории до Донской области.
XII
Год покорения Кавказа был достопримечательным лично для меня в том отношении, что я в том же 1864 году поступил в гимназию и впервые расстался со своей семьей. Ближайшая от нас гимназия находилась в Керчи. До Ейска, где воспитывался брат Володя, было слишком далеко, а Керчь представляла еще то удобство, что в ней жили близкие родные. Правда, Савицкие меня не приняли в свою семью. У Андрея Павловича дом уже был битком набит, да он и не любил брать на себя лишние попечения без строгой необходимости. Но все же, учась в Керчи, я находился под близким надзором Савицких. Квартиру же мне устроили у старушки Казиляри Фотиньи Федоровны, близко знакомой и Савицким, и нам. В гимназию меня повезла мама, и мы поехали в Керчь, понятно, на пароходе. Первое время, пока я не поступил в гимназию, так примерно недели две, мы с мамой жили у Савицких, и уже только при ее отъезде я перебрался к Казиляри или, точнее, к ее зятю Серафимову, у которого жила Фотинья Федоровна. Мне тогда было двенадцать лет, и я поступал во второй класс. Но я был мальчик чрезвычайно застенчивый, привык жить в домашней обстановке, обстановка чужая меня пугала и подавляла. Когда мама первый раз привела меня в гимназию, шумная толпа учеников, бегавших во всех направлениях, кричавших, игравших, меня ошеломила. Они подбегали и ко мне, расспрашивали; я же отвечал конфузливо и не смел на шаг отойти от мамы. Но пришел директор, Иван Тихонович Тихомиров, и отослал меня в класс. Тут уж я окончательно растерялся. Через несколько времени директор вызвал меня, расспрашивал о разных предметах, очень ободрил. Это был человек добрый и ласковый. Да и гимназисты меня не обижали ничем, и я был в растерянном и угнетенном состоянии просто по новости положения, в котором очутился. Учиться я хотел, и приемные экзамены мне показали, что я был прекрасно подготовлен и знал больше, чем от меня требовалось. Но мысль, что я должен остаться один, среди чужих людей, меня буквально подавляла. Такой тоски я, кажется, никогда в жизни больше не испытывал, даже когда попал в тюрьму III отделения. В это время у Савицких кто-то из дочерей разучивал на фортепиано гаммы, и потом в течение нескольких лет я не мог слышать гамм без появления гнетущей тоски. Чтобы утешить меня, мама купила мне прекрасной малиновой пастилы, и точно так же много лет это лакомство было мне отвратительно и один запах малиновой пастилы возбуждал во мне чувство тоски. Все, что только связано с этим переломом моей детской жизни, с этими двумя неделями определения в гимназию, было для меня противно. К счастью, маме некогда было долго со мной оставаться; со слезами я проводил ее (я в детстве был большим плаксой), но она уехала в Новороссийск, и, хочешь не хочешь, нужно было привыкать жить не держась за мамину юбку. Так началось мое шестилетнее гимназическое существование, в течение которого я из застенчивого ребенка вырос в бойкого, самоуверенного юношу.
Наша гимназия — Керченская Александровская — почти все это время находилась в периоде преобразований, как и все среднеобразовательные школы, и даже более, потому что она, накануне моего поступления, была преобразована в гимназию из Керченского уездного училища. Она и помещалась в здании бывшего уездного училища, на Строгановской улице, на самом берегу моря. От моря гимназический двор отделялся только небольшим домом, кажется Капитанаки или, может быть, Десподучи. Только уже при мне было построено новое, обширное здание, и двор гимназии увеличился раз в семь-восемь, подойду к самому берегу моря, то есть Керченской бухты. Тогда в Керчь приезжал какой-то важный правительственный деятель, кажется Бутков, которого городское управление просило поддержать ходатайство города об уступке ему под гимназию участка земли, соседнего с гимназическим и принадлежавшего Морскому ведомству. Участок был пустопорожний и лежал без всякого употребления. Городское же управление имело некоторое право на внимание правительства, потому что содержало гимназию на собственный счет. Помню, что этот сановник посетил гимназию, осматривал здание, выходил и на двор. Директор (кажется, это был уже Падрен де Карне) сказал гимназистам: «Господа, на большой перемене не оставайтесь в классах, а бегите все на двор и там посильнее теснитесь. Пускай наш посетитель увидит собственными глазами, как тесен наш двор». Разумеется, мы усердно поддержали директора, и на дворе среди играющих, бегающих и упражняющихся в гимнастике учеников происходила истинная давка. Ходатайство города было поддержано, и на уступленном нам участке скоро стало воздвигаться новое здание, хотя его постройка порядочно затянулась из-за того, что один раз стены, уже почти совсем выведенные, обрушились, так что постройку пришлось вторично начинать почти заново. Свои гимназические годы я и начал, и провел в старом здании.
Оно, впрочем, было довольно недурно. Только для администрации не было квартир, за исключением надзирателя Стефанского, ютившегося в небольшом домике на отлете гимназического двора. Но курьезное зрелище представлял сначала персонал учащихся. Все бывшие «уездники» остались в гимназии, но по своим знаниям годились только для низших классов. Особенно своеобразен был второй класс, в который поступил я. Наряду с большинством мальчиков двенадцати-тринадцати лет, вновь навербованных, в классе сидели «уездные» гренадеры лет по восемнадцати. Это были громадного роста Стрелков, лет двадцати, Задворецкий, потом Николаев, Мамалыгин, Бабасюк. Все они, насквозь пропитанные табаком, иногда сильно пьющие (как Задворецкий), недолго продержались в гимназии и года в два-три выбыли, то проваливаясь на экзаменах, то убеждаясь, что в их годы бессмысленно думать об окончании курса гимназии или даже прогимназии. Но первое время состав учащихся был в высшей степени антипедагогичен, потому что, конечно, ни преподавание, ни дисциплину нельзя было правильно установить для совместно учащихся детей двенадцати лет и взрослых юношей восемнадцати лет. Из этих великовозрастных товарищей я года через три встретил Мамалыгина низшим служащим в почтамте, Задворецкого — телеграфистом в Тамани, а Бабасюка — дрогачом на извозчичьей бирже. Бабасюк, здоровый, неповоротливый мужик, таскавший кули, настолько уже отрешился от школы, что стыдился и встречаться с бывшими товарищами, хотя они обращались к нему совершенно дружелюбно.
При поступлении б гимназию я в ней встретил только двух знакомых учеников: один — Ваня Завадский из Темрюка, другой — Ваня Перепелицын из Новороссийска. Оба недолго пробыли в гимназии и вышли, не кончивши курса. Перепелицын был один год моим товарищем по классу и, кроме того, жил вместе со мной у Серафимовых. Это был страшный шалун и лентяй, но в обычных товарищеских отношениях добрый малый. Сын какого-то маленького офицера, он вышел из совсем не интеллигентной семьи и был очень плохо подготовлен к гимназии. Учил его в Новороссийске, вместе с другими мальчиками, какой-то юнкер Врублевский, сам круглый невежда. Так, например, он объяснял своим злополучным ученикам, что есть числа, которые «нельзя сложить». Он именно умел складывать цифры только в том случае, если сумма слагаемых не превышала десятков, но если из слагаемых получались сотни и, значит, сумму приходилось переносить не через одну цифру, а через две, то учитель становился в тупик и объявлял, что этих цифр сложить нельзя. Впрочем, Ваня и не имел ни малейшего желания учиться. В классе он вечно шалил, мешал товарищам, передразнивал исподтишка учителей и, вероятно, каждый день стоял в углу. «Ступай в Камчатку», — говорил ему учитель Рещиков, и Ваня послушно отправлялся в угол, где на повешенной на стене карте России как раз приходился Камчатский полуостров. Надзиратель Стефанский не ограничивался Камчаткой, а обыкновенно выводил Ваню за чуб совсем в коридор, и Ваня шел дробными шажками, держась очень прямо и только нагнув голову, чтобы чуб его не вырвался из руки Стефанского. В товарищеской среде он постоянно сквернословил и ругался гнуснейшими непечатными словами, но это в гимназии было очень обычно. За редкость можно было встретить ученика, у которого всякая похабщина не сыпалась походя с языка, как у самых грубых мужиков. В этом отношении «уездники» были развратителями всей гимназии. Когда все они мало-помалу выбыли, воспитанники стали гораздо более приличны.
Племенной состав гимназистов у нас был самый разнообразный: больше всего было русских, но почти столько же поровну — евреев и греков, сверх того, в небольшом количестве — итальянцы, немцы, татары, поляки. Из инородцев часть греков и евреев весьма плохо знали русский язык и говорили не только с акцентом, но путая грамматические формы и не схватывая точного смысла русских слов. Так, помню, очень хороший ученик Бухштаб, караим, в четвертом или даже пятом классе, описывая в сочинении Южный берег, выразился, что в имении князя Воронцова мебель «очень вкусная»: он хотел сказать, что она сделана с большим вкусом. Поэтому в низших классах русский говор был плоховатый. Но к средним классам он уже совсем выравнивался, потому что все инородцы очень старались хорошо выучиться по-русски, а все неправильности произношения и словоупотребления ежеминутно указывались им насмешками русских сотоварищей. Не знаю, мешало или помогало изучению русского языка то, что целый ряд учителей, как Пекюс и Меттро (французского языка), Пфафф (латинского), Кондопуло (греческого), отвратительно знали русский язык. Переводы у них часто бывали такие, что нельзя было добраться до смысла. Но воспитанники, насмехаясь над ними и передразнивая их, этим способом упражнялись в определении правильности русской речи — в схватывании того, что выражено учителем неправильно. Зато, конечно, от незнания учителями русского языка очень страдало изучение французского и латинского, преподаваемых ими. Конечно, постепенно выучивались и они по-русски. Пфафф (Владимир Богданович), говорят, впоследствии, после меня уже, даже хорошо усвоил русскую речь. Но при мне его уроки латинского языка были прямо смехотворны, особенно при изучении поэтов. Если у нас кто хотел и все-таки выучивался по-латыни, то благодаря другим учителям, как отчасти Великанов и больше всего — директор гимназии Матвей Иванович Падрен де Карне. Он тоже не мог отделаться от французского акцента и в особенно мудреных случаях не знал и смысла русских слов. Так, помню, раз чуть не вышел целый скандал на уроке Закона Божия. Учитель (отец Бершадский) спрашивал какого-то ученика о таинстве священства. Падрен де Карне зашел в класс и присел послушать ответы учеников. Речь зашла о том, что епископ «проручествует» на посвящаемого благодать Святого Духа. Отец Бершадский спрашивал ученика, что значит слово «проручествует». Тот не умел объяснить. Падрен де Карне принял укоризненно-насмешливый вид: «Что же вы не знаете слова „проручествует“?» Он полагал, что речь идет о слове «пророчествует», на котором ставил неправильное ударение. Ученики, из которых многие знали смысл слова, стали насмешливо переглядываться. Но Бершадский, чтобы не допустить директора до скандального положения, моментально вызвал меня: «Тихомиров, объясните, что значит слово „проручествует“». Я, конечно, ответил: это значит, что епископ через наложение рук низводит благодать на посвящаемого. Падрен де Карне понял, в какое глупое положение он чуть было не попал, и одобрительно кивнул мне головой.
Но такие случаи незнания русских слов у него были редки. А латинский язык он знал превосходно, до тонкости, и любил его. Переводил он замечательно, ясно и образно, умея показать всю красоту выражения Вергилия или другого поэта, так что мы, ученики, бывало, истинно заинтересовывались и с удовольствием слушали урок. Даже скучное стихосложение оживлялось у него, а, помню, раз он прочитал нам описание морской бури в «Энеиде» — так что прямо можно было заслушаться. В его чтении слышался и шум волн, и свист и рев ветра, и мы тогда поняли, как поэтически подобраны у Вергилия слова, изображающие бушующую стихию.
Кстати, по поводу латинского языка. Время моего учения было временем введения классической системы образования, ее первых проб и постепенного развития. Граф Д. А. Толстой {16} только что принял Министерство народного просвещения. У нас в Керчи учили сначала только по-латыни, потом ввели греческий язык, потом его отменили для высших классов, уже не имевших времени учиться ему сколько-нибудь сносно. Таким образом, я учился по-гречески едва три-четыре месяца у Кондопуло, которому по русскому языку можно было бы поставить не больше двойки. Я даже не выучился сносно читать и поныне не знаю греческой азбуки, а из фраз помню только: «И мефи микра мания эси», которую Кондопуло переводил: «Пьянство есть маленькое безумие». Да еще затвердил его постоянное приказание ученикам: «Клисси тин борде» («Затворяй двери»). Он, вероятно, боялся сквозняков...
Как известно, классицизм тогда возбудил всеобщий протест, который передавался и ученикам. Но Керчь страна классическая, воспоминания античного мира в ней живы, как нигде в России. Среди населения множество греков, желавших обучения в гимназии греческому языку. В общем, у нас среди воспитанников не было такого отвращения к древним языкам, как в других местах. По-латыни учились, пожалуй, более охотно, чем по-французски или по-немецки. Жаль только, что учителя были, за исключением Падрена де Карне, очень плохи. Я лично, не знаю почему, очень любил латинский и у порядочных учителей, вероятно, выучился бы хорошо. Но нас душили грамматикой, авторов читали в микроскопических дозах и не заботились вводить в самый дух античного мира. В последнем отношении гораздо больше делали учителя истории и личное чтение учеников да исторические воспоминания Босфорского царства в бывшей Пантикапее, переполненной останками классической древности.
Я думаю, редкий житель Керчи не находил каких-нибудь обломков сосудов или статуэток античных времен, а многие находили и драгоценные сокровища. На гору Митридат после каждого сильного дождя ходило много народу, особенно мальчишки, искать древности. Вся эта гора — какая-то насыпная, потоки дождя размывают почву и там и сям обнажают обломки ваз и статуэтки, которые эти искатели подбирают, чтобы продавать любителям. Таких любителей в Керчи много, и у некоторых были замечательные коллекции древних монет и других предметов. Керченский музей довольно беден. Все лучшие находки вывозились в Петербург. Но нельзя вывезти таких остатков древности, как Золотой курган и Царский курган в окрестностях Керчи.
Золотой курган получил свое название от большого количества драгоценных золотых предметов античных времен, в нем найденных. В нем множество подземных ходов, в которых легко заблудиться. По народным преданиям, в них заключена заколдованная красавица принцесса, которая будет освобождена только тогда, когда какой-нибудь смельчак похристосуется с ней в день Воскресения Христова. В награду за это он получит ее руку и несметные сокровища. Говорят, будто находились охотники попытать счастья и углублялись в пещеры кургана на Светлое Христово Воскресение, но ни один из них не возвращался назад: все бесследно исчезали в недрах недоступного кургана.
Царский курган назван так потому, что в нем находилась гробница какого-то древнего царя, не помню — босфорского или скифского. Эта гробница разрыта, и содержимое взято в какой-то музей. Но саму гробницу постоянно посещают любопытные. Был в ней и я. Идти к гробнице приходится по длинной и высокой подземной галерее с каменными стенами и сводом. Впрочем, это, собственно, не свод, а остроконечная каменная кладка, как бы ступеньками кверху.
Это признак глубокой древности постройки, относящейся к такой эпохе, когда еще не умели делать сводов. Глубокий черный мрак царствует в этом длинном подземелье, в которое ходят только со свечами. Ход кончается небольшой высокой комнатой, посреди которой и стояла гробница на каменном пьедестале, и поныне оставшемся на своем месте.
У Андрея Павловича была небольшая, но ценная коллекция древних монет, доставшаяся в наследство его несчастному сыну Коле, который ее еще более обогатил. Коля был какой-то урод. Это проявлялось и в наружности: низкий лоб, несколько обезьянье лицо. Очень неспособный, он не мог нигде кончить курса. Когда он пришел в зрелый возраст, лицо его напоминало какую-то гориллу. Но назвать его идиотом было нельзя. Он все-таки кое-чем интересовался, любил археологию и имел в ней некоторые познания, был ловким коллекционером. Весь век он нигде не служил, а в качестве вечного недоросля жил на счет отца, потом — матери и сестер. Отец отдал им его долю наследства, завещав содержать его. Такой сын составлял язву жизни Андрея Павловича, но был тих и кроток. Конец его был трагический. Во время первой революции его кто-то убил и утопил в море. Преступление осталось нераскрытым. Только труп Коли был найден на берегу в песке. Мотивы убийства остались неизвестны.
Впрочем, во время моего обучения в гимназии безнадежная неразвитость Коли еще не выяснилась. Он казался только малоспособным, болезненным мальчиком, но его еще пробовали учить, и он любил читать разные легкие книги.
Возвращаюсь к гимназии. Не могу помянуть ее и недобрым словом. В общей сложности учителя были порядочные и ученики — добрые товарищи, хотя поведения нередко разгульного. Многие шлялись даже на знаменитую Миллионную улицу (переполненную публичными домами). Ее усердным посетителем был, между прочим, знаменитый впоследствии террорист Андрей Иванович Желябов, казненный за цареубийство. Впоследствии он вырос в настоящего богатыря редкой силы, но в гимназии был тоненький, худенький мальчик, живой как огонь и очень способный. Учился он прекрасно и кончил курс с серебряной медалью. В его классе с золотой медалью кончил еврей Михаил Тимофеевич Гринштейн. В нашем классе золотым медалистом окончил я, а серебряным грек Димопуло. Вообще, нельзя сказать, чтобы у нас мальчики какой-либо национальности учились лучше других. Все национальности шли ровно, во всех были и хорошие, и плохие ученики. Отношения же между национальностями не имели никакой обостренности. Русские, греки, евреи жили вполне по-товарищески. В то время евреи очень стремились слиться с русскими и к своему быту относились с насмешкой, а в отношении религии казались просто неверующими. У меня было много приятелей-евреев. Немировского я даже часто посещал. Бывал у Синайского и других. Они мне показывали свою синагогу, угощали разными праздничными лакомствами и рассказывали смешные анекдоты о своих родных на тему о религиозном формализме их. Так, например, в субботу у евреев нельзя зажигать огня, а покурить хочется. И вот с пятницы несколько бутылок наполняются табачным дымом. В субботу бутылка раскупоривается, и дым вытягивается в рот через соломинку. Так как работать нельзя, то нельзя и снимать нагара с сальной свечи, а между тем она от нагорающего фитиля сильно оплывает. Еврей (кажется, дядя Немировского) выдумывает такую штуку: он читает молитву и старается выдыхать воздух так, чтобы он дул на фитиль и сдувал нагар. Рассказывали они много о безобразном учении в их хедер-меламдах. Однажды мне пришлось пойти в синагогу во время торжественной встречи Ротшильда (кажется, парижского), навестившего Керчь во время приезда своего в Россию. Нечего и говорить, что встречали его по-царски. Тут вышел курьезный случай. Когда он вошел в синагогу, один еврей пришел в недоумение. Как быть? В синагоге обязательно стоять в шапках, а перед Ротшильдом как будто следует снять шапку... И еврей сначала поддался уважению к миллиардеру и обнажил голову, пока вся синагога не загудела: «Надень шапку».
Я сказал, что наши гимназисты были довольно разгульного поведения, но первые годы моего обучения они, по наследию от уездного училища, доходили и до буйства. На этой почве происходила война с так называемыми «шарлатанами», то есть уличными мальчишками, нередко уже взрослыми парнями. На Юге в то время города вообще делились на кварталы или улицы, парни которых между собой воевали. Поводом войны бывали обыкновенно девушки. Парни не пускали чужих на посиделки к девушкам своей улицы и чужого избивали за попытку к этому. Но молодому парню пойти ночью на чужую улицу было вообще опасно. Как только его замечали местные парни, они тотчас набрасывались и били его. Бывали также драки с полицией; это был своего рода спорт. Молодые люди собирались целой компанией и отправлялись ночью дразнить и бить полицейские обходы. Тогда городовые не стояли на постах, но вместо этого группы в пять-шесть городовых обходили город, наблюдая, нет ли где воровства или грабежа. Так вот, двое-трое парней делали вид, будто они покушаются ворваться в лавку или какой-нибудь дом, и при появлении полицейского обхода обращались в бегство. Полицейские пускались вдогонку, причем менее быстрые отставали. Тогда другая группа парней, сидевшая для этого в засаде, бросалась их колотить. Первая группа полицейских, заслышав крики товарищей, спешила к ним на помощь, а мнимые воры гнались за ними и, поймавши кого-нибудь, колотили, в то время как их товарищи, напавшие на полицию сзади, обращались в бегство. Так эта игра продолжалась всю ночь. Разумеется, если кто-нибудь из парней попадал в руки городовых, его исколачивали вдрызг.
Керчь во взаимных междоусобицах парней делилась на три царства — собственно город и два предместья: так называемое Глинище с одной стороны и Соляная пристань с другой. Глинище колотило городских и соляных, вздумавших зайти к ним ночью, город бил Глинище и Соляную пристань, Соляная пристань — город и Глинище. Впрочем, Соляная пристань и Глинище за дальностью расстояния могли приходить в столкновение разве в исключительных случаях. Главную борьбу выдерживал город с обоими предместьями.
Гимназия составляла особое, четвертое царство. Против гимназистов враждовали все любящие подраться парни. Они называли гимназистов «красной говядиной», за их форму с красными воротничками и околышами. Гимназисты же называли своих врагов «шарлатанами», не знаю почему. Тогда на Юге слово «шарлатан» было вообще ругательным — вроде «дряни» или «бездельника». Шарлатаны нападали на гимназистов ночью где попало, а на Митридате даже и днем; гимназисты в мое время уже играли при этом страдательную роль. Они не затрагивали шарлатанов, а только защищались или убегали, а через несколько лет эти нападения на гимназистов и совсем прекратились, когда факты установили прочно, что гимназия вовсе не желает поддерживать традиций уездного училища в междоусобных уличных потасовках молодежи. Вообще, гимназия с каждым годом сильнее упорядочивала нравы молодого поколения. Керчане любили свою гимназию, интересовались ею, и гимназиста приличного поведения охотно всюду принимали в общество. Это стало нас все сильнее привлекать, отвлекая от улицы. Мы стали все чаще бывать на вечерах, ухаживали за барышнями, танцевали и заглядывали тайком от начальства даже в маскарады (где нам не позволяли бывать). Правда, эти порядочность и приличие были больше внешние, преждевременная половая распущенность оставалась в силе все время моего гимназического обучения. Но даже и это прикрывалось, по крайней мере внешним приличием и сдержанностью. Нужно сказать, что и в самом обществе едва ли не большинство не находило предосудительной эту распущенность, подсмеивались над «скромниками», а что касается сальных шуток, острот и скандальных анекдотов, то разговоры на эти темы были любимыми для них и втягивали в такие же остроты и сальности гимназистов. К чести учителей, между ними не было ни одного, который бы допускал себя к подобным разговорам с воспитанниками. Все из них, которые входили в более близкие отношения с учениками, старались развивать в них чувства чистые и идеалистические.
В этом отношении особенно памятен, и, конечно, не мне одному, Людвиг Карлович Коппе, учитель немецкого языка. Правду сказать, учились немецкому языку мы и у него плохо. Нам гораздо более нравилось разговаривать с ним на всевозможные нравственно-философские темы, а он этому легко поддавался. Ему бы следовало быть не учителем, а воспитателем. Он любил молодежь и умел приобрести ее любовь и доверие, может быть, потому, что никогда не лгал нам и всегда говорил искренне, от души. Если мы иногда задевали какие-нибудь слишком щекотливые темы — о политике и т. п., он просто отказывался отвечать: «О нет, господа, зачем же мы будем об этом говорить». Ни политики, ни религии он никогда не касался, хотя, вероятно, не был неверующим, а только веровал не по-православному, а может быть, и не по одному определенному исповеданию. Но нравственные темы были у него любимые, и он на нас имел очень благородное влияние. Курьезно сказать, что про него распускали слухи, будто он развращает учеников. Это вышло из-за того, что он затеял с нами ботанические экскурсии. Прогулки эти были очень веселые, хотя растениями мы занимались мало, а просто гуляли да разговаривали. Иногда случалось, что, усталые, мы заходили всей гурьбой в сад винодела Киблера, и здесь радушный хозяин подносил нам по стаканчику легкого молодого вина. Никогда от такой дозы вина невозможно было охмелеть, и никогда никто из нас не был навеселе. Но зложелатели Коппе распустили слух, будто бы гимназисты пьянствуют с ним у Киблера. И вот, чтобы не дразнить собак, эти экскурсии пришлось прекратить.
Из других учителей с теплым чувством вспоминаю теперь Николая Ивановича Рещикова, учителя русского языка. Вспоминаю его тепло теперь, но в то время мы относились к нему с насмешкой. Это был единственный преподаватель у нас старой школы, быстро вымиравшей. Худенький, начисто обритый, всегда в чистеньком вицмундире, он был во многом смешон. Смешно было видеть, как эта маленькая фигурка усиливалась принять строгую позу. Смешно было слышать, когда Николай Иванович старался, как-то надуваясь, говорить басом, совершенно несвойственным его тонкому голоску: «Ступай в Камчатку» или: «А ты все молчи». Ученикам нижних и средних классов он всегда говорил «ты», часто таскал за чуб или за ухо, и все эти расправы так не шли к его кроткому виду, что возбуждали не страх, а смех. А между тем он был очень добросовестный учитель, знал свой предмет, любил его, умел передать, так что мы учились у него и охотно, и успешно. Николай Иванович возбуждал у нас улыбку и тем, что был единственным учителем, любившим старые русские основы. Он был благочестив и сердечно благоговел перед царским принципом... Помню я сцену после каракозовского покушения на жизнь Императора Александра II.
Мы сидели как раз на уроке Решикова. Вдруг отворяется дверь и быстро входит директор, Падрен де Карне. Громким голосом он обращается к классу: «Господа, пришла ужасная весть. Какой-то злодей покусился на священную жизнь Государя Императора. Но Провидение сохранило Императора невредимым. Господа, /роки прекращаются... Идем во храм возблагодарить Господа Бога...»
Шумной гурьбой высыпали мы из класса. Как помню, известие не произвело на нас никакого впечатления. А бедный Николай Иванович один только был поражен и горько заплакал... Эти слезы вызывали у нас лишь насмешливые улыбки.
Никаких выражений чувств, ни отрицательных, ни положительных, мы от других учителей не слыхали и не видели, и наше благодарение Бога вышло чисто формальным, даже без соблюдения какого-либо притворства. Вся гимназия, выстроенная по классам, под руководством учителей и с директором во главе промаршировала беспорядочно через весь город, по Строгановской и Воронцовской, до собора. Гимназисты болтали между собой, учителя их слегка умиротворяли. В соборе отслужен был молебен при полном невнимании воспитанников, а затем все разошлись по домам — играть и готовить уроки.
Я решительно не помню за все время обучения, чтобы хоть один из десятков наших учителей сказал нам хоть одно слово в защиту монархического принципа. Один только законоучитель отец Бершадский иногда проявлял антипатию к республике. Когда в классе начинали шуметь, он частенько покрикивал: «Тише! Что вы тут республику устроили!» Точно так же мы если слыхали критику католицизма, точнее, папизма, то не слыхали ни слова в защиту православия, за исключением того же отца Бершадского. Так называемое исполнение религиозных обязанностей ограничивалось молитвой перед учением, которую читал кто-нибудь из воспитанников, да в высокоторжественных случаях обязательным посещением всей гимназией церкви. Мы собирались в гимназии, и оттуда нас вели в церковь, где мы со скукой, невнимательно выстаивали положенное время. Говели мы, конечно, обязательно, причем часть служб исполнялась в актовом зале. Духовником был преподаватель Закона Божия. Это одна из самых нелепых вещей. Разумеется, гимназисты не могли искренне исповедовать свои грехи учителю, который, как член педагогического совета, присматривал за их поведением и наказывал за проступки. Собственно, Бершадский был умный, образованный учитель и часто умел нас заинтересовывать. Разумеется, Катехизис наводил на всех непроходимую скуку. Но в библейской и евангельской истории Бершадский часто читал нам описание страны, ее природы, нравов жизни и т. п. Он при этом показывал карты и рисунки, и мы слушали все это с интересом. Он часто разговаривал с нами о разных предметах и не оставался без влияния на нас, не в смысле строго религиозном, а в отношении общего развития.
Что касается религиозного настроения, оно у нас было очень слабо. Дети поступали в гимназию верующими. Я, например, был в детстве чрезвычайно религиозен. Но в гимназии вера у всех быстро тускнела и исчезала. Нужно вспомнить, что это были знаменитые 60-е годы, эпоха систематического подрыва веры, монархии и даже вообще всех исторических основ. В литературе развивался «нигилизм», отрицание всего, чем жило общество. Во главе отрицания стоял «Современник» Чернышевского, где Добролюбов пустил в ход «свистопляску», хихикающее зубоскальство по поводу всех проявлений русской жизни, за исключением жизни мужика, изображаемого мучеником и страдальцем и идеализируемого настолько же, насколько унижалось все, чем держался общественный и государственный строй, все то, что, собственно, и составляло Россию. А положительные идеалы рисовал Чернышевский в романе «Что делать?», идеалы того социализма, который Карл Маркс уже тогда определил как «утопический». Но истинным властителем дум молодого поколения был Д. И. Писарев, который принял «нигилизм» под свою защиту и был, по существу, гораздо более глубоким отрицателем, чем Чернышевский и Добролюбов. Мы, молодежь 60-х годов, серьезно считали Писарева великим умом и зачитывались его, в сущности, очень бессодержательной болтовней, бесконечные водянистые разводы которой мне уже в университете стали казаться совершенно пустопорожними. Но в гимназии это был мой пророк и учитель.
Защитников исторических основ общественности и государственности мы почти не знали и не читали. Господствующее большинство печати приняло систему не спорить с ними серьезно, а только высмеивать. Это было могучим орудием борьбы, легким и сильно действующим на публику. Но основная причина победы разрушительных начал состояла не в этих мелочах полемической тактики и не в талантливости Писарева с Ко. Защитники исторических основ тоже пробовали прибегать к высмеиванию противников, но в их руках это оружие оказывалось бессильным, не производящим впечатления. Почему? Потому что за отрицателей был целый всемирно-исторический процесс. Читают и усваивают не то, что умно или сильно аргументируется, а то, что нравится, к чему стремится душа человека. Стремилась же она к свободе, к отрешению от авторитета, к тому, чтобы жить, как самому хочется, а не так, как велят. И мы выбирали своими учителями и пророками тех, кто манил к этой соблазнительной мечте, отбрасывали с пренебрежением тех, которые доказывали ее невозможность и иллюзорность. Вот причина победы разрушителей.
Общество, богатое знанием и, главное, опытом, ищет авторитетов, в рамках которых только и может жить человек. Таково было античное общество в эпоху Римской империи. Принятие христианства было именно проявлением этого искони высшего авторитета. В Европе предреволюционной возобладало, напротив, стремление выйти из-под власти авторитета. В России, стране очень неразвитой, бедной знаниями и опытом, это стремление проявилось с наибольшей страстностью. Историческое «течение» пошло в этом направлении, и не только мы, но и сами противники разрушения не знали тогда, что мечта о свободе не только неосуществима, но приведет к рабству, когда разрушит прежнее общество и те авторитеты, которыми только и держится право. Антисемиты утверждают, что это и есть сознательная цель франкмасонства — приманкой свободы разрушить старое общество и на его развалинах создать новое, чисто деспотическое, руководимое еврейским центром франкмасонства. Ну, я не видал франкмасонства, но разрушительное действие либерализма мне хорошо известно, и не нужно слишком большой проницательности, чтобы предвидеть неизбежное рабство, которое должно вырасти из этой разрушительной свободы.
Мы, молодежь 60-х годов, плыли по течению разрушительного либерализма вместе со всей Россией. Первым, основным авторитетом, в нас сокрушавшимся, были Бог, вера. Церковь, а с ними падали и общественные авторитеты.
Религиозный элемент в гимназистах разрушался с чрезвычайной быстротой. В 40-х годах рассуждали и спорили о том, есть ли Бог. В мое гимназическое время я не помню таких рассуждений. Вера исчезала без мучительной борьбы, а как-то холодно и безучастно. У нас все время сохранялась та часть православной обрядности, которая относится к праздничному веселью и пиршествам. Мы радостно и оживленно угощались на Рождество и Пасху. Под Пасху мы даже любили ходить по всем церквам со свечами, а на Пасху визитировали по знакомым, у всех закусывая за пасхальными столами. Но собственно для молитвы мы почти не бывали в церкви. На молитву нас водили всех вместе из гимназии, и это была самая скучная из всех наших повинностей. Стояли мы в церкви в строю, скучали, зевали — и только. Говенье у нас проходило без всякого настроения. Всенощную мы слушали в гимназии, к литургии нас водили в собор. Исповедовались в гимназии У законоучителя. Иные над ним подтрунивали. У батюшки стояла на исповеди тарелка, в которую мы клали что могли и хотели. Иные шутники обертывали в бумажку пуговицу и клали на тарелочку. Помню случай страшного кощунства. Один гимназист на причастии не проглотил Святых Даров, а вынес их во рту из церкви и выплюнул. Этот юноша, мой приятель Филиппов, был тихий, кроткий молодой человек, хороший товарищ. О своем поступке он сам рассказывал очень спокойно, без страха и раскаяния, даже без большой похвальбы. Правда, этот случай единственный. А как правило, причастие было простым, холодным обрядом.
Под Керчью на небольшой скалистой горе есть монастырь Катерлез, в то время бывший мужским, правда, ничуть не славившийся святостью жизни. Это место прогулок для керчан, и мы, гимназисты, тоже туда хаживали, но тут не было и искры богомолья. В день святого Георгия (по-татарски Георгий называется Катыр) в Катерлезе большой праздник, на который стекается множество народа — и христиан, и магометан, чтущих святого Георгия как святого и богатыря. По местному преданию, святой Георгий именно в Катерлезе убил дракона, и на одном громадном камне или небольшой скале показывают выбоину, имеющую форму огромного копыта: по преданию, это след копыта коня святого Георгия. В день памяти святого Георгия татары устраивают в Катерлезе скачки, и здесь происходит оживленный праздник, на который стекаются толпы народа. Конечно, и гимназисты чуть не поголовно ходили на праздник, смотрели скачки, ели шашлыки, но молитвы при этом не было никакой.
В политическом отношении мы были весьма безразличными к форме правления, но Россию вообще любили, так что в непатриотичности нас нельзя было упрекнуть. Говорю, конечно, о старших классах, потому что младшие жили в этом отношении совершенно бессознательно.
Такова была образовательная обстановка, в которую я попал и в которой сложились мой ум и чувства. Конечно, среди воспитательных влияний множество шло не из гимназии, а из окружающей общественной среды.
XIII
Фотинья Федоровна Казиляри, к которой на квартиру отдали меня, сама жила у своего зятя, Фотия Ивановича Серафимова. Фотинья Федоровна была уже совсем старушка и бедная. Не знаю, чем она жила. У ней было трое дочерей: Елена Яковлевна, вышедшая замуж за Серафимова, другая, имя которой я позабыл, — за офицера Ардюсер фок Гогендакс де ла Бельтацо, и третья, Марья Яковлевна, так и оставшаяся девицей. Казиляри, как и Серафимовы, были крымские греки, совершенно обруселые, но еще говорившие по-гречески, то есть на испорченном греческом языке, с примесью татарских и русских слов. В Крыму тогда говорили на хорошем греческом языке только жители Еникале и Балаклавы, те и другие сравнительно недавно поселившиеся в России. Не знаю, откуда греки пришли в Еникале, но они очень гордились тем, что они настоящие «эллины», и действительно по типу, очень красивому, сильно отличались от греков-крымчаков. Балаклавцы же, если не ошибаюсь, — потомки пиратов-патриотов, которым Екатерина II дала убежище в России после неудачного восстания, в которое их втравил граф Орлов. Старинные же крымские греки приняли в свою кровь примесь многих других племен, и язык их порядочно испортился.
Фотий Иванович был довольно зажиточный чиновник, служивший в канцелярии градоначальника, очень добрый, усердный по службе и получавший от лиц, имевших дела в градоначальстве, немало всяких «благодарностей»; бывало, к праздникам нанесет целые головы сахару и кучу других припасов; давали, конечно, и деньги. Впрочем, Фотий Иванович не был какой-нибудь мошенник и получал такие «взятки» не за то, чтобы кривил душой, а за, так сказать, сверхурочную работу. Чтобы ускорить разрешение дела, он и собирал справки, чего не обязан был делать, и просиживал ночи над работой, вообще принимал на себя обязанности как бы поверенного. Помню такой случай. Некто Плакида, бывший моим товарищем по гимназии и поступивший в Одесский университет, имел в градоначальстве дело, которое тянулось что-то очень долго. Тогда он обратился за помощью к Фотию Ивановичу, заплатил ему пятьсот рублей, и тот быстро привел дело к благополучному окончанию. Плакида же, воспользовавшись услугами Серафимова, принес градоначальнику (Спицыну) жалобу на то, что он взял с него взятку. Градоначальник пришел в негодование на Плакиду за эту, как он считал, подлость и хотя распушил Фотия Ивановича и приказал ему возвратить Плакиде пятьсот рублей, но чувствительно наказал и Плакиду: нашел какие-то придирки, приказал пересмотреть дело и затянул его calendas graecas так, что Плакиде пришлось очень раскаяться в своей жалобе.
Серафимов имел собственный дом, им же построенный и даже еще не вполне достроенный, на огромном плановом участке по Николаевской улице, в местности, тогда еще только что застраивавшейся. Чуть не две трети участка представляло болотистое озерко, которое приходилось постепенно засыпать. На этом болоте кто-то из знакомых застрелил однажды кулика. Дом Фотий Иванович строил постепенно, по мере того как сколачивал деньги, но строил хорошо, с удобствами, довольно просторно, хотя у них с Еленой Яковлевной не было детей. Она, вероятно, в молодости была хороша собой и старалась себя держать светской дамой, но постоянно болела и вела довольно бездейственное существование. Даже домашним хозяйством мало занималась, предоставив его отчасти мужу, отчасти матери. Помогала им и Марья Яковлевна, жившая тоже у Серафимова и деньги зарабатывавшая швейной работой. Кажется, она была искусная модистка, работала, между прочим, и на Савицких. Кроме того, у Серафимовых жило двое родственников, так называемые Никола-брат и Коста-брат. Это были братья Воиновы, Николай Степаныч и Константин Степаныч, оба чиновники, еще молодые люди. А нахлебниками Серафимовы держали, кроме меня, еще Ваню Перепелицына и, кажется, Герасимова, тоже гимназиста. Дом был вообще многолюдный, и вся эта сборная семья жила очень дружно и тихо. Уж о Фотии Ивановиче с Еленой Яковлевной нечего и говорить — жили душа в душу, как голуби; хотя, казалось бы, трудненько было влюбиться в хромоногого Фотия Ивановича, у которого была повреждена нога, да и наружность самая ординарная, однако Елена Яковлевна могла иногда сентиментально напевать какой-то театральный куплет:
Кто не знает, что такое, Что такое любовь? Это чувство непростое И у всех волнует кровь...Впрочем, Фотий Иванович, будучи в высокой степени прозаичен, был очень неглуп и даже немножко почитывал в уважение своей светской супруге. У него была в сундуке маленькая библиотечка, штук сотня книг, очень странная — это были старинные переводы старинных немецких писателей. Он и мне позволил их перечитать. Помню, мне очень понравился «Фортунат». Чуть ли не самым новым произведением был перевод «Фауста» Губера. Не знаю, откуда Фотий Иванович раздобыл эту старину, уже и тогда исчезнувшую на рынке; вероятно, по наследству от отца и даже деда.
Марья Яковлевна, по существу добрая, была у нас единственной ворчливой особой и этим иногда всем надоедала, особенно нам, мальчикам. Я за это сыграл с ней однажды очень злую и глупую шутку. Надо сказать, что я был мальчик очень скромный и тихий. Но тут на меня напала какая-то бесина. Я подвесил с вечера к косяку двери жестянку с водой, привязав веревочки так, чтобы двери, отворяясь, опрокидывали жестянку вверх дном, вода проливалась сверху, а жестяночка оставалась привязанной. Через эти двери рано утром первая проходила Марья Яковлевна подготовлять чайный прибор. Расчет мой оказался верен. Утром мы даже из своей комнаты услышали отчаянный крик бедной Марьи Яковлевны, которая страшно перепугалась, когда ее неожиданно обдаю водой... Я получил, конечно, выговор Фотия Ивановича, да и прочие притворялись, будто порицают меня, но долго все хохотали над Марьей Яковлевной и говорили: «Вот ловкую штуку выкинул Тихомиров, и как искусно подстроил». Впрочем, все очень удивлялись и почти не хотели верить, что эту глупую шалость сделал именно я, такой скромный и серьезный мальчик.
Особенно грохотал Коста-брат. Это был легкомысленнейший молодой человек, ветрогон и хохотун, вечно пугавшийся в самых низкопробных амурных похождениях с девицами легкого поведения. Воиновы оба были еще молоды, но Николай Степанович значительно старше и совсем иного типа. В нашей среде он представлял некоторую особую интеллигентность. Не знаю, где он учился, уж конечно не выше гимназии, но начитался и нахватался всяких передовых идей и выработал всю внешность человека хорошего общества, безукоризненно приличные манеры, такой же безукоризненно приличный костюм, говорил строго литературным языком и т. п. У него был какой-то приятель, студент, которым он чрезвычайно гордился и которого называл всегда «мой кузен Книшов». По-видимому, от этого «кузена Книшова» он и набрался радикализма и получал разные вести и сплетни из передового либерального общества. Когда произошло покушение Каракозова, Никола-брат не стесняясь заметил нам, мальчикам: «Да, вот не удалось покушение, все и бранят Каракозова, а если бы удалось — все бы его благодарили». Он же рассказывал нам, что Каракозова подвергали пыткам, а когда он хотел уморить себя голодом, ему насильственно вводили пищу клизмами... В то время Николай Степанович казался нам необычайно умным и образованным, и его мнения имели в наших глазах большую цену.
У этого Николая Степановича было в жизни одно замечательное приключение, хотя не имевшее никакого отношения к политике. Они с братом были родом из Феодосии, полугреки, и прежде там же служили. Николай Степанович имел репутацию лучшего феодосийского пловца и говорил, что ему казалось, что он может плавать безгранично долго. Однажды вечером он пошел купаться и заплыл далеко в море. Вечер был дивный, и он долго нежился на волнах, потеряв уже берег из виду. Наконец нужно было возвращаться. Южная ночь наступает быстро, и скоро он уже должен был плыть среди полной тьмы. А тут вдруг появился дельфин, который стал на него упорно бросаться. Имел ли он враждебные намерения или просто хотел играть — кто его знает, но Николаю Степановичу пришлось и торопливо плыть, и отбиваться от неотвязной морской твари. Это его привело в несколько нервное состояние, и он начал от беспокойства думать: почему на горизонте не показывается никаких феодосийских огоньков? неужто он заплыл так далеко? И вдруг, как молния, у него сверкнула мысль: да туда ли он плывет? Не ошибся ли он направлением и не плывет ли не к берегу, а все дальше в море? И как только явился этот ужасный вопрос, Николай Степанович сразу обессилел. Его движения стали порывисты и беспорядочны, он почувствовал себя утомленным, тело его тяжело грузло в воде... Через немного времени он плыл уже как обезумевший, в лихорадке ужаса. Несколько раз он чувствовал, что опускается на дно. И вот в самый страшный момент, когда действительно он начал опускаться под воду, он почувствовал, что ноги его уперлись во что-то твердое. Он выпрямился. Действительно, он на чем-то стоял. Прошло несколько минут, и сознание стало к нему возвращаться. Ощупав ногами предмет, на котором стоял, он понял, что это перекладина якоря, служащего на мелком месте для прицепки каботажек. Но если так, значит, он близ берега... И вот, осмотревшись, он увидел ясно то, чего не замечал в ужасе своей агонии: там и сям мерцали феодосийские огоньки. Он вздохнул спокойно и, несколько отдохнув, выплыл на берег. Это происшествие так повлияло на него, что он почувствовал с тех пор страх перед водой и уже совершенно не мог плавать, разве только на самое краткое расстояние, около купален.
Я прожил у Серафимовых, должно быть, года три. Жизнь у них протекала однообразно и спокойно. За это время, на каникулах, в мое отсутствие, умерла от холеры наша Фотинья Федоровна. Та же холера унесла у Савицких Александру Павловну... Все эти печальные сцены прошли мимо меня, не оставляя тяжелых впечатлений. Учился я хорошо и сразу выдвинулся в положение первого ученика. Мой Ваня Перепелицын, напротив, был чуть не последним, предпочитая постоянно «качарить». «Качарить» — это на гимназическом жаргоне означало уйти из дому якобы в гимназию, а на самом деле закатиться куда-нибудь гулять. Я ходил в классы аккуратно и только раз соблазнился: что же это — все качарят, а я нет, мне стало даже как будто совестно, и я решил тоже не явиться в гимназию. Но эта выходка не доставила мне никакого удовольствия и гулянье было отравлено мыслью, что я делаю просто глупость. А тут еще Фотий Иванович, проведав как-то, что я не явился в гимназию, стал мне своим кротким, флегматичным голосом читать наставление, что я всегда вел себя хорошо, а теперь вздумал брать пример с самых плохих учеников. Мне, конечно, было очень стыдно, что я заслужил такие обидные упреки, и моя «качарка» была первой и последней.
У меня было раннее честолюбие. Мне нравилось быть первым учеником, нравилось, что начальство, когда нужно было показать товар лицом перед какими-нибудь именитыми посетителями, вызывало именно меня отвечать урок; мне нравилось быть хорошим товарищем, я всегда показывал товарищам, как писать сочинения или решать задачи, показывал, как перевести с иностранных языков, и т. д. Для товарищей я даже участвовал в коллективных протестах, ничуть их не одобряя. Учиться мне было очень легко, благодаря редкой памяти я все усваивал с маху. И менять такое положение на какие-нибудь «качарки» — нет, это было бы слишком глупо, думал я.
У других товарищей эти «манкировки», как ныне выражаются, проходили гораздо веселее. Большей частью они удирали на море. Море не могло не соблазнять, бухта расстилалась перед самыми окнами всего второго этажа гимназии — то в тихой прелести незыблемой глади, то бурная и грозная. Бывало, особенно на скучном уроке, все время искоса поглядываешь на бухту. В Керчи зимует множество мелких судов, несмотря на то что бухта при норд-осте очень бурлива. Часто, бывало, смотришь на какую-нибудь кочерму, прыгающую на волнах, как ореховая скорлупа, и замечаешь, что она сегодня погрузилась больше вчерашнего, завтра, смотришь, она еще больше осела и наконец совсем скрывается в волнах. На большей части своего протяжения Керченская бухта настолько мелка, что палуба затонувшего судна всегда более или менее выдается из воды или, по малой мере, над водой торчат почти целиком мачты. Мы любили ездить на эти затонувшие суда: карабкаясь по мачтам, пробирались вдоль бортов, заглядывали в наполненные водой трюмы. В этих морских прогулках любил и я участвовать в свободное время, и большая часть гимназистов научилась хорошо владеть лодкой, особенно на веслах. Парусов нам негде было доставать. Ездили на грубых рыбачьих лодках, которые или нанимали за грош, или брали просто без позволения хозяев. Веслами мы привыкли владеть хорошо, да и рулем, хотя им почти не приходится пользоваться, потому что поворачивать лодку гораздо удобнее веслами: один гребет, другой табанит, или «сияет», как мы больше привыкли говорить. «Табанить» (загребать в обратную сторону) — термин военных судов, а на коммерческих говорят «сиять» (от французского «scier»). Умели многие двигать лодку и с кормы одним веслом, которому для этого дают винтообразное вращение.
У многих завелось и знакомство на каботажках; они ездили к морякам в гости. Брали и меня с собой. Бывало, подъезжаешь к кочерме — и первым приветом с нее слышишь отчаянный лай собаки. На каботажке почти всегда держат собаку. Потом и хозяин вылезает из своей каморки взглянуть, на кого лает его пес. На каботажках скучно, и моряки всегда рады гостям, рады и попотчевать их чем найдется.
В тихую летнюю погоду моим любимым местом в бухте были мели, которых там множество. Вода бывает так мелка, что под килем едва остается до дна пол-аршина. Рукой с лодки можно рвать разнообразные водоросли и даже вынимать раковины. Я любил наблюдать подводную жизнь, стаи быстро бегающих рыбок, черных мидий, раскрывающих на свободе свои створки, маленьких рачков, которые местами кишат на дне.
Но своеобразнее всего вид бухты зимой, когда она замерзает. В Керчи зимует множество кочерм, которые стоят совсем близко одна от другой. Когда между ними стоит сплошной лед, то на бухте образуется нечто вроде деревни. На кочермах поднимается дым из жестяных печей, между кочермами всюду видны тропинки, по которым моряки ходят друг к другу и на берег, видны и дороги, по которым движутся сани; а ночью, когда на всех судах засвечены огоньки, трудно и представить себе, что находишься на воде, а не на берегу.
Для моряков это время наибольшего отдыха и наиболее веселое. Они делаются сухопутными жителями. Но зато когда подойдет весна и льды начинают трогаться, наступает время постоянного труда и беспокойства. Льдины постепенно выносятся течением в пролив и потом в Черное море. Они могут сорвать обмерзшую кочерму с якоря и затащить с собой в море, могут и совсем раздавить ее. Поэтому приходится постоянно прорубать лед и по возможности раскалывать его вокруг каждого судна. Случаются трагедии с кочермами, случаются и с отдельными людьми. Один наш гимназист, кажется Стафипуло, очутился на оторвавшейся огромной льдине, которую стало уносить в море. Ему угрожала гибель, но, к счастью, его успели снять со льда на какую-то кочерму.
Море было любимым местом наших прогулок. Но мы ходили и к Катерлезу, и в сады. Городской сад за несколько верст от Керчи был очень хорош — обширный и густой, как лес, с высокими насыпными горками. В том же направлении находился фруктовый и виноградный сад Киблера, где мы задаром объедались превосходным виноградом. Обширный сад Гущина, разведенный, по фантазии владельца, довольно высоко на горе, почти не давал фруктов, несмотря на искусственную поливку деревьев, но туда тоже ходили гулять. Наконец, в мало-мальски сносную погоду каждый день можно было встретить группы гимназистов на горе Митридат, с которой открывается чудный вид на бухту и пролив. Па самой верхушке Митридата стояла часовня, пустая и без всякого употребления. Ее зачем-то построил градоначальник. Над часовней, на платформе, вырытой на крутом спуске Митридата, была церковь в виде греческого храма, но в ней тоже не было службы, потому что гора угрожала обвалом. В горе было несколько небольших подземных галерей, выкопанных при открытии памятников древности. Гуляющие по Митридату тоже всегда посматривали, не попадется ли какая-нибудь античная статуэтка или осколки сосудов. Я и сам здесь нашел однажды обломок вазы с прекрасно сохранившимся изображением Минервы.
Жизнь у Серафимовых протекала тихо и однообразно, мысли, дела и разговоры вращались в кругу мелких житейских потребностей, не слышно было никогда толков и бесед на темы гражданские, политические, философские, религиозные. Только Никола-брат иной раз пускался в политику. О нас, детях, Фотинья Федоровна, а потом Елена Яковлевна заботились добросовестно, держали в чистоте, как, впрочем, и весь дом Серафимовых содержался в образцовой опрятности. Кормили нас хорошо и в гимназию всегда давали с собой завтрак. Правда, этот завтрак иногда состоял из маслин и хлеба. Вообще, у них стол был греческий. Истреблялось огромное количество маслин, разных слизняков — улиток, мидий. Мидий ели не только вареными и жареными, в каком виде они составляют одно из лучших блюд на свете, но ели и сырыми, как устриц, — но сырые мидии для непривычного имеют вкус почти противный. Ели множество креветок и разной мелкой рыбы, как бычков, барабульку и т. п. Прованское масло шло во все блюда. Вообще, я очень полюбил греческую кухню. Превосходны в ней пирожные, всегда очень жирные. Замечательны пирожные из цветков акации: кисти акации погружаются в жидкое тесто и зажариваются в масле; это очень красивое и нежное пирожное, сохраняющее сильный запах акации.
Особенно пировали у Серафимовых на Рождество и Пасху. В сочельник непременно готовили кутью из толченой пшеницы с огромной примесью толченых орехов и разных пряностей, чрезвычайно сладкую. Это кушанье необыкновенно вкусное, с которым малороссийская кутья не может идти ни в какое сравнение. На Пасху, разумеется, особенно щеголяли пасхами (по-русски «бабами»).
В обычное время Фотиньи Федоровна иногда посылала нас за виноградными листьями, которые у греков служат для изготовления голубцов вместо капусты.
Вот, вспоминая Серафимовых, я невольно говорю больше о кушаньях: еда составляла у них такой преобладающий элемент жизни, что больше всего вспоминается.
Совершенно иная атмосфера была в доме Савицких. Андрей Павлович имел множество интересов. Он живо следил за политикой, русской и иностранной, за всеми совершающимися у нас реформами, лично участвовал в городском и земском самоуправлении, был внимательным присяжным заседателем и т. д. Он вообще сочувствовал внутренней организации общества и в этом смысле был либералом. Но, будучи строгим сторонником порядка и твердой власти, он, по тогдашним меркам, мог называться консерватором, особенно же потому, что терпеть не мог поверхностного критиканства, характеризовавшего тогдашних либералов. Он был горячий патриот и сторонник всероссийского единства. Следя внимательно за внутренними и внешними делами, он говорил о них не только умно, но веско, опираясь на точные данные. Но Андрей Павлович жил не одними гражданскими интересами. Он не был чужд вопросам философским и религиозным. Он интересовался и вопросами искусства. Он был порядочно ознакомлен с археологией Крыма и сам обладал ценной коллекцией монет и предметов античной Пантикапеи (Керчи). Книг у Савицкого было не очень много — только один шкаф, но среди них были ценные и редкие: были заграничные издания Герцена и Кельсиева, был литографированный Алан Кардек — первый пророк спиритизма и спиритической философии... Андрей Павлович первое время не допускал меня в свое книгохранилище, но, когда я стал выравниваться в юношу, он позволил читать свои книги, и я у него перечитал много ценного. Между прочим, у него же я познакомился с Шевченко. Впрочем, «Кобзарь» Шевченки и «Энеиду» Котляревского {17} он иногда и сам читал по вечерам своей семье.
Излишне говорить, что дядя следил за медицинской литературой по своей специальности. Врач он был вообще хороший и не мог отделаться от практики, хотя совсем не искал ее. В Керчи долго были по аптекам, а может быть, и посейчас существуют желудочные «Капли Савицкого», совершенно затмившие иноземцевские капли.
Многосторонняя умственная жизнь Андрея Павловича передавалась, разумеется, всей его семье, которая представляла выдающийся для Керчи интеллигентный уголок. Сама тетушка Варвара Николаевна, моя крестная мама, Царство ей Небесное, умная, добрая, кроткая, держалась незаметно, не пускалась ни в какие рассуждения. Но дочери вырастали одна за другой барышнями выдающеся развитыми. Они все по очереди обучались в Кушниковском институте обычным порядком, но под влиянием домашней обстановки приучались интересоваться множеством вопросов, много читали, были вполне в курсе тогдашней умственной русской жизни. Андрей Павлович выписывал, нужно сказать, и журналы, в том числе «Русское слово», где я и зачитывался Писаревым. Впрочем, скептические и насмешливые замечания дяди сильно подрывали даже во мне влияние корифеев тогдашней публицистики. Что касается барышень Савицких, то для них авторитет отца стоял выше всякого другого. Они, кажется, не могли себе представить, чтобы на свете мог быть кто-нибудь умнее Андрея Павловича. Да и я его чрезвычайно уважал и даже исповедовался перед ним в разных грехах своих, ища помощи, которую и получал. Я вообще чрезвычайно многим обязан ему. В смысле общего направления я, разумеется, постепенно становился гораздо либеральнее его, но он не оставался без влияния на меня и охлаждал во мне порывы революционности все время, пока я не попал в Московский университет.
С самого поступления в гимназию я часто бывал у Савицких, под вечер в субботу или в воскресенье, и, между прочим, поэтому привык чаще бывать в церкви, чем большинство товарищей. Савицкие жили через улицу против собора и частенько ходили ко всенощной и к литургии. Понятно, и мне неловко было хоть изредка не пойти с ними, тем более что мальчиком я был очень религиозен, а церковный обряд за его красоту, за его какую-то особенную задушевность любил всегда, даже и в те годы, когда моя вера пошатнулась. Но конечно, не из-за церкви я ходил к Савицким, а потому, что чувствовал себя у них хорошо среди своих, родных людей, которые меня любили и заботились о мне. У них было привольно даже с внешней стороны. Участок Андрея Павловича занимал огромное пространство. Сначала от улицы шел большой двор, обе стороны которого окаймляли два дома. В правом от ворот жили сами Савицкие. Левый отдавался внаймы, хотя небольшую часть его занимали они же. Помнится, там, по крайней мере одно время, имела комнату тетя Настенька, то есть Настасья Николаевна Каратаева, сестра Савицкой и моей мамы. Дом Савицких был довольно обширен, комнат около восьми помнится, но для семьи они жили все-таки тесновато. У них были: Андрей Павлович, тетя Варвара Николаевна, тетя Настенька, Александра Павловна Савицкая, дети — Леля, Маша, Лида, Соня, Коля, да еще прислуги было: кухарка, горничная и кучер — всего двенадцать душ. А из комнат — зала и столовая служили не для жилья, а, так сказать, под общественные нужды, да и в кабинете Андрея Павловича принимались разные посетители. Но если жилые помещения были тесноваты по семье Савицких, то хозяйственная часть дома была обширна: большая кухня, просторная кладовая и какая-то огромная полуземная комната, где производилось много всякой домашней работы и хранилось множество предметов хозяйственного обихода: кадки, лохани, дрова и т. п. Через эту комнату жилые помещения сообщались с кухней и кладовой.
Задняя часть двора граничила с большим садом, площадь которого была вырыта в горе, так что вся задняя часть сада была обрамлена высоким, в несколько саженей, обрывом, облицованным каменной кладкой. Я очень любил этот сад, хотя в нем единственными порядочными деревьями были две громадные акации при входе. Остальная растительность была низкоросла и состояла в значительной степени из высокого кустарника и плодовых деревьев, уже старых, дававших больше клея, чем фруктов. Кое-где разбросаны были кусты шиповника, но особенно много росло так называемых волчьих ягод, почему-то распространенных по прибрежьям Азовского моря. Красные ягоды этого кустарника ядовиты, но красивы, и самое растение, сухое и колючее, придает какой-то бесплодный, пустынный характер местности, на которой расплодится. Но в саду этом были и цветы, а кое-где имелись и тенистые места, в которых там и сям виднелись скамейки. Главным недостатком его была солоноватость почвы и трудность поливки, потому что колодец, в нем находившийся, давал воду совершенно соленую. Но мы, дети, все-таки очень любили этот сад, в котором проводили множество счастливых часов, придумывая всевозможные игры.
Из детей Савицких Коля был еще совсем малыш, Соня — тоже маленькая девочка и Лидия — все-таки мала для меня. Леля, значительно старше меня, составляла для меня, однако, интересную компанию. Но главным другом моим сделалась однолетняя со мной Маша.
Это было прелестное грациозное создание уже в детстве, и чем более вырастала, тем становилась очаровательнее. Тонкая, стройная, подвижная, с выразительным лицом, в котором гармонически сочетались греческий и малорусский типы, она была так хороша, как я никогда больше не видал в жизни. Это был какой-то нежный благоуханный цветок — не роза, для нее слишком грубая, а какая-то необыкновенная, не существующая в природе разновидность изящной, прозрачной лилии. Какое-то притягивающее, бессознательное кокетство жило во всем ее существе с раннего детства. Я был ее другом, товарищем игр и детской болтовни, с самой ранней поры, и чувство близости росло в нас с каждым годом более. Французы говорят: «Consinode — dangereur voisinage» (опасное соседство), и я, подросши, был по уши влюблен в нее. О пей этого нельзя сказать, она скоро стала искать настоящих женихов, но ей нравилось видеть, как я перед ней преклоняюсь и таю, нравилось дразнить меня, кокетничать с другими и с самым невинным видом говорить мне потом: «Mais pourguoi vius facher?» (Но почему вы сердиты?) — «D'onc veut ton charree?» (Из-за того, что вижу твои насмешки). Но если в ней не было никакой влюбленности в меня — она меня, как друга, очень любила и, пожалуй, предпочитала даже тем, за которых не прочь была выйти замуж. Когда она стала совсем взрослой барышней-невестой, стала выезжать на балы, она все чаще начала скрываться с моих глаз, потому что я, как гимназист, имел мало доступа в места, где за ней ухаживала куча кавалеров; мне досадно было и думать, что вот она теперь вальсирует с каким-нибудь Куп-пой (за которого она чуть-чуть не вышла замуж). Один раз я не выдержал и отправился за ней в маскарад, что нашей братии воспрещалось. Уже не помню, какой сетью интриг я пробрался в клуб на маскарадный вечер и чем был замаскирован. Но только я, можно сказать, весь вечер увивался около Маши, до чрезвычайности заинтересовал и заинтриговал ее, и, несмотря на все старания, она никак не могла догадаться, кто такой эта таинственная маска. Когда я ей потом открыл секрет, она была прямо поражена, а я торжествовал победу — что сумел затмить присяжных кавалеров.
Я был дружен также и со старшей кузиной Лелей. Это была девица очень умная, много читавшая, о многом думавшая, но совсем иного типа. Тоже довольно красивая, с сильно выраженным греческим характером лица, она была полна и флегматична и выдавалась редким на Юге цветом лица: белая как снег кожа, румянец во все щеки, настоящая русская красавица — кровь с молоком. У нее были белая зимняя шубка и шапочка, отделанная шкурками морских нырков, которые изящны и красивы так, что никакой мех с ними не сравнится. Бывало, возвратится Леля с мороза в этой белоснежной шубке, разрумяненная холодом, весело улыбающаяся — ни дать ни взять московская боярыня. По душе и сердцу она была, конечно, лучше всех сестер.
Добрая, неистощимо кроткая, любящая, заботящаяся о всех окружающих и, кажется, неспособная рассердиться, она могла бы быть превосходной женой и матерью семьи. По окончании института она осталась в нем пепеньеркой, а потом классной дамой, и воспитанницы ее любили, как самое близкое и родное существо. Но своей семьей она так и не обзавелась. Было у нее какое-то подобие романа. Наш смешнейший и скучнейший Владимир Богданович Пфафф одно время начал за ней серьезно ухаживать и, говорят, нравился ей. Что она в нем нашла? Тайна женского сердца. Но этот роман почему-то — не знаю — расстроился, и Леля осталась навеки девицей, о чем, впрочем, не сожалела. Что касается моей «пассии» Маши, она, когда я уже был в университете, вышла замуж за красавца и певца Разумовского Михаила Ивановича, скоро ставшего в Одессезнаменитым врачом по женским болезням. Они долго жили счастливо и имели дочь Зину. Но Михаил Иванович вообще был довольно ветрен насчет женского пола, и Маше частенько приходилось ревновать его. Кончилось же все очень скверно Какая-то барыня так захватила его в свои руки, что он почти открыто жил с ней и даже хотел, кажется, поместить ее на своей квартире. Маша не могла снести этого и поставила ему ультиматум: или она, или любовница. Муж ей ответил, что теперь имеет право любить кого хочешь, а она, если не желает жить, может уезжать куда угодно. Конечно, ей осталось только уехать с дочерью. Так они и жили, до самой смерти Разумовского, в depatation de corps (разделении тел), хотя и не прибегли к форменному разводу.
Из других дочерей Савицких Лидия чуть не вышла замуж. Она полюбила не помню кого, кажется, вообще хорошего человека, но больного чахоткой. Они долго считались женихом и невестой, но он, промучившись все время в болезни, наконец умер, а она уже больше ни о ком не хотела и думать. Соня же впоследствии вышла замуж за доктора Терапиано Константина Васильевича и имела двух детей — сына Юру (Георгия) и дочь Лизу, вышедшую замуж за Кропачева.
Все это происходило много лет спустя. Во время моего обучения у Савицких молодежь еще только расцветала, не думая ни о романах, ни о трагедиях. Жизнь всем, казалось, сулила впереди только радости. Даже отец и мать были еще во всей крепости возраста. Андрей Павлович успешно трудился для обеспечения будущего семьи и так же успешно занимался общественными делами. Тетя Варвара Николаевна, тихая, незаметная, умела, однако, как благодетельный дух, быть для всех нужной и вносила в жизнь семьи общий тон спокойствия и ясности.
Если было у Савицких существо, заслуживающее сожаления, так это только одна тетя Настенька. Еще не старая, она уже распростилась со всеми мечтами о замужестве и переносила это не с хохотом и шутками, как Александра Павловна, а с недовольством и укором судьбе. Едва ли она могла с кем-нибудь откровенно отвести душу, едва ли она имела друзей. Даже с добрейшей Варварой Николаевной я не замечал у нее сердечных отношений. И она как-то замкнулась в холодном достоинстве классной дамы. В какой бы ранний час дня вы ее ни встретили, она уже была в светском мундире, одета с иголочки, затянута в корсет, вытянута, как аршин проглотила. Племянницы ее не любили, а Лидия прямо ненавидела, потому что тетя Настенька обучала их педантически строго и скучно, никогда не ободряя, а всегда порицая и упрекая в непонятливости и лености. «Она меня до того довела, — жаловалась Лидия, — что я даже сама себя стала считать никуда не годной, неспособной дурой». Тетя Настенька, конечно, учила, как ее учили в Москве. Все московское осталось для нее идеальным, и она с самым преувеличенным тщанием сохраняла малейшие особенности московского говора: никогда не скажет «английский», «по-английски», а непременно «аглицкий», «по-аглицки»; не скажет «первый», а «перьвый», с мягким знаком. Думаю, что она тяготилась своим положением у Савицких, особенно когда в ней отпала всякая надобность. Было у нее одно заветное утешение: выигрышный билет. Как только подходило время выигрышей, Настасья Николаевна приходила в ажиотацию: она все ждала, что счастье ей улыбнется. Один раз приходит к чаю веселая и рассказывает, что видела чудный сон: явился какой-то старец и объявил, что она выиграет пятьсот тысяч рублей. Этому сну она крепко верила, но велико было разочарование, когда наступил розыгрыш и она ничего не получила. Счастье не улыбнулось. Бедная тетя Настенька, скучна и безрадостна была ее жизнь. А конец оказался такой, что стыдно за Лидию. Уже после смерти Андрея Павловича и Варвары Николаевны Лидия начала бешено ссориться с тетей Настенькой, тогда уже больной старухой, и прямо выгнала ее из дома. Не знаю, что было бы с беднягой, если бы ее не приютила старшая сестра, г-жа Ержмановская, богатая помещица. У нее она и умерла.
Насчет подобного нельзя было и вообразить себе в то время, когда я гимназистом проводил там приятно время, в мирной семье, жившей под властным, но умным управлением Андрея Павловича. Хорошее было время, и хороший был он человек. Живо помню праздничные вечера на Рождество в их семье. У них не происходило никакого особенного торжества, но было обыкновенно человека три-четыре гостей из близких знакомых, подавали какое-нибудь угощение. Андрей Павлович умел, когда хотел, быть очень любезен и интересен в разговоре. Присутствие барышень прибавляло веселья, и эти вечера проходили очень уютно и задушевно.
Один раз молодежь вздумала устроить спиритический сеанс. Тогда это было в моде. Одна молодая классная дама возлагала особые надежды на меня, уверяя, что по моим глазам во мне видна большая «сенситивность». Полагаю, что я тогда был «сенситивен» только в отношении барышень и молодых дам. Как бы то ни было, из нашего сеанса ничего не вышло, кроме смеха и шуток. Андрей Павлович сидел в отдалении в кресле, очень задумчивый, и вдруг в перерыве наших занятий произнес: «Я бы знал, что обо всем этом думать, если бы не один случай в моей жизни...»
Все обратились к нему заинтересованные и просили рассказать, в чем дело. Он рассказал живо и интересно и произвел, по крайней мере на меня, большое впечатление. Случай произошел лет семь тому назад. Андрей Павлович был в Петербурге, бегая по всевозможным канцеляриям и особам, устраивая свои служебные дела в Керчи. Понятно, что, измученный дневной беготней, он возвращался к себе в гостиницу и бросался в кресло сколько-нибудь отдохнуть и успокоиться. Так было и на этот раз. Он растянулся в кресле и погрузился в какое-то дремотное полузабытье. Никаких мыслей не пробегало в его голове, как вдруг он вскочил как встрепанный. Он ощутил не то голос, не то мысль, он не умеет определить, но что-то такое вдруг сказало ему: «Твой сын умер!..» Андрей Павлович страшно любил своего первого сына, родившегося после четырех дочерей. Он оставил его в Керчи здоровым, и получаемые письма не сообщали ничего тревожного. На самом деле мальчик заболел, но Варвара Николаевна, чтобы не тревожить мужа, писала, что все обстоит благополучно. Таинственное сообщение о смерти сына было так живо, что Андрей Павлович записал день и час его и немедленно послал домой запрос, что случилось с мальчиком. Оказалось, что он умер как раз в тот момент, когда Андрей Павлович услыхал этот голос.
В то время наука еще ничего не знала об ощущениях и внушениях на расстоянии, но, конечно, происшествие с дядей должно и теперь считать одним из любопытнейших явлений этого рода.
Андрей Павлович иногда любил рассказать что-нибудь анекдотически-поучительное. Так, однажды среди гостей зашла речь о святости, о том, что достигший святости уже не боится смерти. «Да, — заметил дядя, — только вопрос: как узнать, что человек достиг святости?» И он рассказал из какой-то католической хроники повествование об одном таком монахе-старце, которого ученики его считали святым и просили заранее его молитв у Престола Божия, когда он скончается. «Дети мои, — говорил старец, — мы не можем при жизни знать, какова будет наша судьба по смерти». Они просили его настоятельно дать им знать, что будет по смерти с ним, и старец отвечал: «Об этом я могу умолить Господа». И вот когда настало время его кончины, он завещал не хоронить его до тех пор, пока он не даст какого-либо загробного известия о себе. Итак, ученики молились у гроба и ждали, что будет. На седьмой день мертвый приподнялся из гроба и произнес: «A Deo justo adsum» («Предстал пред Праведным Богом»). На двадцатый день он снова приподнялся и заявил: «A Deo justo judicatussum» («Начался суд Праведного Бога»)... Ученики удвоили молитвы, но на сороковой день скончавшийся старец со скорбью возвестил: «A Deo justo samtus» («Праведный Бог осудил меня»), и его тело тотчас предалось тлению.
Не знаю, откуда Андрей Павлович начитался латинских хроник, но он нередко цитировал их, иногда и в забавных образчиках. Так, он рассказывал, что у какого-то средневекового путешественника по Польше есть такое глубокомысленное наблюдение: «In Parva Rossia hahentur homines, qui non jeresaint nec jenescunt, et jucantur chlopci» — это он видел, что у помещиков кличут «хлопец» и старых, и молодых, и заключал из этого, что это особая порода людей, не вырастающих и не стареющих. Уж не знаю, был ли такой путешественник или это просто польско-латинский анекдот.
Родственный круг Савицких скоро увеличился с поступлением в институт моей сестры и с прибытием в Керчь семьи Тирютиных. Марья Павловна Тирютина была сестра Савицкого. Муж ее, Семен Дмитриевич, врач по профессии, перевелся в Керчь из Черного Яра, не помню, на какую должность. У них было две хорошенькие дочурки, Леля и Аня, настоящие херувимы. Сама Мария Павловна была еще очень красивая, пышная дама, хорошая хозяйка, как все Савицкие, веселая и очень вообще приятная особа. Семен Дмитриевич, родом белорус, тоже был красивый мужчина, с длинными усами на бритом лице, худощавый, энергический, смелый человек. Его отец в 1812 году был забран в армию Наполеона и ходил на Москву. Но Семен Дмитриевич был вполне уже русский и к Польше не питал никаких симпатий. Довольно образованный, он держал себя совершенно неверующим и не стеснялся говорить: «Ведь выдумали же бессемейное зачатие!» Однако это вольтерьянство было в значительной степени напускное. Однажды Мария Павловна в Керчи серьезно заболела и рисковала умереть. Семен Дмитриевич был в отчаянии. Он очень любил жену, да и перспектива остаться вдовцом с двумя маленькими девочками не могла не пугать. И вот моя мама, бывшая в это время в Керчи, увидела, что он, ходя в волнении взад и вперед, время от времени выскакивает в соседнюю комнату и остается там несколько минут. Ее заинтересовало, что он там делает. Оказалось, он стоит перед образами и молится в каком-то исступлении: «Помилуй меня, Господи, не погуби. Ведь я погиб, если она умрет. Помоги, исцели. Ты не можешь, не должен довести меня до гибели... Пощади, исцели ее...»
Но Семен Дмитриевич хотя и мог растеряться при опасности для жизни жены, но вообще был человек отважный. Раз ночью, когда вся семья Тирютиных уже была в постели, на улице послышался отчаянный крик о помощи. Семен Дмитриевич, не раздумывая ни секунды, как был в ночном белье — бросился на улицу. Тут несколько грабителей тащили какого-то человека во двор соседнего нежилого дома, очевидно, чтобы там с ним на свободе расправиться. Тирютин кинулся на выручку; завязалась общая свалка, но шум борьбы разбудил других жильцов тирютинского дома, они стали выбегать на улицу, и грабители обратились в бегство.
Семен Дмитриевич внес много оживления в наш семейный круг. А тут еще прибавилась моя сестра Маня, поступившая в институт, где в это время учились две старшие барышни Савицких. Институт помещался на той же Воронцовской улице, как раз рядом с домом Савицких. Сношения были легки и удобны, и я часто посещал наших институток, ходил за ними, когда их отпускали домой. Институт представлял мрачное старое здание, да и порядки в нем были строгие, но молодежи везде весело. Моя сестра по возрасту ближе всего подходила к Маше Савицкой, и мы с ними составляли постоянное дружеское трио.
В это время вводились новые судебные учреждения, которыми все были очень заинтересованы, и увлекающийся Семен Дмитриевич вздумал заняться адвокатской практикой, хотя не имел никакой юридической подготовки. Конечно, своей профессии врача он не оставлял. Не знаю, как счастливо вел он свои судебные дела, но рассказов из этой области приносил нам много, пока ему не надоело заниматься адвокатурой.
Под конец времени, о котором здесь идет речь, я жил уже не у Серафимовых, а сначала у Апостоловых, а под конец учения — у Платонова. Но об этом я скажу позднее. Теперь мне хочется вспомнить мое каникулярное времяпрепровождение за мои ученические годы.
XIV
Летние каникулы я всегда проводил в Новороссийске. Рождественские праздники были слишком коротки, да притом в это время на Черном море погоды бурные. Нельзя было даже поручиться, что пароход зайдет в бухту, нельзя было знать наверное, когда выскочишь из Новороссийска, раз туда забравшись. На пасхальные же праздники свободна была только первая половина, а во вторую уже приходилось более или менее готовиться к экзаменам. Притом же и на Рождество, и на Пасху нам задавались довольно большие уроки. Поэтому на оба эти праздника я всегда оставался в Керчи. Но зато на летние каникулы я старался не потерять ни одного дня, чтобы побольше провести времени на родной стороне, которую полюбил еще до поступления в гимназию. И тут дело не в том только, что в Новороссийске мне жилось привольно и весело. Нет, в горных странах каждая местность имеет свою физиономию, такую же выразительную, как человеческое лицо. Эта физиономия иногда сияет светлой красотой, иногда пасмурна и грозна, иногда нежит лаской, иногда разнообразно переходит от одного выражения к другому. И вот я любил саму физиономию Новороссийска, профили наших гор, очертания берегов, их обрывы, разнообразие оттенков в цвете моря, жаркое солнце, черные ночи, сверкающие мириадами звезд, таинственный свет золотого сияния луны, грозы и зарницы, свирепые норд-осты — словом, все во всей сложности и разнообразии. Я торопился увидеть знакомое лицо любимого родного края, независимо от того, как мне в нем живется. Но и жилось в нем тогда хорошо, так хорошо, как не могло быть раньше, во время господства черкесов, ни после, когда край заселился другими народами. В течение нескольких промежуточных лет он весь был в невозбранном распоряжении моем и моих товарищей. Все было наше, никто не ограничивал наших прав брать всюду что захотим, делать все, что нам угодно, — jus utendi et abutendi, usez et abuser. Никакой сказочный принц не мог быть богаче и свободнее, чем были мы в волшебной сказке наших юношеских лет.
Я садился на пароход с легким сердцем, с чистой совестью. Экзамены сданы прекрасно, на пятерки. Никакое горе, никакие заботы не омрачали воображения, рисующего радостные картины того, что ждет меня дома. Ездить мне большей частью приходилось одному, хотя раза два езжала и сестра в сопровождении какой-нибудь знакомой попутчицы. Первые годы я помещался во 2-м классе, то есть со всеми удобствами. Погода в эти месяцы обыкновенно превосходная. Меня в те времена вообще не укачивало, но качки обыкновенно и не бывало; она трепала пароход только при возвращении с каникул, а ранним летом покачивала только морская «толчея» против устьев Кубани, на Бугасе: там течение реки, врывающейся в море и сталкивающейся с морским течением, беспорядочно волнует воду круглый год. Эта «толчея» — самый неприятный вид качки, но пароход пересекает ее полосу в какие-нибудь полчаса. А в общем переезд в Новороссийск в это время года составлял прекрасную прогулку. Пароход выходил из Керчи под вечер. И бухта, и пролив близ Керчи — со множеством парусных судов, то стоящих на якоре, то идущих в разных направлениях, представляли оживленную картину. Глаза разбегались, рассматривая ее. А тут еще нужно было обегать весь свой пароход, осмотреть палубу, побывать на рубке, взглянуть на машину. Третьеклассные пассажиры, расположившиеся живописными группами вдоль бортов, на корме, на носу, привлекали внимание бытовыми сценами. Тут перемешивались русские, евреи, греки, татары, турки. Последние были всегда особенно интересны. Турки держат себя с удивительным достоинством, не суетятся, не горячатся. Они и по наружности красивее всех. Один раз, помню, застал я эту публику в религиозном споре, который мне пояснил по-русски керченский грек. Особенно хорош был пожилой турок в тюрбане, с длинной бородой. Плавно поводя рукой и оглядывая слушателей, он говорил, ни разу не повысив голоса, с очевидным сознанием своей правоты и превосходства: персонаж, достойный кисти Репина.
На море аппетит разгуливается быстро, а на пароходах тогда кормили очень хорошо, да у меня и самого всегда была куча припасов, данных Савицкими. Пока набегаешься да насытишься — смотришь, уже и ночь пала на море. От избытка впечатлений чувствуешь, что и уснуть бы недурно. Но как тут спать, когда кругом расстилается такая чарующая водная даль! Гладкая, как стекло, она колышется какими-то мягкими выпуклостями, и не насмотришься на нее. Сверкают ли на ней золотистые разливы луны, или она чернеет под небом, разукрашенным только прихотливыми узорами созвездий, — одинаково прекрасна эта водная бесконечность. И вот я взбираюсь на борт и, держась за ванты, любуюсь и черной далью, и слабо светящейся полосой вдоль ватерлинии, где бок парохода рассекает воду, насыщенную миллиардами фосфорических блесток. Но сидеть так небезопасно, и матрос прогоняет тихим голосом: «Слезьте с борта, тут нельзя сидеть». И действительно, не следует сидеть. Стоит только гипнотическому очарованию моря на секунду овладеть неосторожным и пошатнуть его — поминай как звали. Только фосфорические брызги отметят на минуту влажную могилу погибшего.
В конце концов все-таки убираешься в каюту и засыпаешь как убитый с мыслью, как бы не проспать появления кавказских берегов. Мне, впрочем, легко .было не проспать. В юношеские голы я себя выдрессировал просыпаться в назначенное себе время. Отец обладал этой способностью в полной мере. Я — хотя и похуже его, но все-таки очень недурно. Поэтому я всегда вставал безошибочно в то время, когда пароход подходил к кавказским берегам.
Тут раскрывались уже совсем иные картины. С правого борта у нас виднелось водное пространство, которому не было конца до самой Варны и Царьграда. Но, глядя налево, можно было вообразить себя на широкой реке. Пароход шел вдоль берега на таком близком расстоянии, что можно было рассмотреть не только малейшую хижину, но даже человека. Я ездил обыкновенно с биноклем, при помощи которого мой взгляд проникал в отдаленнейшую глубину ущелий; на берегу можно было различить все камни, о которые разбивались длинные полосы прибоя. Но вот лучи солнца брызнули там и сям из-за гор. На их вершинах и в низах долин начинается игра света и тени. От этой картины трудно оторваться даже для того, чтобы пойти пить кофе со сливками и бутербродами.
Я, конечно, хорошо знал наши берега и по их сменяющимся обрывам и ущельям рассчитывал, как по циферблату, долго ли еще нам идти. Когда открывалась длинная низина Озерейки (бывшее черкесское Ходрек), это значило, что вот-вот откроется мыс Доба, вход в Новороссийскую бухту. Этого момента я уже никак не хотел пропустить. Берег Новороссийской бухты тоже очень красив, может быть, даже красивее. Но на эти виды уже, бывало, и не смотришь. Глаз тянется туда, где виднеются крыши Новороссийска, крест церкви, здание лазарета на горе. В голове толпятся мысли: что поделывают дома? кто меня встретит? как там теперь хлопочет мама, готовя для меня кофе и закуску? А пароход быстро проходил бухту. Она тогда красовалась во всем первозданном просторе, не сковывали ее ни молы, ни набережные, не было даже пристаней, и пароход становился просто на якорь. Пассажиры высаживались на берег на лодках, а на берегу меня всегда ожидали дроги, высланные из дому. Случалось, если позволяло время, ко мне навстречу выезжал на пароход отец. И вот спускаешься по трапу в перегруженную до невозможности фелюгу, разноперые гребцы — греки, турки, русские — нестройно налегают на весла. Еще пять-шесть минут, и я у наших дрог, около которых мне приветливо ухмыляется хромоногий денщик Трофим: «Здравствуйте, паныч». Я дома. Начинаются блаженные каникулы.
Пока я учился в Керчи, наши перебрались на другую квартиру. Это был маленький казенный дом около самой крепостной стены, над бастионом, под которым происходила черкесская сатовка. Парадным фасадом дом выходил на Соборную площадь. Жили мы там тесно, в четырех комнатах, к которым можно еще присоединить кладовую, на лето превращенную в комнату. А народу набиралось на каникулы много. Отец, мать, сестра, брат Володя, я, да еще раза два приезжали Савицкие, трое или четверо: Андрей Павлович, Леля, Маша, Лидия. Прислуги тоже была куча: двое денщиков, вестовой, горничная Кафеза да некоторое время Алексей (Бжиз). Правда, на дворе была особая, просторная кухня, но все-таки непостижимо, как мы умудрялись помещаться. Кое-кто из денщиков спал часто в сарае. А одно лето отец поместил меня и брата на дворе в огромной госпитальной палатке. И кажется, это помещение было самым лучшим в доме. Вспоминаю его с самым приятным чувством.
Палатка эта рассчитана была на шесть коек, а мы в ней жили вдвоем. Нам дали две койки, два столика, несколько табуретов. Палатка высокая, просторная, изнутри подбитая красным сукном. Жить было прекрасно. Только хлопот с ней было множество. Постоянно приходилось подтягивать веревки, на которых она была натянута, поправлять и вколачивать колья, к которым привязывались эти веревки, и множество мелких колышков, к которым подвязывалось самое полотно палатки. На день полотно приходилось поднимать, где хотели образовать некоторое подобие окон и дверей, на ночь, напротив, все это нужно было прикреплять к земле. Приходилось постоянно прочищать вокруг палатки канавку, по которой сбегала дождевая вода. Но жить было зато хорошо. Воздух превосходный. Ночью иной раз свежо, но у нас были одеяла. Закутаешься, бывало, и — блаженствуешь. Особенно интересно было при дожде. Парусина натянется, как барабан, и потоки дождя выбивают по ней грохочущую барабанную дробь, а палатка прочная, почти не давала течи. Закутаешься, бывало, на кровати и слушаешь эту музыку. Дом, понятно, был каменный, местного плитняка. Как всегда в то время, в нем не было ни одного окна на норд-остовую сторону. Тогда этого очень тщательно избегали, поворачивая дома на норд-ост сплошной стеной. Дом с двух сторон был опоясан палисадником, в котором росло несколько абрикосовых деревьев, дававших недурные плоды; был также десяток кустов крыжовника. В этом палисаднике мы просиживали часы в хорошую погоду, а иногда и чай пили по вечерам.
Общество у нас, молодежи, было довольно многочисленное. Разумеется, за шесть лет оно менялось. Появлялись новые лица, некоторые выбывали. Но в общем народу было всегда много. Первые годы всегда приезжал на каникулы брат Володя. Он покинул Новороссийск только тогда, когда поступил в Московский университет. Из Москвы он, к огорчению отца и матери, уже ни разу не приезжал. Это было и на его собственное несчастье. Если бы бедняга не оторвался от семьи, его жизнь, конечно, сложилась бы совершенно иначе. Но первые годы моего пребывания в гимназии брат всегда проводил лето с нами и был даже главным лицом нашей компании. Приезжал также и его сотоварищ Митя Рудковский. Из Керчи регулярно приезжал наш гимназист Михаил Ключарев, неизменный участник всех наших каникулярных похождений. Его сестра была замужем за инженером Головачевским, нашим соседом, и Ключарев проводил у них каникулы. Некоторое время приезжал также и Ваня Перепелицын, который по своей неразвитости мало подходил к нам, но все-таки шлялся с нами по лесам и горам. Он немного и охотничал, хотя стрелял плоховато. Настоящим охотником среди нас был только Ключарев.
Жили мы в своем домишке тесно, но хорошо. Разумеется, в течение шести лет мы и сами росли, и обстановка изменялась, так что не совсем одинаково наполнялось время каникулярного отдыха, но всегда это время было светло и прекрасно. Мы бродили по горам и лесам, ездили в лодке, ходили на охоту, купались, много читали. Одно время, именно когда мы жили в палатке и у нас гостили Савицкие, брат нам читал нечто вроде литературных лекций. Володя тогда находился в высшем пункте развития своих блистательных способностей, впоследствии в университете не то что угасших, но как-то замерших, пришедших в бездейственное состояние. В гимназии он для юноши своих лет был чрезвычайно начитан и, между прочим, хорошо знал русскую литературу с древнейших времен. У них, в Ейской гимназии, был учитель словесности Дорошенко, который умел привлечь молодежь к своему предмету. Врат именно и вздумал читать нам лекции по русской литературе. Говорил Володя превосходно, легко, плавно, образно. Можно было заслушаться. Разумеется, с литературы разговоры переходили на всевозможные другие предметы. То были времена расцвета русского романа. Лев Толстой печатал «Войну и мир». Достоевский выступал с первыми крупными созданиями своими. Все это давало сотни тем для размышления и разговора.
Но мы читали и множество пустяков. Я глотал Густава Эмара, Дюма и т. п. Мы много упражнялись, особенно в первые годы, в разных забавах. У нас была интересная книга по химии, в которой мы нашли множество рецептов по изготовлению пороха и разных фейерверочных огней. Это нас увлекло, и мы научились делать очень сносный порох. С пороха перешли на отливку пуль и изготовление дроби и некоторое время шлялись по ущельям, усердно стреляя в цель. Готовили, конечно, и разноцветные огни. Впоследствии эти забавы были брошены, но зато тем шире развились наши полу-охотничьи прогулки по лесам, горам и морю. Я пристрастился и к верховой езде и часто в одиночку уезжал далеко от Новороссийска. Прогулки верхом даже лучше, чем пешеходные. Лошадь сберегает силы, а между тем может пройти почти в любую трущобу и по горам, и в лесу. Разумеется, есть такие места, куда не только на лошади не проедешь, а и пешком приходится пробираться чуть не на четвереньках. Но это уже исключения.
Раз как-то пошли мы с братом в горы и, перевалив заросшую кустарником вершину, вздумали спуститься вниз, в ущелье. Конечно, мы знали, что наши горы почти везде кончаются в ущельях крутыми, перпендикулярными обрывами, но не подумали об этом и беззаботно двинулись по спуску. Сначала все шло хорошо, но мало-помалу спуск становился все круче. Пришлось почти сесть и спускаться, придерживаясь руками за кустарник. Наконец мы стали уже прямо скользить, и тут нам только пришло в голову, что перед нами должен быть обрыв. Через несколько секунд перед нами вырисовался отвесный обрыв противоположного борта ущелья, а почва под нами сделалась так крута, что мы могли удерживаться только руками за кусты. Мы испугались. Попробовали брать руками камни, все больше попадавшиеся между корнями, и бросать их вниз. Дело оказалось совсем плохо. Камни легко пролетали сквозь кустарник и с шумом падали в какую-то невидимую нам пропасть. Стало ясно, что мы находимся всего в нескольких шагах от обрыва, куда могли слететь каждую минуту, если вырвать из чахлой земли корень куста, на котором приходилось почти висеть всей тяжестью тела. Нужно было немедля спасаться. Мы поползли вверх. Это было очень нелегко. Ноги уже почти не помогали, а подниматься приходилось, только хватаясь руками за кусты. Некоторое время мы поднимались в большой тревоге, пока крутизна не уменьшилась настолько, что мы могли стать на ноги.
Я любил уходить в горы и лес и в одиночку. Заберешься, бывало, куда-нибудь в пустыню и лежишь, глядя на небо или наблюдая разные разности вокруг себя. Хорошо, легко на душе, когда кругом нет ни души человеческой, ничье слово не вторгается в чарующее единение с природой. Зверей я тогда не боялся, хотя их было очень много. В наших поездках мы, случалось, наталкивались на кабанов, видели и волков. Но они в то время как-то никого не трогали, а отчасти я не боялся их и просто по неопытности, особенно когда раздобылся ружьем. Стрелял я всегда плохо, но раз навсегда решил, что при встрече с волком, если он будет нападать, я буду стрелять не дальше как с пятнадцати—двадцати шагов, и притом картечью. Сделал я предварительно опыт: выстрелил картечью в черепаху. Заряд пробил в ней огромную дыру, и я решил, что, стало быть, картечь может свалить и волка. Впрочем, это зверье мне ни разу не попадалось во время моих одиночных путешествий. Раз только нос к носу столкнулся с шакалкой. Я поднимался на гору, она спускалась. Но, только завидев меня, она моментально шмыгнула в сторону.
Один раз у меня произошло приключение со змеей. Я вообще считал долгом убивать всех змей, какие только попадались под руку, и несколько штук действительно убил. Однажды в Цемесской долине я увидел большую змею, ползущую близ ручья, и, вооружившись камнями, начал ее бомбардировать. Один камень попал. Тогда змея, свернувшись в кружок, сделала огромный прыжок на меня, как распустившаяся пружина, потом моментально опять свернулась. Но я не ждал второго скачка, а пустился бежать во всю прыть, а она хотя повторила прыжок, но догнать меня не могла. С тех пор я стал более осторожен со змеями.
Другой раз мне случилось наблюдать премилую сцену с дикими котятами. Это было на охоте, когда мы поехали на дрогах. Наша компания, оставив дроги на поляне, разбрелась с ружьями на охоту, я же не пошел и, развалившись на дрогах, погрузился в свое любимое созерцательное ничегонеделание. Тихо, одиноко, солнышко припекает — хорошо. Вдруг из кустов выскочили несколько диких котят и начали играть. Хорошенькие, грациозные зверьки резвились совсем как домашние. Я залюбовался ими, стараясь не шевелиться, чтобы не вспугнуть их. Но они в своих играх вышли из круга моего зрения, и я чуть-чуть повернул голову за ними, но, как только шевельнулся — они моментально исчезли в кустах.
В кустарниках больших долин я любил наблюдать или, точнее, слушать фазанов. Их тогда было множество, как в каком-нибудь птичнике. Крики их так и раздавались со всех сторон. Этот крик очень похож на куриный, только курица кричит явственно: «куд-куд-куд-куд-кудак», а у фазана первые звуки еле слышны, но зато очень громко раздается последний звук: «...кудак». Они тогда совсем еще не были пугливы, однако все же прятались от человека по кустам.
Любил я также наблюдать жизнь насекомых, муравьев, жуков. Один раз как-то, на той стороне бухты, я буквально целый час ходил за жуком-навозником. Он сделал сначала из навоза, найденного на дороге, шарик гораздо больше самого себя, величиной с небольшой волошский орех, и покатил его куда-то через траву. Бедной маленькой твари это стоило больше усилий, чем мне продираться сквозь густо заросший лес, но он терпеливо преодолевал все препятствия или обходил их, пробираясь к, очевидно, заранее намеченному месту. Путь для него был очень длинный, шагов двадцать. Я все время следил за ним, приседая на корточки и потихоньку передвигаясь. Наконец он пришел к своему месту и начал работать. Почему он выбрал именно это место — я не мог догадаться. Там не было никаких признаков жилья жуков или каких-нибудь ямок, не было и других жуков. Мой жук положил свой шарик на месте, сравнительно свободном от травы, и начал выкапывать вокруг него землю, так что шарик стал понемногу опускаться. Потом жук подрылся совсем под землю, выбрасывая ее наверх, и наконец совсем исчез и начал снизу тащить свой шарик вниз. Несколько раз он то выходил наверх, выбрасывая землю и отправляя шарик, то скрывался под землю, таща его снизу. Работа для него была, очевидно, страшно трудная, но он трудился неутомимо. Наконец шарик был совсем закопан. Жук еще раз появился на поверхности, присыпав его землей, а потом скрылся внизу. Я ждал, не будет ли чего дальше, но уже ничего не произошло, исчезли и шарик, и жук, и только маленькое, оголенное от травы пятнышко показывало место упорных трудов насекомого.
Любил я тоже прослеживать рождение родников, которые в горах кое-где били прямо из-под земли, сливаясь потом в ручейки. В одном ущелье, в ручье, очевидно, насыщенном известью, были любопытные зачатки сталактитов, и все попавшие в воду листочки и веточки покрывались известью. Они были очень красивы, но очень непрочны, рассыпаясь от прикосновения. Вообще, одинокие прогулки мне очень нравились свободой наблюдения всего, что заинтересует по пути. Однажды в большом лесу в Цемесской долине я нашел очень странную вещь: обширный погреб. Заглянуть в него было страшно, чтобы не осыпалась земля. Тогда я остался бы там заживо погребенным, потому что помощи ждать неоткуда. Я осматривал поэтому погреб лишь с величайшей осторожностью и недоумевал: кто и для чего мог выкопать его? Очевидно, это был остаток каких-то черкесских обиталищ. Потом я уже не мог никогда отыскать его, хотя и очень хотел показать товарищам.
Более интересно было находить заглохшие черкесские сады, которых было множество. Но черкесские фрукты вообще не отличались вкусом, за исключением кизила, который был хотя и мелок, но гораздо слаще и вкуснее крымского. Не помню, кто нашел в большом лесу прекрасный кизиловый сад, которого кусты по толщине стволов нужно было называть скорее деревьями. Мы сюда иногда ездили собирать кизил, который, опадая с деревьев, покрывал землю так густо, что его нельзя было собирать, не перетоптавши гораздо больше ягод, чем попадало в корзины. Помню, как я лежал под этими кустами, выбрав местечко посвободнее, и объедался черными сладкими ягодами, такими мягкими от зрелости, что их невозможно было класть в корзину. Чтобы съесть их целый фунт, мне не нужно было сдвигаться с места, а стоило только протягивать руку и брать с земли, как с блюда. Остальные фрукты у черкесов были плохи. Их груши, так называемая кислица, представляли громадные деревья, толстые, выше дубов, но сами фрукты очень мелкие, хотя и сладкие, когда вызреют. Их употребляли для сушения. Эти великолепные деревья почти все постепенно погибли. На них почему-то заводится омела, которую черкесы, очевидно, срезывали, а когда срезывать стало некому, омела засушила все деревья. Черкесская слива (чернослив) мелка и несладка. Хороша только желтая лыча (или алыча). Яблок же черкесских я даже совершенно не помню.
В одиночных прогулках, даже и верхом, я редко забирался далеко, но в компании мы заходили за десяток и больше верст, искрестивши во всех направлениях окрестности Новороссийска. Бродили мы по большей части почти бесцельно, охотничали маю, а при этом ставили себе задачей посмотреть, далеко ли, например, тянется лес, или где начало Цемеса, или чем заканчиваются ущелья и т. п. В течение нескольких лет новороссийская округа была совершенно пустынна, ближайшее поселение по берегу составляла Кабардинка, весь склон Маркотха был безлюден, и только уже за перевалом находились станица Верхне-Бакамская да почтовая станция на Липках. Вся Цемесская долина была пуста. Такое же безлюдие до Сус-Хабла и Абрау. На всем пространстве в триста-четыреста квадратных верст находилось всего два-три хуторка. Едва ли не первый завел себе хуторок казак Паничовный, на той стороне бухты, под старой Крымской дорогой, у самого залива. Должно быть, он занял это место самовольно, потому что скоро начальник Черноморского округа Пиленко как-то выдворил его оттуда и присвоил землю себе. Тут он пытался разводить сад низкорослых деревьев, которые, по его расчетам, должны были лучше выдерживать напор норд-оста. Но и у Пиленки это место недолго продержалось; кажется, он его продал, когда проведение железной дороги вызвало у нас отчаянную спекуляцию на земли. Другой ранний хутор был основан крестьянином Плохим на земле, которая была впоследствии отведена деревне Борисовке. Крестьяне очень хлопотали отнять землю у Плохого, но он как-то успел отстоять себя, и его хутор остался вклиненным в Борисовский Юрт. Вообще первым заемщикам земель, селившимся самовольно, без всяких формальностей, по большей части трудно было удержать свои владения. Однажды мы всей компанией забрались далеко, в великолепное ущелье Дюрсо, и там нашли только что основанный хуторок. Но года через два-три обширная горная долина с озером Абрау и смежным ущельем Дюрсо были отданы по высочайшему повелению какой-то великой княгине, и злополучного хуторянина прогнали оттуда. А громадное имение Абрау-Дюрсо, тысяч десять десятин, перешло потом во владение Императрицы. При ней на Абрау разведены были прекрасные виноградники и начато виноделие. Вина Абрау скоро приобрели почетное место на рынке.
Эта долина Абрау составляет едва ли не самую лучшую местность во всей новороссийской округе. Я несколько раз там бывал. Обширная плоскость, окаймленная горами и защищенная ими от норд-оста, имеет наклон в сторону моря, но отрезана от него крутым горным хребтом, так что стока в море не может получить. Поэтому долина Абрау, сначала сухая, переходит наконец в болото, а за ним до самого хребта, замыкающего долину перед морем, образовалось прекрасное озеро Абрау, которое русские переселенцы сначала окрестили именем «озеро Абрам». Замечательно, что это озеро совсем не болотистое, но чистое, прозрачное и чрезвычайно глубокое. В нем водилась кое-какая рыба и мелкие, но хорошие раки. Тот же хребет, который отделяет озеро от моря, отрезывает Абрау и от Дюрсо, но после отдачи обеих долин Императрице они были связаны между собою прекрасной дорогой, очень живописной, пробитой через этот хребет гор на протяжении верст четырех-пяти. Дорога была проведена на казенный счет и должна была стоить очень недешево, хотя первоначально соединяла две местности совершенно безлюдные. Управление имением предполагало отдавать земли на Абрау и Дюрсо в аренду переселенцам, но не знаю, насколько был осуществлен этот план, потому что в Новороссийске тогда была масса земли, отводимой переселенским деревням даром, а под мелкие имения — за грош (десять рублей десятина). Я был на Абрау несколько раз, но особое своеобразное впечатление вынес в тот момент, когда великокняжеское управление впервые заводило там свое хозяйство.
Вообще, однако, заселение края шло сначала очень медленно, и несколько лет мы, наша каникулярная компания, бродили по совершенно опустелым и одичалым местностям на всем пространстве, одолеть которое могли наши молодые, неутомимые ноги. Все и повсюду было в нашем невозбранном владении, мы делали что хотели, собирали ягоды и фрукты, разводили костры с опасностью произвести лесные пожары, ломали фруктовые деревья, чтобы удобнее собрать плоды. Нигде никто нам не мешал. Помню, под конец нам случилось сбивать груши палками, которые мы запускали снизу, безбожно ломая тонкие веточки дерев, как вдруг из кустов выбежал человек и начал нас отчаянно ругать... Оказалось, что это собственник хуторка, только что основанного. Он кричал, чтобы мы не смели портить его сада, и мы были, помню, совершенно изумлены; до сих пор все повсюду было наше, а тут вдруг явились такие строгие препятствия. Хуторянин, разумеется, говорил дело, и мы не могли не сознавать, что поступали с садом совершенно варварски. Но самый факт отпора поразил нас. Это было первое предвестие, что нашему царствованию в новороссийской округе наступает конец.
Привольны были времена этого нашего царствования на суше, но не меньше радости давало нам и морс. Купание было тогда в Новороссийске дивное. Человек еще ничем не загрязнял в бухте воды, и она была кристально прозрачна. Дно в неясных очертаниях было видно даже и на больших глубинах. В купальнях же и вообще около берега на дне виден был каждый камешек, каждая водоросль, каждая рыбка. Пользуясь этой прозрачностью, греки ловили рыбу особым способом, которого мне больше не приходилось видеть нигде. Опуская удочку с грузом, но без всякой приманки, рыболов подводил крючок под брюхо рыбы и потом быстрым движением выдергивал ее из воды. Ловля таким способом шла быстро, но требовала большой ловкости. Никто из нас не мог овладеть этим искусством, и мы если ловили рыбу, то обыкновенным способом, с приманкой. Впрочем, в Новороссийске ловля на удочку неинтересна, потому что лучшая рыба живет на глубине, а на мелких местах — вероятно, вследствие прозрачности воды — клюет очень плохо. Мы, бывало, просидевши несколько часов, в лучшем случае приносили домой какой-нибудь десяток бычков. Ходили же мы на бухту, собственно, для купания.
Тогда народ купался просто с берега. Зажиточные же люди имели собственные купальни. Это был просто деревянный остов с полом, обтянутый полотном. Его опускали прямо на дно. В купальне, конечно, были скамеечки и лестничка в воду. В такой палатке даже и в полдень не жарко, солнце не печет, ветерок продувает, и приятно было просидеть хоть целый час, то спускаясь в воду, то вылезая наверх. Тут-то иной раз от нечего делать занимались мы и ужением рыбы. Ходили купаться обыкновенно раза три в день: утром, перед обедом и поздно вечером. Впрочем, в Новороссийске нельзя было злоупотреблять купанием. Вода, насыщенная разными солями, сильно действовала на кожу и в конце концов вызывала сыпь, так что купание приходилось время от времени прерывать.
Я очень любил ночное купание, в темноте, когда совсем нет луны и только мириады звезд мигают в таинственных пространствах неба. Все кругом получает фантастический характер. Черная и в то же время прозрачная вода позволяет глазу различать в неясных очертаниях лапчатые стебли водорослей, из которых воображение может сочинять какие-то невиданные морские существа. Каждое движение тела вызывает бледное свечение фосфоричности. Воздух полон своеобразного, как будто йодистого, запаха моря, а прибой невидимых волн напевает однообразную мелодию вдоль каменистого прибрежья. Все вокруг делается чуждо привычному, земному и переносит душу в иной мир ощущений. И жутко, и заманчиво, и кажется, если бы не было около других человеческих существ, то так и не решился бы погрузиться в воду, вдруг ставшую такой необычной, непонятной.
Но самое интересное пользование бухтой состояло для нас в плавании на лодке. У Головачевского был маленький ботик в четыре весла. Широкая и устойчивая эта лодочка превосходно ходила на веслах. Парусом мы не пользовались, и даже мачты не было на ботике. Плавали мы обыкновенно втроем — Ключарев, я и брат Володя — и очень часто брали к себе еще четвертого компаньона — Цезаря, собаку Головачевских. Это был очень умный пес мешаной породы, сохранивший, хотя и в слабой степени, способности водолаза. Очень умный, он часто забавлял нас разными проделками. Так, он изобрел своеобразный способ избавляться от блох. Забравшись в воду, он терпеливо сидел, пока блохи постепенно перебирались на сухую часть его тела. Тогда он погружался глубже и повторял это несколько раз, до тех пор пока насекомые не собирались у него на голове. После этого он погружал и голову, выставив над водой только один нос. Блохи, спасаясь от гибели, осыпали нос целой кучей, и тогда Цезарь окончательно нырял и смывал их водой. Цезарь хорошо плавал и любил доставать брошенные ему куски дерева, не прочь был достать что-нибудь и со дна, если только мог в этом месте стоять на ногах. Но плавать далеко он все-таки не любил и даже боялся. Когда мы его брали в лодку и он видел себя далеко от берет, он притихал и лежал свернувшись, очень недовольный, и оживлялся только тогда, когда мы наконец приставали к какому-нибудь берегу. Вообще, в плавании он был неинтересным товарищем.
Что касается меня, Ключарева и брата, то мы стали скоро настоящими аргонавтами. Как я сказал, мы ходили исключительно на веслах. Только иногда нам приходила фантазия развесить простыню на веслах, и тогда валялись на лодке, которую слегка тащил этот импровизированный парус. Но в гребле мы сделались большими мастерами, хорошо правили и рулем. Мы ходили большей частью на четырех веслах, по два весла на человека, а третий сидел на руле. Скоро мы стали так самоуверенны, что не боялись ни сильного ветра, ни большой волны, и настолько искусны, что не без успеха перегонялись с гичками военных судов. Однажды мы обогнали казенный баркас и под самым носом пересекли ему дорогу. При этой смелой проделке с самого баркаса раздался одобрительный возглас: «Молодцы!» В те времена в Новороссийской бухте не было еще никаких искусственных сооружений — ни молов, ни набережных, ни даже пристаней, кроме одной небольшой в адмиралтействе. Бухта красовалась во всей своей первозданной самобытности и пустынности. На берегах не виделось, кроме Новороссийска, никакого человеческого жилья. Этот дикий простор манил вдаль, и мы исследовали неведомые нам берега, как настоящие мореплаватели. Обыкновенно мы направлялись на северный берег, заходили в разные пункты, высаживались, осматривали обрывы и устья ущелий. Один раз нам вздумалось обследовать реку Цемес, которая течет среди вязкого болота, так что берега ее были нам, да и никому вообще совершенно неведомы. Надо сказать, что цемесское болото на всем протяжении отделяется от бухты невысокой полосой каменных валунов, нагроможденной морем в течение долгих веков. В обычное время эта природная плотина возвышается над водой аршина на два-три, и по ней проходила дорога от Новороссийска к горам Маркотха. При сильных же морских ветрах огромные волны иной раз перекатываются через эту насыпь прямо в болото. В одном только месте устье Цемеса прорывает плотину, прокладывая дорогу речке в бухту. В этом месте через Цемес всегда был переброшен деревянный мост на сваях. Тут мы и рассчитывали войти в реку, чтобы потом подняться по ней вверх.
Устье Цемеса оказалось не шире двух саженей при глубине около аршина, но течение напирало так сильно, что относило нашу лодку, и мы никакими силами не могли продвинуть ее вперед. После нескольких бесплодных усилий мы решили перетащить лодку через плотину в некоторое подобие лимана, которым расширяется Цемес при впадении в бухту. В этом озерке течение было уже гораздо медленнее, и, хотя нас все-таки сносило к сваям моста, мы могли справляться с течением и сначала бодро поплыли по Цемесу между зеленых стен высоких камышей. Только плавание наше оказалось весьма непродолжительным. Река раздроблялась на целую сеть узких протоков, в которых стало наконец трудно грести, потому что весла с обоих бортов упирались в камыши. Пихаться во дно тоже было нельзя, потому что оно состояло из жидкой грязи. А протоки делались все мельче, все уже, так что мы стали бояться, как бы не застрять в грязи на мели. Это было бы не только неприятно, но опасно, потому что помочь нам тут никто не мог. На целую версту кругом никогда не было ни одного человека. Надо было выбираться, пока не поздно. Покрутившись по болоту, мы кое-как успели вернуться к мосту, перетащили лодку в бухту и двинулись восвояси, предовольные тем, что не попали ни в какую беду в цемесских трясинах.
Это был единственный случай, когда нам пришлось провести таких два тревожных часа. Раз, однако же, мы и в бухте порядочно напугались, и именно ночью. Странное вышло приключение. Ночь была черна, ни зги не видно, а мы, возвращаясь с того берега, находились еще далеко посредине бухты. Вдруг за нами показалось что-то огромное, темное, догонявшее нас. Мы испугались. Пришла в голову мысль: не судно ли это? Мы налегли на весла и погнали во весь дух, стараясь свернуть в сторону от гнавшегося за нами призрака, и через несколько времени перестали его замечать. Долго мы потом ломали голову: что бы это могло быть? Судно? Но в бухте не было ни единого судна. Тень от облака? Но луны не было, и ника-' кой тени не могло явиться ниоткуда. Так и остались мы в полном недоумении относительно этого странного явления.
Нужно, впрочем, сказать, что темной ночью в лодке посреди воды душой всегда овладевает какое-то смущение. Чувствуешь себя оторванным от всего мира. Вода черна и как будто теряет прозрачность. Берегов не видно. Ориентироваться в своем положении крайне трудно, держать правильный курс руля невозможно. Только по памяти несколько соображаешь, где ты был раньше и куда нужно грести. Но как держать лодку, чтобы ее не повертывала волна, в какую сторону сносит ветер — ничего этого нельзя ясно разобрать. Нет ни одного соображения, в правильности которого была бы уверенность. В таком состоянии духа многое легко может померещиться.
По южную сторону бухты нам некуда было плавать, кроме Турецкого озера. Местность эта довольно любопытная; мы туда ходили и пешком, ездили и целой семьей на лошадях. От самой станички до Турецкого озера прибрежная полоса представляет очевидное дно моря. Подальше от бухты оно уже несколько занесено тонким слоем глины и земли, на котором едва могут прозябать чахлая травка и бурьян. Поближе к бухте нет и того — идет сплошной покров каменных валунов. На далекое расстояние кругом развертывается бесплодная пустыня, резко поражающая взор, привыкший видеть по новороссийской округе торжествующую силу жизни. Эта пустыня заканчивается Турецким озером, очень мелководным, упирающимся в море, от которого отделено узкой полоской валунов, шириной местами не более пятнадцати—двадцати шагов. За этой плотиной шумит уже не бухта, а само Черное море. Его воды просачиваются в озеро сквозь дно и перекатываются при сильном ветре через узенький перешеек. В озере вода постепенно испаряется, и на дне его осаждаются морские соли, смешиваясь с наносами земли. Таким образом образуется слой грязи, обладающей целебными свойствами. Жители из народа первые стали лечиться здесь, зарываясь в эту грязь, и впоследствии тут было основано грязелечебное заведение, недолго, впрочем, просуществовавшее: говорят, что грязь Турецкого озера еще не перебродила и не достигла настоящей «зрелости».
Мне рассказывали, что в прежние времена Турецкое озеро составляло просто залив, отделенный от моря ожерельем маленьких островков. Но я застал здесь уже сплошной перешеек. Вероятно, море постепенно насыпало новые груды валунов, а может быть, здесь происходит поднятие дна моря. Мне казалось, что я замечал признаки этого даже при коротком сроке десятилетнего наблюдения.
На самом берегу бухты, в четверти версты от озера, лежат развалины бывшей турецкой крепости Суджук-Кале, небезызвестной в истории наших войн с турками. Но главной опорой турецкого владычества всегда была Анапа, а Суджук-Кале имел второстепенное значение. Это можно видеть и по развалинам его. Они составляют совершенно правильный четвероугольник, окруженный валами развалившихся стен и опоясанный рвом, еще и при мне довольно глубоким.
На всех четырех углах крепости виднелись развалины бастионов, а внутри валики развалившихся домов ясно обозначали направления бывших улиц; по самой же середине мы нашли остатки большого порохового погреба. Стены его лежали в развалинах, но своды погреба еще сохранились довольно хорошо. Полуразрушенное входное отверстие позволяло рассмотреть внутренность подвала. Впоследствии мне приходилось слышать, что погреба уже нет; если так, значит, он окончательно завалился. Никогда мне не пришлось найти в Суджук-Кале ни малейшего остатка каких-нибудь турецких вещей: ни монетки, ни пули, ни ядра, ни хотя бы обломка трубки. Раскопок же здесь никогда никем не производилось.
Разумеется, у нас не прекратились и семейные прогулки за город, но они с каждым годом сильнее изменяли свой характер. Прежде это были просто пикники в какое-нибудь ущелье, потом стали ездить, отыскивая подходящий участок, рассчитывая его приобрести. Иметь свой хуторок было страстной мечтой мамы. Савицкие, особенно Андрей Павлович, горячо ее в этом поддерживали. Отец, напротив, только морщился от мысли завести собственность со всеми связанными с нею хлопотами и расходами. Но мама так хотела этого, что отец уступал ей и вместе с нами ездил искать участок. Андрей Павлович, побывавши у нас летом, приходил в восторг от нашей природы, от могучей силы растительности, от разнообразия культур, которые можно было бы завести и в наших местах. Помню, мы с. ним ездили на тот берег и бродили в ущельях Маркотха, заросших густыми лесами, особенно в так называемом Банниковом ущелье. Тут одно время жил отставной солдат Банников, по имени которого и называли ущелье даже тогда, когда самого Банникова там уже давно не было. Это одно из лучших ущелий Маркотха, с очень разнообразными породами дерев. Как-то при Савицком попалась одна разновидность кипариса. «Ну вот смотрите, чего только нет в этом крае!» — восторгался Андрей Павлович. И мы ездили в разные стороны, отыскивая себе подходящее местечко. Тогда этим занимались все знакомые новороссийцы. Огромное большинство были настолько непрактичные люди, что искали участки не на берегу моря, а в глубине страны. Только наш добрый знакомец Михаил Федотович Пенчул, с настоящим хозяйственным глазомером, остановился на одном местечке в долине Мисхако, около открытого моря и в то же время с роскошной плодородной почвой. Мы принадлежали к числу непрактичных. Мисхако мы знали раньше Пенчула, но оно показалось нам не живописным. В той стороне бухты в те времена дорога была довольно плохая, хотя легко было предвидеть, что на Кабардинку непременно скоро проложат новую удобную дорогу. Как бы то ни было, мы и там не хотели брать, а остановились на одном участке по левому склону Цемесской долины, и именно потому, что отец признал на этом месте пункт, на котором он первый раз был в сражении. Его отряд штурмовал здесь черкесский аул, находившийся как раз на этом участке. Его-то и порешили мы взять.
Тогда правительство, в видах заселения края, стало раздавать небольшие участки бесплатно, но с обязательством их обработать, возвести жилые постройки, развести сады или виноградники и т. п., кажется, в течение пятилетнего срока. На таких правах мы взяли двадцать десятин. Но потом правительство предоставило заемщикам право немедленно приобрести участки, уплатив по десять рублей за десятину и уже без всяких обязательств. Отец, разумеется, признал эти условия более выгодными и уплатил требующуюся сумму — двести рублей.
С этого времени наши семейные поездки направились исключительно на этот пункт. Мы и сами, и с Савицкими, и с знакомыми забирали с собой провиант, котелки, войлоки и отправлялись на хутор на дрогах, а го и на двух дрогах. Это был чрезвычайно красивый уголок, еще при черкесах разбитый на четырехугольные полосы, отделенные одна от другой линиями развесистых дубов. По крайней мере половина участка представляла поверхность, еще недавно обработанную. Ничего тут не нужно было ни корчевать, ни расчищать. По обе стороны участок опускался в маленькие ущелья, в одном из которых был превосходный родник и никогда не пересыхающий ручей. Вдоль него скоро распахали огород.
Поездки сюда были очень веселы. Мы, разумеется, гуляли и по окрестностям участка. Между прочим, поднявшись на крутую гору, его отграничивавшую с одной стороны, можно было любоваться одним из лучших видов, какие я только знаю на свете. С этой горы открывались вся Цемесская долина, хребет Маркотх, город Новороссийск, вся Новороссийская бухта, а за нею — безбрежное море. Панорама — дивная. У самого участка по обе стороны находились возвышенности, превышающие его, так что дальних видов не могло быть, но он сам по себе был красив и уютен. И много времени понадобилось нам, чтобы его подробно рассмотреть, сообразить, где ставить хату и сарай, где разбивать сад, виноградник и т. д. Временно, пока еще ничего не успели сделать, поставили между двумя деревьями большой, густо обложенный ветвями и камышом шалаш, а около него глиняную печку с трубой. Такие печи у нас делаются очень просто. Сначала сплетают из веток печь и трубу, потом обмазывают их изнутри и снаружи толстыми слоями глины. Когда печь начинает работать, эта глина мало-помалу обжигается наподобие кирпича и становится очень твердой. В этом шалаше у нас жил сторож, когда начали ставить хату с сараем и разбивать сад и виноградник. Тут же находили себе приют рабочие на сенокосе, так как мы немедленно стали пользоваться участком для покоса. Трава тут была прекрасная и обеспечивала всю потребность наших лошадей и скота, которого у нас одно время было много, — коров и быков мелкой черкесской породы. Веселое время были эти покосы, в которых и мне приводилось принимать горячее участие. Я научился порядочно косить. Но особенно интересно было свозить копны к общему стогу, в который их складывали. Мы подкладывали под копну пару дрючков, охватывали ее веревками спереди, запрягали быков, а сзади нужно было стать ногами на оба дрючка и придерживать руками копну, чтобы она не рассыпалась. Эти импровизированные сани шибко двигались по гладкому скошенному лугу, так что случалось и падать со своих запяток, а потом бегом догонять сани, чтобы снова укрепиться на своем посту. Но зато с каким, бывало, аппетитом обедаешь после трудов праведных!
Приезжая на хутор, мы, пока не было хаты, останавливались всегда в прелестном уголке, который прозвали виноградной беседкой. Над ручьем, около родника, росли густые кусты, вроде аллеи, густо обвитые диким виноградом в руку толщиной. Его ветви оплетали вершины кустов, перебрасываясь с одной стороны на другую, и образовывали толстую непроницаемую крышу, которая совсем не пропускала дождя и была так крепка, что мы, молодежь, забирались туда человек по пять и там лежали как на пружинном матрасе. Эта беседка служила нам прибежищем от дождя и столовой, а кухня была устроена снаружи у ручья. Там, в откосе оврага, выкопали очаг, на котором варили щи, кашу, жарили мясо. Случалось, брали с собой и самовар.
Год за годом наш хутор благоустраивался. Каждое новое лето я заставал что-нибудь новенькое. Выросла хата — конечно, обыкновенная мазанка, но просторная. Вырос сарай. Потом стали копать погреб. Вырастал понемногу сад, вырастал виноградник. Стали мы сеять кукурузу, так называемый «конский зуб», виргинку, стали сеять табак. Табак у нас выходил хотя роскошный на вид, но плоховатый по качеству: не умели хорошо выдерживать. Но виргинка росла превосходно. Это могучее растение с толстыми стволами и такое высокое, что в поле кукурузы нельзя увидеть человека. С каждым моим приездом домой на хуторе прибавлялось работы, в которой так весело было участвовать. Два раза, однако, хуторская работа обошлась мне довольно дорого. Один раз понадобилось нам накосить камыша для крыши сарая. Я уже был совсем крепкий подросток, так что брался и за серьезную работу. Памятником ее, вероятно, и доселе остались два превосходных ореховых дерева. Я сам копал огромные ямы для их посадки, утрамбовывал дно камнями, как это полагается, чтобы корни расходились в ширину. Посадил я их шесть штук, но четыре вышли неудачными, а две разрослись роскошно. И странное дело, они дали орехи в первый раз в том году, когда я после всяких бурных приключений возвратился на родину из эмиграции. Бедные мои деревья! Они как будто хотели приветствовать меня. Но не в том дело. В тот раз, о котором я говорю, я поехал косить камыш на цемесское болото. Работа эта трудная. Косить приходится особой косой, очень толстой, и залезать по временам чуть не по колени в воду. Ну и накосил я своего камыша, но схватил на болоте жестокую лихорадку, от которой целый месяц пролежал в постели в совершенно горячечном бреду. Тяжелые грезы этого бреда я и до сих пор помню. Раз мне чудилось, что на нас напали черкесы, и я, привстав на постели, усиливался снять со стены шашку, чтобы защищаться. Это заметил, однако, отец, уложил меня осторожно в постель, а шашку унес из комнаты. Часто в бреду я спорил с учителем Пиленко, которого вообще не любил. Они жили через несколько домов от нас, и мне грезилось, будто учитель сидит в окне своей комнаты, а я лежу у себя и мы жестоко спорим. Это был не сон, а бред. Когда я открывал глаза, видение исчезало и я сознавал, что учителя нет, а как только усталые веки опускались — опять являлся учитель в своем окне и подымался наш спор. Наконец отец поставил меня на ноги от этой злой кавказской лихорадки, и я, поправившись, мог уехать в Керчь. Но последствия лихорадки продолжались и там в виде неотвязного ревматизма, так что Андрей Павлович принужден был взять меня к себе, и я долго прожил у Савицких, почти не сходя с постели, весь обвязанный ватой. Разумеется, в гимназию я не мог ходить, и мы уже примирились с мыслью, что мне придется остаться в том же классе. Однако, поправившись, я умудрился нагнать упущенные уроки и кое-как перешел в следующий класс.
Другой раз — это было уже в университетские времена — я делал на хуторе плетень и для этого вырубал хворост в густом кустарнике. Случилась такая неудача, что одна толстейшая ветвь сорвалась под топором и хватила меня по левому глазу. От боли я света невзвидел и — что еще хуже — тотчас убедился, что ничего не вижу левым глазом. Я думал, что совсем его вышиб и что он вытекает, паче действительно из него сочилась на лицо какая-то жидкость. Хуторской работник Антон моментально запряг лошадь, и мы помчались в Новороссийск...
К счастью, оказалось, что глаз цел. Долгое время его лечили атропином и еще чем-то. В конце концов я стал им видеть, но он навсегда остался более близоруким, чем правый глаз, так что даже в очках мне потом приходилось вставлять для глаз стекла неодинаковых диоптрий...
Таким образом, на каникулах случалось не без неприятностей. Но в общем это было блаженное время, и насколько я весной торопился ехать домой, настолько же осенью старался оттягивать возвращение в гимназию, хотя и в гимназии мне до самого конца было очень хорошо жить.
XV
Мое пребывание в гимназии можно разделить на три периода, совпадающие с тем, на какой квартире я проживал. Точнее сказать, место жительства менялось у меня соответственно с ростом моего развития.
У Казиляри и Серафимовых я провел младшие гимназические годы и ни на что не мог пожаловаться. Но мне у них становилось скучно. Я уже в четырнадцать лет перерос этих простых, неразвитых людей, и даже либеральничание Николы-брата перестало меня интересовать. Появлялись запросы более сложные. Очень рано появилось стремление к самостоятельности. Еще недавно конфузливый и застенчивый мальчик, я выровнялся в самоуверенного юношу. Между тем у Серафимовых привыкли смотреть на меня как на маленького, и эта опека меня тяготила. Сверх того, мне хотелось иметь больше денег, чем присылали из дома. Являлась, таким образом, мысль об уроках.
Я уже в первый год поступления в гимназию имел некоторое подобие урока. Наш надзиратель Стефанский, он же учитель рисования и чистописания, просил меня репетировать его сына, порядочного балбеса, и за это кормил меня завтраками. Но потом я отказался от этого урока, бравшего много времени, в сущности, задаром, потому что завтраки я имел от Серафимовых. Через два-три года, когда я уже выдвинулся как один из первых учеников гимназии, ко мне обратились Апостоловы с предложением репетировать их сына Владимира, малого способного, но большого лентяя и шалуна. За это мне предлагали квартиру, стол и небольшую плату, что-то вроде десять–пятнадцать рублей в месяц. Это мне пришлось по вкусу, и я расстался с Серафимовыми, разумеется, с согласия отца и мамы.
Согласие это нетрудно было получить, потому что Апостоловых знали и наши, и Савицкие. Они приходились родственниками новороссийским Рудковским. Олимпиада Дмитриевна Рудковская была сестрой Григория Дмитриевича Апостолова. Да Апостоловы принадлежали, сверх того, к числу очень почтенных керченских семейств. Они происходили из обруселых греков, некогда Апостолаки. Сам Григорий Дмитриевич еще говорил по-гречески, а жена его, Мария Федоровна, урожденная Сазонова, была, кажется, чисто русская, из семьи зажиточной и образованной. Ее брат (забыл его имя) был художник, то есть живописец, кажется, из очень посредственных. Сама она кончила курс в институте и была очень умная, развитая женщина, читавшая, следившая за литературой, хорошо говорила по-французски. Григорий Дмитриевич был, кажется, по школе очень среднего образования, но весьма умен, приобрел вполне барские манеры, вообще научился держать себя «по-образованному». Жили они весьма зажиточно в собственном доме на Воронцовской улице, против Гостиного двора, где помещался и почтамт. Григорий Дмитриевич по службе был почтмейстером. Дом был большой, хотя одноэтажный. В части, отведенной под почтамт, жили и кое-кто из почтальонов, в том числе бывший мой товарищ по классу Мамалыгин (из уездников).
Нам с Володей отвели большую, хорошую комнату. Тут мы и занимались, и спали, а Володя тут же работал по переплетному делу. Он был очень хороший переплетчик, прямо артист, и имел полный прибор нужных для работы инструментов. От него и я немного научился переплетать. Что касается занятий, они пошли у нас недурно, хотя мне и нелегко было заставлять его учиться. Володя был уже совершенно обруселый. По-гречески он не знал ни слова, но немного болтал по-французски, с небольшим запасом слов, но с хорошим произношением. Это его обучила Мария Федоровна. Она его отшлифовывала по-светски, приучила к хорошим манерам, и хотя он был с весьма шалопайскими наклонностями, но по наружности оставался очень приличен и был свободен от грубого сквернословия, распространенного в гимназии. Хотя мы, совместно занимаясь, стали товарищами, но жили каждый в особом кругу знакомых. Я его знакомых — того же круга, где вращался его дядюшка-художник, — совсем лично не знал, но это была компания легкомысленная. Были там и веселые дамочки, готовые от нечего делать пококетничать и с подростком-гимназистом, были и флиртующие гимназисты. Сам Володя не был развратен, но у него уже пробуждалось чувство беготни за женщинами. При внешнем приличии он был уже мастер также по части сальных анекдотов.
На этой почве у нас однажды вышел было целый скандал. Не помню, зашли какие-то его приятели, и у нас начались такие пикантные разговоры, что мы только покатывались от хохота. Но это веселье было неожиданно прервано старушкой няней, слышавшей наши речи из соседней комнаты. Вся трясясь от негодования, она влетела к нам и начала нас ругать на все корки. «Бесстыдники! Безобразники! — кричала она. — Вот я на вас барыне пожалуюсь!» К моему счастью, она ограничилась одной угрозой, иначе мое положение как до некоторой степени гувернера Володи оказалось бы прямо скандальным.
Но в отношении разных других проказ Володя был неукротим, да и меня самого увлекал в свои шалости. Был у нас кучер Ефим, молодой красивый малый, который частенько захаживал к нам поболтать. Наша комната, нужно сказать, находилась в конце дома, так что надзор родителей за ней был слаб, да, вероятно, они и не думали очень о надзоре, поместивши с сыном такого благоразумного юношу, каким считался я. Этот Ефим любил выпрашивать у Володи папиросы. И вот однажды мой проказник начинил папиросу посредине порохом и дружески поднес ее Ефиму. Тот минуты две-три с удовольствием затягивался и только похваливал табачок, но тут вдруг раздался взрыв и целый заряд табака залепил всю глотку перепуганного кучера. Долго он не мог откашляться, а мы хохотали во все горло... Другой раз мы с Володей подстроили штуку горничной. Дело в том, что она повадилась таскать у нас галеты, данные нам к чаю, и мы решили хорошенько ее проучить. Володя достал в знакомой аптеке сильнодействующего рвотного, мы выдолбили внутренность галеты, начинили ее рвотным и так заделали дыры, что снаружи невозможно было заметить этой фабрикации. Горничная попалась на удочку. Она съела эту галету, и потом с ней Бог знает что делалось. Бедняга не могла понять причины приключившейся с ней болезни, пока сам Володя не открыл ей секрета. «Вперед не таскай у нас ничего, а то хуже будет», — пригрозил он, а разобиженная горничная не могла даже пожаловаться, чтобы не разоблачить саму себя.
Мой ученик под моим воздействием стал заниматься гораздо лучше. Но все же частенько случалось ему не знать уроков, и в этих случаях он иной раз изворачивался разными хитростями. Был у нас учитель Ксаверий Кайтанович Андриясевич, знакомый с Апостоловыми. Вот он вызывает в классе Володю, а тот, не ожидая этого, совсем плохо подготовился. Тогда он встает и говорит:
— Ксаверий Кайтанович, мама поручила передать вам, что ждет вас сегодня к себе обедать.
Ксаверий Кайтанович расцветает от удовольствия. Он любил хорошо покушать, а Мария Федоровна готовила обеды гастрономически.
— Благодарите Марию Федоровну, скажите, что непременно буду. Я и сам по ней соскучился.
Разумеется, урок спрашивается самым снисходительным образом, а Володя на перемене опрометью бежит домой предупредить мать о нежданном госте. Та приходит в ужас:
— Володя, да что же ты со мной делаешь? Ведь я ничего не приготовила, и когда же теперь что-нибудь затевать!
Однако нечего делать, приходилось наспех что-нибудь придумывать, и нужно сказать, что Мария Федоровна всегда выходила с честью изо всех таких критических случаев. Ксаверий Кайтанович весь лоснился от удовольствия, лакомясь ее кулинарными импровизациями. Помочь затруднению мог иногда и Григорий Дмитриевич доброй бутылочкой вина. Оно у него водилось. Раз я при такой экстренной оказии пил у Апостоловых, единственный раз в жизни, старое кипрское вино. Густое, сладкое, ароматичное, оно было удивительно вкусно, а наливать его приходилось осторожно, чтобы не взмутить осадка, занимавшего, пожалуй, четверть бутылки. Это, говорят, особенность старого кипрского вина.
Мария Федоровна охотно принимала Андриясевича. Толстый, жирный, со всей наружностью старого эпикурейца, он был преинтересный собеседник. Это был человек разносторонне образованный, следил за политикой, много читал и особенно щеголял анекдотической частью новейшей истории. Он хорошо знал несколько языков и умел очень занимательно рассказывать. Мы и в классе любили затягивать его в разговоры и многому у него научились.
Мне было очень легко учиться, и я пользовался свободным временем для чтения. Перечитывал я массу книг, получая их из гимназической библиотеки, из городской и отовсюду, где попадались, и все, что возможно. Менее всего меня занимали философские сочинения, но беллетристика, история, путешествия, естественные науки, публицистика поглощались мной целыми пудами. Некоторое время я увлекался Писаревым, но читал и более серьезных авторов. Так, я с интересом читал сочинения знаменитого врача и педагога Н. И. Пирогова. Много я также писал, вел дневник, исписывал целые сочинения, которые оставались, конечно, никому не известными. Способность к писательству у меня проявилась очень рано, и мои ученические сочинения славились в гимназии. Вообще я шибко развивался и много размышлял. Не любя философских сочинений, я про себя, однако, много философствовал и сочинял для себя целые философии бытия. Замечательно, что у меня самостоятельно являлись многие концепции мирового бытия, очень сходные с оккультическими, несмотря на то что я тогда ничего не читал по оккультизму, исключая разве одного литографированного томика Алана Кардека, бывшего у дяди Андрея Павловича. Немало тетрадей было у меня исписано размышлениями на эти темы. Но всех этих проявлений внутренней работы я никому не показывал. Моя душа во всех высших сферах своей выработки жила замкнуто. Товарищей у меня, конечно, было много, но не было ни одного такого друга, с которым бы мы жили одной духовной жизнью. Это одиночество я вполне сознавал, но оно меня не тяготило, может быть, потому, что я только искал, не находя еще. Помню, что во время одиноких прогулок за город я часто напевал:
Одинок я сижу И на небо гляжу, Но что в небе ищу — Я про то не скажу.Больше всего я любил ходить по кладбищам и мог целый час просидеть на чьей-нибудь могиле в неясных размышлениях о неизвестной мне жизни неведомого покойника. В этих размышлениях крылось для меня какое-то неизъяснимое очарование. Но как передать на словах такие смутные переживания?
С тех пор как я стал переходить на положение юноши, взаимообщение моих сверстников, точно так же выраставших, делалось более содержательным, у нас появлялись более серьезные разговоры. Но собственно коллективная жизнь у нас была очень неразвитой. Не было у нас кружков совместного чтения, или самообразования, или какой-нибудь деятельности. Раз только сплотился кружок для издания газеты.
Не помню, в каком это было классе, но я, разумеется, находился в числе инициаторов этой затеи. Мы решили назвать свою газету «Неделей» и издавать ее с разрешения гимназического начальства. Она должна была выходить в самом ограниченном числе экземпляров, а лица, желавшие получать ее для чтения, должны были доставлять издателям бумагу, чернила и перья. Наш тогдашний инспектор Кодриан (кажется, Николай Дмитриевич) отнесся к предприятию сочувственно, под условием, чтобы газета проходила через его цензуру. Но это условие, в сущности, заранее осуждало газету на смерть, потому что при нем нельзя было писать ничего способного заинтересовать гимназистов. О постановке преподавания не могло являться никакой критики. В сфере отвлеченных вопросов мы сталкивались с обязательным догматом. Вторжение в политику было также неудобным. Во внутренних отношениях гимназистов и учителей все мало-мальски скандальное было тоже недопустимо. У нас, например, произошел однажды такой случай. Ученик Хаджопуло, лет семнадцати-восемнадцати, ненавидел одного учителя, допекавшего его единицами, помнится, довольно справедливо. Но как бы то ни было, однажды Хаджопуло, малый высокий и сильный, придя в ярость, бросился бить учителя. Тот струсил и обратился в бегство, а Хаджопуло гнался за ним до самой залы совета. Педагогический совет, обсудив происшествие, предложил Хаджопуло на выбор: быть исключенным или высеченным. Виновный предпочел последнее, и это за мое время был единственный случай телесного наказания. Разумеется, происшествие это возбудило большое волнение среди гимназистов, но понятно, что газета не могла бы сказать о нем ни слова. Мы, конечно, не могли бы одобрить кулачной расправы с учителем, но и телесное наказание могло бы вызывать у нас только негодование как против совета, так и против Хаджопуло, согласившегося на такое унизительное надругательство над собой. Впрочем, излишне даже приводить примеры. Ясно само по себе, что газета была обречена на бесцветность, и действительно она прекратилась что-то на третьем номере.
За исключением этой неудачной попытки, совместная жизнь гимназистов выражалась разве только в совершенно «безыдейных» формах. Часто мы совместно гуляли большими компаниями, помогали иллюминовать гимназию в торжественных случаях и т. п. Помню, я почувствовал именно на этих случаях большое уважение к одному из товарищей, Русовичу, на которого раньше не обращал никакого внимания. Этот Русович был родом черногорец, довольно неразвитый и учился плоховато. Но меня поразили его смелость и ловкость, когда он лазил по стенам гимназии, развешивая фонарики на иллюминации. Еще больше он удивил меня на одной прогулке. Мы зашли большой компанией далеко за городом в какую-то деревню, чтобы напиться молока. В хате, куда мы обратились, была большая злобная собака, которая так и наседала на нас, заливаясь лаем. Русович посмотрел на нее и, не спуская глаз, начал медленно, шаг за шагом, к ней подходить. Собака залаяла еще яростнее, но точно гак же, шаг за шагом, отступила. Русович с этим же неподвижным взглядом продолжал наступать, а собака все отступала, пока не попала в безвыходный угол. Он сделал еще шаг, и тогда она отчаянным прыжком вскочила на крышу хаты и оттуда продолжала бешено лаять. Я тогда в первый раз увидел очарование человеческого магнетизма на животное.
Был у нас один, в сущности, смешной случай сплочения по, казалось нам, благородным побуждениям. К. кому-то из нас зашел актер из театра, прося помощи во имя справедливости и в защиту гонимой актрисы. Это была его жена, молодое, худенькое существо с очень милым личиком. Не помню, как она играла, но муж рассказал, что одна группа артистов старается выжить ее из труппы, не допуская ее до хороших ролей и выставляя ее бездарностью. Рассказ возбудил наше негодование, но что же мы можем сделать? Актер объяснил, что мы могли бы поддержать ее на сцене рукоплесканиями и таким образом разогреть интерес к ней в публике, посрамив все интриги против нее. Ловкий паренек, значит, просто задумал навербовать жене даровых квакеров и вполне успел в этом. Мы были растроганы и выступили на защиту жертвы гонений. Целая куча товарищей наших со всеусердием принялась за дело. Рассевшись на разных местах партера и галерки, мы, не жалея ладоней, хлопали, выкрикивали жертву гонений, вызывали ее и усердствовали так, что даже гимназическое начальство обратило наконец внимание на явно тенденциозное поведение гимназистов в театре. Нам сделали выговор и, главное, объяснили, что нас могут счесть просто подкупленными. Это нас расхолодило, и поход в пользу жертвы гонения прекратился.
Зеленую молодежь, ловко задевши ее благородные чувства, легко подбить на что угодно. В значительной мере этим пользуется и политическая агитация. Но у нас в гимназии она совершенно не проявлялась. В мое время училось несколько человек, впоследствии получивших громкую революционную известность, но во время гимназического обучения ни один из них не проявлял никаких революционных стремлений. Андрей Желябов (годом моложе меня по классу) не казался даже особенно развитым юношей и если проявлял себя чем-нибудь, кроме хорошего учения, то разве только далеко не хорошим поведением, вплоть до шляния по публичным домам. Замечу, кстати, что он был родом крепостной крестьянин Феодосийского уезда и освобожден только в 1861 году. Но отец его был очень зажиточным мужиком. Крепостное право не лежало на нем каким-нибудь гнетом. Сам Андрей Желябов во время гимназического обучения никак не напоминал богатыря, каким стал впоследствии. Это был тоненький, худенький юноша, с большими способностями (он и кончил курс с золотой медалью), но большой шалун и даже безобразник — и никаких политических идей не имел, по крайней мере не проявлял. У нас были десятки гимназистов более развитых, так что я совсем не обращал на него никакого внимания.
Нужно сказать, что у нас не проявлялось не только революционных стремлений, но среди гимназистов совершенно не замечалось даже нигилистических типов. У нас не щеголяли «отрицанием», резкими манерами, нечесаными волосами, неряшливым костюмом. Может быть, это происходило оттого, что в Керчи гимназисты были сравнительно сильно связаны с обществом. Конечно, все мы были пропитаны, так сказать, культурно-отрицательным направлением. Религия у всех была подорвана, монархический принцип — также, все были проникнуты идеями свободы и демократизма, бродили в нас даже идеи смутного социализма. Но у нас не собирались приступать к революции и не отбрасывали культурных привычек хорошего общества. Сам я кончал курс с намерением серьезно работать в университете, думал о научной карьере, а в отношении экономическом смотрел так, что в России требуется думать не столько о распределении богатств, как о развитии производительных сил народа, потому что теперь, как ни распределяй, все равно на каждого достанется немного. И эта мысль — о необходимости собственно культурной работы, — полагаю, была господствующей у нас.
Но чисто нигилистические типы из других мест набегали по временам и к нам. Помню, я раз по пути в Новороссийск встретился с группой тифлисских гимназистов, впрочем, чисто русских, которые меня поразили ярко выраженным нигилизмом. Особенно интересен был один, Ружечко, который разыгрывал из себя какую-то смесь Базарова с Марком Волоховым. Он у тифлисцев считался чуть не гением. Ничего, однако, кроме резкости суждений, я у него не заметил. Потом, по прибытии в Новороссийск, я зашел к нему. Его тут дожидался отец, военный врач, с которым они должны были ехать куда-то дальше. Ничего более жалкого, чем этот отец, нельзя себе представить. Высокий, крупный, почти толстый и даже с неглупым лицом, в военном докторском мундире, он с самым противным низкопоклонством ухаживал за сыном и его идеями, стараясь напустить на себя самый передовой вид. Даже и передо мной, совсем мальчишкой, он тотчас начал салюты прогрессивному флагу. Ни с того ни с сего он провозгласил, что главное наше суеверие составляет эстетика, но что, впрочем, она уже погибает, «разбитая орудиями всех батарей наших университетов». Я смотрел на эти кривляния с недоумением, а молодой Ружечко сидел молчаливый и мрачный: кажется, ему было несколько стыдно за своего передового родителя.
Впоследствии я видел немало этих «нигилистов», но они всегда возбуждали антипатию. Мне в них чуялась просто недостаточная развитость, и нужно прямо сказать, что среди крупных революционеров вовсе не было нигилистического шутовства горохового. В гимназии же мои убеждения, как я сказал, отливались постепенно в ту формулу, что обязанность каждого из нас состоит в развитии русской культуры. К исполнению этой обязанности я и готовился, работая над собственным развитием.
Наша гимназия была, за мое время, живым образчиком этого нарастания культуры. При мне произошло ее рождение из уездного училища, и потом с каждым годом шло ее улучшение и обогащение учебными средствами. Из се деятелей больше всего способствовал этому развитию Матвей Иванович Падрен де Карне. Каких-нибудь забот о ней со стороны высших властей я не помню. Я был еще в низших классах, когда нас посетил новый министр народного просвещения Дмитрий Андреевич Толстой. Это посещение мне больше всего памятно по выговору, который я получил от него. Надо сказать, что тогда в журналистике появилось гонение против буквы «ъ» (твердый знак) как якобы бесполезной. Появилось и несколько книг без твердого знака. Из гимназистов некоторые увлеклись этой новизной, в том числе и я. Учителя не поощряли этого и не возбраняли, так что я и сочинения им подавал без «еров». Граф Толстой пришел в наш класс на урок русского языка, когда перед учителем лежала куча только что поданных наших сочинений. Граф, присев на одной скамье и прислушиваясь к ходу урока, стал перелистывать эти тетрадки. Вдруг он вызвал меня:
— Тихомиров.
Я поднялся.
— Это ваше сочинение?
Он назвал заглавие. Я, по правде сказать, ожидал, что он мне скажет что-нибудь хорошее. Сочинение было очень недурно...
— Да, мое, — отвечаю ему.
— Вы пишете без твердого знака. Почему это?
Я сконфузился и молчал.
— Это ваш учитель указал вам так писать?
— Нет...
Толстой помолчал.
— Садитесь.
Больше он ничего не сказал, но смысл был ясен. Нужно писать, как прикажет учитель, а самовольно изменять правописание не полагается. Этот выговор мне очень не понравился. Я воображал, что министр будет говорить по существу, и вдруг все свелось к злополучному твердому знаку. Мне казалось, что министр мог бы найти что-нибудь более интересное. Но в то же время я решил, что глупо получать выговоры из-за такого пустяка, и с тех пор восстановил твердый знак в его официальных правах.
Но этот случай неудовольствия высокопоставленного посетителя из-за меня был единственным. Обыкновенно мною щеголяли перед наезжими особами, и я всегда поддерживал честь заведения. Один раз на экзамене географии перед попечителем учебного округа Падрен де Карне не усумнился пойти на довольно трудное испытание.
— Тихомиров, можете ли нарисовать нам карту Африки?
Я превосходно знал все карты и мог без малейшей ошибки нарисовать любую часть света и любое государство. Выйдя к доске, я начал быстро чертить Африку со всеми горами, реками, владениями, туземными и европейскими. Рисовал на память, не оглядываясь ни на какую карту. Могу сказать, что работа выходила безукоризненно. Не успел я ее окончательно отделать, как Падрен самодовольно посмотрел на ассистентов:
— Ну, кажется, надежен? Можно и не продолжать?
Члены комиссии только кивнули головами.
— Садитесь, Тихомиров.
В этом случае у директора не было никакой фальши. Я действительно рисовал карту как знаток и любитель. Конечно, учитель не сделал бы так хорошо. Но на выпускном экзамене по латыни Матвей Иванович устроил прямо фокус. Он еще до Пасхи объявил мне:
— Тихомиров, я буду на экзамене спрашивать вас о стихосложении. Приготовьтесь. Но я буду говорить с вами по-латыни, и вы мне должны отвечать на латинском языке.
Это меня ошеломило. Я знал по-латыни достаточно, чтобы понимать свою полную неспособность исполнить требование директора. Я вспоминал смехотворный случай с товарищем Кутитонским. Он просил у Пфаффа выйти из класса, а тот отвечал, что разрешит только в том случае, если он попросится на латинском языке. Кутитонский подумал и произнес: «Permitte mihi exire». Пфафф расхохотался: «Это не по-латыни. Нужно сказать: „Da mihi veniam exeundi“». Только такой же скандал мог ожидать меня.
— Матвей Иванович, ведь я совершенно не в состоянии. Я буду говорить Бог знает что...
— Ничего, — отвечает директор, — я дам вам свои вопросы. Приготовьте свои ответы на них, и я исправлю все ошибки.
Так и сделали. У нас составился экзаменационный диалог, скорее написанный, чем исправленный Матвеем Ивановичем, и мне осталось только хорошенько его выучить. На экзамене получился блестящий эффект. Мы с Матвеем Ивановичем собеседовали как настоящие римляне, впору хоть бы самому Цицерону. А когда мы подошли к концу заготовленного диалога, он с торжеством посмотрел на комиссию и сказал:
— Достаточно, можете идти. Очень хорошо.
Под конец гимназического курса я снова переменил место жительства и занятий. Учитель Платонов предложил мне более важное и выгодное дело, а Володя Апостолов настолько приучился заниматься, что мог обходиться и без меня. Наконец, он просто поумнел и понял, что нужно все-таки работать и худо ли, хорошо ли, но кончить гимназию. Что касается Платонова, он держал у себя пансион, человек десять–двенадцать, чуть не всех классов, кончая выпускным. Я должен был сделаться их общим репетитором, так сказать, помощником Платонова, и за это он давал, кроме стола и квартиры, довольно порядочное жалованье, помнится, пятьдесят рублей в месяц. Особенно ответственна была подготовка выпускных. Их было двое, и оба приехали в Керчь специально для того, чтобы держать выпускной экзамен. Один — Россинский — был много старше меня, другой — Есаков — мой сверстник.
Сам Платонов был добрый и честный человек, даже хорошо образованный, сын харьковского профессора, но совершенно спившийся. От него вечно несло спиртом, как из винной бочки, и едва ли было время, когда бы он был вполне трезв. Часто он был совершенно неспособен заниматься со своими пансионерами, так что действительно нуждался в хорошем помощнике. Меня он выбрал удачно, и я нес свои обязанности легко и весело. Хотя мне самому предстояли выпускные экзамены, но я о них даже не помышлял и, репетируя пансионеров, в том числе выпускных, в этой работе подготовлялся и к своему экзамену.
Помещение у Платонова было довольно обширное. В зале, служившей нам для обеда, находилась в углу огромная клетка с канарейками. Их было что-то много, целая стая, и жили они совершенно свободно, летали когда угодно по всем комнатам и на клетку смотрели как на свой дом. Ее маленькая дверка никогда не затворялась. Платонов очень любил своих птичек и внимательно о них заботился. Это была его семья. При пансионе, понятно, находилась и мужская прислуга. Для трудной, черной работы служил отставной матрос, здоровенный малый, такой же пьяница, как сам Платонов. Однажды он чуть было не утонул в лоханке. Лохань, полная воды, стояла на земле около кухни. Матрос, у которого от водки кружилась голова, вздумал ее освежить и нагнулся над лоханкой, обливая голову водой, но как-то сорвался и уткнулся лицом в лоханку и уже не мог подняться. Он бы так и захлебнулся до смерти, если бы кухарка не заметила его беспомощного положения и не вытащила его голову из лохани.
Злосчастная привычка к спирту развилась у Платонова еще с отеческого дома и с университетского курса. По его рассказам, студенты в Харькове отчаянно пьянствовали и дебоширили. В этом их поддерживали сами профессора, которые видели только молодечество, когда пьяная компания студентов разносила кабак или публичный дом. Вообще харьковская университетская жизнь в рассказах Платонова рисовалась очень непривлекательной. Между профессорами бывали случаи взяточничества. «Знаете, — говорил профессор студенту, — мне приснилось, что вы на экзамене вынете та-кой-то билет». «Ну, — замечал студент, — разве можно верить снам!» «А хотите пари? — настаивал профессор. — Если вы вынете этот билет, вы мне платите пятьсот рублей, а если попадется какой-нибудь другой, я вам плачу пятьсот рублей». Разумеется, профессор выигрывал пари и получал свои пятьсот рублей, а студент выдерживал экзамен, не зная ничего, кроме одного билета, который ему подсовывал сам профессор.
По окончании курса Платонов поступил на службу учителем. Скоро после этого началось Польское восстание 1863 года, когда правительство стало усиленно призывать в Привислинье русских служащих для русификации края. Платонов из чувства патриотизма тоже двинулся в Варшаву. Сомнительно, конечно, чтобы такие деятели могли приносить какую-нибудь пользу русификации. Он и тогда уже был пьяница. Однажды, рассказывал он, они с другим учителем, оба подвыпивши, шли по улице и увидели польскую даму, которая, идя вслед за русским священником, плевала ему на рясу и приговаривала: «Пшекленти попше, пшекленти попше...» «Ну, — говорил Платонов, — мы решили проучить наглую полячку и здорово-таки ее поколотили».
Не знаю, самому ли ему надоело жить в ненавидевшем нас крае или он там не пришелся ко двору, но только он скоро перевелся обратно в Россию и таким образом попал к нам в Керчь.
Нужно заметить, что, несмотря на его вечно нетрезвое состояние, ученики у нас в пансионе вели себя вполне прилично, и не видно было, чтобы пример наставника оказывал на них какое-нибудь вредное влияние. Может быть, он даже возбуждал в них отвращение к пьянству, в котором у него не было ничего веселого и удалого, а только мрачное, как будто подневольное накачивание себя спиртом.
Из наших пансионеров самые взрослые были Россинский и Исаков, оба приезжие. В этом году в гимназию понаехало вообще несколько человек для того, чтобы держать выпускные экзамены, так что они поступали в последний класс. В том числе были Грязнов и Тригони, совсем уже взрослые молодые люди и между собою приятели. Не знаю, почему они явились именно в Керченскую гимназию. Я не имел времени близко сходиться с ними. Грязнов, незаконный сын богатого помещика, кажется, и совсем не был в гимназии, а учился дома, под надзором какого-то воспитателя, а потом держал в гимназиях только переходные экзамены из класса в класс. Так он дошел и до выпускного экзамена. Это был молодой человек, хорошо воспитанный, развитый и симпатичный. Где учился раньше Тригони — тоже не знаю. В Керчь он приехал только на один год. Это был сын богатого южного помещика, хорошей фамилии, разумеется, греческого происхождения, но вполне обруселой. Впоследствии, когда он был привлечен к делу о цареубийстве 1881 года, «Новое время», очевидно, желая придать ему казачье происхождение, называло его «Тригоня». Это совершенно произвольно. Тригони — фамилия чисто греческая, «Тригони» значит по-русски «треугольник». В гимназии Тригони был молодым человеком настоящей дворянской выправки, прекрасно воспитанный, с изящными манерами. Его движения были мягки, почти изнеженные, речь плавная, чуждая каких-нибудь резких словечек. Женская красота уже очень притягивала его, но и в ней он искал изящного, грациозного, нежного. Во всех его поступках сказывалось дворянское требование благородства: хранить свою честь, не подличать, быть верным данному слову и т. д. Где он подружился с Желябовым, не знаю. В гимназии они едва ли были знакомы. Но в 1880 году Желябов отзывался о нем как о приятеле и единомышленнике. Он же и вытащил Тригони в Петербург, на его погибель.
Из наших пансионеров Россинский оставил свою гимназию по болезни и что-то долго прохворал, а потом был отправлен в Крым на поправку. В данное время он считался выздоровевшим и мог приступить к выпускным экзаменам, хотя все еще принимал какие-то лекарства. Он был сын екатеринославского помещика, богатого и большого безобразника. Это был вообще кутила и пьяница, но время от времени на него находило особое вдохновение безобразничать, и тогда он действовал по специально установленному церемониалу. У него на огромном дубу было устроено гак называемое гнездо, то есть нечто вроде большой беседки, куда он на это время и переселялся. Сюда же приглашались его собутыльники, и отсюда вся эта компания делала набеги вниз, на крестьян. Во время пребывания отца Российского в гнезде совершались все гнусности, какие только могла придумать разнузданная фантазия пьяного деспота. Сына своего он, однако, не привлекал к своим оргиям, и наш Россинский рассказывал о них с отвращением и грустью. Он даже отца своего не называл отцом, а именовал «мой родитель».
В пансионе Россинский вел себя прилично, не позволяя себе никаких излишеств. Впрочем, он после болезни имел такой истощенный вид, что излишества вряд ли могли ему и приходить в голову. Образование его было, однако, очень посредственное.
Есаков представлял совершенно иной тип. Он тоже происходил из дворянской семьи и даже вел свой род от сына Марфы Посадницы, Исаака Борецкого. В древности это имя произносили «Есак», откуда явилась фамилия Есаковых. Как бы то ни было, наш Есаков был молодой человек веселый, жизнерадостный и уже, по-видимому, вкусивший добрую порцию кафешантанных наслаждений. Стоило только послушать, как забористо он напевал песенки вроде:
Мамзель, пообождите! Куда вам так спешить! Вы, может быть, хотите Со мною пошутить?Он был родом из Одессы и весь пропитался бульварной культурой этой «красавицы Юга». Одевался франтиком, немного болтал по-французски. Впрочем, видно, что его дома воспитывали старательно, учили его, например английскому языку, дали порядочное знакомство с русской литературой и т. д. Но вообще он помышлял не об образовании или науке, а о том, чтобы пожить в свое удовольствие. Занимался он кое-как, лишь бы с грехом пополам сдать экзамен. В конце концов, впрочем, это был добрый малый, и мы жили дружно.
С пансионом своим я справлялся недурно, всех учеников успевал подгонять, выправлять, подучивать. Платонов был очень доволен мною и, когда наступила минута расставания, подарил мне на память массивную серебряную табакерку, которой я долго пользовался, а потом, в минуту жизни трудную, спустил закладчику...
Так подходил я к окончанию гимназического курса в положении самостоятельного молодого человека с некоторым общественным положением и с ясным смыслом жизни, несравненно более ясным, чем потом в университете. И теперь, оглядываясь на прошлое, я вспоминаю гимназические годы со светлым чувством, тогда как университетские времена вызывают у меня лишь воспоминания серые, скучные, лишенные всякого внутреннего содержания.
Я расстался с гимназией в 1869 году, кончив курс с золотой медалью. Всех кончающих с золотой медалью у нас записывали на так называемой Золотой доске, вывешенной около залы совета. Несколько лет на ней красовалось и мое имя, пока я не попался в политических преступлениях, обвиняемый даже в причастии к цареубийству. Тогда мое имя было стерто с доски. Но хотя родная гимназия отрясла, так сказать, со своих стен самый прах ног моих, однако я ее вспоминаю с любовью и благодарностью. Много доброго она дала мне, и не она меня толкнула в революцию, а университет своей неспособностью дать мне живое существование, возбудившей во мне отвращение ко всему русскому строю.
В эту лабораторию нового фазиса жизни я попал осенью 1869/70 учебного года.
Мои воспоминания
1870 год
I
В августе месяце 1870 года я прибыл в Москву для поступления в университет. Мой отец и мать в то время были в Новороссийске, где отец был главным доктором госпиталя. Сестра Маша еще оставалась в институте (керченском). Брат Владимир был студентом юридического факультета в Москве.
Я только что окончил курс в керченской Александровской гимназии. Свои гимназические годы я расскажу, если Бог даст, впоследствии. Теперь скажу только несколько слов о себе, может быть, небесполезных для понимания моей последующей жизни.
Я с детства был мальчик болезненный, физически мало развитый, неловкий, хотя выносливый. В отношении духовном я был чрезвычайно способным, чрезмерно рано развитым: в девять лет зачитывался романами. Фантазия была развита до болезненности. Был очень упрям, но не настойчив, вспыльчив, но не особенно злопамятен, хотя нельзя сказать, чтобы совсем легко забывал обиду. Обижался легко, был очень самолюбив и даже тщеславен. Застенчив был чрезмерно, как редко можно видеть. В общей сложности, однако, окружающие ко мне относились хорошо, как взрослые, так и сверстники в гимназии.
Учился я очень хорошо, ежегодно получал награды, был первым учеником во всех классах и кончил курс с золотой медалью.
В юности, как и в молодости, я много мучился ложным сознанием своей якобы бесхарактерности и беспамятности. Это последнее качество на самом деле вовсе не было мне свойственно. Память у меня была всегда слабее, нежели способность рассуждения и понимания, но вовсе не слаба. Доказательством этого служит то, что, учась крайне небрежно, тратя время на бесконечное чтение, на уроки и тому подобное, я, однако, учился вполне блестяще. Наконец, даже до сих пор я с тех времен помню огромную массу фактов, без сравнения большую, чем другие мне известные люди с хорошей памятью. И однако в этом лжеощущении была доля реального, только имевшая иной источник. Дело в том, что все воспитание, как дома, так и в гимназии, у нас совершенно не развивало способности сосредоточиваться, способности преднамеренного внимания. Мы воспитывались по принципу заинтересовывать предметом, учились не тому, что нужно, что обязательно, и не потому, что знать нужно и обязательно, а потому, что интересно, и тому, что захватывало нас само (или действительно само, или было так подстроено воспитателями, что захватывало нас).
Мы были не господами, а рабами изучаемого предмета. Мы не были научены устремлять внимание преднамеренно, а, наоборот, приучены к тому, что предмет сам, помимо нашей воли и без нашего выбора, приковывал к себе наше внимание. Не мы выбирали предмет, а предмет нас. Отсюда происходило, что, когда с развитием сознательности у меня появлялось желание узнать то или иное, я не умел достаточно прочно укрепить на этом предмете свое внимание, а стало быть, и не запоминал его достаточно хорошо. Это была болезнь поколения, сделавшая его таким бесплодным и сумасбродным.
Недостатком воли я также, в сущности, не страдал. Когда я ясно знал, него хотеть, я шел к этому желаемому очень упорно, иногда даже резко. Но чего хотеть? Это опять недостаток воспитания нашего поколения. Люди понимают, чего хотят, только при прочном миросозерцании, где добро и зло, положительное и отрицательное ясно определены или, по крайней мере, привычно ощущаются. У нас ничего подобного не было.
В детстве я был очень набожен; ребенком я с полной верой молился, во время херувимской прося Бога о том, что мне было нужно, уверенный, что в такую минуту Господь снизойдет на моление. Я также очень любил Россию; почему — не знаю, но я гордился ее громадностью, я ее считал первой страной на свете. У меня, конечно, не было ясного понимания политических отношений, но я чувствовал идеал всемогущего, всевысочайшего Царя, повелителя всех и всего. Таковы были основы. Но затем все, абсолютно все, что только приходилось читать, узнавать, слыхать от других, согласно и ежедневно подрывало эти основы тем успешнее, что я привык рассуждать чуть не с пеленок. Мне было десять лет, когда я в Темрюке читал «Мир до сотворения человека» Циммермана. Помню трепет, с которым я взял эту книгу. Я хотел верить в Бога, в Бога Библии и Евангелия, и уже тогда знал от кого-то, что этот Бог якобы непрочен... Я себе представлял, что Циммерман будет разрушать мою веру, и с лихорадкой перелистывал книгу. Мое торжество было велико, когда я нашел у Циммермана слово «Бог», произносимое с уважением; на этот раз я уцелел. Но факт в том, что я уже в десять лет рассуждал, кто прав: Циммерман или Моисей, Бог или Караяни (был у нас такой «передовой», впоследствии обокравший кассу и без вести сбежавший, вероятно за границу). Эта готовность, решимость рассуждать вне всякого соответствия со способностью рассуждать могли привести только к полному хаосу в голове.
В гимназии я зачитывался чуть ли не с третьего класса «Русским словом», которое находил — у кого же? — у дяди Савицкого, монархиста, консерватора, поклонника Каткова. Моим любимым автором стал скоро Писарев. Сначала я только восхищался хлесткостью полемики, не понимая хорошенько смысла. Но потом мало-помалу стал запоминать слова и идеи. С таким руководителем, конечно, все мои детские верования стирались в какую-то кашу, растворялись, улетучивались. От них у меня осталось нечто смутное, в виде суеверия, инстинкта, поэтической грезы, но сознание в них ничего не оправдывало. А сознание, понимание, рассуждение было у меня, так сказать, официально верховным решителем лжи и истины.
В 1866 году я был в четвертом классе гимназии. Раздался в Петербурге выстрел Каракозова — первый акт безумия безумного поколения. Помню, нас повели в церковь на благодарственный молебен... В сущности, ложная точка зрения: конечно, великое счастье, что Государь спасся от опасности, но разве день, когда русский стреляет в русского Царя, не есть скорее день траура? Нужно не благодарить Бога, а каяться, просить прощения! Проявилась страшная язва, в существовании которой виновата вся страна. Как же она, будто бы чистая, смеет благодарить Бога за то, что Он попустил ее нечистоте проявиться в торжестве цареубийцы? Как бы то ни было, помню, что ни у меня, ни у кого из товарищей уже не замечалось никакого страха перед совершившимся. В церкви мы себя держали скверно, несерьезно, со смешками. Конечно, избави Бог, не было сочувствия убийце, но не было ничего и против него. У нас был один (только один!) учитель, который заплакал. Это был старенький, седенький, тихенький Николай Иванович Рещиков, над которым все молодое шарлатанство, не знавшее сотой доли того, что знал Рещиков, постоянно подсмеивалось. Этот Рещиков при известии о покушении тут же, в классе, заплакал... И мы, дети, заметили тут лишь комическую сторону и с хохотом передавали друг другу, как всхлипывал старичок. Бедный, бедный Николай Иванович! Единственный из наших наставников, который еще сохранил способность понять сразу ужас происшедшего!
Официальные ликования наполняли город. Портрет Комиссарова-Костромского висел на всех стенах. Помню в самой банальной чиновничьей семье такие разговоры. Никола-брат, как его звали, сидит с нами (мы были гимназисты третьего и четвертого классов) и говорит: «Да, конечно, не удалось (то есть Каракозову), так все его ругают, а если бы удалось, так спасибо бы сказали». Я несколько удивлялся этим речам, не возмущался нисколько, ни на волос, а просто еще не знал, что есть такая точка зрения. А потом, несколько позднее, начались рассказы о том, что Каракозова будто бы пытали, что Комиссаров пьяница и спьяну, нечаянно толкнул руку цареубийцы. Чрез эти поры какое-то мерзкое чувство просачивалось до нас, мальчишек.
В классах высших, то есть в пятом, шестом и седьмом, я имел вполне республиканские «убеждения» — да и как иначе? Я не слыхал ни единого слова в защиту монархии. В истории я учил только, что времена монархии есть время «реакции», времена республики — «эпоха прогресса». Во всем, что читал, видел лишь то же самое. Даже от Савицкого не помню толковой защиты принципа монархии. У него, кажется, были английско-конституционные симпатии, на подкладке консерватизма и постепенности. Монархизм отца тоже был какой-то инстинктивный, мало высказываемый, да, очевидно, и очень мало защищенный теоретически. Во мне отец оставил зародыши монархизма, но собственно чувством своим, теплым отношением к Императору Николаю, рассказами об отдельных фактах духа, который то время умело создавать в русских, и тому подобным.
Но нужно было быть не знаю чем, чтобы из этого крошечного материала построить миросозерцание, способное бороться с океаном демократического республиканизма, нас охватывавшего. Что касается постепеновщины, то я, будучи в теории революционером, на практике, пожалуй, и был тогда постепеновцем.
Я был революционер. Революцию все— все, что я только ни читал, у кого ни учился — выставляли некоторым неизбежным фазисом. Это была у нас, у молодежи, вера. Мы не имели никакого, ни малейшего подозрения, что революции может не быть. Все наши Минье, {18} Карлейли, {19} Гарнье-Пажесы, {20} Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и так далее — все, что мы читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. Мы в это верили, как в движение Земли вокруг Солнца. Нравится этот закон или нет — закон остается в силе.
Такая же безусловная вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого смутно, очень смутно.
Так же мы делались материалистами. Материализм доходил до полного кощунства. Говели мы обязательно. Помню, мой хороший товарищ Ф., в шестом или седьмом классе, взявши в рот святого причастия, не проглотил, а дошел потихоньку до улицы и выплюнул. Об этом он рассказывал с самодовольством.
Все это нигилистическое воспитание при всей резкости было, однако, полно противоречий. Идеи коммунизма и идеи безграничной свободы. Отсутствие обязательности и требования нравственности, неизвестно для чего и по какому праву. Республика — и невозможность ее. Вдобавок — борьба всего этого с основным русским фондом души. Получался хаос, противоречия. Ничего ясного. Этот хаос не был невыносимым только по молодости, потому что жизненная сила все же играла; во-вторых, потому, что впереди был университет, который должен был все разрешить окончательно, указать, как и что делать, внести в хаос свет и мысль.
И вот когда этого не случилось — явилась страшная тоска.
Оказалось, что на душе предмет
Желаний мрачен: сумерки души, Меж радостью и горем полусвет...Как говорит Лермонтов:
Я к состоянью этому привык; Но ясно б выразить его не мог Ни ангельский, ни демонский язык.Именно так и было, и это состояние было невыносимо и толкало неизбежно куда-нибудь дальше, в какое-нибудь отчаяние, в какое-нибудь разрешение «сумерек души», к исканию ясного предмета желаний. Так пошли в революцию, в народ...
II
В ожидании возвращаюсь к воспоминаниям более близким хронологически.
Я отправился именно в Москву, а не в другое какое место по некоторой семейной традиции. В Москве кончил курс отец. В Москве в это время учился брат. Но сам лично я не любил Москвы, не любил и не понимал вообще Великороссии. Она для меня пахла каким-то спертым воздухом, ладаном, щами. Ее величие мною не ощущалось. Я даже не интересовался ее древностями. Еще не видя Василия Блаженного, уже знал, что это — «безобразие»; о Кремле вспоминал только погреба да застенки и так далее. В церковь я тогда не ходил. Вообще, меня в Москву не тянуло решительно ничто, кроме того, что там был брат, который мне поможет устроиться.
Брат же мой был несколько иного рода. У него всегда было очень много скептицизма и отчасти духа противоречия, побуждавшего быть скорее «напротив» какого бы то ни было принятого взгляда, чем идти у него на буксире. Сверх того, у него было много положительности, стремления видеть ясно, допуская лишь ощутимое, осязаемое. Поэтому он в университете, хотя и имел множество «радикальных» знакомцев, всегда относился к всяким бунтам сверху вниз, насмешливо Он умел быстро понять мальчишество или ничтожность носителей всех этих «протестов». В университете он не впутался ни в одну историю. «Москвичом» он не был, но все же относился к Москве лучше, да отчасти и московские влияния чувствовал. Так, он хорошо относился к Гилярову-Платонову {21} (издатель «Современных известий»), с которым был знаком, потому что чуть не два года состоял корректором его газеты. Он был хорошо знаком с семейством Аксаковых, не тех, не знаменитых, а других Это была семья старинная, барская, со славянофильскими убеждениями, с традицией покровительствовать молодежи, наукам и так далее. Отец, Петр Николаевич, был просто добрый барин, но мать... очень умная женщина. Сын же Николай, {22} доктор философии, хотя довольно обыкновенных способностей, все же имел славянофильские мнения. В семье этой брат долго был учителем и сдружился с нею. Здесь он, по обычному духу противоречия, играл роль, относительно говори, отрицателя; но конечно, все же столкновения не могли не класть на него самого известной печати.
Быть может, еще любопытнее было столкновение с Коптевыми, тоже в качестве учителя. Коптевы — это была богатая барская семья, кажется, Тульской губернии, деревни Остроги. Сем Коптев, старик крепыш, в самых «реакционных» убеждениях, но убежденный, горячий человек. «Я гасильник, я гасильник!» — кричал он в разговорах с братом, колотя себя в грудь кулаками. Он горячо доказывал вред образования для народа и тому подобное. Когда брат явился из Москвы по вызову на урок, Коптевы, увидав его пальтишко, нисколько не гармонирующее с трескучими морозами, весьма поморщились на этот «нигилизм», но мало-помалу свыклись с учителем. А семья была любопытная по связям. Когда у них в длинные зимние вечера читали новинку того времени — «Войну и мир» Толстого, старая нянюшка Коптевых узнавала в героях романа семейных знакомых и сама говорила: вот это такой-то, этот такой-то. В подобной атмосфере, конечно, можно получить большой запас тех влияний и отголосков национальной действительности, которые не дают ходу бумажным теориям.
В то время, когда я ехал в университет, Аксаковы жили в своих Юденках, в Тульской губернии, а брат — у них на уроке. Мы заранее списались, чтобы я заехал уж не помню, с какой станции, в Юденки, откуда брат со мною вместе должен был отправиться в Москву, устроить меня там и потом опять возвратиться на урок. Это путешествие у меня стоит в голове каким-то сном. Все было ново, начиная с грохотавшего поезда. Помню именно в Тульской губернии какую-то «образованную» — по костюму — семью. Мальчик, смотря в окно, показывал отцу, крича: «Папа, папа, а энта деревня вон уже где!..» Мне эта энта показалась ужасно дикой. Мой южный слух не любил великорусских звуков. Не нравился мне и суровый ландшафт, казавшийся бедным, скудным. Я был как то depayse (чужд окружающему) и даже тогда не выносил ничего из дороги, кроме каких-то не нравящихся мне обрывочков впечатлений.
Свою станцию я чуть не проспал. Помню, соседи разбудили, и я как угорелый выскочил во тьму, густо скрывавшую все окрестности бедной станции. Была ночь, и холодная... Сдавши багаж на хранение, я взял какого-то извозчика... Тут стояло несколько мужиков с повозками. Ночь, тьма, дорога крутится какими-то пустырями, ни признака жилья... Свернули куда-то в дрянной лес. Холод пронизывал до костей. Но пока добрались до Юденков, стало почти рассветать. Мы подъехали к громадному деревянному зданию, в три этажа, как-то холодно и уныло высившемуся на безлюдном ландшафте. Кругом деревья — не то сад, не то парк. Тихо. Все спит. Но вот при громе наших колес залилась куча псов, яростно лая из-под ворот. Насилу дозвонились мы прислугу. Я спросил, дома ли учитель. «Спит». Я послал записку. Но прислугу, видимо, не поразил мой скромный костюм, и мне пришлось долго простоять на холоде, пока брат проснулся.
Я имел время наглядеться на все. Это было громадное здание, большая часть которого, видимо, необитаема. В верхнем этаже виднелись даже выбитые рамы; там и сям ставни хлопали, еле держась на петлях. Не трудно было понять, что это лишь доживающие остатки умирающего былого величия...
III
Москва... как много в этом звуке Для сердца русского слилось!Но у меня сердце было не очень-то русское. Москва поразила меня треском, шумом, пестротой, пожалуй, понравилась, пока мы мчались на извозчике с Курского вокзала на Спиридоновку, — но это все. Брат мне показывал и объяснял по дороге, но я не запомнил решительно ничего, кроме какого-то куста ярко-красного боярышника, красиво торчавшего из-за деревянного забора. Этот куст мне брат как-то раз и впоследствии показывал.
Спиридоновка, на Стрелке, дом не помню чей, у кухмистера Ульянова. Это именно мое первое жилище в Москве. Моисей Иванович Ульянов — чистокровный русак, несмотря на сомнительное имя. Он бывший крепостной. В Москве обжился, завел кухмистерскую и несколько меблированных комнат. Это был добродушный пузан, заплывший жиром, почти безграмотный, но очень неглупый и даже нахватавший там и сям известных сведений. По случаю своих меблированных комнат и кухмистерской он знался со студентами, любил принимать роль добродушного наставителя молодежи; в свою очередь любил расспрашивать о разных научных вопросах, правильнее — технических...
IV
Устроив меня в Москве, разъяснив университетские порядки и тому подобное, брат уехал в Юденки. Я остался один.
Мне, впрочем, было не до скуки, по крайней мере, сначала, когда нужно было держать экзамен. Слабее всего я себя чувствовал по латинскому языку, несмотря на свою золотую медаль. А между тем ходили слухи, что поступающих на медицинский факультет экзаменуют строго по-латыни. Поэтому я подал прошение о поступлении на юридический факультет, с тем чтобы немедленно по поступлении перейти на медицинский.
Когда мы собрались в университете на коллоквиум, эта масса молодежи не произвела на меня никакого впечатления, да и сам университет как-то оказался не тем, чего я ожидал. Мне предчувствовался какой-то храм, что-то внушительное, величавое. Но все, что я видел, было как-то слишком просто, слишком мало отличалось от гимназии и производило впечатление чего-то казенного. По своей конфузливости я мало разговаривал с окружающей молодежью. Как и я сам, большинство этих вчерашних гимназистов держали себя не просто, как будто боясь уронить свое достоинство, и, насколько казалось, связи между знакомыми заводились туго. Новички, видимо, держались кружками, по гимназиям. Но у меня своих не было ни души. Я приехал из Керчи один, не считая Исакова, который как-то столкнулся со мною раза два, а потом исчез. Чуть ли он не срезался на коллоквиуме. Были тут еще кубанцы, хотя и незнакомые мне до того, но все же близкие. С ними мы с братом столкнулись в канцелярии, и он меня познакомил. Это были, помнится, Лука Посполитаки, Пузыревский, еще кто-то. Кубанцев тогда вообще в Москве было много.
Но столкновения все-таки были. Так, встретился я с тульским Вагнером, {23} который по своей болтливости и экспансивности живо со мной познакомился и затащил к своим тулякам.
Это было в самый разгар коллоквиума. Там, у туляков, я увидел Виктора Александровича Гольцева, {24} впоследствии в своем роде знаменитость.
Там была, конечно, куча молодежи — между прочим, Николай Александрович Морозов {25} и этот Гольцев. Вагнер поспешил мне сообщить, что Гольцев кончил курс с золотой медалью и что это вообще очень способный человек.
Гольцев имел вид почти мальчика, безбородый, румяный, очень серьезный и, очевидно, полный сознания своего величия. Товарищи относились к нему как к авторитету, а он к ним очень ласково. Но, вообще говоря, туляки мне тоже не понравились или, правильнее, показались неинтересными. От них разило той же писаревщиной, какая пропитывала меня. На столе валяются Карл Фогт {26} и тому подобное. Толки о развитии, о последних словах науки и тому подобном. Я в душе уже начинал как будто чувствовать пресыщение этим «развитием», а у них — по крайней мере, производилось такое впечатление — это было в самом разгаре. Как бы то ни было, все это были будущие юристы, а я — медик; кончился коллоквиум, и мы перестали встречаться на долгое время.
Экзамен я, само собою, выдержал. Мне было чисто шуточным делом написать такое сочинение, какое нам задали. Я и еще кому-то успел написать из соседей. Все это разрушало мои иллюзии, слишком пахло гимназией. Наконец я стал студентом и через несколько дней уже числился на медицинском факультете.
Я сначала набросился с большим жаром на лекции, мертвое мясо и тому подобное. Собственно, нам, конечно, не полагалось делать препаратов, но иные из нас покупали у сторожей. Я, помню, купил крошечного ребенка и усердно его резал, никак не умея понять, что такое у меня под ножом. По книжке я знал, что есть подкожный слой жира, но не имел понятия о том; что он может быть красным и таким толстым. И вот я усердно сдирал кожу, обнажая какую-то круглую красноватую зернистую массу, видя, что это как будто не мускулы, и боясь ее резать. Наконец кто-то из студентов объяснил мне, что это жир и что его нужно снять, прежде чем дойдешь до мускулов... Само собой, я немедленно накупил книг, банок, пробирок, разных химических препаратов, и все зря, на ощупь, как будто играя в науку, но очень серьезно. Купил и лампочку и со всей этой дрянью возился усерднейшим образом и дома, и в университете. Я засел вплотную, усердно, никуда не выходя, ни с кем не знакомясь. Ходил, конечно, на лекции... Но смешные же молодые люди. Помню, Зернов, профессор анатомии, сказал нам на лекции, что между весом мозга и силой ума не замечается пропорционального отношения... Я был этим как будто оскорблен и сразу решил, что профессор говорит «тенденциозно». Это грубо механическое материалистическое миросозерцание было у меня вбито накрепко, вбито разными Фогтами. Это была вера, не допускавшая никаких сомнений!.. Я сейчас же решил, что Зернов просто «реакционер». Но так как он все же приводил цифры, против которых нельзя было возражать, то мне стало грустно. Несколько утешился я лишь тогда, когда Зернов сделал оговорку, что скорее, дескать, можно поставить в связь с развитием ума количество серого вещества. [25]
V
В предшествовавших главах я начал многое, что постараюсь окончить, если Бог поможет, в более свободное время. И все это касается больше меня лично. Теперь хочу поторопиться перейти к своей радикальной жизни, для чего сначала попытаюсь охарактеризовать среду молодежи 70-х годов, насколько она для меня постепенно открывалась.
Молодежь того времени вообще отличалась весьма невысоким уровнем развития. Это не подлежит никакому сомнению. Она, несомненно, страдала огромной душевной пустотой, за исключением слоя, который, вероятно, целиком скоро пошел в революцию и о котором скажу ниже. Я совершенно не помню в кругу товарищей своих никаких горячих, душу захватывающих споров, никаких идеальных интересов. Ни высшие вопросы религии, философии, науки (в тех пунктах, где они соприкасаются с философией), ни вопросы нравственности, ни широкие общественные вопросы — ничего этого не затрагивалось около меня в течение двух лет. Мы ходили на лекции, спорили о частных вопросах той или иной науки — но это все.
Был у меня товарищ по курсу, Михельсон, еврей, большой, черноволосый детина лет двадцати пяти. В кругу своей жидовы он считался дельным студентом, да и был им: занимался усердно, хорошо и, конечно, вышел прекрасным медиком.
Будучи на втором курсе, этот Михельсон, помню, в химической лаборатории заявил мне новость, что, дескать, открыт наконец Северный полюс. Я изумился, стал расспрашивать как, и что, и откуда. Жид с важным видом начал рассказывать. И что же? Оказалось, что это он прочитал у Жюля Верна! Большого труда мне стоило убедить Михельсона, что это сказка, да и то лишь потому, что меня поддержали кое-кто из товарищей! Конечно, это случай очень резкий. Но, например, общее явление в среде вокруг меня — что почти никто не читал газет и еще реже читали журналы.
Компания Рудковского, Швембергера и так далее хвасталась тем, щеголяла, что, например, вдруг кто-нибудь из них начинает рассказывать какую-нибудь «новость» из прошлогодних газет. Подымался, разумеется, хохот... Раз я — впоследствии, когда уже взялся за «распространение книг», — предложил студенту четвертого курса медику Богословскому купить «Военно-статистический сборник». Он насмешливо спросил меня: «А большая книга?» — «Да, большая». — «Ну так не нужно: я больших не читаю». Это, конечно, говорилось для остроумия. А Богословский был вполне дельный, очень умный студент. Собственно в университете я, безусловно, ни разу, за исключением одного случая, не помню, не слыхал ни одного разговора о политике. Не много их слышал и вне стен университета, да и то самые горячие (да и то относительно, потому что сами по себе были тепловаты) в среде поляков — Станкевича и других. Это было по поводу франко-прусской войны, и симпатии поляков, конечно, были за французов. Вспоминаю этих разных Посполитаки, Поспеловых и тому подобных. Как проходила их жизнь? Немного лекций, а затем сожительство с модистками, гоньба за ними по бульварам, карты, кутежи.
Под Пасху мы устраивали иной раз какое-то подобие домашнего праздника. Не постясь, разумеется, раньше, покупают пасхи, разные пасхальные припасы, напитки, понятно, разговляются... Это устраивается студентами и модистками, с ними сожительствующими. Было бы кощунственно, если бы при этом присутствовала хоть тень глумления. Но ее не было. Это просто привычный случай «разговеться» яствами и питиями. Хаживали под Пасху и по церквам, конечно, без малейшей искры веры, с совершенно убежденным неверием, и опять не для пародии, а по привычке, потому что интересно пройтись. Так и проходило время — в таком бессмысленном, бесцельном провождении, неизвестно к чему, и вовсе не у одних глупых.
Шульга был чрезвычайно талантливый человек и даже много читал... когда-то, один момент. Но когда я его застал — чем жил он? Прихожу к нему утром. Он с распухшей, разбитой рожей торжественно встречает: «Ну, батюшка, было избиение вифлеемских младенцев». «Как так?» — спрашиваю. Рассказывает. Вчера вернулся ночью домой пьяно-распьяно и наделал скандалу. Хозяин послал за полицией. Он исколотил городового. Это был геркулес, потомок какого-то запорожца, укравшего некогда какую-то красавицу из гарема чуть ли не самого султана, за что ему и отрубили правую руку. Отсюда и фамилия Шульга («левша» по-малорусски). Городовой позвал несколько товарищей на помощь, и Шульгу потащили. Но он отбивался, дрался отчаянно всю дорогу, страшно колотил городовых, и только с отчаянными усилиями они тащили его, так что до участка довели лить через два часа (а обыкновенным шагом оттуда до участка минут пять ходу). Натурально закопавши наконец голубчика в свои владения, городовики возвратили ему с процентами все полученные затрещины. Били Шульгу не на живот, а на смерть. Но убить невозможно такую дубину, и, как я сказал, утром он был водворен к себе в самом приятном настроении, как человек, размявший кости после утомительного бездействия. Так-то он тратил свои силы. Свои знания, свои былые, очевидно, думы прожигал не лучше — черт знает с кем, в глупых глумлениях. Где-нибудь в вонючих номерах Келлер, в Мерзляковском переулке, сидят студенты со своими подругами. Кипит самовар, пахнет сыростью, дрянные половицы скрипят под могучими лапами гиганта Шульги. Изредка подходя к столу и пропуская рюмочку, он шагает по комнате с хорошенькой, хотя уже очень помятой Фрузой (Ефросинья Петровна). Эта Фруза в то время жила то с одним, то с другим студентом, а после того вскорости поступила в клиентки ресторана «Одесса» (ее, когда нужно бывало, прибегал половой звать к желающим в отдельный номер)... Так вот Шульга ходит и забавляется: «Вообразите, Ефросинья, такой чудак есть на свете — Спенсер. Ведь выдумал же такую штуку» — и начинает что-нибудь из Спенсера. Фруза жеманится и произносит что-нибудь вроде: «Ну, уж вы всегда выдумаете какую-нибудь глупость». И все в таком роде: болтовня, шутка, да и шутка скучная, которую необходимо было смачивать хоть водкой... Пили вообще очень много. Тот же Шульга выпивал на пари сразу двадцать бутылок пива. Приходишь к Швембергеру и Рудковскому, смотришь — кто-нибудь сидит утром и дерет водку, закусывая солью. Это делалось для шику: дескать, как настоящие горчайшие пьяницы. Показывают тут же кучи рвоты: пили, дескать, весь вечер, ночью так начало рвать такого-то — беда! Тот же шик и со всевозможного рода девками. И не следует видеть во всем этом, строго говоря, разврата. Нет, это было наполнение чем-нибудь жизни. На душе ничего не было, и я говорю, что это их не тяготило. Без сомнения, у большинства был червь, глодавший душу. Но что же было делать с ним? Не говорю уже о Шульге, который, очевидно, думал же когда-то, стремился к чему-нибудь, читал из каких-нибудь побуждений всех этих Спенсеров. Помню его стихотворение (он и стихи писал) в «Развлечении»:
О alma mater, наш университет, Питомец твой свой шлет тебе привет... —и далее перечисляется за что: за то, что ничего не дал, все заглушил, что было путного. Писалось это уже смешками, шутовски, но содержание очень горькое. Без сомнения, впрочем, не только Шульга, но и другие, поглупее и похуже, не могли не мучиться своей пустотой. Что было у этих людей? Веры в Бога не было. За это ручаюсь — для огромнейшего большинства. Какой-нибудь сознательной и живой связи со своей страной не было. Да и страны-то этой не знали. Ясной общей философии не было. Задач политических и общественных — сколько-нибудь ясно не было. Жили неизвестно для чего. Кончишь курс, а потом? Ну служба, ну женишься, детей будешь растить... И эта цель, которая, конечно, может быть внутренне великой, если согрета, освещена и освящена верой, — не освящалась и не согревалась ничем... А народ-то был молодой, и если головы молчали, то чувство еще не успело в нем потухнуть.
Это состояние душевной пустоты обыкновенно не возбуждает никакого опасения во властях. Какой-нибудь администратор может, конечно, сожалеть, что студенчество плохо, опустилось и тому подобное, но никак не ждет ничего непосредственно опасного от этой массы, занятой, по-видимому, только самой узкой мыслью о карьере да картами, модистками, вином и так далее. А потом вдруг — трах! Смотришь, эти «карьеристы» устраивают чуть не поголовно какую-нибудь нелепейшую демонстрацию, в которой из-за выеденного яйца, глупо, бесцельно ставят на карту всю свою «карьеру». Никто ничего не понимает. Откуда? Что за чудо? Ах, Боже, Боже, как это просто, как даже неизбежно.
Я знал достаточно молодежь своего времени: лично — в Москве и Петербурге, по отдельным экземплярам и понаслышке — молодежь Одессы, Киева, Харькова, разных провинциальных городов. И никогда бы я не поверил в 1872 году, что в 1874 году могло бы оказаться 2000 или в этом роде человек, замешанных в революционное движение. Кто? Откуда? Я был просто поражен, когда, уже в тюрьме, узнал о привлечении к делу людей вроде Устюжанинова, {27} Саблина. {28} А Б. мне лично говорил: «До чего я был изумлен, когда узнал, что вы в „процессе 193-х“. Я думал, что вы ничем таким не занимаетесь, и считал вас совершенно неразвитым». Полежим, Б. — еловая башка, но слова его любопытны. Ах, если бы поняли наконец, что именно-то в «неразвитости» вся суть, вся опасность!
Много лет позднее, когда я уже совсем переродился и понял все эти вещи, я встретился с молодой В. (Вандакурова). {29} Девушка страстная, пылкая, неглупая (по-женски), на волос находившаяся от того, чтобы попасть в революционные знаменитости (каковую роль она, конечно, сумела бы исполнить не хуже Фигнер или даже Перовской, если бы втянулась хорошенько на год, на два). Само собой, в голове у нес был обычный хаос, но еще не успевший застыть в какую-нибудь доктрину. Она еще не была типичной революционеркой, но именно потому, что еще оставалась типичной студенткой.
Она «пострадала» по «добролюбовской панихиде». Дело само по себе вздорное. Кучи молодежи пошли на могилу Добролюбова, говорили там кой-какие речи, были окружены казаками, переписаны у Николаевского вокзала, затем некоторые высланы.
Дело грошовое, за которое мы во времена моего серьезного революционерства не пожертвовали бы и кусочком ногтя. Но для этой бедняжки это было самое светлое воспоминание в жизни. Эта прогулка на кладбище, эти речи, это столкновение с казаками, перебранка с Грессером {30} — все это осталось таким лучом содержания в пустоте ее души, что наполнило ее каким-то умилением. «Ах, какое хорошее было время, — повторяла она, — как легко дышалось, какое-то чувство наполняло всю...»
Да, одной «карьерой» молодой человек не проживет. Ему нужно нравственное содержание, и чем он неразвитее, тем более легкими путями он должен добыть это нравственное содержание, потому что более трудные ему не по силам.
Величайший и труднейший путь, скажу для лучшего оттенения, — это путь христианского совершенствования. Понять, ощутить, схватить то Царствие Божие, которое внутри нас; в своей личности, в своей душе уловить жизнь вечного Мирового Духа, стать выше материального мира, выше даже человечества, поскольку человечество есть процесс природы, — какое духовное величие нужно для этого! Как мало людей, способных найти для этого силы!
Но даже оставляя эти высоты, только Богом сделанные и делаемые доступными для человека, — возьмем меньшее. Жизнь для человечества, но сознательная, собственным рассуждением, жизнь не для осуществления прихоти или порыва толпы, служение не какому-нибудь течению, а глубоко продуманному идеалу. Какой опять страшный труд! Предварительная работа, изучение, дума, мука. Затем вечная борьба с обстоятельствами, с самими людьми, которые никогда не понимают своего блага и только ощупью доходят до него.
Малоразвитый человек избавляется от пустоты иначе. Он берет ходячее мнение, берет принципы, ему известные, делает из них выводы — работа нетрудная. Он не создает своего собственного нервного трепетания, а только открывает душу нервному току толпы. Тут нет работы, а есть только прекращение работы самостоятельной, предоставление себя гипнозу «течения». А душа наполняется содержанием. Конечно, это содержание — чужое, влитое, взятое напрокат. Но это обстоятельство может тяготить лишь того, у кого есть и свое содержание, которое дает отпор вливающемуся извне. В пустоту же чужое льется легко, не возбуждая никакого неприятного ощущения. А затем, когда источник содержания исчезает и на душе водворяется снова пустота, воспоминание о бывшей полноте (хотя и иллюзорной) светит перед бедным человеком, как какое-то солнце.
VI
Возвращаюсь к рассказу.
Как ни пусты были люди, большинство все же были лучше таких «просветителей», какими кишели дома вроде дома госпожи Лашкевич (жена украинофила А. С. Лашкевича). Эти центры тоже не следует забыть отметить.
Давно уже Швембергер начал произносить совершенно чуждые ему сначала либеральные фразы, особенно что-то по женскому вопросу. Оказалось, что он с Рудковским познакомились с одним домом, передовым, просвещенным и тому подобное. Раз затащили они и меня туда.
Прихожу. Это было где-то далеко, чуть ли не на Мещанских. Но квартирка уютная, хорошо меблированная. Жили с достатком. В столовой за чайным столом заседало целое общество — поголовно молодежь, курсистки и студенты разных заведений. Пожилая — и, очевидно, пожившая — была лишь сама г-жа Л. Меня представили. Только что сел, г-жа Л. обращается ко мне:
— Читали вы Эмиля XIX столетия?
Эскирос {31} был тогда только что переведен. Я его видел и не заинтересовался. Так и ответил ей.
— Ах нет, а я все читаю. У него замечательно глубокие места... Я вот только что говорила... Например, это место... — Она порылась в книжке, лежавшей тут же, около стакана чая, и прочитала: — «Женщина есть форма, в которую отливаются новые поколения».
Она торжественно обвела взором толпу; студенты кое-кто осклабился на эту акушерскую образность, а дочка г-жи Л. как будто потупила глаза. Г-жа Л. сочла нужным взять меня в этот день на свое попечение и без всякого вызова с моей стороны рассказала через полчаса, что с мужем своим она не живет, потому что он очень отсталый человек. Она вышла за него... Ведь он знаменитый украинофил. Она не малороссиянка, но, выходя замуж, думала, что они, украинофилы, будут действительно что-нибудь делать. Но время шло. Все песни, национальные костюмы. «Господа, но ведь это все слова, это хорошо, но когда же дело? Дело, дело-то когда же?» — спрашивала она мужа, победоносно смотря на меня, уверенная, что я не могу не понять убийственной силы этого обличающего вопроса... Потом были какие-то личные несогласия. Вероятно, мужу не очень-то нравилась жизнь с такой шалавой. Но он был настолько дурак или дрянь, что, отпуская ее от себя, отдал ей детей, которых она теперь и «воспитывала». Из детей я, собственно, помню только дочь: симпатичная девушка, ей, по-видимому, инстинктивно претила распущенность обстановки, в которой ее развивала мать. Дом представлял типичные черты нигилизма самого мелкого сорта. Либеральные разговоры, «женские права», отсутствие стеснения с молодыми людьми. Показывали мне карточки здешних барышень, снятых в мужском костюме. На вечеринках барышни пили вместе со студентами, чокались, целовались, напивались допьяна. Помню один случай, когда пьяный Д-ский так и заснул, лежа головой на коленях у m-lle Л. Я не присматривался, но знаю, что из этих прикосновений развивались тут и романы, не знаю, уж до каких пределов. Мать же обижалась, что ни один молодой человек не ухаживал за ней, а все за барышнями. Правда, она, по-видимому, находилась в интимных отношениях с Ш. Это был полячок, не без способностей, без гроша за душой, который все мечтал держать экзамен на доктора (он, кажется, и выдержал его и ныне стал — если это только он — даже довольно известным в медицинском мире). Тогда, в ожидании, он проживал в полном бездействии у г-жи Л., чуть ли не в виде родственника, но в действительности просто ее любовником. По крайней мере, раз она заметила его ухаживание за одной барышней и сделала ему громкую, скандальную сцену...
VII
Собственно в политическом отношении то время (конец 60-х — начало 70-х годов) было спокойно, то есть без всяких внешних доказательств. Оно имело в этом отношении много аналогии с настоящей эпохой.
Насколько я мог слышать и понять, заговор Нечаева был некоторого рода насилием над молодежью. Идти так далеко никто не намеревался, а потому система Нечаева — шарлатанство, надзор, насилие — была неизбежна. Честным, открытым путем нельзя было навербовать приверженцев. Поэтому с разгромом нечаевцев наступила «реакция», то есть среди молодежи не только не было (почти) революционно действующих людей, но сама мысль о революционном действии была скомпрометирована. Нечаева масса молодежи считала просто шпионом, агентом-подстрекателем, и только его выдача Швейцарией, последующий суд и поведение Нечаева на суде подняли этого человека — или хоть память его — из болота общего несочувствия. До тех пор, повторяю, его терпеть не могли и всякая «нечаевщина» была подозрительной. Говорить о каких-нибудь заговорах, восстаниях, о соединении для этого сил и тому подобном было просто невозможно: всякий бы от тебя немедленно отвернулся.
Но я уже говорил, что взамен того ничто из существующего порядка не имело, безусловно, никаких защитников, сторонников. Было много дураков, ни о чем не думавших, но каждый даже из них — постольку, поскольку думал — был против существующего. Идеи были существенно-материалистические, республиканские и социалистические, хотя, конечно, никто ничего не понимал толком ни в материализме, ни в республике, ни в социализме. Каждый вполне верил в «передовые» идеалы, и только считалось, что все это будет нескоро.
Несколько позднее, когда я уже «определился» в революционном смысле, приезжает к нам из Киева студент Орлов. Он был уже что-то вроде на третьем курсе и у себя в Киеве был большим «деятелем» (в студенчестве). В разговоре он мне все рассказывал о студенческих кассах, столовых и тому подобном. Эти чисто студенческие учреждения, казалось бы, не имеющие никакого отношения к разным революциям, поглощали его вполне. Идей же его в смысле политическом я никак не мог схватить. Долго я старался добиться, из чего, собственно, он хлопочет над студенческими учреждениями. У нас это считалось средством, а у них? Наконец он меня понял и ответил: «А, вы вот о чем... Ну конечно, мы хотим того же самого, как Интернационалка... Понятное дело!»
Этот бедняга даже не знал, чего хочет «Интернационалка», и был с ней знаком по «Московским ведомостям». Но все равно: это самое крайнее — значит, туда и идти; «Московские ведомости» ругают — значит, хорошо... В этаком роде были передовыми все в тогдашней молодежи — не по знанию старого и нового, не по сознательному выбору между ними, а по инерции, потому что неприлично не быть передовым.
Студенчество и вообще молодежь представляла такого рода картину. Фон — масса, мною обрисованная. Затем известное небольшое число «старых», «остатков», которые, по выражению Ш., «поддерживали священный огонь». Дальше этого их миссия не шла, и из этих весталок в штанах ни один не увлекся впоследствии в движение. Некоторая доля болтала о модном тогда устройстве ассоциаций и даже кое-где их устраивала: переплетная мастерская, где был Зборомирский, мастерская учебных пособий Е-на, мастерская еще какой-то чертовщины у Саблина...
Очень модны были «студенческие учреждения»: кассы, библиотеки, столовые. Тут сливалось все: и идея студенческого «самоуправления», и идея ассоциации, а для крайних это было, наконец, средством пропаганды.
«Крайние», стало быть, тоже были. Я сейчас скажу о них. Остановлюсь сначала на студенческих учреждениях и ассоциациях.
Я не знавал таких крупных представителей «ассоциационного» движения, как, например, Верещагин, {32} и говорю лишь о средних. Впрочем, мастерская Е-на была тоже очень крупное дело, да и сам он, конечно, покрупнее Верещагиных. Но вот среднее дело.
Скучающий либеральный студент, имевший известное количество лишних рублей, задумал сделать что-либо «полезное». Конечно, ничего современнее и полезнее, стало быть, не было, как ассоциация. Эту ассоциацию ему хотелось сделать с настоящими рабочими, чтобы дойти со своим благим влиянием до самого народа. Но взяться за дело он вообще не умел, а уж с настоящими рабочими тем паче, а потому сошелся с неким Зборомирским.
Этот Зборомирский был личностью весьма любопытной, очень хороший тип своего времени. Он родился в отдаленной северной губернии, отец его был священник, по рассказам, очень честный и хороший человек, весьма любимый крестьянами, но в то же время человек весьма «тенденциозный». Где уж он набрался этого духа — Господь его ведает, но, например, он толковал со своими мужиками на тему «воздавайте кесарево кесарю» в совершенно особом роде. Он именно начинал разбирать, откуда идет золото, деньги. Сначала добывают золото. Кто? Мужик. Потом его перевозят. Кто? Мужик. Потом чеканят монету. Кто? Все тот же мужик. Отсюда Зборомирский-отец заключал, что деньги принадлежат мужику, а не кесарю, а потому и «воздавать» их кесарю нет основания.
Зборомирский-сын был нервный, впечатлительный, вечно вспыхивающий как порох. Рассудок у него был самый крохотный, но сердце доброе. В их местах много бедных, много мальчишек нищенствует. Маленький Зборомирский задумал помочь им. Он стащил у матери котел, там и сям набрал, конечно без спросу, всего необходимого и начал учить мальчишек гнать деготь. Действительно, они выгнали известное количество и продали... Другой раз мальчик задумал более радикальную меру, а именно — просить Императрицу, чтобы она помогла детям. Почему Императрицу, а не Государя? Он рассудил, что Императрица, как женщина, должна иметь более мягкое сердце. Написал он письмо, надписал: «Во Санкт-Петербург, Государыне Императрице» и отправил. Через несколько времени Зборомирского-отца вызвали в консисторию и задали ему жестокую головомойку. Само собой, письмо до Государыни не дошло.
«Дух отрицанья, дух сомненья», очевидно, рано охватил молодого Зборомирского. Вопрос, почему принято именно то, а не это или это, а не то, волновал его и приводил к «недозволенному» во всех видах. Мальчик, будучи уже в семинарии, задал себе вопрос: почему не едят мышей? Поймал мышь, сжарил и съел... Уж не знаю, понравилось ли ему жаркое, но отец ректор как-то узнал о пиршестве, призвал Зборомирского, прочитал ему нотацию и чуть ли не собирался исключить его из семинарии.
К окончанию курса или скоро по окончании Зборомирский уже вполне проникся убеждением, что народ эксплуатируют, что не нужно пользоваться никакими привилегиями. Он изорвал все свои бумаги, аттестаты и тому подобное, чтобы не иметь возможности ими «эксплуатировать», стал учиться ремеслам; науки забросил, так что, когда я его узнал (в 1872 году), это был уже прямо невежда; очевидно, что он и раньше ничего не знал, иначе не мог бы забыть так скоро, потому что ему было лет двадцать. Он плохо владел литературным языком, знания его состояли в самых жалких обрывочках журнальных статей и популярных книжек. Я тогда не мог внутренне признавать его «своим» и относился к нему как к рабочему.
Но Зборомирский был вполне уверен в своей интеллигентности и образованности. Он все стремился приблизиться к народу, страстно, порывисто и... нелепо. Раз, например, вздумал босиком пройти из Петровско-Разумовского в Москву. Ни один рабочий не сделает такой чепухи, потому что идти нужно верст десять по шоссе и мостовой: лошадям и то копыта оковывают. Ну разумеется, Зборомирский посдирал себе подошвы и потом долго хромал.
Несколько позднее он поступил на фабрику молотобойцем. Работа сумасшедшая для всякого, кто не отличается огромной силой, но Зборомирский упорствовал чуть ли не целую неделю и чуть не заморил себя у своей наковальни.
Вот к этому-то Зборомирскому обратился тот либеральный студент. Решено было устроить мастерскую-переплетную, на имя... Поместилась она где-то на Мещанских. Это было крохотное заведение, чуть ли не с тремя рабочими, которые едва ли чувствовали какую-нибудь разницу этой мастерской от всякой другой: до ассоциации она не дошла, вырабатывала, помнится, немного. Конечно, Зборомирский жил тут же, с рабочими, жил грязно и бедно, ел плохо, работал как все. Для него, а уж конечно для того студента, иногда заходившего полюбоваться созданием своим, все это было ново. Но рабочие жили как везде и всегда, разве с той разницей, что иногда слыхали какие-нибудь клочки «пропаганды». Так эта история тянулась с год, кажется. Потом стали выходить нелады между собственником, bailleur de fonds (дающий деньги на предприятие), так сказать, и Зборомирским. Из чего — Бог их знает, я и тогда не мог понять. Зборомирский жаловался, что собственник вмешивается в дело и не хочет выпустить его из рук, чтобы не потерять возможности рисоваться на собраниях «своей мастерской», а между тем своим вмешательством метает ее развитию. Зборомирский требовал, чтобы мастерская была записана на его имя, и тогда собирался совсем выкинуть за борт собственника. Как вышло, не помню, но мастерская уничтожилась, а Зборомирский поступил в молотобойцы на какой-то завод.
«Студенческие учреждения» были повсюду: библиотеки, столовые, кассы. Иногда они поощрялись начальством; так, в Петербургском технологическом институте существовала читальня почти официальная. Вообще говоря, студенты читали мало. Однажды m-me Аксакова зашла зачем-то с моим братом в университетскую библиотеку. Дело было перед каникулами. Студентам у нас не выдавалось билетов на отъезд без представления ими в канцелярию свидетельства о том, что за ними не числится библиотечных университетских книг. Множество студентов толпилось в библиотеке. M-me Аксакова восхитилась: «Как отрадно видеть такое множество студентов в библиотеке». «Увы, — отвечал Владимир, — все эти студенты пришли сюда лишь за тем, чтобы взять удостоверение о том, что не посещали библиотеки». Это было совершенно верно. Они пришли именно за этим и библиотеки не посещали. Вообще, в библиотеке читали и работали очень мало. Но заводить свои библиотеки, тайные, запрещенные, — это другое дело. Это интересовало. Тот самый Вагнер, о котором я говорил, задумал устроить библиотеку на таких основаниях: вместо платы за чтение каждый абонент (они, помнится, назывались «члены») должен был внести известное число книг, которые известное время оставались обязательно в пользовании библиотеки. Таким путем Вагнер собрал тысячи две, помнится, томов. Необходимо понять это: молодежь интересовало не чтение, не наука, даже не истина (которая была вполне твердо предрешена и, в сущности, исканию уже не подлежала), а деятельность, приложение своих сил. Говорю это не с каким-либо особенным осуждением, потому что, в конце концов, это дело естественное, глупы были лишь сама форма деятельности и ее содержание, а не стремление. Но — хорошо это или дурно — факт именно таков: искали деятельности, и деятельности непременно непосредственной и внешней.
Со стороны начальства все эти приложения сил фактически были вполне свободны. Сходки были явлением обычным повсюду, где их хотели. В Киеве студенты, идущие на сходку, спрашивали городовых: «Где тут студенты собираются? Куда идти?» И городовой очень спокойно указывал путь. У нас в Москве сходки были не в моде тогда. Но когда это понадобилось, и мы собирались по сорок человек, в разных квартирах. Кассы, столовые — все это существовало повсюду, имело свои уставы, собрания и так далее. В принципе это было запрещено. Помню, раз вывесили в университете объявление, что за принадлежность к каким бы то ни было не утвержденным законно обществам студенты исключаются. Тогда один из членов нашей кухмистерской потребовал, чтобы его вычеркнули из числа членов, но зато несколько человек немедленно записались, чисто в пику начальству, которое, впрочем, ничего этого не знало, не ведало.
VIII
Но где же были собственно «революционные», заговорщицки-бунтовские элементы? Собственно, в 1870–1871 годах их в открытом состоянии не было. Были отдельные личности, недобитые, нечаевских времен, которые мечтали, но в одиночку, втихомолку, а гласно они ничего не делали, кроме поощрения всяких «развитий», «учреждений» и тому подобного.
Были у них случаи ссылок. От нас в 1870 году сослали административно Всеволода Лопатина, {33} из Петровской академии выслали Аносова, {34} Пругавина, {35} Обухова и еще кого-то. Подробности этих историй у меня изгладились уже из памяти, помню только (знаю это от Аносова, позднее большого моего приятеля), что дело было вздор: какие-то сходки, речи, чепуха, не касавшаяся никаких «основ». Это не значит, что не было революционеров. Но никаких революционных опытов они не делали вплоть до долгушинцев и чайковцев окончательной формации, то есть до 1872 года.
Я знал многих долгушинцев: самого Долгушина, {36} Папина, {37} Плотникова, {38} Гамова {39} и других. Но собственно близок к их затеям не был, так что более или менее интимной стороны их кружковой истории не знаю. В общих чертах она такова. Основа будущего кружка, то есть Долгушин и, кажется, также Дмоховский, {40} была из остатков нечаевских времен. Около них мало-помалу, на почве, впрочем, разговоров, сбилась группа, которую звали «кружок двадцати двух». Было ли их действительно двадцать два человека, не знаю. Но этот кружок двадцати двух, во всяком случае, к «делам» не приступил. Думаю, что из этого кружка выделились лишь более крайние элементы (Долгушин, Дмоховский, Папин и Плотников — и только, вероятно), которые в 1872 году решили перенести свою деятельность в Москву, чтобы попытаться произвести в народе восстание. Они смеялись над «книжниками»-чайковцами и думали, что нужно начинать прямо с бунта. Остальных своих сторонников, фигурировавших на процессе, а также и ускользнувших от процесса, они понабирали уже в Москве. Из этих сторонников иные (как Гамов) присоединились к ним только потому, что были упорно отвергаемы чайковцами. История же чайковцев мне уж известна лучше.
В тысяча восемьсот, кажется, семидесятом году в Санкт-Петербурге было четыре человека: Натансон, {41} Сердюков, {42} Лермонтов {43} и Чайковский, {44} которые, познакомившись между собой, совершенно сошлись на понимании тогдашнего положения вещей с революционной точки зрения. Было ли оно таково действительно, не знаю, потому что не видал тогда Петербурга, но так оно им, по их словам, представлялось: «Молодежь находится в полной апатии; она запугана нечаевским погромом; в ней господствует взаимное недоверие; нужно поднять ее дух, нужно ее выработать». Идея, в сущности, прямо взятая из «Исторических писем» Миртова [26] или же совпадающая с ними до полного тождества. И вот они приступили к делу.
Любопытно, как тесно в данном случае революционная попытка сливалась с кажущимся мирным движением развития «передового». В литературе, в обществе либеральном то было время «культурного развития», то есть усиленной пропаганды социалистических и революционных идей под видом простого «знания», «науки». Это было время бесчисленных переводов Лассаля, {45} Маркса, Луи Елана, {46} всевозможных Верморелей, {47} «деятелей 48-го года» и так далее, время кое-каких собственных произведений, вроде «Пролетариата во Франции», «Ассоциаций» Михайлова, {48} «Исторических писем», сентиментально-революционною вранья Флеровского {49} («Положение рабочего класса в России», «Азбука социальных наук») и тому подобного.
Нам, молодежи, рекомендовали знание, науку; науку приходилось, очевидно, искать в книгах; книги же создавались на подбор революционные. Таким образом, блистательно достигалась иллюзия, что наука и революция говорят одно и то же. Рекомендуя не прямо революцию, а науку, нас приводили именно к революции.
К этой книжной деятельности примкнул скоро и кружок Чайковского.
Первоначальные его основатели избрали себе каждый определенные высшие учебные заведения и начали действовать каждый в своем районе между студенчеством. Они знакомились с товарищами, их кружками и особенно старались основывать кружки самообразования. Это были кружки молодежи обоих полов, собиравшиеся для совместного чтения по определенной программе. Программы вырабатывались более выдающимися членами кружков или составлялись разными уважаемыми молодежью лицами из литературы и либерального ученого мира. Списки книг, разумеется, подбирались тенденциозно; книги были в отношении философском сплошь материалистические, в отношении политическом — революционные и социалистические. По прочтении книг о них составлялись рефераты и велись рассуждения. Это называлось систематическим чтением. Оно было действительно систематично, но выводы были, понятно, вполне предрешены, ибо списки книг брали только односторонние посылки, из которых нельзя было сделать никакого другого вывода.
Между прочим, существовала программа чтения, составленная П. Л. Лавровым, тогдашним великим пророком молодежи.
Составляя кружки самообразования и в них участвуя, руководители кружка Чайковского старались выбирать наиболее выдающихся людей, которых затем соединили в один кружок. Выбирали людей не только умных, но также возможно более проникнутых передовыми идеями, а также нравственных. О нравственности в кружке заботились очень много, как никогда и ни в одном другом кружке. Для образчика укажу три факта.
Один из самых выдающихся членов кружка Дмитрий Клеменс был всем хорош, и действительно это был в высшей степени хороший человек. Но он любил выпить, и это считалось большим пятном. В интимных кружковых разговорах слышалось: «Какая жалость, такой человек и пьет». Нужно заметить, что Клеменс отнюдь не был каким-нибудь пьяницей, а просто знал вкус в вине и иногда в доброй компании любил кутнуть.
Другой, тоже всеми любимый К., был исключен из кружка потому, что, находясь в связи с одной ведьмой (к кружку не принадлежавшей), влюбился в хорошенькую барышню Коврейн (тоже не принадлежавшую к кружку) и начал за ней ухаживать, впрочем, еще пока платонически. Это было сочтено настолько компрометирующим обстоятельством, что К. решено было исключить, и лишь по снисхождению к нему это было облечено в форму его эмигрирования. К., очень нужный кружку в России, должен был эмигрировать, удалиться за границу.
Лермонтов считался одним из столпов кружка и едва ли не был самым умным изо всех чайковцев. Однажды случилось, что кружок издал книжку, слишком уж неблагонамеренную, которая была запрещена (не помню какая). Чтобы не подводить издателя, кружок должен был выставить одного из своих, который должен был объявить себя издателем, за что предвиделась ссылка. Выбор пал на Лермонтова. Лермонтов, однако, вовсе не желал попадать в ссылку и отказался. Тогда ответственность взял на себя Натансон — и был сослан административно. Лермонтова же исключили не за неповиновение кружку (дисциплины кружок не признавал), а за «сбережение своей шкуры», то есть за безнравственность.
Собравши известное количество так подобранных человек, руководители в 1871-м, кажется, году поместили их всех летом на даче (чтобы сблизить их лично, дружественным чувством). Это вполне удалось, и с тех пор кружок возник.
Он состоял из Чайковского, Сердюкова, Н. Лермонтова, сестер Корниловых, {50} Купреянова, {51} Купреяновой, {52} Софьи Перовской, Синегуба, {53} Львова, {54} Клеменса, {55} Чарушина, {56} Кувшинской, {57} Ободовской, {58} Леонида Попова, {59} Сергея Кравчинского. {60}
Впоследствии присоединились (до 1873 года) Леонид Шишко, {61} Тихомиров, Батюшкова, {62} Наталья Армфельд, {63} Крапоткин. {64} Еще раньше: Клячко, {65} Цакни, {66} Волховский. {67}
Деятельность кружка представляла такие фазисы:
1) распространение книг и пропаганда среди молодежи,
2) пропаганда среди рабочих,
3) слияние с общим революционным движением, когда кружок в старом смысле уничтожается, расплывается в «партию».
IX
Возвращаюсь назад.
Я вышел из своей одинокой замкнутости, ставши членом студенческой кухмистерской.
В ней не было ни на грош ничего политического, но это было «студенческое учреждение», нечто такое, где студенты сходились, где, стало быть, их можно было видеть, нечто, наконец, запрещенное, приучавшее, стало быть, студентов к нарушению правил. Поэтому это учреждение было поощряемо и, вероятно, даже создано разными остатками прежнего времени, «хранителями священного огня» — Брунсами, Шервинскими, {68} Рагозиными, ныне благонамеренными деятелями науки и видными членами общества; с другой стороны, московскими членами кружка чайковцев Клячко и Цакни.
В этой кухмистерской я познакомился со всем «цветом передового студенчества». [27]
X
В 1872 году я проживал в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах около Тверской. Комната маленькая, огромной высоты, узкая, нельзя повернуться.
Я уже написал свою детскую «Америку», я писал «Историю Пугачева», я распространял книги, я был друг Цакни, почитатель Кляч-ко, наконец, знал всех, на кого в Москве опирались чайковцы. Но я не принадлежал ни к какому кружку, мало того, даже не слыхал ни о каком кружке. Слыхал о «петербургских», от которых к нам валились книги, но по скромности не расспрашивал Клячко и Цакни, а они сами меня ни во что не посвящали, так что я даже не знал ни одного имени «петербуржцев», и даже самого Чайковского.
В одно прекрасное утро, очень рано, ко мне стучатся. Отворяю. Вбегает барышня Армфельд, вся запыхавшись: «Семен Львович Клячко и Николай Петрович Цакни арестованы».
В первый раз около меня происходил настоящий арест, не в книжках, не в романах, а в действительности. Я как-то растерялся, да и не мог понять, что, собственно, из этого следует. Ну, арестовали так арестовали! Барышня рассказывала между тем, как это случилось, как они пошли провожать Николая Петровича, засидевшегося у них; пришли к нему в меблированные комнаты, а там стоит городовой. «Приказано, — говорит он Николаю Петровичу, — чтобы вы сейчас пожаловали в часть». Он и пошел.
— Но знаете, Лев Александрович, какая беда: у него в кармане ваша рукопись («Америка»).
Эта новость мне была довольно неприятна, хотя, вообще говоря, я готовил книжку для цензуры, так что не видел еще большой беды, если она попадет в полицию.
— Знаете, Лев Александрович, нужно предупредить Льва Федоровича Рагозина.
— О чем?
— Да об аресте. Ведь у него тоже может быть обыск.
Барышня была уже сведущее меня в разных конспирациях. Я, конечно, понял, что нужно предупредить, и немедленно отправился к Рагозину.
Он в это время только что свил себе гнездышко. Женился, должно быть, месяца два назад, нанял хорошенькую квартирку, убрал ее премило и блаженствовал. Я застал его едва вставшим с постели. Новость об аресте Клячко и Цакни его встревожила до такой степени, что я почувствовал презрение к этому «Лео», как его называли (из романа Шпильгагена) и как он сам о себе мечтал. Заметался из угла в угол:
— Что же теперь делать? А у меня книги. Наверное, будет обыск.
Все это была одна трусость, и никакого обыска у него не произошло. Но я тогда верил ему.
— Нет ли у вас, куда спрятать книги?
Я отвечал, что взял бы к себе, если бы не история с рукописью в кармане Цакни.
— О нет, нет! Как можно к себе! Куда-нибудь к знакомым... — заговорил Рагозин.
Я вздумал о Н. М.: человек мирный, хороший, приятель.
— Давайте, — говорю, — куда-нибудь стащу.
Он пришел в восторг, начал рыться, набрал, мне помнится, два чемодана книг. Это все были книги цензурные; тогда нецензурных еще не существовало. Но каждая книга в нескольких экземплярах, иногда в десятках. Я забрал чемоданы и свез на извозчике к Н. М. Тот взял, даже не расспрашивая: «Давайте, давайте, пущай лежат».
Это был первый случай моей войны с полицией. Возвратился домой уже к обеду. Потом пошел к Армфельд — и что же? Там сидит Цакни и подает мне мою рукопись. Его на этот раз только допросили и отпустили, даже не обыскавши. Впрочем, на другой же день арестовали снова, и уже окончательно.
Мы, вертевшиеся около Цакни и Клячко, вроде меня, Армфельд, Батюшковой, Князева {69} и тому подобных, не составляли никакого кружка и если что делали, то по поручению Клячко и Цакни, да и, собственно, не делали ничего. Оставшись без наших вдохновителей, мы сидели уж совсем смирно; я проводил время в чтении, в подготовлении «Пугачева». Так. прошло несколько времени.
Однажды утром, когда я только что встал, ко мне вошел высокий молодой человек, очень худой, безбородый, но с огромными русыми волосами, в огромных синих очках; он смотрел не сквозь них, а поверх них, наклоняя голову и глядя как будто исподлобья. Подойдя, он рекомендовался слабым и глухим голосом:
— Я Чарушин.
Я в первый раз услыхал это имя. Спрашиваю:
— Что угодно?
Он начал объяснять, что с арестом Клячко и Цакни у Петербурга прервались все сношения с Москвой — и он приехал их восстановить.
— Нам, — заметил он, — о вас писали Клячко и Цакни.
Мне все это показалось крайне подозрительным. Я сказал, что никаких дел Клячко и Цакни не знаю.
— Вы разве не слыхали моего имени?
— Не слыхал, — говорю.
— Я по поручению Чайковского.
— Какого Чайковского?
Я действительно ничего не знал. Тогда Чарушин откланялся и ушел.
Я немедленно отправился к Рагозину. Прихожу. Он меня встречает в отдельной комнате и шепчет:
— Какой-то странный человек у меня.
Но в это время «странный человек» вышел из другой комнаты и, попрощавшись с некоторой досадой, ушел. Это был он же, мой человек в синих очках, Чарушин. Когда он вышел, Рагозин спрашивает:
— Вы не знаете его?
— Не знаю.
— Странный какой-то. Говорит, от Чайковского.
— Он и мне говорил, что от какого-то Чайковского.
Тут Рагозин объяснил мне, что Чайковский-то есть на свете, что это «столп», а только этого Чарушина он не знает и находит его похожим на шпиона.
Так мы расстались в беспокойстве, но скоро пришла ко мне Армфельд и сообщила с радостью о приезде Чарушина.
— Вы разве знаете его?
— Ну да, конечно, это из питерских, очень умный и энергичный человек.
Так дело объяснилось, и Чарушин вечером же виделся со мной у Армфельд, а затем пришел ко мне ночевать.
Мы с ним очень быстро подружились. Это был первый тип действительно живого революционера, мною виденный. Клячко и Цакни были какие-то тряпки, вялые, кислые, занимавшиеся радикальными делами как будто по обязанностям службы и как будто сами от этих дел ничего не ожидавшие. Это происходило отчасти оттого, что оба они были гораздо умнее и старше Чарушина и гораздо хуже его по натуре. Чарушин был неглуп, но главное — человек, способный к вере, человек с потребностью жить чем-нибудь широким. В «дело» свое верил искренно и отдавался ему всецело.
Он очень досадовал на Клячко и Цакни, что они до сих пор не сошлись со мной окончательно, и начал посвящать меня в радикальные дела. Тут я в первый раз услыхал, где, кто, как действует. Чарушин меня также побудил взяться за дела в Москве и помог в этом, сведя с разными лицами.
Так началась моя «радикальная» жизнь.
XI
Моя квартира в Долгоруковском была слишком тесна и неудобна для моей новой жизни, когда приходилось принимать много народа. Я переехал в дом Олениной, в Брюсов переулок, взял большую приличную комнату. Университетскую работу я совершенно забросил, перестал ходить на лекции, перестал читать дома. Собственно, я не решил бросить университет, вообще не думал о будущем, а думал только о своих настоящих делах, делах минуты. Эти «дела» были чрезвычайно неопределенны, хаотичны, без содержания и без последствий. Суть состояла в том, что в Москве ничего не было создано, ничего не делалось. А нужно было что-либо поставить на ноги. Я же не знал, что и как делать. Собственно, в это время, за отсутствием Клячко и Цакни и благодаря тому что я сошелся хорошо с чайковцами, я стал некоторым центром. Моя квартира была пунктом, которого не миновал ни один проезжий чайковец, ко мне же чайковцы направляли разных более или менее близких к ним лиц, проезжавших через Москву. Я стал знакомиться в Москве с революционно настроенным миром — «радикалами»; это брало много времени. Я завел сношения с рабочими. Сверх того, приходилось поддерживать книжное дело, и, сверх того, не было у близких лиц ни одного «дела», которое бы не дошло так или иначе до меня, хотя бы я ему решительно даже ничем не помогал. Кто занимался заговорами или политической агитацией, тот знает, сколько времени берет эта вечная, бесконечная сутолока, видимо бессодержательная и утомительная, но без которой, однако, «брожение» и «движение» прекратились бы. И потому-то элемент суетливый и в то же время не очень требовательный — как молодые люди и женщины — в высшей степени полезен при всякой агитации. Человеку серьезному не под силу эта бестолковая «работа», она ему надоедает своей ничтожностью. Молодые люди и женщины, особенно молодые женщины, напротив, удовлетворяются лучше всего именно этой бестолковой сутолокой.
Что мы делали в течение 1872/73 академического года?
Чарушин познакомил меня с только что возвратившимся из ссылки Николаем Михайловичем Аносовым. Бывший студент Петровской академии, он меня провел туда, а также дал указания-, как разыскать некоторых «распропагандированных» в нечаевские времена рабочих. К рабочим я очень стремился. В это именно время (1872 год) среди революционной молодежи в Санкт-Петербурге особенно разгорелся спор о способах действия. Одни, которых называли образованниками, считали необходимым развивать и вырабатывать людей в образованном классе; другие, народники (слово, тогда в первый раз сочиненное), говорили, что выработку и пропаганду следует перенести в народ, в рабочую среду. Я был за второе мнение. Тогда же долгушинцы уже стали мечтать о бунте в народе и презрительно называть чайковцев «книжниками». Я в то время стоял еще за выработку лиц из рабочих, хотя вообще о рабочих понятия не имел. Чайковцы, скорее «образованники», как бы поддались течению и повели пропаганду между рабочими и благодаря своей основательности и средствам в короткое время достигли сравнительно огромных успехов, затмив все другие кружки.
У нас в Москве как-то совсем «людей не было», не с кем было за что-либо взяться. Старые, вроде Рагозина, решительно отлынивали. «Лео», еще недавно изображавший из себя Рахметова, аскета и фанатика, женившись, сразу изменился. Трусил он ужасно, и жена его, очевидно, была достаточно умна, чтобы постоять за свой семейный очаг и не позволить отбить у нее ее краснощекого красавца мужа. Наших барышень она живо вытеснила от себя. Рагозин углубился в экзамены и ничего не хотел делать.
Скоро — кажется, за границей — чайковцы отпечатали первую нелегальную брошюру — «Песенник»: десятка полтора запрещенных стихотворений, в конце концов, глупых, но опасных, потому что оскорбительных для Государя, для религии, вообще для властей. Эту брошюру питерцы доставили уже мне, и я ее понес Рагозину, но Лев Федорович посмотрел и взял только один экземпляр (который, наверное, уничтожил). «Знаете, — сказал он, — ответственность за это большая, а толку что? Ведь хоть бы один рабочий прочел. Ни один даже не прочтет».
Тут же, в 1872-м или в начале 1873 года, к нам в Москву явилась первая весть об анархии. Это учение было свежей новостью. Рагозин ему ужасно обрадовался. Так как политическое отношение ничего не значит, то бессмысленно действовать против правительства — такое толкование он дал новой доктрине. Вообще, этот чело век отлынивал самым решительным образом, хотя сначала, конечно, не по убеждению, а просто из нежелания ломать себе шею.
Итак, хотя с ним не ссорились, но оставили его в покое. Прочие старики даже и не подходили к новым «деятелям», они, самое большее, толкались около кухмистерской. Они уже держали экзамены или даже были докторантами. О них, их завербовке, никто даже не помышлял.
Единственное исключение составлял Аносов. Мы с ним тоже очень скоро сошлись, и это из наличных московских радикалов был единственный, к которому я внутренне относился как к равному. Только что возвратившийся из ссылки (административной), он немедленно стал заниматься «делом». Это был молодой человек из купцов, чрезвычайно приличный, чистенький, опрятно одетый, блондин, с прекрасным цветом лица, чуть заметными усиками и очень правильными чертами лица. Это красивое лицо было замечательно бесстрастно. Аносов редко улыбался. И кажется, никогда громко не смеялся, не сердился, не радовался, не был печален. Хотя он ничего заметного не сделал и впоследствии даже, кажется, совершенно отстал от движения, но по натуре это был, несомненно, типичный революционер. Человек узкий, односторонний, он не отвлекался от своей идеи ничем «посторонним». Страсть в нем не говорила, вопросов для него не существовало. Вера его была ясна, несомненна и холодна. Увлекаться в ней было нечем, как нечем увлекаться в том, что дважды два — четыре. Слишком просто для увлечения. Сомневаться тоже было не в чем. И он вел свое «дело» с аккуратностью, прилежанием и холодностью чиновника. По тогдашней манере думать образами французской революции, я называл для себя Аносова «робеспьеровской натурой», и, соблюдая масштаб сравнения, он ею был — с той же ограниченностью, неподкупностью и неуклонностью.
Аносов познакомил меня с компанией Князева в Петровской академии.
В Петровской академии революционный дух был уже тогда каким-то традиционным, въевшимся. Напрасно начальство меняло директоров, вводило дисциплину, строгие правила, напрасно очищало академию исключением массы студентов. Незадолго до того были произведены более строгие экзамены, благодаря которым из, кажется, четырехсот студентов осталось в академии что-то около ста двадцати. Революционное направление оставалось по-прежнему.
Понятно, что изгнание праздношатающихся, не имевших никаких аттестатов ровно ничего не достигало. Во-первых, даже праздношатающиеся, не числясь студентами, могли все-таки проживать в Петровках; во-вторых, студенты с аттестатами и даже работавшие были не менее революционны, чем праздношатающиеся. Как бы то ни было, Петровки были неисправимы. В них в то время студенты показывали как достопримечательность грот, где совершилось убийство злополучного Иванова (Нечаевым), место в пруду, куда был брошен труп, места в парке, где происходили сходки.
Воспоминания разных «событий» были связаны там с землей и камнями.
Князев и Ко нанимали особую дачу в глухом лесу за прудом. Зимой к ним приходилось проходить по льду, через сугробы снега, по лесным тропинкам. Вот показывалась наконец дача со светелкой, обнесенная крепким забором-частоколом, и раздавался яростный лай. «Обыск нас не захватит врасплох», — говорили обитатели дачи. Действительно, через забор трудненько было бы перелезть, а Макс был истинный зверь. Это была огромная, презлющая и преумная собака. Хозяева обучили ее всяким фокусам. Дадут кусок хлеба и скажут: «Макс! Катков ел!..» Ни за что не тронет, отвернется от куска хлеба и зубы оскалит. «Макс, это барышня ела!» Сейчас же хватает и проглатывает.
Хозяевами была, как я говорил, компания студентов и их подруг. Из них, собственно, я намечал Князева и Филипченко.
Князев был типичный нигилист-«семинар». Бедный, отрепанный, в какой-то длинной развевающейся хламиде вместо пальто, очень молодой, худой, с заостренными чертами лица... это было лицо старой, злой бабы, без малейших признаков растительности. Угрюмый, озлобленный, самолюбивый, с огромными претензиями, с самыми посредственными способностями, Князев был бы, однако, способен к развитию, если бы оно было ему дано. Он мог и усомниться, и подумать своей головой, мог и полюбить человека. К революции он пристал без колебаний, без разговоров, погрузился в нее как в свою природную стихию. А впрочем, ничего в ней не мог сделать, потому что не имел никакого таланта, ни в каком отношении.
Филипченко был человеком совсем другого типа. Красивый, из зажиточной семьи, в недорогом полушубке (из демократизма) и в золотых очках (из барства). Он работал в академии прекрасно, интересовался своим предметом. Не имея никакого вкуса и способности к каким-либо высшим вопросам, он был, однако, очень умен в более наглядных предметах, обладал большим здравым смыслом и хорошей волей. Радикальничал он недолго и, вероятно, больше по инерции и не предвидя от того никаких последствий. Он, конечно, мог бы и втянуться в революцию, но месяца через два-три профессор, у которого он работал, заметив что-то ненормальное в его поведении, серьезно переговорил с ним, убеждал его бросить глупости и заняться серьезной работой. Филипченко послушал доброго совета и круто порвал с нами, объявив начисто, что ни в какие революции не верит и ничего с нами делать не намерен.
Так он и скрылся с горизонта. Тогда я очень жалел о нем. Впоследствии я слышал, что он завел передвижную паровую молотилку, с которой зарабатывал много денег в Орловской, кажется, губернии.
За время пребывания с нами он доставил «делу» сто пятьдесят рублей. Эти деньги были по его хлопотам пожертвованы одним лицом в пользу недостаточных студентов. Мы без труда нашли десяток студентов, которые выдали нам пустые расписки в получении кто десяти, кто двадцати рублей, расписки представили жертвователю, а деньги передали в Петербург, в кассу чайковцев.
Делать такие обманы мы нисколько не стеснялись. Деньги шли «на дело» — это для нас уже начинало оправдывать если не все, то очень многое.
В то время, когда я только что познакомился с Филипченко, он находился в связи с некой Андреевой {70} (кажется, Анна Васильевна), жившей на той же даче. С ней он тоже скоро разошелся. Когда я сообщил ему, что, по словам Князева, Андреева собирается открыть какую-то мастерскую, Филипченко грубо засмеялся и сказал: «Ей годится одна мастерская: детей делать!»
Это действительно была личность любопытная по испорченности.
Андреева, впоследствии попавшая подсудимой на «процессе 193-х», была провинциальной актрисой. Гамов столкнулся с ней в Таганроге, как, вероятно, сталкивался с ней не один десяток мужчин.
В те времена, то есть в 60-е годы, была мода спасать падших женщин, по «Что делать?». Одна компания студентов выкупила, например, из публичного дома женщину, начала се «развивать», отучать постепенно от пьянства, а чтобы постепенно отучать от разврата, назначили ей в сожители одного из своей среды... Вся эта мерзость, не подозревающая своего собственного разврата, не спасла женщину, которая сбежала от своих развивателей опять в публичный дом. Гамов тоже стал спасать Андрееву, развивать ее, говорить ей о высших интересах и тому подобном. Андреева набралась у него громких слов, но осталась прежней. Это был какой-то болезненно жирный кусок мяса. Вечно она с кем-нибудь путалась — и, однако, толковала о революции... Будучи арестованной, она умудрилась в тюрьме приманить к себе в камеру часового жандарма и, по прибытии в Петербург, родила от него в тюрьме же ребенка.
Другой такой развратницы, кроме еще Блавдзевич, я даже не слыхал в революционной среде. Мы, впрочем, то есть московские чайковцы, не имели с Андреевой никакого дела.
1872 год
XII
В Москве среди товарищей-студентов я совершенно не видел никого, кого бы можно было привлечь к делам, да я и не умел этого делать. Я знал многих, впоследствии оказавшихся подсудимыми по политическим процессам, но тогда не мог себе представить, чтобы они могли заниматься политикой. Казалось, они были так от нее далеки, а привлекать я тогда совершенно не умел. Не только я был до невероятности конфузлив и застенчив, но мне всегда было совестно людей к чему-нибудь принуждать, увлекать их к тому, чего они самостоятельно не желали.
Единственное исключение составлял Аркадакский. {71} Это был нескладный, непропорциональный студент из семинаристов, живой, экспансивный, в котором ограниченность ума как-то странно совмещалась с интересом ко множеству вопросов. Он был вполне «радикал», и, должно быть, чуть не с пеленок. С ним я познакомился, как с соседом по комнате, в меблированных комнатах Келлер (Мерзляковский переулок). Мы скоро сошлись. Он был малый простой и душевный, в конце концов, честный, желания которого сводились к жизни по своему убеждению. С ним я свободно говорил о всяких «вопросах» и с ним решил начать «деятельность» в «народе». Правда, Аркадакский был очень связан. У него, самого чуть не мальчика, были на руках еще более молодые брат и сестра, которых он принужден был выписать к себе в Москву. Жили они чем Бог пошлет: уроками, сокращая себя до последней возможности — но были веселы и бодры. Итак, Аркадакский не мог отдаваться «делам» целиком, но свободное время посвящал им охотно.
Аносов имел когда-то связи с рабочими. Но показываться к ним самолично ему было бы неудобно: его знали, на него могли донести. Он поэтому отыскал одного, некоего Семена (кажется, Семена — все равно), «распропагандированного», и свел меня с ним. Это был белобрысый, чистенький и слабенький человек с тонким лицом. Идеи у него были, конечно, сумбурные, но все же радикальные. Больше всего он вспоминал личные приятельские отношения со студентами, сходки в Петровской академии, мелкую войну со «шпионами», которых требовалось сбить со следа, и тому подобное.
Надо сказать, что Чарушин меня крайне подгонял относительно рабочих:
— Ну как так в Москве ничего нет?!
— Да где же я возьму рабочих?
— Это удивительно! Как не найти!
Я предлагал начать ходить в трактиры и искать случайных знакомых. Чарушин это отверг:
— У нас когда-то это делали — и никакого толку. В трактирах собирается много дряни, нет никаких шансов встретить именно порядочного человека.
Порешили на том, что они должны помочь нам, прислать какие-нибудь связи через петербургских рабочих. Раз даже действительно прислали одного рабочего, но он посетил меня только раз и затем исчез. Я продолжал просить помощи из Питера. Аносов же чувствовал это обидным. «Обойдемся и сами найдем», — говорил он и действительно нашел своего Семена.
Отправились мы с Семеном в артель, куда он должен был меня ввести. Приходим. Это было на Маросейке, в грязном, темном переулке. В первый раз входил я в жилище рабочих просто как гость Большая, грязная комната, уставленная нарами, заваленными кожухами, вейкой дрянью. Грязь, вонь. Усталые рабочие в потных рубахах. Положение мое было преглупое. Собственно, зачем я пришел к этим людям? Что я им скажу? Семен меня выручил, сказав нескольким рабочим, что вот, дескать, барин согласен учить грамоте кого угодно. Довольно глупо и это, но тогда это был общий прием, с этим всегда являлись к рабочим.
Рабочие отнеслись ко мне как-то спокойно, без большого удивления, без понимания, без вражды и без любезности. Так, как будто бы я был на рынке, где всякий может свободно толочься за чем угодно. Учить так учить. Некоторые заговорили со мной об уроках, спрашивали, буду ли я за это что брать. Подошел мастер, Василий кажется, о котором я уже слышал от Аносова и от Семена как о человеке опасном. Он когда-то прошел полный курс пропаганды у нечаевских студентов, был очень развитый, много читал, считался ярым. Потом, по разгроме нечаевцев, все это бросил, стал «кулаком», по выражению Аносова. Попросту стал заниматься своими делами, умом и энергией выдвинулся, сделался табельщиком, был накануне фабричной карьеры. Он подошел ко мне с усмешечкой. Это был высокий, плотный человек, сытый, с очень умным лицом. Говорил прекрасным литературным языком. «Это вы желаете рабочих обучать? Только уж меня оставьте! Меня республиканцем не сделаете. Я все это знаю». Сконфузил он меня ужасно, и я мог Только пробормотать какую-то чепуху вроде того, что республиканцами никого не хочу делать.
Впрочем, Василий скоро отошел, и я его больше никогда уже не встречал. Доноса с его стороны мы не опасались: он этим не занимался. Было ли с его стороны какое-то воздействие на рабочих — не знаю. Последователей мы здесь не приобрели и даже до пропаганды не дошли, а до конца остались с одними уроками.
Семен тоже больше не показывался и пособия больше нам не оказывал. Почему — не знаю. Впрочем, сам Аносов отзывался о нем пренебрежительно: «Пустой человек».
К рабочим же я стал ходить очень сначала усердно. Носил книжки, строго цензурные, учил их грамоте. Меня это сначала увлекало, во-первых, новизной. Идешь, бывало, ночью через знаменитую Хитровку. Там оборванцев, голытьбы, жулья — несосветимая сила! Полягут спать на тротуарах, на папертях — пройти трудно, постоянно нужно обходить и перескакивать. Страшно немного, а в то же время тешишь и разжигаешь себя размышлениями на тему о народном горе. В этих размышлениях было много искренности, но и много юношеской фразы. В сущности, «отброс» был вовсе не очень велик для города с 600-тысячным населением. Но перспектива — самое трудное в наблюдении, особливо для молодого человека. В артели все тоже было необычно для меня; я наблюдал с интересом каждое движение рабочих, их грубую пищу (накрошат, бывало, сушеной рыбы в квас с луком — вот и весь ужин); они мне казались очень бедными. Но жалоб я не слыхал и, если бы мог отдать себе отчет во впечатлениях, должен был бы сказать, что они довольнее меня своей жизнью.
После некоторого времени мое положение в артели начало меня очень тяготить. Рабочие относились как-то странно: безразлично, не обращали внимания. Один только, кажется Моисей, относился ко мне будто дружелюбно. Раз я пригласил его к себе в Брюсов переулок. Он зашел, напился у меня чаю, просидел долго ночью, и много мы говорили. Это был довольно угрюмый молодой человек, самоуглубленный, мечтательный. Он, оказалось, служил раньше у одного профессора и наслушался около него много вольнодумных суждений. «Будить народ надо, спит народ», — повторял он много раз с каким-то убеждением, как священную формулу, в которой нельзя изменить ни одной буквы. Очевидно, он заучил эту фразу, и она ему понравилась. Мы не говорили ничего бунтарского, но все больше о невежестве, о притеснениях народа, об эксплуатации. Расстались по-видимому очень душевно, но второй раз Моисей не пришел уже. Путь неблизкий, работы много, да и, может быть, свободный час ему интереснее было провести в трактире, чем у меня.
Но Моисей был единственным случаем, меня порадовавшим, хотя я и сознавал, что моего меда тут нет ни капли. Остальные относились безразлично. Казалось, мне делают какое-то снисхождение, слушая мои уроки. Я обвинял себя: не умею взяться. Я боялся испортить положение, да и желал с себя снять работу, столь неприятную и бессмысленную. Я решил, что как-нибудь поеду в Питер поучиться вести пропаганду, а пока предложил Аркадакскому взять на себя «занятия с рабочими», так как, дескать, мне некогда. Он взялся охотно, но скоро тоже стал выражать недовольство — очевидно, у него дело пошло не лучше.
XIII
Хотя я и не был искренним, сдавая Аркадакскому обузу, меня тяготившую, но мне действительно было некогда. Мне приходилось слишком много бегать туда-сюда. С одной стороны, приходилось давать уроки — отчасти для существования, отчасти с разными целями. Так, давал урок одной барышне, имея в виду ее пропагандировать; семья была крайне либеральная, но барышня, очень миленькая, впрочем, только зевала на уроках, охлаждая всякий мой проповеднический пыл. Ничего из этого не вышло. Взялся дать урок еще двум барышням — тоже с целью пропагандировать. Ну, эти были и сами склонны к радикальностям и, собственно, во мне не нуждались. Как бы то ни было, с этого урока меня скоро прогнали. Матушка, важная барыня, услыхала от какого-то чиновного лица, что я скоро буду арестован, и отказала мне; намеревалась даже выгнать, но дочери, избегая скандала, сообщили мне сами, через Армфельд, чтоб я больше не приходил на урок. Давал еще уроки для двух приказчиков, рассчитывая их обратить на революционный путь. Но эти добрые ребята, веселые, сытые, неразвитые, думали только о гулянках, а не о революции, так что и тут у меня ничего не воспоследовало.
Кроме уроков, приходилось знаться с радикалами. Обо мне между ними пошел слух, меня искали, и я сам их искал. Так, я познакомился с радикальными семьями Ков. и Мит. Дол., с Шишко, Гамовым, Долгушиным, Папиным, Дмоховским, Лермонтовым и другими. Называю только крупных, а всякой мелочи, вроде разных Васюковых, {72} даже не упомню. Еще познакомился с Фроленко, {73} впоследствии «знаменитым», познакомился с не менее «знаменитым» пропагандистом Василием Ивановским {74} и так далее. Познакомился с несколькими своими «питерскими», для которых служил постоялым двором. В то же время постоянно налетали разные «дела»: то, смотришь, заведутся сношения с тюрьмой, то приходилось устраивать студенческую («вольную») библиотеку, то то, то другое.
Время проходило незаметно, ключом кипело.
XIV
В наше время начал устанавливаться обычай, впоследствии разросшийся во всероссийскую систему, породивший даже революционный Красный Крест. Как только арестовывался кто-нибудь по политическому делу, сейчас являлись сердобольные, сочувствующие барыни и барышни, старались добиться свидания с заключенный, называясь иногда родными или, еще проще, невестами, носили арестованному книги, пищу, деньги, белье и тому подобное.
Стали наши барышни добиваться того же относительно Цакни и Клячко. Батюшкова, смелая, энергическая, отправилась к начальнику жандармского управления Воейкову {75} (кажется, а может быть, это был Слезкин). {76} Тот, однако, выслушав просьбу о свидании, ответил очень строгой нотацией: «Стыдитесь, мадемуазель, вы, Батюшкова, дворянской фамилии, позволяете себе подобные выходки». Отказал начисто. Пришлось ограничиться доставкой книг и тому подобным. Барышни с этим и возились. Пытались мы воспользоваться книгами для переписки (подкалывая буквы так, чтобы образовывались нужные слова). Но Цакни и Клячко были ленивы или недогадливы. Напрасно мы тратили время, пересматривая книги. Через несколько времени Батюшкова стала ходить около полицейской части, где сидели Цакни и Клячко, в надежде увидеть их — и действительно. Двор части отделялся дрянным дощатым забором от пустыря, через который ходила публика. В этом-то дворе выпускали гулять политических арестантов. Проходя через пустырь, Батюшкова увидела Клячко, увидела другой раз Цакни. Они ее тоже видели. На другой раз, когда Батюшкова проходила, Клячко закричал ей вслед: «Барышня, платочек обронили!» Она подбежала к нему, он с улыбкой подал ей через забор свой платок. Городовой, следивший за гуляющими, не счел нужным вмешиваться. Схватив платок, Батюшкова побежала домой. Разумеется, это была записка.
Другой раз сидит Рагозин в своем кабинете и занимается. Вдруг — стук в окно. Ночь полная, по зимнему времени. Он подходит к окну — и что же? На него с улицы, улыбаясь, смотрит Клячко! Рагозин в первую секунду ошалел — не знал, что и думать, но тотчас же выскочил на улицу. Там стоял Клячко, за ним жандарм. Этот ловкий Клячко попросился в баню и пошел такой дорогой, чтобы пройти мимо Рагозина. Разумеется, Рагозин стал упрашивать зайти. Жандарм решительно не позволил. Но Рагозин и Клячко пошли во двор, и жандарм не решился пустить в ход силу. Конечно, он получил вознаграждение за любезность. Так они втроем поболтали, напились чайку, причем жандарм сидел как на иголках. Наконец Клячко сжалился над ним и отправился в баню.
Таковы были патриархальность и распущенность. И мы еще жаловались на строгости!
XV
Другой случай сношений с тюрьмой, имевший место раньше, еще любопытнее.
В одной масти сидела за долги либеральная старушка Т., которую навещала красавица Олимпиада Алексеева. {77} В этой же части сидел Черкезов, {78} осужденный к ссылке в Сибирь по нечаевскому процессу, но почему-то целых три года не высылавшийся — прямо сказать, по беспорядку, по неряшливости администрации. Этот Черкезов скоро был тоже наконец сослан, потом бежал за границу, стал там анархистом, можно сказать, знаменитым настолько, что был выслан из Франции, из Швейцарии, а в Германию, Австрию, Италию и Испанию и без того не мог носу показать, так что во всей Европе для него не оказывалось места. Я его лично нигде не знавал, но знаю, что он довольно большая дубина, с той характерной тупой развязностью, которая свойственна множеству армян.
В 1872 году, однако, Черкезов еще сидел в части, пропадая от скуки и от голода; от скуки он писал нелепейшую драму, в которой (я ее читал) прославлял либеральное земство, от нужды писал образа и продавал их (он недурно, говорят, рисовал). От скуки познакомился со старушкой Т. и с приходившей к ней Олимпиадой. Так он вступил в сношения с «волей», писал чуть ли не объяснения в любви Олимпиаде (простительно, впрочем, после пяти, кажется, лет тюрьмы), а также немедленно начал агитировать.
Он по нечаевскому процессу познакомился с князем Урусовым {79} и теперь решил обратиться к нему. Написал письмо с упреками: как, дескать, такой талант зарывается в землю праздно; стоит, дескать, захотеть, понять себя, и вы можете дать русской молодежи то, что она потеряла со ссылкой Чернышевского. В таком духе. В заключение он говорил, что если князь Урусов захочет действовать, то вот он рекомендует ему Клячко, представителя лучшей части молодежи.
Князь Урусов был прежде всего bon vivant, умел и любил пожить. Но убеждения, насколько он их имел, конечно, были такие, как у всей интеллигенции, — радикальные. От роли Мирабо он конечно бы не отказался. Роль, указываемая ему, сулила меньше и была опаснее. Уж не знаю, в какой мере он думал ее осуществить, но мысли в этом роде забродили у него. С Клячко он познакомился, но затем очень быстро все это вышло наружу. Клячко был арестован — по этому поводу или не по этому, не знаю; нашли ли у него что-нибудь компрометирующее князя Урусова или нет, тоже не знаю; знаю только, что нашли роскошную записную книжку, подаренную князем, а в ней какие-то заметки. Как бы то ни было, у князя был сделан обыск.
Князь, с самого нечаевского процесса чрезвычайно либеральничавший, встретил жандармов очень неучтиво. Воспользовавшись каким-то несоблюдением ими всех формальностей, он их заставил ждать в передней, пока формальности не будут совершены. Потом, когда они перебирали его книги (иностранные), князь все острил, рассказывал своему помощнику, как один полицейский счел за запрещенную книгу «Les revolutions du Globe» («О геологических переворотах»). Нашли у него что или нет, не знаю, но князь был арестован и посажен в Кремлевские казармы (кажется, это называется Главная гауптвахта при Арсенале, или Ордонанс-Гауз). Тут ему жилось привольно: он принимал и угощал. Между тем дело его пошло нехорошо.
Рассказывают, что Государь (Александр II), встретив старого Урусова при дворе, спросил: «Это твой сын?» Тот отвечал, что нет. «Ну, я очень рад, — заметил Государь, — он мне надоел».
В конце концов «Мирабо» был выслан административным порядком в Венден (Лифляндская губерния). Совет присяжных поверенных выражал свой протест, посылая ссыльному поздравительные телеграммы в свои торжественные дни и пригласительные повестки.
Когда Урусова увозили (с двумя жандармами), он угощал приятелей на вокзале. В их числе был некто Антропов, сотрудник «Московских ведомостей». Антропов еще недавно написал громовую передовицу против революционеров, утверждал, что уровень развития их все более понижается «и скоро свет спасения заблещет из окон публичных домов!». Тут, на вокзале, он с прочими напились до положения риз и, усаживая князя в вагон, орали: «Vive la Republique!»
XVI
Студенческая библиотека, о которой я упоминал, возникла по идее еще при Клячко. Я уже забыл, хотя участвовал в собрании кухмистерской, решившем учреждение библиотеки, сколько денег мы на нее дали. Кажется, мы ликвидировали кухмистерскую и на оставшиеся рублей триста решили накупить книг. Список был составлен наирадикальнейший. Книги запрещенные решено было не вписывать в каталог. Устраивать библиотеку было поручено мне и еще, кажется, Гольцеву и Морозову. Много книг пожертвовали, особенно Клячко, остальные закупили на распродажах и рынках, очень выгодно, но с огромной затратой времени и трудов.
Помещалась библиотека сначала у меня, потом не помню у кого, а в конце концов, уже без меня, была, если не ошибаюсь, арестована.
XVII
За это время мне пришлось познакомиться со многими революционерами.
Характеристики: Долгушин, Дмоховский, Гамов, Папин. Цели и деятельность их кружка.
Революционная среда — семейство М. Д. «Добрый отщепенец». Любавский {80} с Богдановым. {81}
XVIII
Провинция: Харьков, Киев, Одесса, Орел, зачатки «богочеловечества». Разъезды чайковцев.
Моя поездка в Петербург, первая.
Приобретение чайковцами типографии.
Мысль об издании заграничного журнала.
Правительственные меры против распространения книг.
XIX
Хотя мы (Наталья Армфельд, Батюшкова, я, Аносов, Князев) действовали более или менее вместе, но кружка не составляли. Чарушин часто говорил, что нам нужно соединиться в формальный кружок, особенно после возвращения из объезда. Одесский кружок произвел на него сильное впечатление. «У них, — рассказывал он мне, — сил немного, но он прекрасно организован, специализирован; каждый занимался своим делом». [28] То есть одни вели пропаганду специально среди молодежи, другие — среди рабочих, третьи занимались отысканием средств для кружка, четвертые — литературным делом и так далее. Между прочим, одесский кружок начал тогда издание рукописного журнала, по странной случайности названного «Вперед», хотя одесские еще не знали о затевавшемся под тем же названием заграничном журнале Лаврова.
Под этими настояниями петербуржцев мы наконец образовали кружок. Это было, кажется, весной 1873 года, тотчас по освобождении Клячко и Цакни. Если же я ошибаюсь, то очень близко перед их освобождением, в первые месяцы 1873 года. Во всяком случае, первую роль в образовании кружка играл Чарушин. [29] Не помню, были ли при этом Клячко и Цакни, но само собрание помню очень хорошо. Маленькая комнатка Натальи Александровны Армфельд, где пять-шесть человек уже заполняли все уголки. Присутствующие — две барышни и нас трое или пятеро, да Чарушин. Все сидят как-то глупо — не то конфузясь, не то самодовольно; один Аносов с той серьезностью, с какой неверующий чиновник преклоняет колени во время молебствия; нужно, дескать, форма такая, для народных чувств. Чарушин начал говорить:
— Господа, вы давно действуете вместе, спелись, знаете друг друга. Уже пора сомкнуться в определенный кружок.
Молчание.
— Мне кажется так. Как вы полагаете? Ну что бы вы сказали, Наталья Александровна?
На такие категорические запросы послышались односложные, тихие ответы:
— Да... Конечно... Понятно...
Мы, собственно, хотели составить кружок, и это давно было решено, колебаний никаких у нас не было, а стесняла формальность: мы как-то не понимали, что мы будем делать в кружке.
— Итак, господа, вы составляете кружок, — заключил Чарушин, уже наметавшийся в радикальных делах и не стеснявшийся неловкостями положения, как с течением времени привык не стесняться каждый из нас.
Эта минута не заключала в себе ни на йоту торжественности, она была ультрабесцветна. Чарушин тотчас свел речь на практическую почву, о практических делах, и тут уже все заговорили свободно: что делать, кому делать. На этом или на следующих собраниях кружка решено было вести занятия с рабочими, решено было для привлечения некоторых лиц поселиться на даче, в Мазилово, на лето.
Собственно, я в это время делал свои первые литературные пробы, и именно преимущественно в виде сказок. Моя «Америка» (в сущности, чушь, так же похожая на Америку, как свинья на апельсин), не пропущенная цензурой, читалась, однако, рабочими в Петербурге в рукописи. Ее пропагандисты очень одобрили. Не помню хорошо, какие я именно писал сказки, конечно тенденциозные, но только их чрезвычайно похвалили. «Может быть, это именно ваш жанр», — сказал Чарушин, и я усердно кропал. В сущности, это именно не был мой жанр. Это были очень топорные притчи, вдохновленные Щедриным. Из них более талантливая, которую я, впрочем, сделал только осенью 1873 года в Петербурге, это «Сказка о четырех братьях». Долго я работал, до самого ареста, над «Историей Пугачева», которую так и не успел окончить. Окончена она была, кажется, Крапоткиным.
К известной чести моей нужно сказать, что хотя сказки мои бессовестны в том смысле, что я сам не знал того, что позволял себе ругать, однако я и тогда не доходил ни до грязи, ни до богохульства, какими щеголяли другие революционные писатели.
Итак, относительно лично меня так и было решено: чтоб я продолжал свои литературные фабрикации. От занятий с рабочими лично я временно устранился. Мы тогда уже сразу усвоили тактику петербургскую: вести дело не только силами членов кружка, но и силами притянутых уже им, но еще не принятых в него. Так как рабочее дело было возложено на Князева и все-таки на меня, то мы его поставили при помощи еще S., Аркадакского и Фроленко, даже и не знавших о существовании кружка. Из них Аркадакский вел занятия на Маросейке, Фроленко — не знаю где, S. поступил на какой-то завод. Князев же поступил учителем в фабричную школу к одному купцу у Трехгорной заставы. В сумме все это было еще не пропагандой, а лишь исканием связей и знакомств среди рабочих.
Аносов, помнится, был назначен на ведение связей в молодежи. Барышни — уж не помню, кажется, не получили никакого специального назначения. Временно не получили его и вышедшие из тюрьмы Клячко и Цакни. Они были столь истрепаны, что хотели просто «отдохнуть», почему и поселились на даче в Мазилово.
Это поселение, впрочем, имело свой умысел.
Беспечальное лето
Лето 1878 года выдалось в моей жизни исключительной светлой полосой, какой и не знал ни раньше, ни после за все 68 лет моего существования. Судьба как будто хотела вознаградить меня за годы тюрьмы, измучившей меня физически и нравственно. Я был свободен и не только имел нравственное право отдохнуть, но лаже не имел возможности чем-нибудь заняться, впрячься в какую-нибудь рабочую лямку, так как участь моя еще не была окончательно определена и я не мог к чему-нибудь пристраиваться, если бы даже и хотел. Нельзя было даже строить каких-нибудь планов на будущее. Ясно было только одно: что я свободен и могу где мне угодно ничего не делать, пока будущее не придет само и не поведет меня к чему-то, не спрашивая моего мнения. Но я об этом даже не думал, а чувствовал только, что я свободен, что заботиться мне не о чем, что я наконец могу отдохнуть, видеть людей, видеть мои любимые горы, морс, степи, болота.
Все это теперь было предо мной — бери что хочешь, наслаждайся всем, к чему тебя потянет. Разумеется, у меня не было денег, но на что они? Всюду были родные, друзья, всюду радостная природа, ласково меня встречавшая после долгой разлуки. Всюду я имел все нужное, нигде не ища излишнего. И не перечислить мне блаженных минут, которыми подарило меня это беспечальное лето, то в созерцании — dolce far nienfe (сладкое ничегонеделание), — то в разнообразных впечатлениях свободного туриста.
Едучи на Кавказ, я всегда уже в Ростове чувствовал себя дома, хотя до настоящего дома оставалось еще несколько сот верст. Здесь уже развертывался наш Юг, со своим палящим солнцем, своими шумными базарами, с шумным говором разноплеменного населения. Давно уже у меня составился своего рода церемониал встречи с родиной в Ростове. Пересадка на поездах давала несколько часов свободного времени пошляться по городу. Я отправлялся непременно на базар, заваленный грудами арбузов, дынь и разных фруктов. Тут покупал сочный арбуз и съедал его, присевши где-нибудь; покупал непременно крупную, мягкую тарань и южную фандаль и отправлялся на донские набережные. Это самое оживленное место шумного Ростова, кипящее трудовой жизнью по нагрузке и разгрузке. Крутым откосом спускается город к узкой придонской полосе, заставленной пристанями и загроможденной кучами рабочих, среди которых с непрерывающимся свистком беспрерывно проходили к пристаням нагруженные поезда железной дороги. Около наплавного моста ютились целые флотилии рыбачьих лодок, в которых жили и семьи рыбаков; из Дона ловили рыбу, в лодках варили пищу, здесь же и спали; детишки проводили на воде целое лето. Побродивши в толпе, наглотавшись вдоволь пыли и достаточно оглушенный грохотом погрузки и непрерывным гулом человеческих голосов, я взбирался на полгоры и принимался уплетать свою тарань, посматривая на человеческий муравейник под ногами моими и на беспредельную зеленую равнину донской поймы, тянувшейся от противоположного берега до самого Батайска, чуть видного в неясных очертаниях на горизонте. Тут уже я погружался в бессмысленное созерцание и сидел, пока не схватывался внезапно: «Не опоздать бы на поезд!» Бегом приходится спешить к Темерничке, и вот я опять в вагоне. Прощай, Ростов, прощай, Дон!
В те времена, в конце 70-х годов прошлого столетия, Владикавказская железная дорога за Тихорецкой станцией проходила местами по чистой, нетронутой степи. Бесконечная гладь ее, то зеленая, то разноцветная, то серая, простиралась вокруг насколько глаз хватал. На целом перегоне не виднелось и признака человеческого жилья. Только тень облака, пробегавшая по стели, придавала иногда ей вид чего-то оживленного да подчас попадался черкесский джигит, который пробовал обогнать поезд на своем борзом коне и, конечно, скоро оставался побежденным. К степи под Пятигорском придвигаются горные массивы, но у Владикавказа гладкая равнина — дно бывшего доисторического моря упирается прямо в подножие Кавказа. Немного, вероятно, найдется на свете таких поразительных горных панорам, как здесь. Гладкая степь подходит вплотную к хребту гор, который над нею подымается сразу во всю высоту. В хорошую погоду вид на горы из Владикавказа совершенно феерический. Прямо перед зрителем высится первая цепь с причудливой Столовой горой, плоско срезанной, действительно как стол, над крутыми боками, которые издали кажутся вертикальными. Над этой первой, черной грядой сзади возвышается цепь снежных гор разнообразных бело-голубых оттенков, местами блестящая на солнце как будто грудами драгоценных камней. За ней же подымается главный хребет вечно снежных гор с Казбеком во главе. Эти вечные снега — уже чисто-белого цвета, без малейшей синевы, без всяких переливов, спокойного и как будто безжизненного. В общем, сочетание форм и цветов поразительное. Нечасто открывается эта волшебная панорама, большей частью скрываемая облаками, но, когда она является перед зрителем, очарованные глаза не могут от нее оторваться. Эта картина так и заманивает идти дальше, заглянуть, что скрывается в чародейском царстве Казбека, куда открывают дорогу громадные ворота Дарьяльского ущелья, сквозь которые прорывается к Владикавказу бешеный Терек, кипящий пенистыми водоворотами. Воображение заранее рисует там неслыханные чудеса. Не мог и я устоять против призывного голоса горных духов после недолгого отдыха во Владикавказе.
А Владикавказ и сам способен был затянуть в себя. Теперь он, вероятно, стал не тот. Наверное, все подведено под общий уровень, сглажены и обесцвечены яркие краски, в которых Запад и Восток смешивались здесь, не теряя своей противоположности и своеобразия. Он был красив этой пестротою. Правильная русская распланировка центральных частей и несколько казенная монотонность их архитектуры маскировались уже массой могучих пирамидальных тополей, рядами обрамлявших улицы. Но и прихотливые предместья, где каждый строился как вздумается, врывались в русский город, и на его улицах перемешивалась разноплеменная толпа во всем разнообразии типов и костюмов. Русских представлял больше военный элемент регулярных частей и терских казаков, в длинных черкесках, с огромными кинжалами. Было небольшое количество и рабочих. Попадались немецкие колонисты. Но сильнее всего бросались в глаза коренные туземцы — осетины, чеченцы, грузины, армяне, а то и заезжие персияне, даже турки: все типы резко очерченные, каждый на свой лад, в одеждах своего покроя, в своих любимых национальных красках. За Тереком, в слободе, туземный элемент уже безусловно преобладал и русская примесь тонула в нем. Общую пестроту еще более усиливало множество восточных лавок и мелкие промышленные заведения туземцев. К этой пестроте и разноязычному шуму замечательно подходил Терек — река единственная в своем роде. В разное время года, в зависимости от притока воды, Терек имеет очень различную физиономию. Одинаково остается только бешеное стремление потока, катящегося из Дарьяла по довольно крутому склону равнины. Когда воды мало, Терек состоит из множества мелких русл, иногда почти ручьев, бегущих среди громадных камней и скал, унизывающих его дно. Широкое русло реки в это время наполовину сухо в разных местах. Когда вода прибывает, все камни и скалы покрываются ею с верхом, их не видно. Терек становится широкой полноводной рекой, воды которой, царапаясь о камни и скалы и перепрыгивая через них, кипят и бурлят, как в котле, и завывают на сотни голосов, то ревя, то будто звеня, то гремя камнями. Тысячи голосов Терека, сливаясь в один гармонический концерт, слышны ночью за несколько верст, и к их музыкальному мотиву так же невольно прислушиваешься, как невольно всматриваешься в бурные волны потока, сидя на его берегу. Уверяют, будто опытные старожилы по характеру этого шума умеют предугадывать погоду. На этот раз, когда я переходил мост, направляясь в горы, Терек был переполнен водой. Горячее солнце в эти последние весенние и первые летние дни расплавляло зимние запасы снегов в горах, и раздувшаяся река скрыла под бунтующими волнами все скалы своего русла. Эти холодные волны несколько умеряли жару, ставшую нестерпимой уже с раннего утра.
Военно-Грузинская дорога обслуживалась почтовыми дилижансами с очень благоустроенными станциями. Но я решил отправиться в горы пешком, рассчитывая, если хватит сил, дойти хоть до самого Тифлиса. Знакомые очень предостерегали меня от моей затеи. Идти пешком, и одному! Не говоря уже о трудностях пути, черкесы, ингуши постоянно разбойничают по дороге, и им ничего не стоит за грош зарезать путника. Вдобавок только недавно было восстание в Дагестане и Чечне, и отдельные партии горцев до сих пор производили набеги на передовые станицы. Но мне слишком хотелось совершить эту прогулку. Да притом я жил у сестры, муж которой, знаменитый путешественник и охотник, не находил в моей прогулке ничего опасного. Сестра, привыкшая к бродяжеству мужа, да и сама немало погулявшая по кавказским горам и дебрям, тоже не обнаруживала никакой тревоги. Я решился только для безопасности не брать с собой никакого оружия, даже обычного кинжала, чтобы не соблазнять добычей какого-нибудь ингуша.
Вообще, пошел я в высоких сапогах, но налегке, в пиджаке, да взвалил за спину летнее пальто вместе с мешком скромной провизии. Тут был запас хлеба, кусок брынзы (козий сыр), кусок колбасы, немного водки, бутылка воды да, по совету опытных пешеходов, два-три лимона. Потом я пожалел, что не захватил больше лимонов. Ничто действительно не утоляет так моментально жажды и не обновляет сил, как лимон. Мне объясняли, что при усталости и жаре в мускулах накопляются щелочные элементы. Лимон же их окисляет и удаляет из крови. Длинный посох из жесткого, крепкого дерева и большой карманный нож дополняли мое дорожное снаряжение. В кармане было рублей тридцать денег.
Так двинулся я в путь. За Тереком дорога до гор идет гладкой, безлесной равниной целых пять верст. С каждым шагом вперед солнце подымалось выше и жгло сильнее. Как ни легка была моя ноша, она меня все более обременяла, и я только мечтал, когда доберусь наконец до Реданта. Редант — это просторное укрепление и почтовая станция у самой подошвы гор, и так же называется могучий родник, почти речка, вырывающийся тут из-под скал. Домашние мне рекомендовали Редант как первый привал. Чем ближе подходил я, тем дальше мне казалась эта земля обетованная, но наконец-таки добрался и, весь мокрый от пота, с наслаждением развалился в тени скал, на берегу глубокого ручья, холодного как лед. Разумеется, я поостерегся пить из него, а выпил свою тепловатую воду чуть не всю да закусил, а водой из ручья только наполнил опустелую бутылку.
Отсюда начинались уже настоящие горы. Справа все выше становился обрыв гор вдоль шоссе, слева все глубже в ущелье шумел и бурлил Терек. Идти было легко. Широкое шоссе, врезанное в скалу, а со стороны Терека огороженное крепкой каменной стенкой, поднималось очень полого. Хорошо убитый щебень был мягок. Извилистая дорога на каждом шагу затенялась скалами, и зной солнца был мало ощутим. Виды становились все более величественны и суровы и открывались порой на большие пространства к востоку и северу. На запад, кроме откоса горы, по шоссе ничего нельзя было видеть. Не помню хорошо где, кажется около Балты, облака сильно заволокли небо кругом, и я уже боялся, что дождь основательно промочит меня. Но я уже был на высоте около трех тысяч футов, облака скопились ниже, и мне предстала своеобразная картина. Подо мной на большое пространство развертывалось облачное море, застилавшее все: более низкие горы, ущелья и равнины. В нем скоро разразилась гроза, засверкали молнии, загремел гром, так и чувствовался жуткий ливень... Но все это происходило далеко под моими ногами, у нас же было и ясно, и сухо. Присев на камне, я долго любовался этим редким зрелищем.
А мимо меня то и дело проезжали то отдельные экипажи, то целые обозы. Пешеходов почти не было, но обозы попадались в целые сотни повозок. Очень они надоедали своей пылью и тем, что заграждали дорогу. Долго шла вместе со мной какая-то военная часть. Большой эшелон двигался очень медленно, так что я его постоянно обгонял; но я часто останавливался присесть, полюбоваться видами, и тогда эшелон в свой черед догонял и перегонял меня. Случалось, что и солдаты по приказу офицера присаживались отдохнуть. При одной из таких встреч я спросил офицера, почему они идут так медленно. Он объяснил, что так полагается. Он ведет эшелон в Тифлис, но торопиться нечего, война прекратилась, не ныне завтра будет заключен окончательный мир. Эшелон и идет так, чтобы солдаты не чувствовали ни малейшей усталости, как будто они не в Тифлис идут, а остаются в своих казармах. В день они проходят таким образом десять верст. Постепенно они все реже догоняли меня, а после первого ночлега я уже больше и не видел их: вероятно, они оставались на своем ночлеге гораздо дольше, чем я на своем.
Я шел так медленно, что к ночи дошел всего до Ларса. К большому своему удовольствию, я увидел посреди горной котловины большой постоялый двор — четвероугольную постройку, со всех сторон, как стенами, огражденную сараями, и в ней огромную одноэтажную избу, целый дом. Это мне понравилось гораздо больше, чем искать приюта на казенной почтовой станции. Я взошел и тут, в сердце Кавказа, очутился в чистейшей русской бытовой обстановке. Двор был загроможден повозками, лошади ржали и фыркали под навесами сараев. Возчики входили в избу и выходили из нее. Вошел и я. Это была огромная комната с длинными столами и скамьями около них. Широкие скамьи, почти нары, окружали стену. Очень усталый, я с удовольствием растянулся на одной из них. Бородатый мужик-хозяин спросил, что мне нужно. «Поесть да переночевать». У столов уже присаживалось все больше народа, начинался шумный говор. Подсел и я. Уж не помню, чем нас угощал хозяин, только поел я вкусно и основательно и присоединился к беседующим, у которых разговор шел о молоканах.
Я думал, что возчиками по Военно-Грузинской дороге были чуть не исключительно молокане. Оказалось, однако, что вся присутствующая компания жестоко ругала их. Я спросил, чем плохи молокане, и мне наперерыв начали рассказывать их грехи. Молокане, оказывалось, знаются с бесом, от которого и идет их богатство. Они, когда нужны деньги, собираются вокруг большего чана с водой, хлещут по ней прутьями и призывают беса. Через несколько времени нечистый вылезает из чана и оделяет их деньгами. Рассказывая это, они ссылались на своих знакомых, будто бы имевших случай подсмотреть сношения молокан с нечистой силой. В таких беседах мы просидели до темной ночи и улеглись спать, где кто устроился. Я, не раздеваясь, растянулся на скамье и мог только подложить под голову тощее свое пальто.
Проснулся чуть свет и вышел на двор умыться. Там уже все было оживлено. Возчики хлопотали у своих телег, запрягали лошадей. Ранний горный воздух был свеж и живителен, его не портил даже легкий запах навоза. Но вид, которого я не мог рассмотреть в темноте, оказался непривлекателен. Постоялый двор находился в круглой котловине, окруженной высокими гладкими горами, через которые, вероятно, очень нескоро могло заглянуть сюда солнце. Эти крутые склоны казались сплошными, нигде не было видно выхода, и ничего кругом, кроме них, не было видно. Тесная замкнутость долины, как будто отрезанной от всего мира, давила неприятным тюремным ощущением. Смотреть тут было нечего, и, расплатившись с хозяином, я поторопился выйти на Военно-Грузинскую дорогу, которая уже местами сверкала лучами солнца, местами пестрела всеми переливами света и тени.
Как и вчера, дорога разукрашивалась разнообразными видами, но они стали величественнее и грознее. Я подходил к Дарьяльскому ущелью. Справа выемка в скалах еще не свисала над шоссе, но была уже огромной высоты. Слева ущелье Терека становилось все более бездонной пропастью, его бока — все более отвесными, а горы по ту сторону ущелья казались просто гигантскими обрывами. Ни самих гор, ни долин уже не было видно. Солнце ярко заливало шоссе горячими лучами, и я бодро шагал и скоро попал в бесконечный обоз, которому не видно было конца ни спереди, ни сзади. Тяжело нагруженные возы загромождали дорогу, местами сбиваясь в два ряда, хотя, конечно, все-таки не мешали пешеходу.
Мирно шел я, мирно двигались мимо меня возы, лошади и погонщики. С возов перекликались и переговаривались. Никто не предвидел, какое приключение ожидает потом. Как вдруг с владикавказской стороны послышались шум и крики. Что такое? Показались пять-шесть терских казаков в парадных черкесках. Они извивались между возами и кричали, чтобы обоз сейчас же свернул в сторону и очистил путь — дал проезд коляске великого князя! Требование было очевидно невозможное.
Конечно, шоссе достаточно широко, чтобы по нему проехали рядом два экипажа: один прижимаясь к скале, другой — к барьеру пропасти. Но наши тяжело нагруженные возы во многих местах шли в два ряда, и понадобилось бы много часов, чтобы их вытянуть в одну линию. Да если бы даже и сделать это, то коляске великого князя пришлось бы долго ехать чуть не шагом, стараясь не зацепиться за возы... Погонщики переглядывались, перекликивались и видимо находили невозможным очистить дорогу. Терские казаки, покрутившись туда-сюда среди обоза, повернули назад и со всей возможной быстротой поскакали обратно.
Приключение было явно мудреное. Этот великий князь был сам наместник Михаил Николаевич, {82} игравший на Кавказе вполне царскую роль. Невозможно было не пропустить его коляску, но невозможно было также не задержать ее очень надолго. Будь место сколько-нибудь просторное, обоз при энергии можно бы сдвинуть в сторону. Но тут, как нарочно, с одной стороны сплошная громадная стена скал, с другой — бездонная пропасть Терека. С любопытством рассматривал я эту обстановку и без толку, беспомощно суетящихся возчиков и недоумевал, что из этого может выйти. Но загадка скоро разъяснилась. Послышался громкий топот множества коней, и толпа терцев в карьер врезалась в голову обоза и рассеялась вдоль него, всюду производя одно и то же магическое заклинание. Терцы кричали и всех и вся лупили нагайками: людей, лошадей, повозки. Лошади шарахались в стороны, колеса скрипели, люди кричали. Поднялась страшная пыль, в которой все больше скрывался наш злополучный обоз.
Заметив издали происходившую расправу, я, конечно, моментально подумал и о своей участи. Голова моя заработала с быстротой бессознательного инстинкта, и я, совершенно забыв, что на свете есть страх, в несколько секунд перелез через барьер в пропасть, где как будто виднелся какой-то уступ. Оказалось, что место даже вполне удобное, где я мог стоять не держась руками за барьер и не опасаясь сорваться вниз, не опасаясь и казачьей нагайки. Отсюда, слегка прикрываясь барьером, я мог наблюдать трагедию, происходившую на дороге. В течение первого акта сиену покрывало густое облако пыли, из которого доносились шум и крики. В этом облаке ничего нельзя было рассмотреть. Но прошло несколько минут, все стихло, и ветер, сдунув пыльное облако, точно поднял занавес сцены второго акта. Я был изумлен происшедшим волшебством; дорога была чиста и пуста, не было на ней ни одного воза, ни единой лошади, никакого человеческого существа. Все исчезло, и только вдали мелькали казаки, во весь карьер мчавшиеся назад восвояси. Куда же, однако, девался обоз? Что они с ним сделали? Но вдали уже послышался торжественный грохот третьего акта. В карьер промчался передовой отряд казаков, за ним на всех рысях огромная дорожная коляска великого князя, за ней несколько экипажей свиты и заключительный эскорт парадных терцев. По безусловно свободной и безлюдной дороге промчался мимо меня этот поезд, и только тут я решился начать исследование загадки об исчезнувшем обозе. Но он сам немедленно начал проявлять свое существование. Постепенно стали откуда-то выползать возы, лошади, люди; одни выдвигались сами, других вытаскивали, и через несколько времени дорога была по-прежнему густо загромождена.
Я бы никогда не поверил этому чуду, если бы не был его свидетелем. Оказалось, что в сплошной скале нашлись кое-какие впадины, куда можно было запихнуть воз; оказалось, что и за барьером попадались места, достаточно широкие.
Собственно говоря, я все-таки ни тогда, ни после не мог отчетливо понять, как возможно было распихать такой огромный обоз в таком недоступном месте, и понял только одно: что казачья нагайка делается каким-то магическим жезлом, когда ее пускают в ход с твердой верой в ее мистическую способность совершать хотя бы и явно невозможное дело.
Скоро я расстался с обозом: он двигался к северу, я к югу и через немного времени вступил в Дарьяльскую теснину. Суровое величие ее неописуемо. Громадные горы, прорезанные узкой щелью Дарьяла, поднимаются по обоим берегам Терека отвесным обрывом невероятной высоты. Дорога, выдолбленная в стенах обрыва, идет то по левому, то по правому берегу. При переходе через Терек по мосту гигантская щель видна в продольном направлении. Вступая же на тот или другой берег, видишь против себя только обрыв, поднимающийся чуть не до неба, а у себя над головой каменный свод, продолбленный в горе, Терек иногда шумит глубоко в пропасти, но мост перекинут над ним совсем невысоко. Так путь идет верст десять среди подавляющего величия каменных громад, нагоняющих на путника ощущение бессилия и ничтожности. На одном сравнительно менее высоком обрыве левого берега видна знаменитая башня Тамары.
В глубокой теснине Дарьяла, Где роется Терек во мгле, Старинная башня стояла, Чернея на черной скале...Она стоит на самом краю обрыва над Тереком, рисуясь в небесах как огромный черный четырехугольник, очень высокий столп. Я думаю, каждого проходящего охватывает желание осмотреть ее. Но со стороны Терека взобраться к ней безусловно невозможно: нет никакого доступа. Вероятно, к башне можно спуститься только сверху, со стороны Казбека. Проходя внизу, я задавал себе вопрос: зачем ее построили в таком месте, откуда к Тереку можно спуститься грабить караваны разве каким-нибудь очень далеким обходом? Впрочем, этот вопрос, конечно, можно бы было решить, только побывавши в башне. Не понимаю также, откуда Лермонтов взял свою легенду о Тамаре, которую народные сказания изображают хотя и прекрасной, как ангел небесный, но также святой и благодетельной.
Около Терского моста местные мальчишки часто продают проезжим куски горного хрусталя. Рассказывают, что где-то поблизости есть длинная пещера, сплошь состоящая из хрусталя, волшебно сверкающего при свете факела или свечи. Я, конечно, не мог и подумать искать ее на этот раз; мелькнула только мысль как-нибудь подобрать компанию, чтобы отправиться на розыски очарованного грота. Но случая на это так и не представилось.
По выходе из Дарьяла меня ждал нечаянный сюрприз. Здесь на левом берегу находится главная высота Казбека, но она по большей части совершенно закрыта облаками. Сначала, когда я шел, не было заметно ничего, кроме какого-то серого неба; нельзя было бы предположить даже, что тут есть какие-нибудь горы. Но вдруг это мутное небо разорвалось, отдернулось на обе стороны, и на фоне уже настоящего голубого неба в ослепительном сиянии солнца передо мной появилась белоснежная громада Казбека. Эффект был поразительный, красота неописанная. К сожалению моему, немного времени длилось очаровательное видение. Казбек словно хотел только поздороваться со мной и снова закутался в прежнюю непроницаемую муть. Но конечно, я ему был благодарен и за такую любезность, достающуюся на долю немногим.
Между тем окрестный вид все более изменялся. Сжатая щель Дарьяла осталась позади, горы отодвигались понемногу направо и налево, и долина Терека постепенно расширялась. Вместе с тем становилось очень холодно, хотя солнце стояло еще очень высоко. Скоро на ближних горах, почти на одном уровне со мной, стали показываться длинные полосы снега. Пришлось надеть пальто, с сожалением, что нет чего-нибудь поосновательнее. Насколько помню, это было на линии казбекских ледников. Встречные путники показывали мне главные места снежных обвалов, и прямо не верилось, что страшные обвалы, способные завалить весь Терек, происходят на таких на вид совершенно безобидных местах. Тут и горы на вид были совсем невысокие, и спускались очень полого, а между тем обвалы движутся именно по этим гладким спускам. Несколько далее, в таких же на вид безопасных местах пришлось проходить область земляных обвалов, пострашнее снежных. Даже и при моем проходе с гладкой, пологой горы постоянно сыпались на дорогу маленькие камешки. Признаюсь, я чуть не бегом прошел эти места. Мысль быть похороненным под массой земли была гораздо противнее, чем перспектива быть засыпанным снегом, тем более что снежных обвалов в это время и не могло быть.
Но горы быстро отошли в сторону, и Военно-Грузинская дорога потянулась по равнине. Ландшафт резко изменился. Вокруг меня была огромная равнина, окаймленная горами. Терек раздробился на множество мелких рукавов. Нельзя было даже разобрать, где же тут настоящий Терек. На вид вся эта страна казалась бесплодной каменной пустыней, а между тем это одна из населеннейших частей Осетии. На горах виднелись стада баранов, кое-где дымились аулы. На множестве протоков Терека и боковых ручьев, притоках его, были жалкие полоски полей. Кое-где и отдельные возвышенности вторгались в долину, и скоро я заметил местечко, очень меня порадовавшее.
Очень близко к дороге подходила гора, которая несколько верст назад показалась бы гладким холмом, но здесь имела вид высокой и очень крутой. Вся она была заросшей густым кустарником, а на вершине ее возвышалась башня замка. Конечно, это не башня Тамары, но зато к ней, вероятно, можно забраться и осмотреть се. Я двинулся в сторону и через какие-нибудь полверсты стал подниматься на гору. Она оказалась очень крута для подъема, и, сверх того, на некоторой высоте ветер начал рвать так сильно, что трудно было устоять на ногах. Осмотревшись, я решил обойти гору на ее подветренную сторону, надеясь, что она сама защитит меня от напора ветра. Так и оказалось. Скоро я добрался до вершины и увидел себя на небольшом гладком пространстве, которое когда-то занимал этот замок хищного феодала старых времен. Войти было очень легко, потому что стена, его окружавшая, была полуразвалена, со множеством брешей. Посредине же возвышалась превосходно сохранившаяся башня. Весь двор замка был завален камнями, зарос травой, бурьяном и кое-где кустами. Множество ящериц бегало по камням, попались по дороге две-три змеи. Но ни одного сохранившегося здания не было в стенах, кроме башни. Она была довольно широкая, круглая, желто-коричневого цвета и казалась необычайно прочной. Нигде не виднелось ни щелочки, ни трещины. Камень как будто слился в одно целое и снаружи блестел словно эмалированный. Все это было интересно, но напрасно ходил я вокруг башни, ища входа. Пришлось убедиться, что никаких дверей нет и никогда не было. Очевидно, обитатели влезали в башню через окна, по веревке или по лестнице. А окна начинались на большой высоте. Внизу их совсем не было.
Эта экспедиция заняла много времени и очень изморила меня, а я и без того был сильно уставшим. Ноги, натертые карабканьем на гору, тоже стали болеть. Я в этот день совсем мало отдыхал, а день начинал склоняться к вечеру. Надо было подумать и о том, где бы поесть, да где и заночевать. Настроение мое начало портиться. Первоначально я думал остановиться в Сионе, и он скоро показался вдали. Это очень красивый аул, с высокими домами, с высоким куполом своей исторической церкви, и я прямо направился к нему. Но меня остановило маленькое происшествие. В четверти версты впереди меня ехал какой-то казак, и вдруг я вижу, что на него бросается из Сиона чудовищная собака, вроде какого-то тибетского дога. Не собака, а какой-то зверь, который справится с двумя волками. С яростью атаковал этот дог казака, которому пришлось отбиваться от него шашкой. Потом казак ускакал, а собака возвратилась в аул. Я был совсем смущен. Что же я стану делать, если она меня атакует? Народа нигде не виднелось ни души. Подумав, я решил идти мимо Сиона, рассчитывая, что авось доберусь к ночи до Коби.
Но идти с каждым шагом становилось труднее, ноги были совсем подбиты, усталость сгибала спину. Я не шел, а плелся, солнце уже спускалось к закату гораздо быстрее. Мне становилось ясно, что не дойти мне к ночи до Коби, хотя и виднелся он вдалеке... Холод же превращался почти в мороз. Что делать? Но Бог не без милости, казак не без счастья...
Около шоссе показался домик-избушка. Это была сторожка какого-то шоссейного надзирателя, который тут же сидел на скамеечке. Я попросился присесть. Он встретил меня радушно. Разговорились. Я рассказал о своем путешествии и о том, как утомился и разбил ноги. Спрашиваю:
— Можно ли дойти до ночи до Коби?
— Нет, не дойдете.
А долина точно была вся в тени, и последние лучи солнца еле выглядывали из-за гор. Я говорю, что ведь надо ночевать.
— Да что вам идти? Ночуйте у меня, места хватит.
Я с радостью поблагодарил, а он оказался еще довольнее меня:
— Ну вот и прекрасно. Я сейчас самовар поставлю...
Он захлопотался, ввел меня в сторожку, а сам побежал хозяйничать. Возвратился он с охапкой деревянных лопат.
— Вот мы чем затопим. Казенными лопатами.
— А разве их не ревизуют?
— В расход выведем. У нас тут на щебне ломают массу лопат. А топить ведь нечем. Тут и полена дров не достанешь. Места каменные, голые, деревьев нет.
Он живо затопил печь вроде татарского камина. Приятная теплота разливалась по сырой и холодной сторожке. А я еще вчера под Редантом не знал, куда спрятаться от тропического зноя! Вот что значат горы. Мой хозяин набрал из камина горячего уголья, и живо закипел самовар. Все время мы между делом болтали. Он жаловался на проклятую службу в дикой пустыне, где ничего не достанешь и где, кроме полудиких осетин, по нескольку недель не увидишь человеческого лица. Мой неожиданный ночлег доставил ему величайшую радость. Он напоил меня чаем, накормил яичницей и даже решил доставить мне, как туристу, особое развлечение:
— Я вам покажу осетин.
Не знаю, как он это устроил, но скоро в сторожку один за одним начали набиваться осетины, так что стало почти тесно. Они были, помнится, все в серых папахах, а каких-то своеобразных, тоже серо-белых черкесках и бурках. По-русски большая часть знала едва несколько слов, но беседа у нас началась все-таки очень оживленная. Я их расспрашивал об их горском быте, они — о нашем русском. Хозяин беспрерывно вступался в разговор, дополняя и поясняя то, что хотели выразить осетины. Узнал я, между прочим, что у них главное богатство в овечьих стадах. Загоняют стада на ночь в пещеры, которых около аулов множество. Теперь весь день овцы пасутся в горах. А много ли овец? Оказалось, однако, что пересчитывать овец — большой грех, от этого на них может напасть моровая язва скота. Но ведь надо же знать все-таки, много ли скота, какое стадо больше, какое меньше. Они отвечали, что это и так видно, без счету. Другими словами, баранов считали гуртом, по пространству, на квадратный и кубический метр. Но овцы это не единственное богатство. Самые богачи те, которые имеют поля. Хозяин пояснил, что поля горцев — ничтожные полоски земли, искусственно созданной на голом камне. Растут же у них только ячмень да овес. Говорили мы и о социальных отношениях. Осетины очень критически относились к русским нравам: что же это за жизнь, когда дети не уважают отцов, жены не повинуются мужьям! Общая распущенность. Так жить нельзя. Долго просидели наши гости, и я был рад, когда наконец можно было заснуть, впрочем, от времени меняясь словами с хозяином, пока мы оба не захрапели окончательно.
Дружелюбно и по-приятельски распростились мы ранним утром, и я двинулся снова к Коби в холодном утреннем воздухе, пронизываемом горячими лучами солнца. Это настоящий горный воздух, механическая смесь холода и жары, освежающий и возбуждающий. Заманчиво тянула меня дорога. На горизонте виднелась Крестовая гора. Там — перевал, куда следовало бы добраться. Но скоро я увидел свою полную несостоятельность. Ноги были истерты до крови. Невозможно было ступать. Я уже думал вернуться к своему новонажитому приятелю. Но показалось несколько возчиков, везущих что-то во Владикавказ в огромных дилижансах. За десять рублей они согласились довезти меня до «Капкая», как здесь зовут Владикавказ. Добрались мы до него к вечеру, и с высоты своего дилижанса я имел все удобства снова пересмотреть весь путь, пройденный за два предыдущих дня.
Военно-Грузинская дорога, хорошо охраняемая военной силой и проходящая большей частью по территории осетин, могла считаться безопасной от горских хищников. Но лето 1878 года вообще было в этом отношении очень тревожно в терской области. Во время Турецкой войны в Чечне и Дагестане вспыхнуло даже сильное восстание против русских под предводительством Умы. Оно было уже усмирено, и восставшие понесли серьезную кару: кажется, шестьдесят человек было предано смертной казни в Грозном. Но спокойствие далеко не восстановилось. Набеги горских грабителей происходили повсюду. Конечно, разбойничество составляло отчасти норму жизни в области. Для черкесов это было не простым средством наживы, а проявлением удальства. Грабители даже искали не более легкой добычи, а более эффектной. Можно было бы угнать лошадь или скот довольно безопасно с окраины станицы. Но абреки нарочно выбирали двор, например, станичного атамана в самом центре поселения. В передовых частях области эта мелкая партизанская война никогда не прекращалась и выработала своеобразные приемы предосторожностей и защиты. Так, например, если ночью на дворе или на улице послышится подозрительный шум, то проснувшийся хозяин никогда не зажигал свечи или фитиля, а неприметно в темноте расследовал, что такое происходит. Стоило чиркнуть спичкой, чтобы черкес моментально стрелял по огню. Грабежи тоже, конечно, не происходили безнаказанно. Как только в станице обнаруживалось, что кто-нибудь ограблен, тотчас поднимали тревогу. Казаки моментально седлали коней и пускались в погоню с криками: «В набег! В набег!» (Они произносят не «набег», а «набег».) Прежде всего осматривали следы и шли по следу, в чем терские казаки искусны не хуже каких-нибудь американских краснокожих. Грабители, конечно, стараются сбивать со следа, но их все-таки часто нагоняли или прослеживали, в каком ауле прекращались следы: это было доказательством, что добыча оставлена здесь. Тогда допрашивали и обыскивали население. Если ничего не находили, то иногда обязывали аул во что бы то ни стало разыскать грабителей за круговой ответственностью. Нужно сказать, что эти приключения, в сущности, очень нравились казакам, в те времена таким же воинственным и почти таким же хищным, как сами чеченцы. Один наблюдатель, Линтварев, хорошо познакомившийся с терцами, делал такую их характеристику: «Казак готов ограбить весь свет для России, всю Россию — для Терского войска и все войско — для своей станицы». Это не мешало Линтвареву восхищаться казаками и любить их. Изо всех казаков терцы производили впечатление наибольшего удальства и молодечества. Они интересовались своей военной историей, прекрасно знали разные подвиги терских казаков и охотно о них рассказывали.
Запомнился мне один такой рассказ. В Закаспийской области при какой-то экспедиции разъезд терских казаков в двенадцать человек был обнаружен текинцами. Бежать не было возможности. Казаки закололи своих коней, сделали из трупов кольцевой вал и под защитой его отражали бешеные атаки неприятеля. Несмотря на известное мужество текинцев, они каждый раз были отражаемы. Но шло время. Казакам нечего было есть и, еще хуже, нечего пить под палящими лучами солнца. Несколько человек было ранено, были даже убитые. Так прошло несколько суток. Смерть была неизбежна, и казаки решили умереть, желая только продать жизнь возможно дороже... Но случай спас их при последнем издыхании. Один из наших бродивших в степи отрядов обратил внимание на непрерывную ружейную пальбу и направился на нее. Взятые с тылу текинцы бежали, и уцелевшие остатки героев-казаков были спасены.
Рассказчик с самодовольством прибавлял, что они были потом вызваны в Петербург и приняты Императором, получив от него военные ордена. Терские казаки (чего я не видал у других) вообще очень ценили ордена, и каждый мог рассказать, кто у них в станице имеет какой-либо знак отличия.
Наибольшей военной славой в старину пользовались гребенцы, древнейшая часть войска. При мне эта репутация перешла к сунженцам. Правый приток Терека Сунжа подходит к самым горам, и Сунженская линия станиц живет на вечном военном положении. По реке Ассе (притоку Сунжы) станицы острым клином вбиты в самое сердце гор. Для чеченцев эта Ассинская линия в буквальном смысле нож острый. Сюда-то счастливый случай дал мне возможность проникнуть вскоре после прогулки в Дарьял. Мой шурин Отто Васильевич Маркграф, лесной ревизор, должен был по службе осмотреть своих лесников по ассинским станицам. Маркграф был знаменитый охотник и еще более знаменитый путешественник. Где он только не побывал за свою жизнь: в Алжире, в Туркестане, объехал весь Кавказ, был после за Северным полярным кругом, на устье Амура, на Шантарских островах и т. д. Как охотник, он бил и кабанов, и медведей. Крепкий, выносливый, превосходный стрелок, он выдавался хладнокровным мужеством даже на Кавказе, где храбростью трудно удивить. Раз был такой случай. В разъездах офицерам часто дают конвой в виде туземного милиционера. Один милиционер ненавидел Маркграфа, кажется, за то, что тот его один раз обезоружил, и клялся застрелить его при первом же случае. Надо же было случиться, чтобы именно этого милиционера дали в конвоиры Маркграфу. Он знал об угрозах горца и мог легко потребовать, чтобы ему назначили кого-нибудь другого, но не хотел показать вид малодушия и без возражений отправился со своим «убийцей». Как всегда, милиционер ехал сзади и в любую минуту мог всадить пулю в спину врагу. Но Маркграф ехал так беззаботно, даже не оглядываясь, что у горца рука не поднималась. «Нет, — объяснял он потом, — такого джигита нельзя убивать».
На этот раз Маркграф оправлялся в объезд на перекладной и предложил прогуляться мне. С ним, кроме ямщика, был еще казак Канищев, прелюбопытный тип. Не знаю, как его назвать: не то слуга, не то денщик, потому что, по существу, он был просто друг дома, составная часть семьи. Собственной семьи он не имел. Это был казак старый, опытный, весьма умный и любил пофилософствовать по-своему. Он презрительно отзывался о разных суевериях, например о веровании, будто бы вой собаки предвещает смерть. Это неправда, говорил он, собака ничего не понимает и не может знать, кто когда умрет. Но вот по звездам можно узнавать будущее, это не суеверие. Звезды не обманут. И на сомнения и возражения он тотчас приводил будто бы сроки звездных знамений перед разными событиями. Канищев был в свое время смелый и страстный охотник и очень жаловался, что прежде не было нынешних усовершенствованных ружей. «Ружья хорошие, а что из них толку теперь? Зверь повывелся. Черкесов не позволяют стрелять. Зачем теперь ружье?» Маркграф часто брал с собой Канищева как самого надежного спутника.
Мы выехали из Владикавказа рано утром и по пути слыхали немало рассказов о дерзких грабежах горцев. Многие стали уже бояться ходить и ездить. Дорога шла степью, а громада Кавказского хребта тянулась сбоку. Любопытное оптическое явление представлял он: вдали к горизонту, не уменьшаясь в высоту, он исчезал сразу в воздухе, как будто обрывался. Никогда я больше не видел ничего подобного и не понимаю причин этого явления. Потом стали попадаться леса. Сунжу переехали мы, помнится, по мосту. Дальше пришлось свернуть в большой лес, в глубине которого лесник жил летом на своей насеке. Это была очаровательная полянка, вся в цветах, окруженная высоким кустарником и огромными деревами разнообразных пород. Все тут было свежо, зелено, благоуханно. Пчелы жужжали и светились крылышками по всем направлениям. Посередине стояла низкая южная хата. Лесника не оказалось дома. Нас встретила его жена, тоже здесь жившая с маленькими детьми. Подивился я на казачье бесстрашие. Жить вдвоем с женой и детьми в такой глуши, под самыми горами в такое время, когда из-за набегов горцев стали бояться ездить даже в населенных местностях Сунжи! Привычка великое дело, хотя возвратившийся с обхода лесник сам сознавался, что теперь здесь стало очень небезопасно. Но не бросать же из-за этого пасеку.
В одной станице пришлось нам, по делам Маркграфа, зайти к станичному атаману. Это был не только зажиточный человек, но и, сверх того, офицер. Терские казаки тогда выбирали в атаманы почти всегда своих офицеров, и это было очень практично, потому что всякого рода начальство относилось к атаману-офицеру гораздо более уважительно, да офицер обладал и образованием, во всяком случае, более высоким. Обстановка у атамана была нероскошная, но приличная и в казачьем вкусе: обилие холщовых, расшитых узорами скатертей и в таком же роде занавески. Скамей, часто попадающихся у кубанцев, совсем не было, только стулья и немного мягкой мебели. Специально терской особенностью являлся на столе графин с чихирем, тогда как на Юге обыкновенно ставят графин с водой. Чихирь в жаркое время пьют здесь вместо воды: это кисленький освежающий напиток с ничтожным количеством спирта.
Атаман между прочим сообщил нам, что по Ассинскому ущелью очень неспокойно и горцы в передовых станицах видны были целыми партиями. Наш путь как раз туда и вел. Наиболее выдвинутая в горы станица — это Фельдмаршальская, и есть еще дальше ее — последняя — Галашкинская. Речка Асса, быстрый горный поток, впадающий в Сунжу, течет с Главного Кавказского хребта, с огромной горы Шан. Но сколько ни углублялись мы в горы, они нигде не имели такого дикого вида, как в ущелье Терека. Хребты напоминали скорее прибрежные горы моей родины — Западного Кавказа: более округлые, мягкие очертания, меньше обрывов, не бросаются в глаза голые скалы, леса и густой кустарник покрывают и отроги, и вершины гор, а в низах там и сям расстилаются веселые зеленые поляны. К вечеру мы добрались до Фельдмаршальской станицы, где и заночевали. Эта огромная станица очень живописна. Она ввиду своего опасного положения поставлена наверху высокой, довольно крутой горы, поднимающейся среди долины Ассинского ущелья, в том месте очень расширяющегося. Но зато в станице нет воды, за которой приходится спускаться далеко на реку Ассу, так что если бы Фельдмаршальская была обложена большим скопищем неприятеля, он мог бы заморить жителей жаждой.
В Фельдмаршальской мы узнали самые свежие новости. Станица была в тревоге. Все казаки были поставлены под ружье, и их уже накануне выгоняли осматривать окрестности, без оружия не приказано было выходить за станицу ни по каким хозяйственным делам. Партия горцев появлялась по дороге между Фельдмаршальской и Галашкинской и совершила несколько убийств. Являлся вопрос: как нам быть? Возможно ехать в Галашкинскую? По дороге в Галашкинскую Ассинское ущелье суживается, и дорога должна была извиваться среди непрерывного ряда боковых ущелий. Это место так и называлось — Винты, так как линия дороги идет как бы винтообразно. Понятно, что для всяких засад и внезапных нападений Винты представляли самые удобные условия. Тут-то нам и предстояло проезжать наутро.
Ехать или не ехать? Вечером мы держали между собою военный совет. Канищев — в сущности, самый храбрый из нас, но и самый опытный — высказался решительно против. Я не имел ни малейшего понятия о том, опасно это или нет. Поехать бы было интересно, а страха у меня по неопытности не было. Маркграф досадовал и нервничал. В сущности, дела по лесничеству совсем не были так важны и неотложны, чтобы из-за них лезть горцу па кинжал или на аркан. Притом недостаточно было доехать до Галашек, нужно было еще взглянуть леса, а шляться по лесам среди возмутившихся чеченцев — это уже было бы совсем нелепо. Но Маркграфу было слишком досадно не доехать всего одной станции до цели своего путешествия. Он решил: «Завтра поедем, авось Бог пронесет...» С тем мы и заснули.
С раннего утра Канищев старательно укладывал вещи. Разумеется, осмотрели оружие, патроны. Подъехал ямщик, и мы тронулись в путь. Утро было дивное, солнце сияло, воздух наполнял легкие свежим благоуханием, но станица имела самый тревожный вид. Бабы торопились под охраной запастись водой. Кое-где вооруженные казаки направлялись за станицу. Слышались толки о чеченцах. Мы съехали с крутой Фельдмаршальской горы и свернули на гладкую дорогу в направлении к Винтам. Вдруг, не успели проехать пятидесяти саженей — наша телега полетела набок. Оказывается, задняя ось треснула пополам, колесо повалилось на дорогу.
Это было событие, мистически решающее нашу судьбу. Уж если ось сломалась при выезде, то ясно, что мы не должны дальше ехать! Это такая зловещая примета, перед которой не мог не смутиться даже самый смелый человек. Мы не совещались между собой, но молчаливое единогласное решение было очевидно. Пришлось вылезти из телеги и, поддерживая ее, тащиться пешком назад в станицу. По прибытии же Канищев переложил вещи в другую телегу, кони снова были запряжены, мы уселись, и Маркграф крикнул ямщику «трогай!», но уже не в Галашки, а назад, к Ассинской станице.
В это лето Терское войсковое управление ставило ряд предприятий, имевших целью улучшение казачьей сельскохозяйственной культуры. Маркграф привлекался к этому делу как эксперт, а конная молотилка и сортировка в станице Солдатской находилась в его высшем заведовании. Он предложил мне поехать на молотилку поработать, пожить в степи, познакомиться с казаками, и я, конечно, с радостью согласился. Молотилка была заведена на средства войска, и работа производилась на его же средства. Но имелось в виду, что когда население присмотрится к выгодам дела, то найдутся люди, которые пожелают купить у войска машины и весь инвентарь. На молотилку в Солдатской уже и имелся в виду такой охотник, местный богатый казак Вертепов, который и был назначен вроде приказчика на молотилке, в таком положении имея наиболее удобства изучить технические и коммерческие условия предприятия. Рабочие, довольно разнокалиберные, был наняты из местных жителей. Был у нас в артели казачий офицер Золотарев, желавший изучить дело. Был один (не помню его фамилии), Володька, из интеллигентов, пошедших «в народ», был я — простой доброволец, которому даже жалованья не платили, а только кормили. Было еще человека два из образованных казаков; остальные принадлежали к простым казакам, а один — молодой владикавказский мещанин. Вообще, народу работало довольно много, да и дела было очень много; помнится мне, что на одну смену требовалось чуть ли не десять человек.
Прибыв в Солдатскую вместе с Маркграфом, я очутился за несколько верст от станицы в своеобразной обстановке, которая до конца осталась мне привлекательно памятна, а на первое время прямо очаровала. Молотилка стояла в гладкой необозримой степи. Только вдали к югу виднелся где-то далеко Кавказский хребет, и по правую руку в безмерной дали при ясной погоде можно было различить вершину снежного конуса Эльбруса. За полверсты от молотилки протекала излучинами речка Малка, приток Терека, но уже имеющая степной характер — с низкими берегами, местами болотистыми. Сама молотилка издали казалась большой деревней с высокими хатами. Но это были не хаты, а громадные скирды снопов хлеба. Хлеб свозился сюда из всех окрестных станиц и хуторов и складывался в скирды, которые, вырастая одна за другой, образовали как бы улицы и переулки, очень тесные: между скирдами иной раз было не более десяти—пятнадцати шагов. На довольно большой площади посреди них расположилась молотилка, отчасти на вольном воздухе, отчасти в двух-трех легких дощатых сараях. На одной из окраин этого скирдяного городка располагался наш рабочий лагерь, который состоял, собственно, из одного шалаша — не для людей, а для разных вещей и припасов. Кроме шалаша, была выкопана яма, служившая погребом, да другая яма, служившая печью, над которой возвышался треножник из дрючков. К ним подвешивался над огнем котел. Кое-что, как кирпичный чай, варили в другом котле, стоявшем на вырытой в земле печке. Вся эта наша кухня находилась, может быть, шагах в двадцати-тридцати от ближайших скирд, а земля вечно была покрыта порядочными слоями соломы. Не раз случалось, что эта солома загоралась от нашего костра и огонь начинал бежать к скирдам. Тогда все бросались тушить его чем попало, отгребая солому и затаптывая огонь ногами. Воды, помнится, ни разу на это не тратили, потому что ее у нас было очень мало, в небольшом бочонке, наполнять который ездили на Малку. Вообще, жили мы в этом отношении с невероятной беспечностью, и я не понимаю, как у нас ни разу не случилось пожара. А уж если бы он случился, то все скирды выгорели бы без остатка, как и вся молотилка. Большим счастьем было бы уже и то, если бы мы не сгорели сами да успели спасти лошадей. Но нужно сказать, что величайшую прелесть этой жизни в. степи составляла именно безграничная, беззаботная беспечность. Невозможно выразить, какое наслаждение составляет ни о чем не заботиться, ничего не опасаться, ни к чему труднодобываемому не стремиться, жить на авось, небось, как-нибудь и прочие бесчисленные формулы российской беззаботности!
Собственно, жилищ у нас совсем не было. Мы жили под открытым небом, под знойным солнцем, а то и под дождем, если случалось ему выпадать. И от солнца, и от дождя укрывались под скирдами. Ночевали на открытом воздухе, устраивая постель из соломы, кто как мог. Очень часто, если был дождь, мы зарывались в стожки соломы, которых было множество между скирдами и за скирдами. Я как-то заснул под ясным открытым небом, сверкавшим мириадами звезд, но у меня была бурка и я ею прикрылся. Ночью пошел дождь, и я полубессознательно закутался ею с головой. Наутро проснулся, и оказалось, что дождь не пробил бурки, я был сух, но все кругом было залито водой, которая отчасти просочилась снизу и под меня. После этого я предпочитал зарываться на ночь в стожок соломы. Приходилось пробить себе длинное логовище, несколько обмять его и округлить тяжестью тела и руками, а отверстие снова закрыть соломой, надерганной внутри конуры. Спать было превосходно, солома сухая, ароматная, не слежавшаяся еще, так что воздух свободно проходил внутрь стожка. Но зато когда утром вылезаешь на свет Божий, то солома пролизывала все — одежду, волосы, набивалась даже в нос и в рот; насилу, бывало, очистишься от нее. Само собой разумеется, что при таком способе ночевки мы не раздевались, а разве только снимали сапоги.
При молотилке у нас было штук десять лошадей. На одну упряжку требовалось четыре лошади, но они работали в несколько смен. Работа у них была очень нелегкая. Приходилось им, впряженным в концах крестообразно сложенных длинных переводин, вертеть шестерню, которая толстым, крепким ремнем приводила в движение все приборы молотилки. Лошади двигались по кругу медленным шагом, напрягая все силы. Но зато и откармливались, они у нас, как, вероятно, никогда в своей жизни. Вся окрестность молотилки была занята отчасти роскошными степными пространствами, отчасти огромными полосами хлеба, который считался неудачным, не стоящим жнитва, почему, вероятно, это место и было отведено под молотилку. Казаки косили только роскошные поля хлеба, а на мало-мальски захудалые не хотели тратить труда.
В России такие полосы были бы сжаты или скошены до последнего стебля. Вот на этой благодати и паслись наши кони, не получая от нас больше никакой пищи. Отъедались они ужасно. Одновременно со мной пригнали к нам захудалого жеребца, со впалыми боками, несчастного, смирного, покорного. Но что за великолепный зверь вышел из него на нашем лошадином курорте! Раздался, стал гладкий, шерсть лоснится, хвост вытянулся трубой, грива поднялась роскошными косами, и зазнался наш жеребец нестерпимо. Остальными лошадями стал командовать словно своим собственным косяком, даже и людей перестал подпускать: сейчас же на дыбы, норовит укусить своими страшными зубами или лягнуть могучим копытом. Прямо сладу с ним не было, когда приходилось загонять домой или даже с прочими конями вести на водопой. Конечно, казаки с ним справлялись очень просто, да он перед ними и не важничал так. Но интеллигентной братии артели он был божеское наказание, особенно несчастному Володьке.
Я в глазах всей компании был откровенный «барин», приехавший из города отдохнуть в степь. С меня никто и не взыскивал, никто и не смеялся, если я не умел справиться с лошадью или плохо рубил топором: для городского барина это очень натурально. Но Володька выдавал себя за рабочего, и все видели, что он врет, что он переодетый барин. Поэтому над ним любили сшутить лукавую шутку. Бывало, как нужно гнать коней на водопой, смотришь, кричат: «Володька, перейми-ка жеребца! Вишь, в сторону уходит!» Жеребец просто дурил, потому что вовсе не прочь был сходить на водопой. Но прочие лошади неохотно отходили от него, и его нужно было завернуть к Малке, а для этого — поймать и сесть верхом. Володька боялся подступить к нему, но не хотел оконфузить себя и с трепетом принимался ловить жеребца, пока тому не надоедало шутки шутить и он допускал вскочить на себя.
Этим водопоем начинался наш трудовой день. Ночь кони проводили в поле. Сторожили их крайне небрежно, и уж не знаю, почему у нас их не покрали. Должно быть, кони сами не давались никому. Утром нужно было их загнать со степи на водопой. Приходилось их переловить, на некоторых садились верхом и ехали к Малке. Там их поили и купали. Для купания уже обязательно было, раздевшись, сесть верхом, кто не умел стоять на спине, чтобы загнать на самую глубину, потому что лошади сами по себе не любят плавать. После этой операции одевались и ехали на молотилку, где лошадей запрягали в переводины.
Перед работой мы слегка закусывали, пили калмыцкий чай с хлебом. Специалистом по варке его был Вертепов. Нужно было отрубить топором или кинжалом достаточный кусок твердой чайной плитки, затем его опускали в воду с большим количеством молока, несколько раз подбрасывали соли, клали коровье масло, подбавляли перцу, и все это кипело в котле на тагане. Вертепов постоянно перемешивал смесь и отведывал ее. Чай считался готовым, когда жидкость принимает особый синеватый оттенок. По моему мнению, нет легкого завтрака более вкусного и питательного... Остальная наша пища была плохая, помнится, все больше пшено, сало, арбузы. Мяса что-то не помню, но баранина, кажется, бывала...
Первые террористы
Хотя, казалось бы, в русской интеллигенции безразлично перемешались все племена Империи и уроженцы всех ее областей, однако в характере и настроении революционеров Северной и Южной России замечалась большая разница. В Петербурге и Москве они отличались стремлениями к широкой организации, которая бы совокупными силами могла предпринять общий переворот. На Юге — в Киеве, Харькове, Одессе — господствовало бунтовское настроение, в котором люди не хотели дожидаться какой-нибудь широкой подготовки сил, а рвались просто в бой, уверенные, что таким образом увлекут за собой и других, все больше и больше, пока не вспыхнет общая революция. Эта разница в настроении и характере Севера и Юга бросалась в глаза, и террористическое движение вышло именно с Юга.
Мне кажется, что первым террористом был Валериан Осинский, {83} начавший действовать в Киеве, хотя родом он был, кажется, екатеринославец. Он сначала действовал в земстве, потом нашел, что эта работа ничего не дает и что нужно начинать революцию, то есть просто вооруженной рукой атаковать правительство, и такими силами, какие найдутся, — пять ли, десять ли человек, а то хоть и один. Он все-таки, однако, подбирал кружок и основал фирму «Исполнительный комитет социально-революционной партии». Этот исполнительный комитет никакой партией, разумеется, не был выбран. Валериан Осинский просто наименовал свой кружок исполнительным комитетом, вырезал печать (помнится, перекрещенные топор и револьвер) и начал действовать... Строго говоря, действовать ему не пришлось Его скоро открыли и арестовали, и единственное боевое действие его было вооруженное сопротивление при аресте. При этом ему не удалось никого ни убить, ни ранить, но он громко кричал жандармам: «Вас скоро начнут стрелять как собак!»
Валериан Осинский был повешен, но его мысль и клич начинать вооруженную борьбу немедленно нашли отклик в горячих головах южан. Кое-где начались вооруженные сопротивления, как на конспиративной квартире Ковальского в Одессе; это уже была сильная стычка, с ранеными, но, кажется, без убитых. Кое-где начали убивать шпионов, начались попытки к убийствам высшей администрации. Имя Валериана Осинского долго было окружено ореолом по всему революционному Югу, и перед ним с почтением стали потом преклоняться и северные террористы.
Я не знал Осинского. В его времена я сидел в тюрьме. Но его ближайших последователей мне пришлось увидеть в 1877 году.
В это время петербуржцы из остатков кружка Чайковского помышляли освободить наиболее видных людей из числа осужденных по «процессу 193-х». Особенно хотелось освободить Мишкина, {84} во время вольной жизни малоизвестного, но буквально прославившегося своей речью на этом процессе. Мишкин показал себя замечательным оратором, хотя, кажется, он был только талантливым исполнителем роли, так как речь не была экспромтом, а составлена для него, если не ошибаюсь, Сажиным. Этот Сажин — ученик Бакунина, прошел в революционном движении очень мало заметно, хотя был чрезвычайно умен, энергичен и ловок. По-видимому, он просто устал и, сосланный по «процессу 193-х» в Сибирь, так там и остался в бездействии.
Но Мишкин приобрел репутацию необыкновенного человека, какого-то неизвестно откуда прилетевшего метеора. Его особенно хотели освободить остатки чайковцев (специально Софья Перовская), а потом к ним пристали в этих целях кое-кто из землевольцев. Мне поручили съездить в Харьков, вступить в переговоры об этом с тамошними террористами. Дело в том, что осужденных должны были везти через харьковский остров в каторжную тюрьму, только что построенную в селении Печенги. На этом-то провозе и можно было отбить арестантов.
Таким-то образом я и познакомился с южными террористами.
Они оказались милейшими и симпатичнейшими людьми. По сравнению с нашими петербургскими конспирациями жили они весьма нараспашку. Квартира, на которую я явился, находилась в глухой местности, не на Сабуровой даче, в одноэтажном доме, за которым полиции ничего не стоило наблюдать. Обитатели жили в совсем студенческой обстановке. Не знаю, кто были хозяева, вероятно, Ивичевичи, {85} но я здесь виделся и говорил именно с двумя братьями Ивичевичами и Сентяниным. {86} Приходил еще один мрачный молодой человек, по их словам, очень важный для таких дел, но он со мной не говорил, и мне не называли его имени или клички.
Оба Ивичевичи — молодые, здоровые, жизнерадостные — походили на каких-то добрых молодцев казаков или юных офицеров на театре войны. Ни у них, ни у Сентянина не замечалось никаких признаков озабоченности чем-нибудь. Когда я к ним пришел, они с аппетитом уплетали разные вкусные вещи: тут была великолепная ветчина, колбасы и еще многое другое. Вероятно, у меня на лице выразилось удивление, что революционеры так роскошествуют, и они мне поторопились объяснить, что вот получили припасы от родных из деревни. Меня, конечно, тоже угостили.
Сентянин, такой же веселый, как и его сотоварищи, имел чрезвычайно изящный вид — вполне джентльмен.
На предложение участвовать в освобождении осужденных они тотчас же согласились. Их психика производила на меня такое впечатление, что было бы только удалое предприятие — и они за всякое возьмутся с радостью. Мысль об опасности для себя или о том, что придется убить не только конвоиров, но, может быть, и ямщика, ни на секунду не затуманивала эти ясные лица. Они чувствовали себя совершенно как смелые молодые люди на войне. Глядя на Ивана Ивичевича, нельзя было бы догадаться, что у него уже руки в крови человеческой. Правда, человек этот был шпион. Иван Ивичевич участвовал в убийстве этого шпиона (кажется, Финогенова) в Ростове-на-Дону, и сам акт убийства выпал на его долю. Другие выследили, а стрелять пришлось ему. Он с первой же пули свалил шпиона, но был так внимателен к своей задаче, что для полной уверенности подбежал к убитому или, может быть, раненому и всадил ему в череп все пули, какие только оставались в барабане.
Они постоянно изучали условия своей партизанской войны, знали, конечно, все тогдашнее оружие, которое было, впрочем, сравнительно с нынешними временами очень слабым и бедным. Они проделывали разные опыты: например, один поднимал в пустом вагоне стрельбу из револьвера на ходу поезда, а другой слушал с площадки, можно ли расслышать внутри. Делали они расследования, каким образом можно отцепить вагон на ходу поезда. Таких опытов и наблюдений проделывалось у них немало. А между делом они упражнялись взбудораживанием нервов общества посредством распускания разных ложных слухов — то о бунтах, то будто бы о покушениях на разных лиц. Как раз при мне Сентянин, хохоча, читал товарищам такие корреспонденции, сочиненные им в разные газеты. В числе их были и опровержения его же прежнего вранья. Эти опровержения поддерживали в публике разговоры о выдуманном им происшествии и вызывали догадки, что в нем было верного: дыма, дескать, без огня не бывает.
Относительно способов помочь бегству осужденных у них происходили совещания без меня, в особом собрании кружка. Мне объявили для передачи в Петербург только их решение. Во-первых, они соглашались принять в этом участие; во-вторых, заявляли, что уже установили наблюдение над харьковским острогом; в-третьих, требовали денежной помощи для произведения необходимых подготовительных покупок. Помнится, у них было мало оружия, да, по соображениям, нужны были и лошади. Что касается людей, то, помнится, они имели их достаточно и в подкреплении из Петербурга не нуждались.
Но все эти переговоры и приготовления оказались бесплодными. Через день или два мне сообщили печальную весть, что Мишкин уже водворен в острог. Установление надзора над тюрьмой только и послужило к извещению о таком разочаровании. Мне оставалось только возвращаться в Петербург, где Перовская, взбешенная неудачей, встретила меня градом незаслуженных упреков в будто бы бездействии.
Огорченный и раздосадованный этой несправедливостью, я больше и не имел касательства к этому делу. Но попытки освобождения «централистов» (заключенных Центральной каторжной тюрьмы) не прекратились.
Петербуржцы для этого мобилизовали уже собственные силы, привлекши к делу землевольца (Александра Михайлова) и выписавши из Орла Марию Николаевну Ошанину {87},[30] в то время уже вышедшую замуж за А. И. Баранникова, {88} которого тоже привлекли к этому делу; из землевольцев присоединился еще молодой, жаждавший боя и приключений Николай М., из чайковцев осталась одна Перовская, которая со своим обычным упорством вошла в мысль освобождения выше макушки. Она, кажется, года полтора билась над этим.
Все силы, привлеченные к этой экспедиции, были в боевом и конспиративном смысле подобраны превосходно; поставлено было предприятие тоже, по-видимому, безупречно. С Мишкиным уже ничего нельзя было сделать. Но предстоял еще перевоз в Центральную тюрьму тоже очень крупного человека — Войноральского. Для того чтобы его отбить, был приготовлен маленький отряд, кажется трое человек, на конях. Они должны были перестрелять лошадей, а коли нужно, то и ямщика с жандармами и захватить Войноральского. На конспиративной квартире, с которой отряд отправился и куда он должен был возвратиться с Войноральским, было предусмотрительно заготовлено все — начиная с перевязочных средств для раненых и кончая костюмом и лошадьми для дальнейшего препровождения освобожденного арестанта. Но все имеет какую-то таинственную судьбу. Сколько раз я видел, как наилучше поставленные предприятия рушились без успеха, а совершенно нелепые попытки прекрасно удавались. Над этой экспедицией тяготел злой рок. Оказалось, что выстрелы (хотя все это были хорошие стрелки) лишь слегка ранили лошадей, которые помчались как бесноватые. Напрасно освободители гнались за повозкой во весь карьер, продолжая пальбу, которая, понятно, при таких условиях не могла иметь никаких результатов. Лошади, везшие Войноральского, оказались превосходными бегунами, и скоро преследователи стали отставать.
Пришлось возвратиться ни с чем и принять меры к тому, чтобы весь экспедиционный корпус мог хоть сам благополучно спастись с конспиративной квартиры. Это по крайней мере удалось, и ни один человек из экспедиции не был захвачен. Даже само участие их в этом деле остаюсь для полиции на несколько лет неизвестным. Все отчаянные розыски полиции ни к чему не привели. Игра была сыграна вничью. Не сразу сдалась Перовская. Она еще некоторое время вертелась в Харькове, мечтая о том, нельзя ли как-нибудь сделать набег на саму печенежскую тюрьму, но в конце концов пришлось примириться с фактом полной невозможности чего-нибудь добиться.
Но петербургские попытки освобождения заключенных заразили и харьковских террористов, и они сделали тоже очень любопытную попытку. Я не помню, кого именно они хотели освобождать, но задумали очень своеобразную комбинацию. Впоследствии эта мысль повторялась вторыми изданиями, но изобретение ее принадлежит харьковскому кружку.
Сентянин был наряжен в форму жандармского офицера и отправился в обычной закрытой карете в тюрьму с предписанием жандармского управления прислать с ним такого-то арестанта. Предписание было подделано безукоризненно и не возбудило никаких подозрений. Но в жандармской форме Сентянина была сделана какая-то неточность. В тюрьме сначала чуть не выдали ему узника, но, заметив эту неисправность формы, сделали запрос в жандармское управление. Сентянину же сказали, что арестанта одевают. Он спокойно ждал, как вдруг является подлинный жандармский офицер и арестовывает его самого.
Это был конец бедняги Сентянина. Арестованный, он себя держал совершенно хладнокровно и с обычным удальством. На допросе объявил себя секретарем исполнительного комитета, по приказанию которого и действовал. Но здоровье его недолго выдержало в тюрьме. Он стал болеть и умер, не дождавшись суда.
Братьям Ивичевичам тоже не была суждена долгая жизнь. Оба они в скором времени были убиты при отчаянном вооруженном сопротивлении конспиративной квартиры, штурмуемой полицией. Они умерли в бою, для которого жили. Фотографические карточки их, уже убитых, сильно распространялись, и эти молодые лица, красивые даже в мертвой безжизненности распростертого трупа, производили глубокое впечатление. Многих они, конечно, вдохновили мыслью о мщении виновникам этой преждевременной смерти.
Таковы судьбы внутренних смут: каждая смерть вопиет о мщении, и совершившееся мщение кричит о новом кровавом возмездии с противной стороны.
Яков Стефанович
В революционном движении 1870-х годов Яков Стефанович {89} занимает исключительное положение как единственный представитель самозванщины. В 60-х годах, при освобождении крестьян, были попытки распространения так называемых «золотых грамот», якобы царских, отдающих народу землю. Но с конца 1860-х годов уже никогда больше не пытались возбуждать в народе революционное движение именем Царя. Революционная пропаганда, направляясь против высших классов и даже вообще против устоев существующего строя, уже не отделяла от них царскую власть и старалась подорвать в народе царский престиж. В народническом движении Стефанович с несколькими товарищами представляет единственный пример поднять народные массы именем Царя.
Он явился в Чигиринский уезд в качестве будто бы тайного посланца от самого Царя и бродил между тамошними казаками и крестьянами, старался наметить в народе подходящих лиц и, ознакомившись с ними, открывал им свою великую миссию. Он говорил, что Царь стоит за народ и хотел бы отдать ему всю землю и всю волю, но ничего не в состоянии сделать, потому что окружен господами, которые его убьют, если он вздумает не только осуществить, но даже обнаружить такие намерения. Поэтому он будто бы решил искать помощи самого народа. Для этого он разослал по России своих посланцев, один из которых и есть он, Стефанович. Задача состоит в том, чтобы образовать в народе вооруженные дружины, которые, когда их соберется достаточное число, должны начать восстание против господ и властей. Тогда и Царь явится открыто к народу и произведет переворот всего строя, ныне угнетающего его.
Речи Стефановича возбудили доверие. Нужно сказать, что у него были выдающиеся способности для исполнения взятой на себя роли. Он даже и по наружности превосходно к ней подходил, особенно в местностях малорусских. Он сам был малорус, конечно, прекрасно говорил по-малорусски и глубоко понимал народную психологию. Вышел он, помнится, из среды тамошнего духовенства. Высокий, мускулистый, он имел умный малорусский тип с оттенком «хитреца» и «себе на уме», а это ничуть не вредит во мнении малороссийского крестьянина. Я даже скажу, что у него был некоторый отпечаток иезуитизма, но это-то уже тоже скорее выгодно в малорусской среде, где очень своеобразно сочетаются простодушие и хитрость. Стефанович умел помолчать, а малорусы говорят: «Хто мовчить, тот двох навчить». Но Стефанович умел также и поговорить, если не ораторски, то с оттенками необычайной искренности, умел влезть в душу человека и сообразоваться в своей речи с индивидуальностью его. Он был по натуре превосходный актер, входил в свою роль и как будто сам верил тому, что говорил.
Позднее мне пришлось познакомиться с ним довольно близко, и я обратил внимание на странную и неприятную его черту: он был чрезвычайный лгун и лгал даже без надобности, как будто из какого-то удовольствия обмануть человека, даже если бы обман должен был немедленно обнаружиться. Смотрит, например, из окошка и говорит: «А вот идет NN», которого сидевшие в комнате очень желали видеть. Но NN не приходил, а через несколько времени Стефанович объявлял, что он просто пошутил и что никакого NN не было. Не было ни малейшей возможности различить, когда он говорил правду и когда обманывал.
Нужно сказать, что он был очень умен, с чрезвычайно практической складкой, быстро разбирался в обстоятельствах всякого дела, умел хорошо понять человека, с которым сталкивался, хорошо усваивал всякий житейский опыт. У него было живое воображение, склонное к широким замыслам, и в то же время сильная воля и настойчивость. В жизни заговорщика легко очень скоро подметить, насколько человек хладнокровен в опасностях, и в этом отношении я оцениваю Стефановича очень высоко. Думаю, что нелегко он мог растеряться.
Вообще, все его способности очень подходили к самозванству. Я легко представляю себе, что он при надобности мог принять очень величественный вид, мог и разжалобить слушателей описанием угнетенного положения Царя. Как бы то ни было, дела у него шли успешно. По общему плану, нужно было, чтобы желающие сначала записались в дружины. Потом предполагалось их собирать и вооружать. Стефанович разъезжал по уезду, и у него записались уже 12 000 человек. Ездил он и в Киев. Не знаю, начал ли он уже заготовлять оружие, но предприятие его стало наконец известно полиции. Он был арестован. Арестовано было и множество записавшихся в дружины, а из ближайших соучастников Стефановича захвачен Бохановский. {90}
Подробностей этого крушения я не помню. Знаю лишь, что лучшие (в революционном смысле) из арестованных казаков, конечно, немного — двое-трое, — были очень обижены и огорчены, когда узнали, что Стефанович их обманывал. Они верили в него, верили, что и он хорошо к ним относится, а оказалось, что он заманивал их обманом. «Мы бы и так пошли на восстание, если бы он открыл нам правду», — говорили они.
Стефанович и Бохановский содержались в киевском тюремном замке. Дело было нешуточное: за него могла грозить и смертная казнь. Разумеется, у заключенных немедленно завязались сношения с «волей». В то время подкуп тюремных стражей был нетруден. А Стефанович очень быстро расположил к себе сердца в остроге. Он умел быть привлекательным и симпатичным и сошелся даже с самим смотрителем. Он тоже был из «хохлов», и Стефанович ему очень понравился, а сама Чигиринская затея поражала его широтой замысла и ловкостью исполнения. «Эх, Яков, Яков, — говорил он в порыве чувства, — тебе бы нужно министром быть, а не в остроге сидеть». От избытка чувств он даже на «ты» перешел.
Попытка побега представлялась совершенно невозможной иначе как при проведении своих людей в острог. Острожных служащих нельзя подкупить на такое опасное дело, после которого пособнику приходилось бы и самому бежать за границу. Провести же своего человека хотя и было мыслимо, но требовало какого-то неопределенно долгого времени, да и вообще представляло что-то ужасно сложное. Один из землевольцев, Михаил Фроленко, разрешил вопрос самым простым способом, правда, при помощи счастья.
Фроленко — кажется, и поныне здравствующий — был человек очень хороший, простой, добрый. По наружности оп совершенно походил на рабочего, как и по привычке к самой скромной жизни, не нуждаясь ни в каких удобствах. Замечательно хладнокровный и неустрашимый, он не любил никаких собственно террористических дел и в них, полагаю, не участвовал во всю жизнь, но всегда готов был помочь освобождению кого-либо. Он взялся выручить и Стефановича.
Фроленко пошел на рынок в качестве ищущего работу. Он рассчитывал, что, может, понадобятся рабочие для острога, и не ошибся. Через несколько дней пришли нанимать на какое-то дело в острог. Фроленко был и физически довольно силен, и знал понемножку разные отрасли труда, в котором был вообще очень сообразителен. Начав работу в тюрьме, он понравился и своим тихим характером, и внимательностью к делу, а между тем как раз понадобился служитель по камерам арестантов — то, что и нужно было ему. Он, конечно, немедленно согласился поступить на это место. Остальное пошло у нею как по маслу. Он подделал ключи к камерам Стефановича и Бохановского, припас для них костюмы служащих в тюрьме, высмотрел путь для побега, подготовил способы перелезть через стену, и затем оба заключенных благополучно бежали. Сам Фроленко тоже скрылся. Этот побег тогда наделал много шума и принадлежит к числу самых ловких и необыкновенных.
Товарищи переправили Стефановича и Бохановского за границу, где последний остался навсегда, работая наборщиком в русских типографиях. Когда я с ним познакомился, он был прекрасным наборщиком и метранпажем. В это время он был мужем довольно известной тогда Галины Чернявской, {91} тоже южанки. Что касается Стефановича, он еще наезжал в Россию, а за границей близко сошелся с кружком Плеханова. {92}
Собственно, связь между ультранародником Стефановичем, доходившим до практики самозванщины, и социал-демократом Плехановым довольно странна. Но вероятно, эта близость основывалась на чисто личных отношениях, а может быть, пошла от южанина Дейча — не знаю. Во всяком случае, близость Стефановича к ним известна. Вера Засулич {93} и Дейч {94} сами отзывались о нем как о близком друге.
Сколько раз был Стефанович в России после своего бегства, я не знаю. Но в 1881 году он близко сошелся с исполнительным комитетом «Народной воли» второго, нового состава.
После цареубийства 1 марта 1881 года из-за границы в Россию двинулись многие эмигранты, некоторые очень неудачно. Так, Николай Морозов был арестован при самом переходе границы. Но вообще в эмиграции явилось такое ощущение, что нехорошо сидеть сложа руки на чужбине, когда в России происходят великие события. Они плохо представляли себе положение дел в России, полагая, что после 1 марта революционное движение вспыхнет с особенной силой. В то же время они знали, как пострадал исполнительный комитет, и считали, что русской революции нужно подкрепление новыми силами. Последнее было совершенно справедливо. Но что касается революционного движения, то оно, напротив, чрезвычайно ослабело. Правительственная борьба против него была поведена в высшей степени энергично, и вдобавок полиция нашла беспримерно искусного руководителя в знаменитом Судейкине. {95} Между тем в обществе усилилось настроение не только антиреволюционное, но даже прямо реакционное. При таких условиях основная народовольческая идея — государственный переворот путем заговора — становилась практически невыполнимой мечтой; действие же путем исключительно террористическим было, во-первых, дискредитировано тем обстоятельством, что успешное цареубийство не дало решительно никаких полезных для революции результатов, даже наоборот, во-вторых, террор сделался фактически крайне затруднительным вследствие гибели множества террористов, ослабления поддержки общества и чрезвычайного усиления полицейской охраны. В общей сложности народовольчество теряло под ногами почву.
В сущности, наиболее целесообразно с революционной точки зрения в это время было то, что усиленно повел Плеханов, то есть совершенный отброс народовольческой программы, обращение к рабочему классу с чисто социально-демократической пропагандой. Плеханов, никогда и не принимавший народовольческой программы, конечно, легко стал на эту точку зрения. Но русская революционная интеллигенция не могла стать на классовую точку зрения; это было ей совершенно несвойственно. К социал-демократизму она относилась прямо с антипатией. Она была демократична и социалистична, но не могла признать себя тем, чем действительно и не была, — то есть силой пролетарской. Она хотела политического переворота на основах свободы и демократии, а вовсе не диктатуры пролетариата.
Поэтому она оставалась в огромном большинстве при народовольческих идеях. А между тем на почве этих идей фактически, в сущности, почти ничего нельзя было делать, кроме пропаганды и ведения организации, которой невозможно было дать практического дела. А известен общий закон организации: что численность членов организации всегда прямо пропорциональна работе, которую организация способна им дать. Если дела, работы, действия нет, то в члены организации не идут и даже разбегаются из нее.
В довершение всего в исполнительном комитете погибли все наиболее выдающиеся деятели прошлого. [31]
Его состав необходимо было пополнить и в то же время некем было пополнять. Состав исполнительного комитета «Народной воли» всегда поддерживался по системе кооптации, то есть не выборами партийными, а привлечением новых членов самим же комитетом. После 1 марта остатки прежнего комитета съехались в Москву и первым делом должны были пополнить свой явно недостаточный комплект. Но людей достаточно пригодных было так мало, что на съезде так и формулировали: «Нужно принимать по пониженному цензу». Так и сделали, потому что иначе и нельзя было ничего сделать. Но когда обстоятельства стали гораздо труднее прежних, то есть, значит, требовали людей более сильных и крупных, пониженный ценз, разумеется, не мог создать ничего революционно путного.
В общем, обстоятельства были крайне плохи и не обещали ничего доброго. Численно революционные силы приливали к «Народной воле», но качественно были плохи.
Стефанович был в числе эмигрантов, явившихся из-за границы на помощь революции. Это был порыв, конечно, благородный, но совершенно бесполезный. Его приняли в члены комитета, и он мог лично увидеть, как слаб качественно его состав. Тогда из людей крупных оставались только Мария Николаевна Оловеникова, вдобавок больная, да Савелий Златопольский. {96} Оловеникова скоро запросилась за границу, отчасти по болезни, а более всего потому, что видела полную пустопорожность «деятельности» комитета и невысокий состав его, да и всю русскую обстановку, исключавшую возможность чего-нибудь крупно революционного. Ее отпустили, дав ей поручение организовать за границей печатный орган партии.
Стефанович, при своем уме, быстро увидел, что никакого дела у комитета нет. Все сводилось к беганью по кружкам молодежи, а более всего — к беганью от полиции. Постоянно «проваливались» то тот, то другой, в связи с этим и другим приходилось менять паспорта, менять квартиры, даже совсем уезжать в другие города. Я тогда три раза каким-то чудом избегал ареста, а Оловеникова прямо сбежала с квартиры, заметив случайно бороду сыщика, высовывающуюся из-за шкафа. Эту квартиру полиция захватила, но Мария Николаевна успела спастись. Это было в Москве.
Стефанович, ничем товарищеским не связанный с комитетом и видя ничтожество народовольческих организаций, задумал было предпринять перестройку вообще революционной организации или, точнее, ее действительного центра. Эту мысль свою он открыл мне, предлагая основать новый тайный комитет из трех лиц: себя, меня и Людвига Варынского. {97} Варынский был самым видным и действительно блестящим членом польского «Пролетариата». Стефанович предлагал, что он будет действовать среди народников-землевольцев, я — среди народовольцев, Варынский в «Пролетариате», и, составивши тайный высший центральный комитет, будем направлять к одной цели эти три организации.
Этот проект был для меня, конечно, неприемлем, потому что составлял бы коварный поступок в отношении исполнительного комитета. Я так и заявил Стефановичу, что это невозможно, что я свою организацию обманывать не стану. Так эта его единственная идея, до которой он додумался в тогдашней бессодержательной революционной сутолоке, и рухнула без последствий. Он жил как все, посещал собрания неизвестно зачем. Единственная интересная вещь, тогда явившаяся и на которую он обратил внимание, был проект «Христианского братства» некоего Гусева, совсем во вкусе Стефановича.
Гусев (кажется, Василий) принадлежал к числу интеллигентов, отправившихся в народ, и сошелся с волжскими сектантами. Он их называл «евангелическими христианами». Среди них Гусев обжился, поступил сам в секту и приобрел в ней даже известность и влияние. По поводу какого-то послания своего, отправленного к «братьям», жившим в Сибири, он рассказывал елейным голосом: «Таким образом, слава обо мне дошла даже до пределов сибирских». Он усвоил себе все сектантские манеры, физиономия его носила какой-то блаженный отпечаток, говорил кротким и елейным голосом, опуская глаза и впадая в задумчивость. Между сектантами он приобрел репутацию человека очень святого настроения. Он любил бродить уединенно по полям в глубокой задумчивости, и его братия была уверена, что он погружен в то время в духовную молитву. Во что он был погружен, Господь его ведает, но возможно, что он и усвоил что-нибудь из верований секты и только нам не говорил этого. Библию он знал очень хорошо, особенно псалмы и пророков. Он любил их читать непритворно. Однажды, зайдя к нему без предупреждения (двери в его жилище были незаперты), я еще из сеней услыхал громкое чтение псалмов. Это он наслаждался ими. Он даже и наше внимание обращал иногда на глубину мысли и красоту языка пророков.
Его секта была в политическом отношении весьма «неблагонамеренна», подозревала в гражданских властях слуг антихристовых. Гусев пришел к мысли, что сектантов легко направить на активную борьбу против правительства именно как против антихриста, и приехал в Москву переговорить об этом с революционерами. Идея была вполне в духе Стефановича. Я тоже виделся с Гусевым, который предложил образовать фирму «Христианского братства», на первое время хотя бы фиктивную, и от его имени обратиться к сектантам с посланием «Христианского братства» соответственного содержания. Стефанович, я и Гусев средактировали это послание, которое составлено было, по существу, Гусевым. Он хорошо усвоил слог таких посланий. Даже и свою обыкновенную речь он пересыпал церковнославянскими выражениями и оборотами и легко цитировал тексты Писания.
В это время народовольческая типография была уже устроена в Москве. Она отпечатала это послание, и Стефанович доставил его Гусеву. Не знаю, кто из них раньше попался, но скоро были арестованы и тот и другой. При аресте у Стефановича была захвачена между прочим и пачка этих посланий. Впрочем, арестован он был не по этому поводу. Он уже несколько раз замечал, что за ним следят шпионы, и воображал, будто сбивал слежение с толку, но, конечно, ошибался. Пробыв довольно долго за границей, люди отвыкают от искусства бороться с полицейской слежкой. А Стефанович и раньше, действуя больше в народе, едва ли мог выработать в себе это искусство.
Таким образом, Стефановичу опять пришлось попасть в тюрьму. Дальнейшая жизнь его мне уже неизвестна. Я в 1882 году сам эмигрировал и потерял Стефановича из виду. Помню только, что он сносился из тюрьмы с плехановцами, так как у меня была даже неприятная история с Плехановым из-за какого-то письма Стефановича, будто бы перехваченного народовольцами. Я ни малейших сношений с русскими народовольцами не имел тогда, а Плеханов этому никак не хотел поверить. Не знаю, что это было за письмо; вероятно, тут были какие-нибудь штуки Дегаева, сделавшегося шпионом Судейкина.
На суд Стефанович, мне кажется, так и не попал. Его «чигиринское дело», где судили обманутых им казаков (впрочем, всего 60 человек из нескольких тысяч), разбиралось еще в 1879 году, без главного виновника. Участь же самого Стефановича, кажется, решилась административно. Мне говорили, что в газетах было сообщение о смерти Стефановича уже в 1915 году, во время мировой войны, где-то на Украйне. Он, сообщалось, очень горячо следил за ходом войны и, умирая, выражал сожаление, что не увидит ее результатов. Но сам я не видел этого газетного сообщения.
Перестройка «извнутри»
Одновременно с революционным движением, которое ставило своей задачей насильственный переворот государственного и общественного строя, в начале 70-х годов развивалось другое движение, которое можно назвать «перестройкой извнутри». Так именно выразился один из крупнейших представителей его, Виктор Васильевич Еропкин, теперь мне вспоминающийся. Уже в конце 80-х годов, когда он мог вполне подвести итоги делам своей жизни, я, говоря о различии между ним и революционерами, заметил:
— Значит, вы, собственно, хотите вести перестройку снизу!
— Не совсем так, — ответил он, — по-моему, перестройку человеческих отношений нужно вести не сверху и не снизу, а извнутри.
Такова была, в сущности, и мысль графа Л. Н. Толстого, но она не была им создана, она существовала и осуществлялась уже раньше, чем яснополянский учитель начал свою гигантскую разрушительную работу. В сущности, эти, так сказать, мирные созидатели новой жизни не отличались от революционеров ничем, кроме способов действия. И понятно, что оба способа действия проявлялись в человечестве всегда. Но я говорю не о том, что происходило в истории, а о том, что я сам видел, вследствие чего и начинаю с 70-х годов XIX века.
Виктор Васильевич Еропкин принадлежал к родовитой московской семье. Его род с самого Петра Великого принимал видное участие в работе по преобразованию России, и некоторые его представители исторически заявили себя огромной энергией. Именно дед Виктора Васильевича беспощадно усмирял чумной бунт в Москве при Екатерине II. Но замечательно, что когда Екатерина II пожаловала ему за это 4000 душ крестьян, он отказался от пожалования. Тут ясно видна идея. Он не пожалел народной крови для водворения порядка, но брать наград за пролитие народной крови не захотел.
Виктор Васильевич и по наружности, и по характеру носил отпечаток сильной породы. Он был крупный, крепкий мужчина с красивым, важным лицом, напоминавшим что-то боярское. Он вообще был и умен, и образован, но этот ум и знания направлялись не на какую-нибудь отвлеченную работу, а на практическое созидание жизни. Он уже не пошел на службу, как отцы и деды, а стал работать непосредственно в народе и обществе, и в сфере этой работы постоянно проявлял несокрушимую энергию, настойчивость и огромную практичность. Едва ли, думаю, одобрили бы его тени предков. Они работали над созданием государства и иерархического социального всенародного строя. Он вышел не на продолжение и укрепление их создания, а на разрушение «извнутри» самого народа. Он не воевал с государством, ни даже с властями, ни с Церковью, но он от них отчуждился душой и действовал в отношении их очень сходно с тем, как действовали московские собиратели Руси в отношении монгольских ханов и баскаков. Виктор Васильевич охотно дружил с властями, не прочь был дружить и со священником, но собственно для того, чтобы из этой дружбы извлечь пользу для своего дела, разрушавшего их дело. Он умел внушать властям, что его деятельность очень полезна для них, потому что отвлекает молодежь от революции, и что поэтому было бы неблагоразумно мешать ему и стеснять его. И это до известной степени правда. Конечно, Еропкин не питал никакой вражды к революционерам и даже, без сомнения, находил очень полезным, что они подрывают и разрушают власть. Но он вел свое дело, которое также требовало и материальных средств, и людей; и все, что мог добыть Еропкин для своего дела, конечно, уже не попадало в руки революционеров. Понятно, что ссориться тут было не из чего. Революционеры понимали, что деятельность Еропкина тоже не бесполезна в общем процессе революции. Сверх того, русская интеллигенция так усердно работала над разрушением старого строя, что и людей, и материальных средств хватало на всех.
Конкуренция и соперничество, разумеется, все-таки происходили. Так, в 1872 году кружок Натальи Армфельд, бывший еропкинским, был отбит революционерами-чайковцами.
В конце 60-х — начале 70-х годов у нас было сильно развито движение ассоциационное. В литературе являлись сочинения по этому предмету (Михайлова-Шеллера «Ассоциации во Франции» и т. п.). В народе интеллигенция старалась устраивать ассоциации. Экономически огромное дело сыроварения было создано Верещагиным на основе ассоциационной. В этом движении Еропкин имел живое участие. Ему принадлежит именно устройство ассоциации школьных пособий, которая явилась едва ли не лучшей в России мастерской. Переходя из рук в руки, это предприятие уцелело и до сих пор — это именно «Сотрудник школ», впоследствии принадлежавший Залесской.
Создателем этой мастерской был именно Еропкин. Он уложил на это дело массу труда, ездил за границу знакомиться с постановкой производства школьных пособий, перенес к нам усовершенствованные типы школьных скамеек, досок, шкафов и множества мелких принадлежностей школ. Он сам являлся в мастерской искусным работником, способным учить других. Работая и как столяр, и как токарь, и как переплетчик, он в то же время нес всю работу распорядителя мастерской. Он же умело поставил пути сбыта изделий. Сверх того, он же добывал средства для постановки предприятия, а их потребовалось очень много, потому что дело было поставлено на широкую ногу.
Мастерская была поставлена в виде ассоциации. Еропкин, по идее, не был хозяином, а только членом ее. В действительности все держалось им. Рабочие, члены ассоциации, были, конечно, очень довольны тем, что получали прекрасные заработки, и тем, что есть человек, доставляющий и оборотные средства, и ловко поставивший сбыт изделий. Но собственно идеей ассоциации они не очень интересовались, и без дарового труда Еропкина дело не могло удержаться на такой высоте. Это обычная судьба всех таких искусственных ассоциаций. Еропкин через несколько лет убедился, что перестройки человека «извнутри» не происходит у него, и кончил тем, что сдал дело в другие руки. «Ассоциация» превратилась в обыкновенное промышленное предприятие, с полного одобрения рабочих.
Я, впрочем, не сомневаюсь, что до известной степени «перестройка извнутри» все-таки происходила у рабочих. Несколько лет они испытывали влияние Еропкина, его пропаганду словом и примером, они, конечно, чрезвычайно повысились в умственном развитии, привыкли к высшему «уровню жизни», как выражаются английские тред-юнионисты, они прониклись мыслью о том, что труд рабочего не должен подвергаться эксплуатации. Все это, конечно, составило известный плюс в развитии рабочего класса. Но ассоциации труды Еропкина не создали.
После этого Виктор Васильевич попытался устроить другую общину, где то на Урале, начав опираться уже преимущественно на интеллигентские силы. Этого дела я хорошенько не знаю и только слыхал, что оно, затребовавши также много усилий и средств, кончилось крахом.
Более известно мне другое предприятие Еропкина — это именно община в Береговой, в Черноморской губернии. Тут он развил, кажется, до конца свои социальные идеи. Эта «интеллигентная колония», как ее называли местные жители, была поставлена на коммунистических началах. Все члены ее — сплошь из интеллигенции — заняты были хозяйственными работами, поставленными на широкую ногу. В числе хозяйственных угодий видное место отведено было виноградникам. В первое время местные жители любили подшучивать над хозяйственной неумелостью «колонистов» и над их неумением работать. Однако интеллигентные колонисты все-таки работали очень усердно и, по всей вероятности, с течением времени научились как должно. Я уже много лет не имел о них сведений.
В колонии был приют для детей, как своих, так и отдаваемых единомышленниками из России. Воспитание детей велось также на коммунистических началах. Дети должны были составлять одну общую семью. Думать о том, кто их родители, или вспоминать о своих родителях дети не должны были. Им внушалось, что это как бы неприлично.
Религиозное воспитание, конечно, отсутствовало, и вообще религия из жизни колонии была изгнана. Для того чтобы не являлось каких-нибудь протестов со стороны духовенства, Еропкин умел устроить так, что в священники соседней с Береговой деревни был посвящен один местный учитель, сочувствовавший еропкинцам.
Насколько мне известно, внутренняя жизнь «интеллигентной колонии» была вполне прилична. Но труд колонистов не обеспечивал их существования. Еропкин постоянно занят был добычей средств для субсидирования своей общины. Он даже мало и жил в ней, находясь больше в разъездах в Москву и Петербург. Не знаю судеб колонии очень давно. Но она не распалась и, быть может, существует до сих пор. Во всяком случае, она пережила своего основателя.
Еропкин в конце 90-х годов стал болеть, не знаю чем — какими-то, кажется, проявлениями подагры, принужден был лечиться и даже, помнится, ездил для этого за границу. Болезнь уменьшила его трудоспособность, и он вообще стал старчески слабеть. Я его уже много лет не видал и лишь от знакомых узнал о его смерти.
Не знаю, как он подводил итоги своей жизни, покидая ее. Но по моему мнению, из его системы «перестройки извнутри» не вышло много результатов, особенно принимая во внимание его силы и способности. Крупнейшее его создание — община в Береговой, даже и по идее своей не дала ничего большего, чем любая «крайняя» меннонитская колония, кроме разве того, что в еропкинской общине совершенно исчез религиозный элемент. Она вышла узко замкнутой внутри себя сектантской общиной, не имевшей никакого влияния на окружающий мир. В Новороссийске, Геленджике, вообще по Черноморской губернии иные поддерживали знакомства с еропкинцами, иные их очень не одобряли, особенно за детей. Но все вообще не смотрели на них серьезно, не видели в них даже врагов, а относились чаще всего с добродушной насмешкой, как к каким-то чудакам. Для реформаторов жизни вряд ли может быть что-нибудь более печальное. Да среди колонистов, как и вообще среди множества людей, на воспитание которых Еропкин тратил свою недюжинную силу, не оказалось, насколько мне известно, ни одной крупной личности, какие оставляют по себе основатели обычных сект. Некому было продолжать дело Виктора Васильевича, да не оказалось и «дела», которое можно было бы продолжать.
Покинув дела своих отцов, Еропкин сделал кое-что для подрыва и разрушения того, что они созидали, но так и не произвел ничего способного «извнутри пересоздать» то, что он подрывал. Если даже он и поддержал идею коммунизма, то совершенно отличную от той, которая проявилась в 1918 году. Еропкин думал о коммунизме добровольном, нарастающем «извнутри», то есть стоял на точке зрения коммунистических сектантов, но с отбросом религиозных мотивов, осмысливающих ее у сектантов. Эта-то идея и заглохла, не дав никаких ростков.
В бегах по России
I
За время своей нелегальной жизни я, как и все прочие сотоварищи, был, конечно, в постоянной опасности попасть в руки полиции. Несколько раз я попадал под слежку и был принужден менять квартиру, паспорт и наружность. Но все это составляет нормальную, так сказать, обстановку жизни нелегального. К этому в конце концов привыкаешь и не чувствуешь никакой особенной тревоги, тем более что я принадлежал к могущественной организации исполнительного комитета («Народной воли»), который быстро помогал выйти из всякой опасности. От него можно было моментально получить деньги на новый костюм, он выдавал также моментально любой новый паспорт. Несколько товарищей моментально помогали сбить со следа полицейских агентов, временно укрыть в какой-нибудь другой квартире и т. д. Вообще, если приходилось подвергаться постоянной опасности, то не оставался ни на минуту без способов избегнуть ее. Таково было положение всех членов и агентов исполнительного комитета в Петербурге, сосредоточия всех его учреждений.
Но это нормальное положение нелегального круто изменилось в 1881 году, после 1 марта, то есть цареубийства Александра II. Нужно сказать, что еще до 1 марта, в начале 1881 года, исполнительный комитет понес тяжелые потери наиболее ловких своих членов и был уже сильно расстроен. Между тем в полиции появился в своем роде гениальный организатор сыска — Судейкин. Когда произошло цареубийство, полиция начала неслыханную до того времени травлю на все подозрительное. Каждый день захватывали множество революционеров и сочувствующих им людей, и каждый арест давал повод к новым арестам. С каждым днем становилось труднее жить, собираться, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь делать. Организация исполнительного комитета была настолько расстроена, что ее необходимо было сколько-нибудь упорядочить. Сделать же это в том ураганном огне, который потрясал Петербург, было невозможно. Поэтому уцелевшие от разгрома члены комитета перебрались в более спокойную Москву и здесь — насколько было возможно — занялись воссозданием организации. По крайнему недостатку людей решено было «принимать по пониженному цензу», то есть таких, которые не имели еще ни достаточной выработки, ни опыта, не были даже достаточно испытаны на работе. Но ничего другого не оставалось делать. Засим комитет распределился по-прежнему на отделы, хотя при этом прежний — боевой, террористический — не был восстановлен по неимению руководителей и потому что террористическую деятельность решено было временно прекратить. Таким образом, деятельность обновленного комитета направилась на выработку сил, пропаганду государственного переворота, организацию кружков, восстановление связей с провинцией, добывание денег, восстановление паспортного стола, устройство типографии, которая и была действительно основана Зеге фон Лауренбергом. Но в сущности, все это производилось шумно, неосторожно, совсем не по-старому. Люди-то были действительно очень «пониженного ценза» с революционно-заговорщицкой точки зрения. В это время на помощь революции прибыло несколько человек из-за границы, между прочим, известный Яков Стефанович и Романенко. Но и они мало подходили к русским условиям, и оба были скоро арестованы. По окончании организации восстановленного комитета несколько человек возвратились в Петербург, в том числе Савелий Златопольский и Грачевский. {98} Они тоже недолго просуществовали в Петербурге...
Но штаб-квартира комитета была оставлена в Москве. Она помещалась на Садовой, где-то недалеко от Каретного ряда. Хозяином ее был Юрий Богданович, {99} который под именем Кобозева держал сырную лавку в Манежном переулке, где была устроена одна из лучших мин против Александра II. Хозяйкой была Мария Николаевна Оловеникова. Богданович играл роль художника-живописца, она — его жены.
Я остался тоже в Москве, занимаясь всеми отраслями комитетских дел, но внутренне совершенно неудовлетворенный и потерявший веру в дело. Я не мог не видеть, что при данных условиях и составе лиц вся эта деятельность составляет пустую фразу. Я не мог не видеть и чрезвычайной силы и искусства полиции, хотя и не знал еще тогда всех глубин этого искусства. Прежний грозный, таинственный исполнительный комитет превратился в какую-то детскую игрушку, а полиция, прежде бывшая в руках комитета благодаря нашему «контршпиону» Николаю Клеточникову, стала, наоборот, силой столь же таинственной, как и грозной. Было ясно как день, что возобновленный комитет погибнет, не успевши ничего сделать.
Лично сам я очень скоро убедился, что попал под слежку, от которой тщетно старался скрыться. Один раз я наткнулся на какого-то господина, прятавшегося за шкафом на лестнице самой штаб-квартиры. Сам он хорошо спрятался, но его огромная рыжая борода несколько выглядывала из-за шкафа. Много лет спустя, когда с меня снимали административный надзор в Москве, я встретил у начальника охраны этого самого обладателя рыжей бороды, и он, подойдя ко мне с видом знакомого, улыбаясь, объяснил, что видел меня на лестнице квартиры Юрия Богдановича. Я спросил его: «Отчего вы меня тогда не арестовали в Москве?» Он, смеясь, сознался, что они по мне выслеживали других и никак не ожидали, чтобы я мог как-то исчезнуть от них. У Судейкина была действительно тактика не торопиться с арестами. Он был уверен, что при хорошей слежке намеченная жертва все равно не уйдет от него. Да если и уходила иногда, он не огорчался: «Походит, поскрывается да где-нибудь и объявится непременно». У него было правило: «Нужно надеяться на человеческую слабость, ни у кого не хватит терпения долго осторожничать».
Как бы то ни было, я, выработанный в дисциплине старого исполнительного комитета, принципиально осторожный и на все обращающий внимание, в январе 1882 года несколько раз замечал за собою слежку. Один раз, возвращаясь ночью домой (я жил тогда в меблированных комнатах в доме Обидиной на Петровке), я заметил в окне своей комнаты свет. Когда я поднялся наверх и стал расспрашивать горничную, зачем она ходила ко мне, она с видимой правдивостью уверяла, что совсем не входила. Однако свет был, значит, кто-то был в комнате. Я решил принять меры. На другой же день я съехал с квартиры якобы за город и после небольшой прогулки в Сергиеву лавру возвратился и уже под другим паспортом поселился на Знаменке (против Румянцевского музея). Здесь я поселился с женой. Однако оказалось, что мои хитрости не привели ни к чему. За перегородкой моей комнаты поселились два каких-то подозрительных субъекта, которых я стал замечать за собой на улице. Наконец однажды ночью они себя окончательно разоблачили. Они пришли домой поздно и, должно быть, не знали, что я дома. А я лежал тихо, без свечи, на своей кровати. И вот я услыхал сквозь перегородку их тихий разговор обо мне, о том, куда я хожу и какими путями стараюсь загладить свой след, когда возвращаюсь домой. Итак, я увидел, что нахожусь под серьезнейшей слежкой.
С этим нужно было покончить радикально. Не доверяя никому в окружающей среде, я решил скрыться ото всех, нырнув так, чтобы обо мне никто ничего не знал. Не съезжая с квартиры, чтобы не взбудоражить своих шпионов, я взял у Златопольского (он был еще в Москве) новый, очень хороший паспорт, запасся деньгами у него же и у моего покойного брата, переменил на стороне костюм, отправился прямо на Нижегородский вокзал и покатил в Нижний Новгород. Все это я проделал, стараясь не терять ни минуты времени, чтобы к следующему дню от меня не осталось в Москве никаких следов.
Это маленькое предисловие я делаю для того, чтобы объяснить, каким образом пришлось мне спасаться бегством в глубине России. О моем отъезде знали только Оловеникова и Златопольский, верные товарищи по старому исполнительному комитету. Кстати сказать, Мария Николаевна по обнаружении шпиона на своей лестнице и сама покинула квартиру, а Богданович досиделся до того, что его арестовали.
II
Я двинулся в путь с женой, наметив себе конечным, пунктом Казань. На всей этой линии у нас не было ни одного агентурного кружка, а у меня лично не было и никаких знакомых, так что я не рисковал соприкасаться ни с какими революционными элементами, исключая разве какие-нибудь случайные встречи. Жену я не хотел бросить одну, да присутствие ее было даже очень полезно, придавая мне обывательский, семейный вид. Для полной замаскировки какого-нибудь политического характера в себе я решил выдавать себя за молодого ученого, исследователя быта, верований и юридических обычаев инородцев Средней Волги. Соответственно с этим я даже составил очень недурную программу своих исследований, понятно, не для того, чтобы сделаться действительно этнографом, а для того, чтобы уметь выдержать принятую на себя роль в случае каких-нибудь дорожных расспросов. В то время повсюду шныряло множество шпионов, и нужно было, чтобы я при какой-нибудь случайной встрече ничем не возбудил в них подозрительного внимания.
Итак, я пустился в путь, и несколько недель, на которые растянулось мое странствование, составляют одно из лучших воспоминаний в жизни. Я чувствовал необычайную легкость на душе, сделавшись простым обывателем, оставивши политику далеко за спиной. В довершение все путевые впечатления на этом пути были для меня совершенно новы, начиная с самого Нижнего Новгорода.
В Нижнем ни я, ни жена до тех пор не бывали, и город поразил нас своей бойкой промышленностью и типично русской наружностью. Здесь нам пришлось сделать остановку. Дело происходило в трескучую зимнюю пору, в феврале месяце 1882 года. От Нижнего до Казани тогда не было железной дороги, и весь путь предстояло сделать на лошадях. К такому путешествию требовалось подготовиться очень внимательно. В наших городских шубах нельзя было ехать по таким морозам. Нужно было купить под них полушубки, нужны были валенки, рукавицы, войлоки. Да и для прочего своего обихода требовалось приобрести немало разных вещей, которых мы не могли захватить при спешном бегстве из Москвы. Приходилось, стало быть, немало походить по лавкам и базарам. Но мы могли заниматься этим совершенно покойно. Если бы мое бегство из Москвы было замечено шпионами, то нет сомнения, что нас арестовали бы на железной дороге, и раз этого не случилось, это было очевидным доказательством, что мне удалось ускользнуть незаметно.
Итак, мы были в самом веселом и беззаботном настроении. Невозможно передать не испытавшему этого всю отраду, которая охватила нас при мысли, что и революция, и все наши радикальные кружки, и слежка, и шпионы, и всякая конспирация — все осталось позади. Ни о чем подобном не требовалось думать. Мы были свободные, мирные обыватели и занимались своими делами, как прочие обыкновенные люди. Покой и счастье охватывали душу. Что ждет в будущем, сколько времени может длиться наше блаженное существование — мысль об этом мы гнали прочь и наслаждались настоящим моментом, пока он был наш.
Остановились мы, конечно, в гостинице и с утра до вечера ходили по городу, занимаясь своим снаряжением. Все нас занимало и привлекало. Помню, с каким веселым смехом мы показывали друг другу огромную вывеску, плакат в несколько аршин длиной, огромными буквами: «Рядись — берегись, давши слово — держись» — целая философия нижегородской торговли.
Я нашел время побывать в библиотеке и составить себе маленькую библиографию сочинений, относящихся к поволжским инородцам. Дома набросал программу своих будущих исследований. Так были положены начатки моей этнографической учености.
Относительно поездки у нас возник важный вопрос: ехать ли нам казенной почтой или на вольной? О существовании последней мы узнали на базаре и даже повидались с мужиком, который был агентом этой крестьянской почты. Она помещалась тут же, в одном углу базара. Десятка полтора саней стояли готовые в ожидании седоков. Учреждение оказалось очень любопытным. По всему тракту от Нижнего до Казани мужики разных деревень организовали ямщичью артель. Ехавший из Нижнего уплачивал их представителю всю стоимость пути и нагружался на выбранные сани. Затем ямщик вез его до условленной между крестьянами деревни и сдавал тут седока следующему ямщику, и так они передавали седока с рук на руки до самой Казани. Вольная почта брала дешевле казенной, и мы видели на базаре несколько нанимателей этих троек. Они нас уверяли, что мужики везут очень аккуратно и не допускают никакого злоупотребления, несмотря на то что деньги за весь путь уплачиваются вперед. Вот как народ умел самостоятельно организовать пути сообщения до появления железных дорог. Мы сначала колебались. Было очень соблазнительно испробовать крестьянскую почту. Но в конце концов мы решили не делать опытов в такие морозы, а ехать с обычной, известной уже, нам казенной почтой.
И вот наши сборы были завершены, и мы распростились с Нижним Новгородом. Обыкновенно путешественники проезжали тогда до Казани в полтора суток. Но нам некуда было торопиться, не хотелось утомляться и было даже интересно немножко рассмотреть проезжаемые города. Таким образом, мы три раза ночевали в пути и добрались до Казани только через трое суток. Не жалели мы об этом. Трудно и сурово зимнее путешествие на лошадях, но оно оставило в нас неизгладимые впечатления, о которых не даст понятия поездка по железной дороге. В вагоне, промчавшись тысячу верст, едва замечаешь разницу в местностях, промелькнувших перед глазами. На лошадях — все видишь, все запоминаешь. А зимний путь от Нижнего до Казани был особенно своеобразен, потому что большую часть его приходилось ехать по льду, по Волге.
Уже от Лискова мы спустились на белоснежную пустыню великой реки. Ледяная пелена расстилалась и вширь, и вдаль на бесконечное пространство. Даже противоположный берег Волги почти исчезал из глаз и казался скорее грядой облаков. Можно было бы вообразить себя в родной южной степи, занесенной снежной вьюгой, если бы с правой стороны не чернел крутой правый берег, почти сплошь заросший лесом. Дорога нигде не уходила далеко к середине реки и совсем не имела пустынного вида. Мы постоянно обгоняли длинные нагруженные обозы, а нас постоянно обгоняли бойкие тройки, на которых купцы и приказчики поспешали к Ирбитской ярмарке. Они любили ездить шибко, подгоняли ямщиков, щедро давали на водку, но самих их мы почти никогда не видели на санях. Они долго сидели на станциях, усердно пили и ели, а двинувшись снова в дорогу, спали в санях, тепло закутавшись в кошмах.
Мы тоже были одеты не совсем плохо: в полушубках, шубах, валенках и рукавицах, закрытые сверху войлочной полостью. Но мы не забирались под войлоки, наблюдали дорогу и жестоко промерзали. Бывало, приедешь на станцию, стащишь с себя в жарко натопленной комнате и шубу, и полушубок — и видишь, что они насквозь промерзли. Разложишь их, бывало, где-нибудь около печи, чтобы они сколько-нибудь прогрелись, а сам торопишься согреться чаем и кушаньем — и только через несколько минут начинаешь свободно владеть членами. Право, кажется, если бы проехать без такой передышки сразу две станции, то можно было бы совсем, насмерть замерзнуть. К счастью, по всему тракту станции оказывались прекрасно устроенными, с вечно готовыми самоварами, горячими кушаньями и жарко натопленными комнатами. Попавши с мороза в эту удушающую жару, чувствуешь истинное наслаждение и прогреваешься насквозь для нового переезда, в течение которого начинаешь опять постепенно охлаждаться почти до точки замерзания. Но в это время ямщик опять поднимается на гору к следующей станции, где тебя снова ждет горячая комната.
Нужно заметить, что весь тракт шел по правому берегу, так что на лед каждый раз приходилось спускаться с горы. Но путь шел не везде по льду. Почти половина пути проходила по твердой земле, и, только достаточно намучившись на ужасных ухабах сухопутного тракта, начинаешь ценить ровный, гладкий путь по Волге.
От Нижнего до Казани шел так называемый в народе «большак», то есть большая дорога, магистральное шоссе. Это прекрасная, широкая дорога, с обеих сторон обсаженная аллеями высоких, старых деревьев. Вероятно, летом езда здесь очень приятна. Но зимой за этими деревьями образуются огромные заносы снега, и обозы выбивают в нем страшные ухабы чуть не в аршин глубиной. Ехать по этим обледенелым волнам — истинное мучение. Сани тащатся шагом, то падая в ухаб, то выползая на гребень, чтобы через секунду снова ухнуть вниз. Эта тряска расколачивает все внутренности и просто выбивает душу из тела. С радостью спускаешься с большака на гладкий лед.
Но на Волге зато допекали меня полыньи. Помню, первый раз я заметил, что на снежной равнине реки подымается не то дым, не то пар. Спрашиваю ямщика, что это такое. Оказывается, это полынья, незамерзающая часть реки вроде пруда или целого озерка. Отчего тут вода не замерзает — никто толком не знал. Говорили, что на дне реки есть в этих местах родники, напускающие сравнительно теплую воду. Мне трудно представить такие могучие родники. Не помню хорошенько где, кажется в Космодемьянске, я наблюдал из окна станции, с горы, огромную полынью. Это было целое озерко. Ключи должны бить со дна прямо речками, чтобы согреть такое большое пространство. Как бы то ни было, эти полыньи производили на меня самое гнетущее впечатление, тем более что дорога пролегала иногда очень близко к ним. Так и думаешь: «А что, если проломится лед?» Правда, полыньи были обставлены маленькими елочками, чтобы предостеречь путника или проезжающего. Но во-первых, елочки ночью или в метель совершенно незаметны, а во-вторых, рассказы передают немало случаев гибели саней с лошадьми и людьми, рухнувших в полынью. Незадолго до нашего проезда у каких-то приказчиков лошади чего-то испугались, помчались прямо на полынью, и в ее темной бездне моментально погибли все — лошади, сани и седоки. Мне чувствовалось каждый раз не по себе, когда близ дороги показывался этот «глаз Волги», как полынья называется по-черемисски. Кстати сказать, название весьма нелепое, потому что полынья нисколько не похожа на глаз, а скорее напоминает котел, из которого вечно поднимается пар.
Как-то, под самыми Чебоксарами, пришлось нам объезжать полынью, идущую прямо от берега. Дорога проходила по самому краю ее, около воды. Я совсем перепугался и начал отстегивать полость, чтобы выскочить в случае, если сани поползут в воду. Ничего такого, однако, не случилось, а жена только подсмеивалась над моим испугом. Она вообще была храбрее меня в дорожных приключениях.
Мое же беспокойство в этих случаях усиливалось еще оттого, что чем дальше мы подвигались к востоку, тем меньше становилось русских ямщиков и вместо них пошли черемисы, мордва и прочие инородцы, которые почти не знали по-русски, так что посоветоваться с ними было невозможно. Спрашиваешь его: «Далеко ли до станции?» — перевертываешь вопрос на все лады, пока он поймет. Наконец он изрекает: «Тфа верст польсе». Что это значит? Думаешь, это значит «побольше двух верст», но оказывается, что едешь и пять верст, а станции все нет. Пренеприятное положение с таким ямщиком, когда случалось что-нибудь тревожное. А это бывало не раз. Не помню, кажется, на второй день пути мы весь день ехали по превосходной погоде. Морозный воздух был неподвижен, без малейшего ветерка, так что холод почти не ощущался. Мы наслаждались этим чудным воздухом, а скоро залюбовались и невиданным зрелищем на небесах. Солнце ярко светило на безоблачной лазури, но было окружено радугой, постепенно все более сгущавшейся, а через несколько времени образовалось три солнца: одно посредине, а два вверху и внизу круга радуги. Все они светили одинаково ярко. Я где-то читал, что такие явления предвещают бурю, но близость ее казалась совершенно невероятной. Со следующей станции мы выехали по такой же прекрасной погоде, только боковые солнца исчезли. Через несколько времени стали налетать вихри, сначала небольшие, а потом все хуже и хуже. Они обдавали нас снежной пылью, а небо все больше заволакивалось, кругом все потемнело, и наконец посыпался снег и забушевал сильный вихрь. Ямщик был из инородцев, безъязычный, расспросить его было нельзя, и я только видел, что он стал закутываться, как будто готовился к непогоде, и сильнее понукал лошадей. Между тем время подходило к ночи, и положение становилось очень неприятным. К. счастью, вдали замелькали огоньки. Не помню, какое это было селение или городок, только мы благополучно подкатили к станции среди уже совсем разгулявшейся стихии. Раньше мы не рассчитывали здесь останавливаться, но ввиду разбушевавшейся бури я обратился за советом к смотрителю. Это был черемисин, но хорошо знавший по-русски.
«Да если не очень торопитесь, — сказал он, — то лучше заночевать. Видите, разыгрался настоящий буран, а наступает ночь. Переждите: может быть, к утру погода уляжется».
Мы так и сделали. Станция была из плохоньких. Но мы с удовольствием поели, напились чаю и улеглись спать, слушая завывание и громыхание бурана и наслаждаясь сознанием, что вот мы лежим в тепле и спокойствии, когда там, снаружи, бушует ад кромешный. Что было бы с нами, если бы мы рискнули продолжать дорогу?..
Во время этого путешествия мы два раза испытали бурю. Во второй раз это было уже на обратном пути, и не на Волге, а на сухопутке, в местности пересеченной и овражистой. Выехали мы при довольно дрянной погоде, с ветром и снегом, но на пути буря разыгралась вовсю. Ямщик, на этот раз русский, не обнаруживал никакой тревоги и казался озабоченным только своей сбруей. Дело было ночью, и он, вероятно для сокращения пути, ехал каким-то проселком. Лошади поминутно то спускались в овраг, то вытягивали из него, и ямщик раза два останавливался и что-то возился с упряжью. Я вышел из саней посмотреть, что у него такое, и пришел в ужас. Вся сбруя и упряжь держались на дряннейших веревочках. Он и останавливался для того, чтобы их перевязать и связать. Я ему говорю:
— Ну что же будет, если вся эта дрянь у тебя совсем перервется? Ведь мы не вытянем и останемся в овраге под снегом.
— Небось, Бог милостив.
Он и действительно был милостив. Кое-как проехали на рваных веревочках.
В те времена на всем пути от Нижнего до Казани не было ни одного приличного городка. Огромное значение по хлебной торговле имело село Лысково, обстроенное получше других мест. В нем была большая гостиница, памятная мне по одной истории на обратном пути из Казани. Номеров в гостинице было множество, но и приезжих масса, так что все было заполнено. Мы уже улеглись спать, как вдруг в прихожей поднялся ужасный шум. Оказалось, что приехал какой-то сердитый генерал, а помещения для него не было. Он страшно разбушевался. «Как! Мне, генералу, нет комнаты! Найди где хочешь. Очисти какую-нибудь!» — кричал он во всю глотку на хозяина. Тот, злополучный, не знал, что ему и делать, и эта трагедия с генеральскими криками тянулась довольно долго, пока не отыскался какой-то почитатель высших чинов, который уступил генералу свою комнату.
Из других попутных городов меня заинтересовали только Чебоксары — собственно, своим местоположением. Значительная часть городка расположена амфитеатром по крутому берегу Волги, так что каждая улица идет вровень с крышами домов нижней улицы. Едешь и почти сползаешь на крыши, прислоненные прямо к идущей над ними улице. Впрочем, городишко был весьма захудалый. Зато Свияжск издали производил иллюзию чего-то почти величественного. Это уже предпоследняя станция от Казани. Он находится в нескольких верстах от Волги, на возвышенности, так что виден очень издалека, и как заметишь его, так не знаешь, что подумать. Он весь сверкает множеством куполов, крестов, шпилей. Думаешь, что перед тобой большой, прекрасный город или богатейшая монастырская лавра. Но вот мы въехали в Свияжск и увидели себя в самом ничтожном и бедном городишке, хотя он действительно весь уставлен церквами и колокольнями, которые именно и создают издали иллюзию. На такое огромное количество церквей нет ни духовенства, ни прихожан; во многих служба совсем не совершалась. Они составляют лишь разрушающийся памятник благочестной старины и политики московских царей, желавших создать в Свияжске противовес Казани в этом языческом и магометанском крае.
На рассмотрение этого захудалого городка, переполненного опустелыми и закрытыми храмами, я имел гораздо более времени, нежели хотел. Мы совсем не рассчитывали останавливаться в Свияжске, от которого уже рукой подать до Казани. Но у жены приключилась болезнь, очень неудобная для зимнего путешествия, — сильное расстройство кишок. Пришлось поневоле остановиться, и, пока она лежала на станции, я отправился на розыски врача. Такового, однако, в городе не оказалось. Думал пойти в аптеку, но и ее не оказалось.
— Как же вы тут живете без всякой медицинской помощи? — спросил я одного почтенного обывателя.
— Да что ж, батюшка, так и живем, все больше Божиим милосердием.
— Нет ли у вас хоть хорошего магазина, чтобы купить красного вина?
— Ну, это есть, магазин хороший, вино всякое найдете.
Пошел я в этот хороший магазин, и оказалось нечто невозможное. Вина были все безобразнейшие подделки под портвейн и тому подобные дорогие напитки. Достаточно было взглянуть на эту мерзкую бурду и грубые самодельные ярлыки, чтобы понять чисто местную фабрикацию этих якобы вин. Нечего было делать, купил бутылку, какая показалась менее сомнительной, но когда я ее откупорил и попробовал, то мог лишь с отвращением выплюнуть. Невозможно было давать больной эту отраву. Но во время странствий по городу я узнал, что в нем, собственно, есть аптека, только земская, отпускающая лекарства бесплатно, но исключительно деревенскому населению. Странный какой-то порядок. В своей крайности я решился, однако, попытать счастья и пошел искать земскую аптеку Это оказалось нелегко. Помещалась она в захолустье, почти за городом, а жители Свияжска, не имея с ней дела, не знали, где она находится. В конце концов я ее все-таки нашел.
Там, в помещении, нисколько не похожем на аптеку, сидели какие-то барышни и молодые люди, которые сначала наотрез отказались отпустить мне что бы то ни было. Но я взмолился с красноречием отчаяния, и сердца барышень тронулись. Одна побежала просить разрешения врача, к счастью, бывшего поблизости, и я с торжеством вернулся домой со склянкой микстуры из висмута с опием.
Чтобы дать жене время полечиться, нам и пришлось заночевать в Свияжске, так что мы пробыли в этом дрянном городке чуть не целые сутки.
III
От Свияжска до Казани оставалась только одна станция — Услон, а дальше шла длинным крюком переправа через Волгу. Услон — это высокая гора, довольно круто спускающаяся к Волге, на другой стороне которой видны казанские пристани и болотистая низина, отделяющая город от реки. Отодвинутая этим болотом версты на три от берега, Казань почт не видна с Волги. Переезжали через реку тогда на Адмиралтейскую слободку близ устья реки Казанки. Когда-то здесь находилось адмиралтейство, после которого остались низенькие невзрачные здания, служившие теперь, кажется, для каких-то складов. Въезд в город с этой стороны был пустынен и некрасив, и только Зилантов монастырь несколько скрашивал вид. Но когда мы добрались наконец до настоящей Казани, то впервые после Москвы почувствовали себя в большом, благоустроенном городе. Недаром она называлась столицей Поволжья.
В 80-х годах наши города были сравнительно с нынешними очень малолюдны. Один Петербург перевалил за полмиллиона жителей. В Москве было только 350 000 человек. На Волге только Саратов был многолюднее Казани (80 000 против 63 000). Но по одному числу жителей нельзя измерять значение города. Казань была центром большой торговли. Ее промышленность давно установилась прочно. В ней было два высших учебных заведения — университет и духовная академия, оба старые, богато снабженные, с огромными библиотеками, уже занимавшие видное место в русской науке. Казанский кремль — один из замечательнейших в России. Улицы были прекрасно обстроены домами в два и три этажа. Город был очень оживлен, и его прекрасные магазины показывали большое количество зажиточного населения. Вообще, в Казани сразу чувствовалась столица обширного края, и столица совсем не татарская. Хотя и для татар это была столица, но общий тон в жизни города был русский. Татары жили в особой части города, где и находились их мечети и училища.
В Казани мы прожили довольно долго, не упомню сколько. Дальше мне уже некуда было ехать, и требовалось только пережить достаточно времени, чтобы московская полиция совершенно потеряла мой след и привыкла к мысли, что меня искать негде и нужно спокойно ждать, пока я сам вынырну из своего неведомого убежища в сферу поднадзорного радикализма.
Поселились мы в меблированных комнатах, чистеньких и тихих, содержимых каким-то задумчивым поляком, вероятно из ссыльных. Жили мы вполне уединенно, избегая всяких знакомств. Жена занималась домашним хозяйством. Я — своим сочинением об инородцах, много писал дома, ходил в библиотеки, читал, делал выписки, сделал даже визиты двум, кажется, профессорам, прося у них указаний по моему предмету. Впрочем, в университетские сферы я появлялся с большой оглядкой, боясь, как бы не наткнуться на каких-нибудь петербургских или московских знакомых. Это опасение было моим вечным memento mori. В общем, однако, я усердно играл свою роль, и мои записки о поволжских инородцах разрастались в довольно интересное сочинение. Правда, это была работа чисто кабинетная, которую с одинаковым удобством можно было делать и не на Волге, а на Неве или Москве-реке. Но тем, с которыми приходилось говорить по этому предмету, я объяснял, что готовлюсь на весну к поездкам в разные места казанского края и пока вырабатываю себе программы и маршруты.
В свободное время мы много гуляли с женой, осматривали казанские достопримечательности, заходили на озеро Кабан, где казанцы бегали на коньках, и т. п. В общей сложности наша жизнь была, конечно, однообразна и довольно скучна. Но уединение — это великий ресурс для внутренней жизни, и пребывание в казанском одиночестве имело для меня в этом отношении огромное значение. Я много думал о прошлой деятельности, на все стороны ее обсуждал, размышлял, что делать теперь и в будущем. Эта внутренняя работа так поглощала меня, что меня даже не тянуло выйти из своего существования, изолированного от всего света.
Я не скажу, чтобы во мне происходил какой-нибудь ясный кризис, но мной овладевало все более полное недоумение перед своей жизнью.
Вот я отсижусь сколько нужно в Казани и возвращусь к политическим единомышленникам, к прежней революционной деятельности... Но зачем, собственно, я поеду, и какой смысл в том, что я начну делать? Переживая внутренне прошлое, думая о настоящем, я сознавал с поразительной отчетливостью, что возобновить прежнюю деятельность нельзя, что попытки к этому абсурдны и смешны. Говорить о государственном перевороте силами тех мальчишек и девчонок, которые теперь составляли девять десятых революционной среды, — это была бы фраза просто бессовестная для меня, уже пожившего, научившегося взвешивать истинную цену тех сил, которые были теперь к услугам революционного заговора. Я называю их мальчишками и девчонками, разумея не возраст их. Бывают мальчишки и девчонки, способные на чудеса. Но на это нужен темперамент, горячее, страстное желание, неодолимая ненависть, вера, двигающая горами. Эти же мальчишки и девчонки были революционно несовершеннолетни по самому удельному весу своему и никогда не могли вырасти. Оперируя с ними, немногие «недобитки» старых времен осуждены лишь на то, чтобы питать полицию с ее шпионами, доставлять им награды за раскрытие заговоров.
Вот хоть бы и я... Поеду я в Москву или Петербург и сразу попаду в среду, где нет ни одной квартиры, ни одного человека, не состоящих под самым явным надзором, но этого даже не замечающих. С ними и я через неделю опять буду известен полиции. Что же толку в том, что я старался скрыться из виду, стряхнуть с себя назойливость шпионов?
Но мои сомнения шли дальше. Допустим, что из сотен и тысяч нынешних несовершеннолетних мальчишек путем гибели девяти десятых их подберется горсть крупных и сильных личностей, таких, как были наши «великаны сумрака». Но чего достигли сами люди героических времен? Они боролись с безграничным самопожертвованием, с самой фанатической верой, работая каждый за десятерых. Где же они? Где их творческое дело? Мы разбиты вдребезги, истреблены, а враги стоят неодолимой стеной, вдесятеро более крепкие, чем прежде. Что же это означает? Была ли правильно поставлена борьба, были ли правильно поставлены сами цели, которых мы хотели достигнуть?
Но если законно сомнение в правильности целей, как же мне усиливаться поддерживать их? Ясно, что нужно сначала видоизменить их. А в чем же ошибка? В каком отношении требуется сделать поправки и изменения? Этого я не знал. Если же я этого не знаю, то чему я буду учить других?
Но даже и этими сомнениями не исчерпывались мои недоумения. У меня в глубине души шевелился еще темный вопрос, может быть, самый главный, но не умевший пробиться до моего сознания. Передумывая эпизоды нашей революционной борьбы, я не мог уловить логики событий из простого сопоставления сил борющихся сторон. В исход столкновений постоянно врывался случай, который вдруг подавал неожиданную помощь то нам, то правительству. Когда мы были при последнем издыхании — являлся случай и спасал нас. Когда мы усиливались до того, что казалось, стоило только протянуть руки до победного венца, — являлся случай и низвергал нас в прах. Этот случай, казалось, не был бессмысленным, а имел определенную тенденцию: не дать победы ни одной стороне, а поддерживать факт их бесконечной борьбы. Ведь я очень хорошо понимал, что самое убийство Императора Александра II удалось только благодаря непонятной случайности... Что же это за случай, играющий во всем решающую роль, имеющий больше значения, чем сознательные и преднамеренные усилия борющихся сторон? Ведь собственно случай — это пустое слово. На самом деле случай всегда есть логический факт, только определяемый неизвестными нам причинами. Какая же это таинственная «причина» вторгается постоянно в нашу «борьбу»? А что, если эта причина имеет свои цели, отличные от наших, и распоряжается нашими силами без нашего ведома для достижения каких-то своих целей? Меня охватывало чисто мистическое чувство, когда передо мной всплывал этот вопрос.
Я не говорю, что готов был поверить в провидение, и во всяком случае не согласился бы подчиниться его велениям. Но по совокупности всех условий я был переполнен недоумениями. Казанское уединение дало толчок множеству дум, которые у меня раньше накоплялись в подсознательной области, а теперь всплыли, атаковали меня, требовали решения. Но решения у меня не было. Единственное, чего я хотел настойчивее с каждым днем, — это уединиться, вдуматься в дело, которому служил, пересмотреть все, чему веровал.
И вот у меня стала являться мысль об эмиграции... Мы работали для осуществления европейских идеалов. Каково же их осуществление на их родине? Как живут на Западе, в Европе? Только видя практику их осуществления, я могу понять самый смысл этих идеалов, нами усвоенных по книгам. Только выйдя на время из политической деятельности, я буду в состоянии передумать всю массу вопросов, поднятых во мне жизнью. До сих пор я не помышлял ехать за границу. Теперь эмиграция в Европу стала представляться мне единственным средством уяснить себе свои русские задачи.
Таким неожиданным результатом закончилась моя поездка в Казань, предпринятая с очень скромной целью скрыться от слежки полицейских шпионов.
И странное дело, когда мысль уехать за границу вполне созрела во мне, я почувствовал успокоение души. Я нашел себе исход, избавлявший пока от дальнейших размышлений. О русской деятельности теперь нечего было больше думать до тех пор, пока я не решу целого ряда своих принципиальных вопросов. Это успокоение было так отрадно после множества мучительных колебаний, что я почувствовал себя почти счастливым. Мои мысли направлялись теперь только к тому, как осуществить отъезд за границу.
Мы пробыли в Казани довольно долго, месяца два, помнится, и это время было замечательно бедно какими-нибудь внешними событиями. Я не имел ни интересных наблюдений, ни интересных столкновений, не имел никакого обмена мыслей. Но в отношении пересмотра и разработки собственного душевного содержания казанская жизнь моя была богата самой захватывающей деятельностью. Я был так поглощен внутренне, что не чувствовал никакой потребности в жизни внешней.
Моя жена вполне сочувственно отнеслась к отъезду за границу. Она вполне понимала, что, оставаясь в России, я был неизбежно осужден на самый близкий арест. А затем? Для громадного большинства революционеров арест означал только административную ссылку, в худшем случае — суд и для немногих каторгу. Для меня быть арестованным значило быть повешенным. И она, то есть жена моя, со свойственной ей практичностью погрузилась в соображения, каким способом устроить наш отъезд. Я, наоборот, мало думал об этом. Меня удовлетворяло то, что я нашел себе исход; а как он осуществится — кто его знает... Мне думалось, что, вероятно, найдутся способы, и я в них пристально не вдумывался. Но зато я усердно занялся своими денежными делами. Тогда я серьезнее всего сотрудничал в «Деле» Шелгунова и Станюковича, вел у них даже постоянный отдел «Жизнь и печать». У Николая Васильевича Шелгунова, прекраснейшего, к слову сказать, человека, я был в большом фаворе, да и сам его любил. Хотя оба они числились завзятыми либералами, но серьезных связей с заговорщиками и террористами не поддерживали и во время после мартовских погромов не испытали никаких полицейских репрессий, так что я рассчитывал на прочный заработок у них. Поэтому я стал заготовлять для «Дела» ряд статей, из которых особенно крупная и порядочная была «Общественность в природе». Шелгунов всегда согласился бы мне дать аванс, даже и без обеспечения статьями, и я рассчитывал, что на эти средства сумею уехать за границу.
Уезжая в Казань, я, конечно, взял с собой конспиративный адрес, имел и шифры. Но сношения я вел, кажется, с одним Златопольским, пока он не был арестован. В возобновленном исполнительном комитете была, разумеется, выбрана центральная комиссия, но я даже не помню, из кого она состояла. Во всяком случае, я не имел к ней никакого доверия и, пускаясь в обратный путь, мечтал об одном: чтобы мне никого не встретить в Москве. Жена моя думала, что сумеет добыть заграничный паспорт себе и мне посредством личных своих знакомых, без пособия комитета. Эта мысль мне чрезвычайно нравилась, потому что я боялся этого комитета как огня.
В таких планах и подготовках прошло последнее время нашего пребывания в Казани. Провиденциальная миссия Казани в моей жизни была исполнена. Надо было возвращаться восвояси, и мы пустились в обратный путь, полные одной мыслью: приступить к переправе за границу.
Но это затянулось на более долгий срок, нежели мы полагали.
IV
Итак, мы из нашего тихого казанского убежища перенеслись снова в московский революционно-полицейский котел. Он волновался и шумел. Молодежь бегала по своим конспиративным собраниям, шпионы бегали за молодежью. Там и сям происходили обыски и аресты, после которых революционная беготня каждый раз еще более оживлялась. Среди молодежи шла усердная пропаганда, организовывались кружки и т. д. Сферы либеральные в это время уже стали отшатываться от революционеров, так что все движение очень поюнело.
Комитет занимался тем, что давал толчки этому движению. Более серьезным его предприятием была организация тайной типографии. Не помню, успела ли она выпустить хоть какие-нибудь листки, но, во всяком случае, прожила недолго и 18 июня (1882 года) была захвачена полицией. Из ее устроителей Зеге фон Лауренберг был арестован, а Галина Чернявская успела как-то бежать и эмигрировала за границу вместе (или одновременно) с Марией Николаевной Оловениковой, которая, как я выше говорил, держала штаб-квартиру нового исполнительного комитета вместе с Юрием Богдановичем. Когда оказалось, что штаб-квартира находится под слежкой полиции, Мария Николаевна сбежала с нее, а Богданович был арестован.
Из новых комитетских деятелей Зеге фон Лауренберг был самый предприимчивый и — относительно говоря — ловкий. Он, между прочим, очень мечтал о том, чтобы провести в охранное отделение какого-нибудь своего контршпиона, на манер Клеточникова, но его контршпионы оказывались один хуже другого и, вероятно, просто делались настоящими полицейскими агентами. Из других новых лиц крупнее всех были д-р Мартынов и Лебедев, оба очень хорошие и умные люди, но совсем непригодные для конспирации и совершенно не революционного темперамента. Из внемосковских деятелей стал быстро выдвигаться Сергей (кажется, Васильевич) Дегаев, {100} артиллерийский офицер, кончивший курс в Петербурге. Этот был уже по всему складу характера действительно революционер — умный, с большой волей, с сильным воображением и глубочайше проникнутый убеждением, что цель оправдывает всякие средства. В лучшее время он мог бы разыграть крупную революционную роль, но ничтожество окружающей среды и неистовое самомнение толкнули его на иную дорогу и привели к тому же страшному предательству, которым раньше запятнал себя такой же самомнительный, хотя и глуповатый Гольденберг.
Из комитетских членов наибольшую деятельность тогда развивала Вера Николаевна Фигнер, которая разъезжала по всей России, повсюду агитируя и организовывая кружки. Она была незаменимая агитаторша. В полном смысле красавица, обворожительных, кокетливых манер, она увлекала всех, с кем сталкивалась. Между прочим, она принимала большое участие в создании петербургской военной организации. Но у нее было полное отсутствие конспиративных способностей. Страстная, увлекающаяся, она не имела понятия об осторожности. Ее близким другом сделался Дегаев, который впоследствии выдал ее самым бессовестным образом.
Как я упомянул, Мария Николаевна Оловеникова эмигрировала за границу. Она об этом мечтала еще и раньше, когда держала штаб-квартиру, отчасти потому, что действительно страдала какой-то серьезной болезнью желудка, отчасти потому, что ей было тошно смотреть на русские дела. Надо сказать, что это была личность очень выдающаяся. Я ее считаю в числе четырех самых крупных людей старого исполнительного комитета. [32] Очень умная, с огромным характером, с чрезвычайно отчетливыми убеждениями, она и к старому комитету относилась довольно критически из-за того, что он по уши ушел в террор. Оловеникова отличалась неженским мужеством, хладнокровным и не поддающимся никакому колебанию. Она доказала это в боевых предприятиях, в которых ей случалось принимать участие. Но она была яркая «якобинка» — стояла за переворот и захват государственной власти в руки заговорщиков.
Программа исполнительного комитета тоже говорила, но только говорила. На деле все силы комитета ушли в террор, в цареубийство, на котором он и надорвался. Теперь Мария Николаевна мечтала уйти за границу, чтобы там попробовать более систематично подбирать людей своих взглядов. Ей, кстати, нашлось и очень подходящее дело. Во время моего отсутствия в комитете по почину, кажется, ее же и еще Веры Фигнер и Златопольского явилась мысль организовать большой журнал — «Вестник „Народной воли“» и привлечь к редактированию его звезду эмиграции — Петра Лавровича Лаврова, {101} бывшего редактора «Вестей». Мысль была, конечно, очень умная. Такой журнал мог бы служить большой рекламой для партии, а имя Лаврова должно было привлечь к ней симпатии множества так называемых либералов в России и Европе.
Петр Лаврович был, во-первых, серьезный ученый, во-вторых, справедливо пользовался репутацией человека безукоризненно честного и чистого, а в-третьих, имел огромные знакомства в высших образованных сферах России и Европы. Во Франции к нему были дружески близки такие люди, как Клемансо. Он был хорошо знаком с Карлом Марксом и с рядом профессоров во Франции. Иметь на своей стороне гласную поддержку Лаврова значило очень много. Но привлечь его было очень нелегко. Он с удовольствием смотрел, как русские террористы истребляли министров и сразили самого Императора. Но подать руку людям, обрызганным кровью, Лавров ни за что не хотел. Он отрицал такие средства действия. Сверх того, он был теоретический социалист, страшно неопределенный, но зато очень упорный. А народовольцы стремились к политическому перевороту и конституции.
Петр Лаврович ничего не имел против того, чтобы другие действовали на политической почве. Но сам он не мог принимать участия в политической деятельности. Он был социалист и мог заниматься только социалистическим делом. И вот Мария Николаевна взяла на себя миссию уломать старика и привлечь его к журналу с фирмой «Народной воли».
Правду сказать, если кто был способен к этому, то именно она. Нужно было поладить с Петром Лавровичем, привлечь сто симпатии, сдипломатничать, затушевать разногласия, подчеркнуть общность идей, наконец, польстить старику, заманив его крупной ролью и надеждой, что он поможет дать новые идеи народовольчеству. Все это она могла сделать и действительно сделала.
Она не была красавицей, как Фигнер, но отличалась чрезвычайной привлекательностью. Ее умное, выразительное лицо, не лишенное и красоты, но особенно изящное, производило на всех большое впечатление. Ее прекрасные светские манеры, умение себя держать, вовремя сказать что нужно, вовремя промолчать, устроить так, чтобы внушить собеседнику свою мысль как будто его собственную, перейти, когда нужно, на дружескую короткость отношений — все это привлекало к ней мужчин. Она умела им и головы кружить. Петру Лавровичу голову кружить, конечно, не приходилось, но Мария Николаевна успела понравиться ему, войти с ним в дружбу, заслужить его уважение. Года через два она могла из него, как говорится, веревки вить, и слово «Марины Никаноровны» [33] получило для него очень авторитетное значение.
Не знаю с точностью, когда она уехала за границу. Во всяком случае, на несколько месяцев раньше меня, и уже больше не возвращалась на родину, а умерла там же, в Париже, лег через десяток.
Сам я по приезде в Москву сразу стал в стороне от тамошней политической сутолоки, не бывал ни в кружках, ни на собраниях и думал только о том, чтобы, очистившись так удачно от слежки, не попасть снова на глаз шпионам. Несомненно, что, проученные моим исчезновением, они бы на этот раз немедленно заарестовали меня, если бы где-нибудь встретили. А для меня арест был совсем не то что для громадного большинства шумящих и мятущихся революционеров. Для них арест был приключением, не лишенным даже интереса, с выпуском обратно на волю после нескольких дней или недель пребывания в «кутузке». В худшем случае могла угрожать административная ссылка и в совершенно, исключительно неблагоприятном исходе — предание суду с разными, более или менее тяжелыми, последствиями. Для меня же арест означал несомненную виселицу. Это разница! Но и, помимо того, я был весь в мысли о загранице и не хотел подвергать своих планов риску из-за пустяков и даже из-за важного дела. Итак, посреди окружающего шума я сидел в полном уединении, выходя на свет только по поводу чего-либо, касающего отъезда за границу.
Прежде всего мне необходимо было получить разрешение на отъезд. Как ни пренебрежительно относился я в глубине души к новым товарищам, партийная дисциплина не позволяла покидать дела самовольно. Не помню, с кем я по этому поводу сносился и кто стоял тогда во главе комитета. Во всяком случае, разрешение мне было дано. Опасность моего положения была слишком явная, и, раз комитет не мог, как бываю прежде, охранить меня, мое пребывание в России становилось даже совершенно бесполезным. Между тем для организации и ведения «Вестника „Народной воли“» я мог быть весьма нужен. Положим, лично мне это вовсе не улыбалось. Я хотел уйти за границу вовсе не для того, чтобы снова погружаться в революционную публицистику. Заранее я решил, что не стану входить в это дело. Но тем не менее мне все-таки даны были полномочия принять на себя редакторство предположенного издания вместе с Лавровым и Плехановым. Этим правом впоследствии мне и пришлось воспользоваться в противность всякому своему желанию. А Плеханов, мимоходом сказать, начисто отказался от предложения. Он вел свои издания и не хотел себя связывать участием в чужих.
Второе, о чем я должен был подумать, — это раздобыть заграничные паспорта себе и жене. В прежнее время переправа через границу совершалась очень часто совсем без паспортов, а просто через евреев-контрабандистов и за весьма умеренную цену. Но новый исполнительный комитет ничего не имел, даже и связей с евреями. Следовательно, приходилось искать людей, которые согласились бы взять для себя заграничные паспорта и отдать их нам. Комитет и в этом не мог нам помочь, потому что связи с обществом также очень ослабли. Наступали времена, когда либеральное общество стало бояться сношений с революционерами. Но у жены была в Харькове приятельница, Настасья Осинская, которая пообещала нам достать паспорта. С этой стороны мы успокоились. Затем оставался только денежный вопрос, с которым пришлось повозиться.
У меня в Москве был брат Владимир, с которым мы были очень дружны. А уж он меня особенно любил. Но хотя он был присяжным поверенным, и очень дельным, однако денег никогда не имел, не умел их выторговывать. Пришлось все-таки обратиться к нему. Единственный его способ добыть мне более или менее крупную сумму — это было занять у приятелей, которых, к счастью, у него было немало. Но быстро этого нельзя было достигнуть, и я должен был ждать.
Вместе с тем я обратился к Шелгунову, написал, что у меня есть и статьи почти готовые, другие задуманные, и просил аванса. Как я и не сомневался, добрейший Николай Васильевич дал денег и самым сердечным образом написал, что «Дело» всегда к моим услугам. «Редакция, — писал он, — высоко ценит Ваши работы и напечатает все, что бы Вы ни написали». Он даже предложил мне высылать сто рублей ежемесячно и потом сосчитаться, высылая дополнительно все, что я напишу сверх этой суммы. Предложение Шелгунова было для меня очень ценно, обеспечивая меня небольшим постоянным жалованьем. Впоследствии, за границей, мне это очень пригодилось. В общем, я через несколько времени был достаточно снабжен капиталами. Жена тоже где-то что-то добыла, и мы могли двинуться в дальнейший путь. В этот раз я уже на много лет распрощался с Москвой, распрощался без сожаления, с радостным чувством узника, вырывающегося из опостылевшей тюрьмы. Да простит мне это старая Москва, хотя бы ради радостного чувства, с которым я впоследствии снова явился под ее гостеприимный кров.
Мы поехали в Харьков, твердо веруя в обещание Осинской. Она была сестра знаменитого Валериана Осинского, первого создателя русского терроризма. Это был человек хорошего общественного положения, занимал видное положение в земстве и всем пожертвовал для своей идеи — кровавой борьбы с правительством. Очень умный, хорошо образованный, с большими знакомствами по всему Югу, он своим примером спустил с цепи революционные страсти, всюду назревавшие, но не находившие себе до того времени исхода. Пример Осинского указал, что нечего бесконечно ждать революции, а нужно ее начинать в свою голову, своими единоличными силами. Он изобрел фирму «Исполнительный комитет социально-революционной партии», вырезал печать этого комитета — скрещенные револьвер и кинжал — и начал действовать. Его сотоварищи совершили несколько политических убийств, но более всего наделали шуму и глубоко врезали идею террора в умы революционеров, сначала на Юге, а потом она просочилась и на Север. Сам Валериан Осинский продержался недолго, был заарестован и погиб на виселице.
Настасья Осинская принадлежала, таким образом, к революционной аристократии и со времен брата сохранила большие знакомства и связи в разных слоях южного общества. Оказалось, однако, что и для нее нелегко добыть нам паспорта. И мне, и жене нужны были паспорта каких-нибудь не запятнанных политически людей, и притом довольно солидных, подходивших нам по возрасту. Это составляло большое усложнение. Среди студентов и курсисток нашлось бы немало лиц, согласных оказать такое одолжение для нелегальных, спасающихся бегством. Но их паспорта нам не подходили. А в среде солидных либеральных людей в те времена уже становилось гораздо труднее найти человека, готового взять заграничный паспорт для того, чтобы отдать его эмигрирующему революционеру. Это одолжение действительно далеко не безопасное. Во-первых, эмигрант мог быть все-таки арестован, и тогда лицо, снабдившее его видом, само было бы привлечено к ответственности. Во-вторых, взятый паспорт можно было возвратить в Россию только двумя путями: или по почте, и тогда он не будет отмечен на границе, или же с каким-нибудь возвращающимся на родину эмигрантом, и тогда являлась опасность его ареста и преследования против хозяина паспорта. И вот наше дело затягивалось. Осинская была твердо уверена, что раздобудет нам. Она знала, что жена беременна и что ее необходимо спровадить из России своевременно, чтобы она ко времени родов была уже в спокойной заграничной обстановке. Но дело все-таки затягивалось, и являлся вопрос: сколько же придется нам ждать в Харькове?
Я очень любил Харьков, в котором несколько раз проводил приятные дни и недели. Но жить в нем в данное время, прячась и боясь каждой встречи со знакомыми, было совсем не весело. Притом Харьков был тогда небольшой город. В нем нельзя было, как в Петербурге, затеряться ото всех взоров в массе населения. А надзор полиции за этим бойким и очень революционным центром был очень бдителен. Приходилось жить затворниками, и до такой степени, что о данном пребывании в Харькове у меня не сохранилось ни малейших воспоминаний. Я даже не знаю, сколько времени мы в нем пробыли. Во всяком случае, мы решили, что лучше подождать исполнения обещаний Осинской в более спокойном Ростове-на-Дону, и переехали туда.
За границей
I
Я выехал за границу в эпоху оживленного разыскивания революционеров, в начале августа 1882 года. А из старых народовольцев никого не искали деятельнее, чем меня, потому что из них только я один еще оставался незахваченным, если не считать Марии Николаевны Ошаниной, бежавшей за границу и проживавшей в Париже. Моя фотографическая карточка была вывешена на всех пограничных станциях железных дорог.
Между тем мне предстояло пересечь всю Южную Россию с целым рядом полицейских охран. Со времен Судейкина начали организовывать отряды агентов по участкам железных дорог. Впоследствии число таких железнодорожных охран дошло до многих десятков, но и в 1882 году их было достаточно, так что, пересекая несколько главных линий железных дорог, я, так сказать, проходил сквозь строй полицейских охран. Особенно их приходилось опасаться в приднепровской области, так как Судейкин начал новую организацию охраны с Киева. Я говорю, что их приходилось опасаться, но, собственно, принять никаких практических мер предосторожности было нельзя, кроме того, чтобы пореже выходить на станции.
Но неудобство моего пути состояло еще в том, что нужно было несколько раз пересаживаться с поезда на поезд и, следовательно, волей-неволей показываться из вагона на вольный свет.
Впрочем, я все-таки по возможности изменил наружность: начисто сбрил бороду и баки.
Моя дорога шла из Таганрога на Волочиск, на австрийской границе, а в середине проходила, кажется, Кременчуг. Выехать из Таганрога я должен был потому, что именно здесь нужно было визировать заграничный паспорт, который мне дал для этой поездки некто Мелкон. В обшей сложности этот путь из Таганрога до Волочиска на каждом шагу представлял известный риск, совсем не то что продольные дороги из Москвы, где, благополучно севши в вагон, можно было уже целую тысячу верст не опасаться встречи с каким-нибудь тенденциозным наблюдением за проезжающими. Но ошибочно было бы подумать, чтобы, садясь в вагон, я испытывал какую-нибудь тревогу. Много раз наблюдал я, что чувство тревоги и страха охватывает человека лишь до тех пор, пока неизбежность угрожающей опасности не определилась и мы можем думать, что ее можно избежать. Но здесь все было ясно, ничего в положении дела я не мог изменить, и оставалось только предаться на волю судьбы и двигаться туда, куда она ведет. В таком положении тревога исчезает и мысли направляются в какую-нибудь другую сторону. У меня они естественно сосредоточились на том радостном сознании, что я наконец уезжаю из России и скоро буду за границей. На душе было легко и весело, и охватывало только нетерпеливое желание, чтобы поскорее проходили эти полтора суток странствия, чтобы нигде не задерживались поезда. Выходил я мало, из благоразумия, и старался побольше спать, чтобы скоротать время. Но сон убегал от меня, и я заснул только под самый конец.
Когда я проснулся, то с удовольствием узнал, что мы приближаемся к границе. Состав пассажиров порядочно изменился, пока я спал. В вагоне оказалось несколько человек, так же, как и я, направлявшихся в Волочиск, за границу. Раньше, в глубине России, я почти не вступал в разговоры с попутчиками, потому что у нас были совершенно различные интересы и цели путешествия. Здесь, напротив, так и тянуло к заграничным, потолковать, куда они направляются, что предстоит в Волочиске и в Галиции. Меня охватило неудержимое веселье и какое-то легкомысленное настроение. Я даже и не думал о том, что в Волочиске висит моя фотография и ходит куча шпионов, которые могут меня заарестовать на самом пороге свободной жизни. Я почувствовал себя, как было в Ростове, обыкновенным российским обывателем, как все прочие, с той разницей, что теперь я был молодым человеком, едущим болтаться в чужие края, которому естественно быть легкомысленным.
В вагоне бросалась в глаза какая-то очень миленькая, изящно одетая барышня или молодая дама; ехало также семейство какого-то еврея из Галиции, который называл себя австрийцем, хотя очень хорошо, почти без акцента, объяснялся по-русски. Я присоседился к этим попутчикам и начал даже ухаживать за барышней. Но она на первое время держала себя очень строго. Зато еврей оказался словоохотливым собеседником, и мы с ним весело проболтали до самого Волочиска. Два раза переезжал я границу и нахожу, что ничего не может быть противнее пограничных станций. Время тянется в каких-то скучных формальностях, в которых не можешь уловить смысла. Делать нечего. Уйти никуда нельзя. А между тем должностные лица суетятся, озабоченны, и это кажется почти смешно в сравнении с тоскливым бездействием пассажиров. Была тут и целая куча жандармов, и они тоже суетились, а между тем наиболее интересный для них персонаж — я, многогрешный, — стоял спокойно и безвредно тут же между ними. Нас сначала заперли в вагоне, отобрали паспорта, потом опять выпустили, отдали назад паспорта, и наступило скучнейшее ожидание австрийского поезда, в который нас должны были пересадить. Тянулось это довольно долго. Потом началась австрийская канитель, такая же томительная.
Единственный момент, захвативший было меня интересом, — это переход самой границы. «Вот русская граница», — сказал какой-то попутчик. Я бросился к окошку. С этим словом — «граница», пока ее ни разу не видал, воображение соединяет нечто чуть не грандиозное. Оказался истинный мизер. Перед нами узенький ровчичек, которого бы и не заметил, если бы не сказали, что это граница двух держав. По обе стороны ровчичка широкая полоса абсолютно пустой земли; это нейтральная полоса, русская и австрийская, осужденная на безлюдие. С той и другой стороны ее сиротливо торчат двое часовых — наш и австрийский. Я чуть не плюнул от разочарования. Но зато после этого тотчас начались новые, уже настоящие заграничные впечатления. Мы двинулись наконец на австрийском поезде.
Мой еврей держал себя горячим австрийским патриотом и поминутно обращал мое внимание на то, как у них, в Австрии, все хорошо. Мне, однако, ничего не нравилось. Тогда у нас в России совсем не было закрытых купе. Здесь, наоборот, были только закрытые. Мне это казалось и скучно, и неудобно.
— Как мы будем спать, — спрашиваю, — ведь тут нет никаких приспособлений?
— Не беспокойтесь, будем спать, у нас в Австрии все можно устроить.
Он переговорил шепотом с кондуктором и дал ему денег.
— Ну вот, — объявил он самодовольно, — кондуктор переведет нас в спальный вагон. Я вам говорю, что у нас можно все устроить.
Оказалось, однако, что кондуктор надул. На той станции, где он обещал нас перевести, была перемена бригады, и кондуктор исчез. Таким образом обнаружилось, что на австрийских железных дорогах, во-первых, берут взятки, а во-вторых, при этом обманывают. В России тоже берут, но, но крайней мере, исполняют го, за что взяли деньги. Так не везло моему еврейскому патриоту. Не помню, в каком городе близ поезда по площади проходили войска. Еврей встрепенулся:
— Посмотрите, какие прекрасные у нас войска. Это польские легионеры.
Я посмотрел. Все была самая зеленая молодежь. Лица красивые на подбор, мундиры чистенькие и красивые, маршируют стройно. Но мне бросилось в глаза, что все солдаты очень тонкие, без широкой кости, несомненно, не сильные физически, особенно в сравнении с тогдашними русскими крепышами. Не мог я и тут согласиться с патриотической гордостью еврея. Он наконец свел разговор на общие политические условия:
— В России произвол, граждане не имеют прав. А у нас в Австрии свобода. Всякий может говорить что хочет... Ну конечно, нельзя делать что вздумаешь, но говорить можно свободно.
Мне наконец надоела эта похвальба.
— Ну, знаете, — говорю, — у вас в Австрии можно говорить что угодно, а делать нельзя. У нас в России совершенно наоборот: говорить ничего нельзя, но зато делать можно все, что вздумаешь.
После такого возражения он наконец смолк, да нам пришлось и расставаться, так как он выходил на ближней станции.
Мы проезжали в это время Польскую Галицию, и то, что я видел из окна вагона, не производило на меня впечатления особой культурности. Многие местности Южной России казались положительно лучше обработанными. Другое неприятное впечатление, начавшееся уже в Галиции и преследовавшее меня до самой Швейцарии, — это крайне малый масштаб территорий. Не успеешь устроиться в вагоне или заснуть, как уже тебя тревожат. Оказывается, что тут какая-то граница, какая-то новая страна, что-то осматривают, допрашивают, а то и заставляют переходить в другой поезд. Это мне страшно надоедало, и невольно думалось: «То ли дело у нас в России: сядешь в поезд, едешь тысячу верст, две тысячи, три тысячи — и все одна страна, никаких границ, никто тебя не тревожит».
Вероятно, из-за этих закрытых купе у меня уже не оказывалось русских попутчиков, кроме той барышни, с которой мы переехали границу. От скуки и под влиянием какой-то разгильдяйной веселости, которая меня обуревала все время, я снова начал за ней ухаживать, да и она стала ко мне очень ласкова. Глупо все это было до нелепости, но очень быстро кончилось по-хорошему. Начали мы расспрашивать друг о друге, и барышня особенно осведомилась о состоянии моих финансов. Я очень весело объяснил, что у меня нет ломаного гроша и что я вообще еду за границу в качестве голи перекатной. Тогда она со своей стороны рассказала, что она ищет богатого покровителя и едет в Невшатель, где имеется один такой господин, который, однако, ей крайне не нравится... После этих объяснений мы с ней уже без всякого ухаживания, но очень дружески, словно мы давно знакомы, продолжали совместный путь в разговорах до самой Вены, сожалея о ее невшательских перспективах и о том, что я не могу ей указать никакой более приятной добычи. В Вене мы расстались, она, вероятно, проследовала дальше, в свой Невшатель, мне же необходимо было остановиться, чтобы, согласно уговору, известить жену о благополучном переезде границы и дать ей время выйти мне навстречу в Женеве, где она находилась.
Я, конечно, не помню расписания поездов, но в дальнейший путь на Мюнхен и Констанц я мог отправиться и утром, и вечером, а потому решил переночевать. Совершенно не зная Вены, я приказал извозчику везти меня в гостиницу, и он завез в один из лучших отелей, кажется «Метрополь». Вхожу. Помещение роскошное, дворец. Спросил самую дешевую комнату, и все-таки оказалось чуть не десять гульденов. А у меня денег было в обрез. Это усилило мою решимость убираться моментально, утром же. Я отправил жене телеграмму и письмо, пошел немного выпить и закусить в ресторан — на обед я не мог тратить средств — и закатился спать. Во сне я чувствовал страшную потребность. Путь от Таганрога до Вены без передышки — не шутка, да притом я, очевидно, растратил массу нервной силы, несмотря на кажущееся мое спокойствие и необузданную веселость, которая, конечно, была лишь признаком нервного возбуждения. Здесь, на прекрасной постели, в безопасности, после пары рюмок коньяку, я заснул моментально, как убитый, и спал бесконечно.
Проснулся — спрашиваю прислугу, не опоздал ли я на поезд. Тот смотрел с удивлением и объяснил мне, что я спал более суток и что теперь пропущено уже два поезда, и утренний, и вечерний. Ехать можно только завтра. Вот тебе и раз! Я осведомился, когда считается срок моих суточных платежей. Оказалось, что завтра под вечер. Итак, хочешь не хочешь, приходится заплатить за двое суток, и потому я решил уехать с вечерним поездом следующего дня и употребить оставшееся время на осмотр города. Кстати, в каких-нибудь дешевых ресторанах я мог и поесть дешевле, чем в своей гостинице.
Не знаю, как теперь, но тогда Вена была замечательно красивым городом. Ее можно было разделить на две части: старую Вену и новую. Старая осталась, какой была в средние века, с узенькими улицами и высочайшими домами, но преображена в смысле чистоты. Везде превосходные мостовые, вычищенные, словно их мыли и подметали. В этом лабиринте средневековых улиц находится Штефанц-платц, площадь Святого Стефана, маленькая, чуть не вся занятая поразительным собором Святого Стефана. Из всех соборов, какие потом видел в Европе, ни один не производил такого чудного впечатления. Не берусь его описывать: как описать пером красоту? Высокий, стройный, ажурный, грациозный настолько же, как грандиозный, собор Святого Стефана составляет истинное чудо строительного искусства. Я любовался им до восхищения, как вдруг меня кто-то спрашивает по-русски: «Не желаете ли осмотреть достопримечательности Вены?»
Оказывается, какой-то проводник. Они мне надоедали оба дня, мешали смотреть город. Правда, я сам был виноват тем, что выходил в белой фуражке. Белая фуражка в Вене — это вывеска русского, и притом приезжего, так как, побывши хоть немного в городе, русский старался отделаться от такого неудобного головного убора. За целую версту замечает назойливый чичероне белую фуражку и немедленно налетает на свою жертву. Будь у меня больше времени и денег, может быть, я и взял бы проводника. Но мне нечем было платить и моя цель была не осматривать достопримечательности, а осмотреть саму Вену, пропитаться ее впечатлениями, напитать ими свое воображение, ходить, смотреть, мечтать. Отгонял я проводников самым суровым образом, но они назойливы, упорны и страшно мне мешали.
Как бы то ни было, я все-таки довольно иного побродил и по старой, и по новой Вене. Новая — это уже совершенно иной мир: новые улицы, проложенные при перестройке города, — широкие, длинные, ровные по линейке и, конечно, обставлены громадными домами. Здесь находится и огромный сад, парк Пратер, превратившийся из загородного леса в роскошный городской парк. Крайней границей новой Вены является Дунай, которого исправленное русло мне очень хотелось осмотреть.
Я добрался до реки около главного моста, название которого позабыл: кажется, мост какого-то кронпринца. Странное впечатление произвел на меня этот регулируемый дунайский поток. В прежнее время Дунай был извилист и во время разлива затоплял небольшие пространства. И вот человеческое искусство взялось образумить и привести к порядку капризную великую реку. Инженеры начертали по прямой линии новое русло, достаточное, чтобы вместить воды Дуная; для разливов выкопали с левого берега широчайшее пространство вдоль реки, достаточное для того, чтобы воды разлива могли тут уместиться. Затем и русло, и пойма были обложены огромными набережными, и Дунай был умиротворен. Мне было грустно смотреть на эту побежденную, а некогда вольную стихию. Теперь громадная река, как по линейке, не может уклониться ни направо, ни налево, ни выпрыгнуть из своих берегов, как бы ни старалась разлиться. Жалко смотреть на скованную реку, в которой водяные духи уже не могут проделывать тех штук, что устрашали людей во времена Ундины. Человек победил дядю Струя с его командой.
Я перешел по мосту на другую сторону, осмотрел поближе пойму и зашел закусить в какой-то ресторан, находившийся у самого моста. Здесь мне за грош дали огромное количество какой-то жирной похлебки и сосисок с хлебом, сколько мне вздумалось взять. Наелся я так, как меня не накормили бы два дорогих обеда моей гостиницы.
Ни дворцов, ни музеев и никаких достопримечательностей столицы Габсбургов я не видал. Но общим видом и даже внешним духом города пропитался, можно сказать, насквозь. А у меня есть уверенность, что таким вольным шлянием по городу, с вольной работой воображения надо всем, что попадается на глаза, мы узнаем самый дух города. Разве не узнаем мы характера и даже отчасти жизни человека только внимательным наблюдением его физиономии? Во всяком случае, я уезжал из Вены уже не как чужестранец, а как ее знакомый, с известным мнением о ней.
Уехал я с тем самым поездом, на котором мог бы два дня назад отправиться, если бы не остановился в Вене.
Проехали мы несколько часов — и обычная история: начинается новая страна, пересекается новая граница. Недолго ехали и по Баварии, а в самом Мюнхене имели остановку только около двух часов. Немыслимо было ничего осмотреть в городе. Погулял только по какой-то красивой площади и напился с удовольствием превосходного баварского пива. А там опять звонки, и поезд покатил по живописной Южной Германии, видами которой можно было любоваться, пока не наступила ночь.
К ночи поезд подкатил к последнему немецкому городу, Констанцу, на берегу Баденского озера. На противоположном берегу начиналась Швейцария — уже настоящая страна свободы. Казалось бы, рукой подать, и уж конечно нимало не хотелось останавливаться в захолустном Констанце. Но в Швейцарии в те времена (не знаю, как теперь) поезда совсем не ходили ночью. Буржуазная родина Телля и Руссо рассуждала, что порядочные граждане должны работать днем, а ночью — спать. Железнодорожное движение должно было начаться лишь с утра, а потому и пароходы ночью не ходили.
Помню, тьма тьмущая покрывала Констанц, когда гурьба пассажиров высыпала из поезда. Между ними оказалось и много русских, которых я совсем не замечал в поезде. Все суетились и толклись в беспорядке. «Господа, где же нам ночевать? — слышалось с разных сторон. — Где тут гостиницы?» Но объявились люди опытные, которые объяснили, что хотя гостиницы и есть, но нам лучше и дешевле приютиться где-нибудь у обывателей. В Констанце это давний обычай, и множество обывателей принимают проезжих на ночлег. Толпа пассажиров начала разбиваться по группам и, нагруженная багажом, скрывалась по улицам. Захватив свой багаж, я пристал к одной группе; останавливались мы около двух домов, в которых и находили приют два-три человека. Наступила и моя очередь. Хозяйка приняла несколько человек, и в том числе меня. Она привела меня и еще кого-то в большую комнату. Радушная и веселая, она приказала постелить нам кровати. «Если кто желает, можно и покушать», — прибавила она. Не знаю, как другие, а я не хотел есть и, как только была готова постель, забрался на нее... Странной была для меня вся обстановка, эта патриархальность, дружеское отношение к незнакомым проезжим и самая постель. Я сначала даже не знал, как на ней устроиться. На очень широкой кровати с пологом со всех сторон лежало две перины, одна очень толстая, другая тонкая. «На что мне две перины?» А покрывало было очень легкое и тонкое. Сосед объяснил мне, однако, как спят у немцев. Вторая, легкая перина должна была служить одеялом. Ею закрывались сверху. Странно было сначала, но когда я, утопая в одной перине, натянул на себя сверху еще другую да обернул обе покрывалом, то оказалось очень удобно, легко, тепло, свободно. Хорошо придумали немцы. Оставалось еще задернуть полог, и я очутился в палатке, в которой скоро и заснул сном праведника.
Пароход отходил рано утром, но я проснулся еще раньше, так что мог немного посмотреть Констанц. Город, типично средневековый, заинтересовал меня новизной впечатлений, хотя нисколько не красив. Стены плоские, без украшений. Даже огромная башня не то ратуши, не то церкви, торчавшая передо мной, замечательно бесхарактерна и скучна. На всем городке лежала печать захолустности, безжизненности. Странно было даже думать, что тут когда-то совершались события, собирались соборы:
Богословы заседали, Осудив Ивана Гуса, Казнь ему изобретали.Надо думать, что Констанц тогда был позначительнее и поживее. Но зато когда я вышел на Баденское озеро, на меня так и пахнуло поэзией Майкова:
И из них припомнил каждый Блеск луны и блеск залива, И трактиров швабских Гебу — Разливательницу пива...Правда, луны не было, но пиво превосходное, и краснощекие швабские Гебы находились на своем месте, а уж озеро, залив так очаровательно сверкали и колыхались, что даже без песни соловья могли смягчить сердца жестоковыйных судей чешского мученика.
Это Баденское озеро во все время переезда держало меня в какой-то поэтической истоме. Тихое, гладкое, как полотно, оно широко колыхаюсь, блестя лучами восходящего солнца. Местами оно казалось беспредельным, местами обрамлялось отдаленными хребтами гор и везде переливало гладким светом, везде сверкало вечной красотой.
Переезд через озеро недолог, не больше часа, и вот я качу в швейцарском поезде. Я приготовлялся увидеть живописные грозные горы, захватывающие ландшафты. Но ничего подобного. Горы остаются далеко вправо, далеко влево, и дорога идет посредине Швейцарии, по ровной долине. Горы окружают страну со всех сторон, кроме северной. Поэтому прорыв в Швейцарию труден для всех, кроме Германии. Но выйти из нее во Францию нелегко, потому что близ Женевского озера начинаются сплошные труднопроходимые горы.
Собственно, только с подходом к Женевскому озеру и начинаются красивые виды, которые вдоль самого озера, от Лозанны до Женевы, чарующе прекрасны.
Итак, девять десятых Швейцарии мы ехали очень скучно и крайне долго, потому что хотя поезд идет шибко, но число станций бесконечно. На остановки выходит, я думаю, вдвое больше времени, нежели на движение. А остановки все же так коротки, что нигде нельзя выйти, чтобы хоть немного посмотреть на проезжаемые города. Единственно, что местами заинтересовывало, — это стада прекрасных коров, звук колокольчиков которых мелодично отзывался, если стадо попадалось на месте остановки поезда. На простой взгляд видно богатство Швейцарии молочным скотом.
У Лозанны железная дорога прорывается к Женевскому озеру внезапно. Едешь сквозь тесные горы, ущелья, тоннели и не предчувствуешь перед собой никакого простора, как вдруг открывается громадная водная даль. Озеро не производит впечатления беспредельности и кажется даже гораздо меньше, нежели есть на самом деле, потому что со всех сторон обрамлено высокими крутыми горами. Особенно громадны Савойские Альпы, и хотя здесь еще не видно снеговых вершин, но высота гор — крутых, зубчатых, отвесно спускающихся в озеро — производит внушительное впечатление. Сама Лозанна — очаровательно хорошенький городок. Я в ней потом бывал и даже немного живал. Но на этот раз остановка была самая краткая, и поезд помчался вдоль озера к Женеве, пронизывая горы, проскальзывая сквозь тоннели и снова вырываясь на открытый берег, каждый раз с новыми видами на Женевское озеро, один одного красивее. Почва кругом поражает тщательностью обработки. Это не поля, а сплошные огороды, сады и виноградники, и все это лепится по крутейшим горам, на террасах, выбитых тысячелетним упорным трудом человека. Здесь воочию видишь чудеса мелкой земельной собственности. Вся страна как бы сочится богатством созидающей человеческой силы.
Уже только подходя совсем к Женеве, дорога выходит на равнину, по другую сторону которой, впрочем, высятся Савойские Альпы и белеют вертикальные обрывы Большого и Малого Салева. На далеком горизонте даже мелькают снежные вершины Монблана. Но я уже только мельком смотрел на местность. Все внимание привлекала близящаяся станция Женевы, где я ожидал встречи с женой.
II
Жены, однако, на вокзале не оказалось. Моя феноменальная спячка в Вене перепутала все расчеты ее, основанные на моем письме. Два раза она понапрасну выходила меня встречать. На этот раз вызвался пойти Добровольский, {102} на квартире которого она временно пристала, и проводил меня к ней.
Можно представить радость нашей встречи! Ведь я с самого выезда жены из Ростова ничего не знал о ней, а она все время мучилась жестоким беспокойством за благополучный переезд мой через границу. Этот переезд действительно мог возбуждать большие сомнения. Начать с того, что Мелкой, с паспортом которого я ехал, был чистокровный армянин, черный как смоль, с ястребиными чертами лица, и моя наружность не имела с ним ничего общего. Сверх того, меня сторожили на границе, и хотя я изменил по возможности наружность, но это не имело большого значения для таких опытных физиономистов, как полицейские агенты. Мое письмо из Вены несколько успокоило жену, но все же не совсем, потому что Австрия, по конвенции, выдавала России политических преступников.
А между тем она и сама, оказалось, доехала не без приключений. Прибывши в Женеву, она остановилась в гостинице и отправилась на розыски лиц, указанных ей Осинской, и не нашла ни одного. Кто выехал за город, кто совсем уехал, и ни одного в наличности не было. Она решилась искать Плехановых, но и они выехали за город, так что ей пришлось немало ходить и ездить, пока она наконец нашла их чуть ли не в Лозанне. Только здесь она могла успокоиться. Разумеется, Плеханов и Вера Засулич, у него жившая, ее приютили радушно, а потом нашли ей временную квартиру, в ожидании меня, у Добровольских. Сюда и проводил меня Иван Иванович Добровольский с вокзала.
Как описать светлое настроение беглеца, когда он видит себя на свободе и в безопасности? Кто не испытал этого сам, тому невозможно это объяснить. Потом, конечно, как привыкнешь к новому своему положению, прежнее блаженное чувство исчезает. Тогда и вокруг себя начинаешь замечать много недостатков, да и у самого оказывается много забот и горестей. Но первое время беспримесное, ничем не омрачаемое счастье наполняет всю душу, и вокруг все кажется прекрасным. Для жены это блаженное состояние наступило еще у Плехановых. Их окна выходили прямо на Женевское озеро. Когда жена, проснувшись, взглянула в окна, то вся замлела от восторга: «Неужто на земле может быть такая красота?» Женевское озеро с высящимися напротив Савойскими Альпами дивно хорошо. Его голубовато-зеленая вода чиста, как кристалл, так что дно видно на громадной глубине. Озеро все покоится на горных породах, нет в нем ни илу, ни грязи, сама Рона, протекающая его, не приносит в него мути. Такой прозрачной воды, как в Женевском озере и в Роне, я нигде больше не видал, даже в нашей новороссийской бухте дореформенных времен. Савойские Альпы по красоте тоже поспорят с живописнейшими горами мира. Любуясь на такую картину, можно было забыть даже беспокойство обо мне. Разве может случиться несчастье, когда на свете все так прекрасно?
Накануне, на ночь, жена видит, что Засулич вывешивает за дверь бидон и кладет на него деньги.
— Вера Ивановна, что же это вы делаете?
— А это чтобы молочница нас не будила. Она нальет молока, а деньги возьмет.
Опять восторг и изумление. Что за люди в Швейцарии! У нас в России не нашел бы наутро ни молока, ни бидона, ни денег. Нужно сказать, что швейцарцы в те времена были до поразительности честны. Если в Женеве случалось воровство, то все так и знали, что виновник его — какой-нибудь иностранец. Швейцарец никогда не крал. Доверие к человеческой честности поражало нас в Женеве на каждом шагу. Бывало, слышишь на улице громкий крик почтальона: «Monsieur Dolinsky, correspondance!» Это он принес письма и, чтобы не утруждаться подъемом на третий этаж, кладет их на лестнице и только криком извещает, чтобы спустились взять. А то еще, бывало, увидит в окне и спросит:
— Не знаете ли вы такого-то?
— Знаю, — говорю.
— Будьте добры, возьмите и его письмо и передайте, а то к нему далеко идти.
Раздолье нашим шпионам при таких нравах. Но швейцарцы рассуждали по своей психологии.
Сразу нас поражало также, что в Швейцарии не стыдились работать. Тогда Россия была насквозь пропитана привычками старого барства. Теперь революция перевернула все это вверх дном, и все стали работать даже самую черную и грязную работу. Но тогда прямо смеялись и пальцем указывали на человека, который бы вздумал, например, подмести свой двор. Здесь уже на вокзале проявлялись иные нравы. Вышел, огладываешься — кому бы отдать багаж; никого, носильщиков нет, забирай вещи и тащи сам. Наш квартирный хозяин был богатый домовладелец и, сверх того, почтмейстер. Выхожу я в первое же утро из дому и вижу, что он с метлой в руках усердно подметает улицу около своего дома. Поздоровался со мной, поболтал с минуту и снова принялся за работу. Это поражало тогдашнего русского, хотя нам, молодому поколению, уже и очень нравилось.
Впрочем, я забежал немного вперед. Итак, меня на вокзале встретил Добровольский. Я его знал еще по «процессу 193-х». Он был по профессии врач и тоже впутался в революционную пропаганду. Его судили вместе со мной, и наказание было не особенно тяжкое: ссылка на жительство в Тобольскую губернию с лишением особых прав. Если бы он мог знать будущее, то, вероятно, предпочел бы отправиться в Сибирь. Но он вместо того отпросился на поруки под какой-то большой залог (помнится, пятьдесят тысяч) и удрал за границу вместе со своей женой, Марией Эдуардовной Гейштих, тоже судившейся по какому-то политическому делу. Не знаю, были ли они венчаны, но проживали под общей фамилией Денисовых.
Жили они на Террасьере — так называлось это предместье, хотя никаких террас я там и не заметил. Местность здоровая, около небольшого парка с роскошными вековыми деревьями. Но квартира была самая бедная — комнаты три и невообразимо грязная. Денисовы успели нажить двоих детей. Мария Эдуардовна успела вся иссохнуть от бедности. Сам Иван Иванович тоже был бледный и худой, что еще более бросалось в глаза при его высоком росте и длинной бороде.
В комнатах у них царствовал невообразимый беспорядок. Вещей было немного, но все разбросаны как попало и набросаны одна на другую, как кому вздумалось. Жили они не то что бедно, а по-нищенски. Доходов почти не было. Он иной раз получал что-нибудь за медицинскую практику, она — за акушерскую, но это были гроши, тем более что когда они получали несколько франков, то у них тотчас начинался своего рола кутеж. Они накупали колбас, ветчины, хлеба, и вся семья весело пожирала все это, не думая о завтрашнем дне. Главный источник доходов Ивана Ивановича были займы, конечно, без отдачи. Как только случалось ему прослышать, что кто-нибудь из эмигрантов получал деньги, Иван Иванович моментально мчался к нему и просил дать ему, что можно было взять: двадцать франков — так двадцать, пять франков — так пять. Все уже привыкли к этому и вносили свою подать, потому что, нужно сказать, в среде эмигрантов в те времена товарищество было очень развито и друг друга они поддерживали. А Денисовы невольно возбуждали сожаление. Люди они были очень порядочные и симпатичные, только совершенно опустившиеся. При таком нищенском материальном существовании они влачили жизнь и без всякого внутреннего содержания. Другие эмигранты все же занимались политикой, делились на партии, грызлись между собой, занимались пропагандой, печатали листки и брошюры, ввозили их в Россию, набирали сторонников своих партий и среди русской молодежи, учившейся за границей. У некоторых эта деятельность была и очень ожив-ленна и даже серьезна, как, например, у Плеханова с товарищами. Другие жили, по крайней мере, в чаду революционных фраз. У Денисовых-Добровольских никакого дела не было, ничего они не созидали и не разрушали. У Марии Эдуардовны самым светлым воспоминанием жизни было пребывание в Доме предварительного заключения. Она с увлечением говорила, как арестованные вели между собой сношения, бунтовали против начальства, ходили на свидания с приходящими «с воли», передавали им записки из тюрьмы и т. д. Тюрьма, о которой всякий вспоминал с отвращением, была самым светлым лучом в этой бедной, бессодержательной жизни. А ведь и Мария Эдуардовна была когда-то молода, и у нее когда-то кипели мечты о революции, о великой деятельности. В эмиграции есть такой осадок полных неудачников, выброшенных из какой бы то ни было жизни, и они возбуждают глубокую тоску и жалость.
Наш приезд был для Денисовых великим событием. Мы для них были лично люди чужие. Но дать приют таким важным особам революционного мира, да еще секретно, сделаться хранителями политической тайны — это давало им давно забытый смысл жизни. Оба они ходили веселые и счастливые. У нас же, кстати, были общие воспоминании по тюрьме. У нас были сообщения о том, что делается в России, а у них — рассказы об эмигрантах. У нас были все-таки небольшие деньжата, и Добровольские немедленно накупили всякой вкусной провизии. Так на Террасьере начался пир с веселыми разговорами, и не только приезд мой был достойно отпразднован, но хватило оживления и провизии и на следующие дни, пока мы не покинули этого гостеприимного крова.
Нам нужно было немедленно устраивать себе какой-нибудь приют для родов Кати. Мы быстро присмотрели себе хорошенькие комнаты на rue du Rhone, но хозяева сказали, что сначала нужно prendre des ren Seignements о нас и через два дня заявили, что сдать не могут. Мы тогда нашли себе две комнаты у какой-то женщины в commune de Plain-Palais, женевском предместье. Не помню улицы, а квартира была неважная, бедноватая и грязноватая, во втором этаже. Но у Кати было так мало времени до родов, что разборчивость приходилось отбросить в сторону. Хозяйка была, впрочем, ничего себе, ласковая и услужливая, и мы кое-как устроились. Начались у нас приготовления к приему нового пришельца в свет. Купили между прочим прекрасную детскую коляску на прочных рессорах, с плотным верхом. В акушерки, разумеется, была приглашена Мария Эдуардовна. И вот 28 августа 1882 года явился на свет Божий мой первый сын, названный нами в честь деда Александром, хотя и остававшийся некрещеным до самого нашего возвращения в Россию. Это произошло около двух недель по моем приезде в Женеву.
В связи с ожидаемым рождением ребенка мне довелось тогда познакомиться с милейшим семейством Эльсницов. Не помню, кто мне их указал, может быть, даже Денисова. Дело в том, что ребенка нужно было зарегистрировать в мэрии, а для этого должны были потребоваться документы родителей или свидетельство местного гражданина. Документов у нас с женой никаких не было. Я назвался фамилией Долинского (Василия Игнатьевича), но это был чистый псевдоним, не подкрепленный даже и фальшивыми документами. Да кстати сказать, фальшивые документы в Швейцарии и во Франции были очень опасны. Закон не воспрещал называться в публике каким угодно именем, но фальшивый документ составлял уголовное преступление. Точно так же, как скрывание своего действительного имени перед полицией. Следовательно, нам нужно было найти какого-нибудь швейцарского гражданина, который бы засвидетельствовал в мэрии действительную принадлежность нам ребенка. Но между русскими эмигрантами огромное большинство не имело никаких знакомств и связей с местным обществом. Знакомства начали немного заводить у Плеханова, но еще очень поверхностно. Серьезные же знакомства были только у Элпидина, Жуковского (Николая Васильевича) {103} и Эльсница. {104} С Элпидиным я не хотел знакомств, а с Эльсницом и Жуковским познакомился. С Эльсницами я познакомился тем охотнее, что они были мне не совсем чужие. Еще в Москве, в студенческие времена, я давал уроки барышне Москвиной, а за какую-то из дочерей этой семьи сватался Эльсниц. Теперь оказалось, что Эльсниц женат как раз на Москвиной. Правда, она именно и не была моей ученицей, но все же эти-то имена звучали мне чем-то знакомым.
Эльсниц Александр, кажется, Эдуардович был эмигрант по какому-то совершенно пустому делу и в настоящее время оканчивал курс медицинского факультета. Он потом навсегда остался за границей и еще при мне получил место общинного врача во Франции. И он, и его жена были прекрасные люди, образованные, развитые, и жили очень не бедно, не знаю, на какие средства. Дети их были тоже очень миленькие, хорошо воспитанные. Вообще, семейство было очень приятное, в полном смысле культурное, с многообразием интересов. Эльсницы имели большие местные знакомства, и мать семейства жаловалась на трудность поддерживать в детях знание русского языка. Я вообще слыхал, что при совместной жизни детей русских и французов они научаются скорее и лучше по-французски; если же в той компании есть и дети англичан, то все начинают говорить по-английски. Говорят, что для детей легче всего дается английский язык, потом французский и труднее всего русский. Лично я не могу подтвердить этого, потому что наш маленький Саша, имевший знакомства только между французскими детьми и даже учившийся во французской школе, все-таки лучше всего знал русский язык.
Так вот, я и направился к Александру Эдуардовичу, чтобы по просить его заранее подыскать нужного для меня швейцарского гражданина, что он и исполнил. Это был какой-то местный социалист и как раз гражданин общины Plain-Palais, где он имел собственность. Эльсниц совершенно не занимался русской политикой и в русских эмигрантских партиях не участвовал. Но среди его швейцарских знакомцев были социалисты, и простой буржуа, конечно, не согласился бы оказать русскому эмигранту услугу, о которой я просил. Я лично видел, сколько неприятных хлопот пришлось испытать этому любезному собрату по революции, которого имя я, к сожалению, совсем позабыл. Может быть, Оди.
Дело в том, что швейцарцы терпеть не могут, когда у них рождаются дети иностранцев, особенно бедных. По закону ребенок, зарегистрированный в списке мэрии, переходит на попечение общины в случае, если родители не в состоянии о нем заботиться. Община в этом случае обязана дать ему воспитание, прокормить его, обучить какому-нибудь ремеслу и пристроить к какому-нибудь делу. С наступлением шестнадцати лет этот мальчик или девочка имеют право сделаться гражданином общины, а тем самым — гражданином Швейцарии. Если же такой ситуации гражданства не воспоследствует, община только тут наконец свободна от попечения, ей навязанного иностранцем.
Итак, когда Саша родился и мы с моим покровителем пришли в мэрию, нас встретили крайне нелюбезно. Когда мы объяснили, что родился мальчик и его требуется записать, секретарь потребовал мои документы. Я отвечал, что их нет у меня.
— Ну а я без документов не могу записывать...
Мой покровитель горячо вступился и сказал, что он, гражданин commune de Plain-Palais, заявляет тождественность родителей ребенка.
— А почему они не имеют паспорта?
— Это все равно почему. Вы имеете заявление гражданина и обязаны зарегистрировать.
Долго они торговались. В конце концов секретарю пришлось покориться.
Мы, стало быть, были юридически обеспечены в отношении ребенка, и тут началась моя нормальная эмигрантская жизнь.
III
Мы не могли оставаться в квартире на Plain-Palais, страшно тесной, взятой наспех только по случаю родов жены, и приискали другое помещение, на Route de Carouge, тоже, конечно, небольшое, помнится, в три комнаты. Но здесь мне все-таки возможно было заниматься, несмотря на прибавление семейства. Грудной ребенок занимал, в сущности, больше, чем взрослый человек, но в этой квартире Катя все-таки имела достаточно простора, чтобы ухаживать за маленьким Сашей. Была у нас и маленькая кухонька на французский лад, то есть с небольшим очажком. Что касается прогулок ребенка, то мы имели под рукой роскошную Plaine de Plain-Palais, которая подходила почти вплотную к нашей улице. Это громаднейший луг, покрытый свежей зеленой травой, а вокруг него тянулась широкая аллея, обсаженная прекрасными старыми деревьями, кажется каштанами. Сюда мы вывозили на колясочке своего Сашу. Сначала мы затруднялись спускать колясочку с третьего этажа, разумеется без ребенка, но она прекрасно выдерживала испытание. Их в Швейцарии делают очень прочными. Мы впоследствии вывозили Сашу в этой колясочке на самую вершину Большого Салева и ни разу не поломали. На Plaine de Plain-Palais можно было проводить хоть целые часы, потому что по аллее очень много скамеек. Это место, куда вывозят и выводят гулять детей со всей округи. На самой долине происходят также маневры швейцарского войска. Нужно сказать, что эти маневры не так стройны, как у нас. Швейцарские солдаты довольно мешковаты и мало вымуштрованы. Но они пользуются репутацией прекрасных стрелков.
У жены была пропасть хлопот, ухаживание за ребенком и домашнее хозяйство на кухне и по уборке. Но мы жили весело и хорошо. Были и знакомые, хотя и немного. Любили мы бывать у Эльсницов. Они занимали хорошенький особняк с небольшим собственным садиком. Комнаты у них были прилично меблированы, очень опрятны. У них была и прислуга. Вся обстановка зажиточного удобства резко отличалась от обычной эмигрантской бедноты, и у них было приятно посидеть в уютном садике, на удобном кресле, за самоваром, во всегда интересной беседе с радушными хозяевами.
Впрочем, и мы не могли пожаловаться на свою судьбу. Я получал из «Дела» аккуратно свое жалованье, составлявшее франков триста в месяц, а на такую сумму в дешевой Швейцарии да при практичной хозяйственности Кати можно было жить припеваючи. В те времена жизнь в Швейцарии была изумительно дешева. Не знаю, как в других кантонах, но в Женевском не существовало никаких пошлин на ввозные товары, за исключением часов. Из-за границы поэтому ввозили все дешево. Местные продукты — молоко, яйца, сыры, всякая овощ и т. п. — все получалось за гроши. На всякие государственные расходы швейцарцы тратили феноменально мало. Помню, там был приятель Элпидина, по-нашему министр, а по-ихнему секретарь народного просвещения; так он получал жалованье меньше меня, что-то около двух тысяч франков в год. Одну из главнейших доходных статей Швейцарии составляли иностранцы, туристы, проводящие летние месяцы среди этой чудной природы. Их привлекали дешевизной жизни, и в общем они оставляли в швейцарских карманах массу денег, так как между ними было много богатых людей. Вообще нужно сказать, что швейцарцы устроили свою жизнь чрезвычайно практично. Труд, честность, дешевое самоуправление, мелкая собственность, уничтожение бесполезных расходов проявлялись всюду в общем довольстве. Не видно было ни богачей, ни бедняков, а все жили хорошо. Это бросалось в глаза тем сильнее, чем больше вглядывался в окружающее. Крепкое, здоровое, хорошо одетое население производило самое приятное впечатление. Лишь впоследствии мне стало казаться, что жизнь в Швейцарии скучна, чужда «вопросов» и порывов к чему-нибудь лучшему. Эти «счастливые швейцарцы», как выражался Карамзин, достигли пределов благополучия, допускаемого их принципами жизни, и дальше им некуда идти. Нет у них больше никаких великих задач. Они исчерпали все свои возможности и стали как бы застывать на своем нуле градусов.
Плеханов терпеть не мог швейцарцев. Раз как-то у нас зашла речь о болотистой долине верхней Роны, что в населении очень распространен зоб, сопровождаемый идиотизмом... «Да швейцарцы все такие, — прервал меня Плеханов, — все равно и здесь такие же идиоты, только зоба нет...»
Как бы то ни было, мы зажили хорошо. Я твердо держался своего решения не путаться в политику и избегал даже больших знакомств с эмигрантами. В Женеве в это время жил Владимир Голдовский, то есть в действительности Иохельсон. {105} Это был хороший еврей, страстный поклонник народовольчества, взявший на себя в Женеве миссию быть представителем, защитником и сотрудником народовольчества. Это было все содержание его жизни, хотя, конечно, он, в сущности, ровно ничего не делал, да и делать было нечего, кроме словесных турниров с прочими партиями — плехановцами, драгомановцами, остатками ткачевцев. Плеханов его презирал и называл дураком, да Голдовский, хотя не был дураком, действительно обладал только самыми ординарными человеческими способностями. Довольно ограниченный, добрый, наивный, он сердечно привязывался ко всему «своему», в данном случае к народовольчеству, не требовал себе в нем никакой важной роли, но для счастья своего должен был сознавать, что и он тоже народоволец, маленький член великой, как ему казалось, партии героев. В этом было нечто смешное, но, с другой стороны, было и трогательное. И вот я даже не открыл ему, что нахожусь в Женеве, и он долго не знал этого. Уходя от политики, я с отвращением думал о людях, которые меня снова будут втягивать в нее, а с Голдовским это было неизбежно. Итак, я спрятался от него. Боже мой, как он был огорчен и разобижен, когда наконец моя тайна дошла до него. Как он, народоволец, даже не знает о присутствии такой важной народовольческой персоны, а между тем Плеханов с друзьями знают это, я бываю у них... Это была обида смертельная, и нужна была вся сердечная доброта Голдовского, чтобы забыть ее, когда я наконец вступил в общение с ним.
Из эмигрантов я первое время поддерживал знакомство только с Эльсницами, Плехановым да познакомился с Жуковским Николаем Васильевичем. Жуковский занимал совершенно особое положение в эмиграции. Он был обломок герценовских времен. В России он принадлежал к семейству, кажется, чиновному и во всяком случае зажиточному. Рассказывал он как-то, что у него с товарищами была тайная типография, устроенная очень замысловато. Они придумали замаскировать наборную кассу в виде коллекции минералов. Под каждой коробочкой с минералом было гнездо со шрифтом. Приступая к набору, они снимали коробочки минералов, и тогда являлась на свет полная наборная касса. Не знаю, почему ему пришлось эмигрировать, но за границей он приютился около Герцена в качестве молодого подручного человека, кажется, по делам «Колокола». Не знаю, что он делал за границей. Эмиграция времен Герцена и Бакунина жила совсем не так, как в мои времена. У них была какая-то всемирная революционная деятельность — вместе с поляками, итальянцами, венгерцами и т. д., так что они находились в тесной связи с европейскими заговорщиками. Вследствие этого у них и образовались обширные знакомства за границей. Эти знакомства сохранились у Жуковского и в мое время. Он вообще хорошо знал европейскую жизнь, вероятно, лучше, чем русскую, и в идейном смысле продолжал оставаться революционером, хотя ровно ничего революционного не делал. Чем он жил в материальном смысле, не знаю, но жил, по-видимому, обеспеченно. Человек это был чрезвычайно интересный, тонко развитый, широкообразованный, очень умный и хотя с прежними революционными идеалами, но уже достаточно потрепанный жизнью. У него уже явилось много скептицизма в отношении практического осуществления этих идеалов, а тем более в отношении людей. Он мог иронизировать над самим Герценом. Рассказывал раз, как к Герцену приезжал Нечаев, рассчитывавший сорвать с него хороший куш на свои дела. Нечаев рассудил, что на барина лучше всего подействовать демократической грубостью. Он явился в армяке, говорил по-мужицки, а больше всего сразил Герцена сморканием в его изящно убранных комнатах. «Как приложит палец к ноздре да шваркнет прямо на ковер, потом придавит другую ноздрю — да опять, на другую сторону... Так и ошалел Александр Иванович: народная сила идет в революцию, нельзя не поддержать». Нечаев слупил с него за эту комедию двадцать тысяч рублей. Другой раз Жуковский с грустью говорил о рабочем движении на Западе: «Что же, организуются рабочие и даже как будто имеют свои убеждения. Но вот что наводит на меня сомнения: ведь все вожаки — из буржуазии, рабочая среда не способна их порождать. Как же эти дети буржуа могут представлять рабочую идею?» Едва ли он даже допускал свой скептицизм высказывать во всей полноте. Темный брюнет с острыми чертами худого лица и все еще искрящимися глазами, он чаще помалкивал при горячих спорах эмигрантов, ограничиваясь саркастической гримасой. «Николай Васильевич, вы ужасно похожи на Мефистофеля!» — воскликнула однажды в такую минуту какая-то барышня. Он весь скривился в насмешливой улыбке: «А вы до сих пор не заметили, что я Мефистофель? Я ведь и есть Мефистофель».
С Элпидиным я не хотел знакомиться, но однажды зашел к нему в библиотеку взглянуть и на библиотеку, и на него. Он тотчас обратил на меня самое подозрительное внимание. Это был человек, помешанный на шпионах. Они ему вечно мерещились. Это нельзя было назвать манией преследования, потому что он их вовсе не боялся, а только очень любил разыскивать. Элпидин учился где-то в Казани, был там замешан в каких-то политических делах и эмигрировал что-то очень давно. Я с ним тоже познакомился позднее. Это был человек среднего роста, шатен, с широким лицом, совершенно неинтеллигентным, плотный, почти жирный. Он обладал большими практическими способностями, начал выпускать журнал «Общее дело» и отдельные издания, завел библиотеку и вел дела так, что жил в известном благосостоянии. Для изданий он умел выбирать книги, обещавшие хороший сбыт, как, например, сочинения Чернышевского, статьи Щедрина, не пропущенные цензурой, и т. д. В результате книжная торговля Элпидина была единственной за границей, которая давала доход.
Женился он на швейцарке и сделался женевским гражданином. Но собственно вожаком какой-нибудь партии он не был и едва ли хотел быть, да и не годился для этого. Его «Общее дело» некоторое время хорошо шло и было вообще очень небезынтересно, по известиям из России, но никакого определенного направления не имело, кроме разве того, что постоянно ругало правительство. Из литературных работников в нем самый талантливый был Владимир Зайцев, бывший сотрудник «Русского слова». Еврей, интеллигентный революционер, он с какой-то бешеной злобой ненавидел Россию и буквально проклинал ее, так что противно было читать. Такого типа я больше не знаю в эмигрантской публицистике. Все другие, ругая правительство, всегда проявляли любовь к России, каждый на свой лад. Зайцев же мог писать: «Сгинь, проклятая» (буквально)... Мне не пришлось его видеть. Он умер в год моего приезда.
Элпидин, как я сказал, отличался тем, что всюду заподозривал шпионов. Может быть, они ему когда-нибудь и надоедали, но отдельные случаи, им приводимые, никакого шпионства не доказывали. Идет, например, человек по улице. Элпидин шепчет своему спутнику: «Смотрите — шпион». «Почему вы знаете?» — «А зачем на нем калоши?» Но калоши могут служить довольно верным указанием лишь на то, что этот человек приехал из России. Ни французы, ни швейцарцы калош, можно сказать, никогда не надевают. Но профессия шпионства тут решительно ни при чем. Другой раз, рассказывал мне Элпидин, он услыхал ночью, как кто-то старается отворить снаружи дверь его ключом. «Я, — рассказывал он, — потихоньку оделся, взял свечу, подошел без шума к двери и внезапно отворил ее. Смотрю, стоит шпион с ключом. Сконфузился. Что, говорю ему, не подходит ключ? Он моментально удрал». Почему это был шпион, а не самый обыкновенный воришка — это известно только воображению Элпидина.
Знакомство с ним у меня осталось самым поверхностным. Он не представлял никакого интереса.
Этого нельзя сказать о полковнике Соколове, {106} с которым я познакомился также немного позднее. Это был настоящий русский полковник даже каких-то специальных войск, может быть, Генерального штаба. Замешанный в каком-то политическом деле, он бежал за границу и тут проводил бесцельную эмигрантскую жизнь в шлянии по собраниям, в резких революционных речах и особенно в пьянстве. Пил он всегда и везде, при малейшей возможности, пил все, где только был спирт. «Пил я лак, пил скипидар, — говорил он мне, — только одного керосина не пил». Он был совершенно погибший пропойца и вдобавок нищий, ничего не имевший, кроме случайных подачек сотоварищей по эмиграции. А между тем в нем были еще остатки светлого ума, большого остроумия, видны были остатки когда-то огромных знаний. Сама наружность его бросалась в глаза. Высокий, крепкого телосложения, он сохранял в лице отпечаток ума и энергии. Когда-то он писал. Ему принадлежала талантливая книжка «Отщепенцы», в которой прославлялся тип нигилиста, отрекающегося от всех основ своего общества и идущего на созидание чего-то великого нового. Но чего? Этого ни Соколов, ни его отщепенцы не знали. Люди этого типа были чистые разрушители, подходящие, пожалуй, ближе всего к анархистам.
Как-то Жуковский пригласил меня на какую-то конференцию, где присутствовал и полковник Соколов, — в пивной, где и публика, и ораторы сидели и стояли за кружками пива. Не помню речей — они все на один лад. В конце концов поднялся чуть не головой выше всех наш Соколов. Он превосходно говорил по-французски. Раньше речи были что-то о правительствах и их насилиях. Соколов в нескольких красноречивых фразах своим густым, истинно полковничьим басом обрисовал всю зловредность властей и заключил отчаянной фразой, что каждый при встрече с правительственным агентом должен убить его... Ни более ни менее! Это покоробило всю публику: призыв к убийству — это уже переходит законную границу свободы слова. Наступила минута общей неловкости. Нельзя было соглашаться с оратором, неудобно было выступить и с реакционным протестом. Жуковский поторопился выручить и Соколова, и публику. Он как-то придал иной смысл скандальной фразе, перешел на другое, третье, четвертое весело и остроумно. Публика прояснилась, атмосфера очистилась, а Жуковский в конце концов предложил выпить главный кубок. Я не помню, как называется этот кубок, который есть во всех пивных. Он чуть не в полведра вместимости, и далеко не всякий может удержать его в руках. Император Вильгельм по вступлении на престол, объезжая города своей империи, где-то возбудил неистовый энтузиазм всего населения, осушив такой кубок. В Женеве был такой порядок, что если отважный, решившийся его выпить, справлялся с задачей, то вся публика оплачивала стоимость пива. Если же взявшийся за гуж оказывался не дюж, то он должен был сам заплатить. Жуковский предложил такой кубок Соколову, и публика весело согласилась, а полковник принял вызов без малейшего колебания. Я видел этот кубок, который он поднял одной могучей рукой и выпил почти без передышки. Я не мог и не могу понять, в каком человеческом желудке способна вместиться такая лошадиная порция жидкости.
Полковник Соколов, кажется, был перед тем близок к «Набату» Ткачева, бывшего сотрудника «Русского слова». Ткачевцы некоторое время играли шумную роль и за границей имели большую партию. «Набат», как показывает само название, вечно гудел призывом к революции, а в программном смысле поддерживал «якобинские» идеи захвата власти. Поэтому ткачевцы вечно полемизировали, с одной стороны, с Лавровым, издававшим «Вперед», и с другой — с Бакуниным и его учениками. Бакунину Ткачев посвятил брошюру «Анархия мысли». Эти партии между собой жестоко грызлись и вели не столько полемику, как перебранку. Над Лавровым большей частью просто подсмеивались и вышучивали его. Нужно сказать, что почтеннейший Петр Лаврович легко поддавался вышучиванию. Это был многоученейший, умеренный и аккуратный социалист, который старался синтезировать все революционные направления, а в действительности делал из них какую-то размазню, весьма пресную, так как ему было органически противно все резкое.
Лавр и мирт, говорят, Сочетал квас и спирт, —как о нем зубоскалило одно стихотворение. Я видел целый сборник карикатур на Лаврова и Бакунина, которые совсем перезабыл, помню только, что между ними были и очень остроумные.
Нужно сказать, однако, что все эти бури в эмигрантском стакане воды имели в России очень малое отражение. «Вперед» Лаврова читался в России сравнительно много, «Общее дело», говорят, сильно распространялось в армии во время Турецкой войны. Но, вообще говоря, мы, русская революционная молодежь, почти не знали эмигрантских партий и со времени развития народнического движения, а тем более народовольческого, перестали даже обращать внимание на заграничные партии, а жили своей собственной мыслью, как ни была она слаба.
Мы больше брали за границей только агитационные книжки для народа, сочинявшиеся по большей части в России. В общем, по мере развития революционного движения внутри страны заграничная литература хирела. «Вперед» прекратился в 1877 году, «Набат» в 1878 году. Иссякала и брошюрная литература, с тех пор как в России стали фабриковать собственную в тайных типографиях.
Ткачев на несколько лет пережил свой журнал и умер уже при мне. Но все последние годы он влачил жалкую жизнь сумасшедшего. У него был, кажется, прогрессивный паралич. Он ничего не сознавал и имел какую-то наклонность обмазывать себя своими испражнениями. У него была издавна сожительница-француженка, которая до его смерти несла тяжкий крест ухода за ним.
Из старой эмиграции, таким образом, уже никого не было и какой-либо активной революционной работе, кроме Лаврова, который пристроился к «Вестнику „Народной воли“». На место старых нарастали новые люди и новые направления. Из них сначала было более заметно народовольчество, но глубже всего оказалось социал-демократическое направление, выращенное Плехановым с товарищами.
Я и у Плеханова бывал нечасто, но все-таки бывал. Он жил в Женеве, где-то в предместье, с женой, Розой Боград, Верой Засулич и Дейчем. Ближайшие его единомышленники были, кроме них, Василий Игнатов {107} и Аксельрод. {108} Эта группа вышла из «Черного передела», то есть народнической фракции «Земли и воли». Часть членов «Земли и воли» образовали «Народную волю», другая часть — «Черный передел». «Черный передел» был скоро задушен полицией, и остатки его скопились около Плеханова, который совершенно отрешился от чернопередельства и стал развивать чистый социал-демократизм. В этом отношении он обнаружил большое понимание условий времени, которое для социалиста действительно указывало одну линию: оставить в покое крестьянство и стараться организовать революционный фабрично-заводской пролетариат. Все сотоварищи Плеханова — Засулич, Дейч, Аксельрод — были чистые социал-демократы, кроме Игнатова, который остался народником и пристал к компании Плеханова чисто по дружбе. Он, однако, имел для кружка большое значение, потому что имел порядочные деньги. Все остальные не имели ни гроша и только зарабатывали кое-что литературным трудом. Впрочем, Василий Игнатов скоро умер. К компании Плеханова принадлежал также по дружбе Яков Стефанович, не имевший с ним по убеждениям ничего общего. Но Стефанович в 1881 году уехал в Россию, присоединился к народовольцам, очень скоро был арестован и затем навсегда исчез для революционной деятельности. Что касается жены Плеханова — они, полагаю, были невенчанны, — то она никогда не обнаруживала никаких убеждений и никакого стремления к общественной деятельности. Она училась медицине еще в Петербурге, где они сошлись с Плехановым, и продолжала учиться за границей что-то бесконечно долго. Что из нее вышло в конце концов — не знаю. Но в то время у них были уже дети.
Жили Плехановы очень бедно, в нижнем этаже дрянного дома. Единственная роскошь, которой гордился Плеханов, — это были полок пять-шесть с книгами. Сочинения все серьезные, ценные и переплетенные. Видно, Плеханов не жалел на своих любимцев последнего гроша. Помимо того, что у всей компании не было денег, все они были крайне непрактичны и никто (кроме Дейча) не заботился о хозяйстве. Роза Боград абсолютно ничего по хозяйству не делала. Поэтому Плехановых страшно обдирали в лавках, а купленное тратилось нелепо. Моя жена в ужас пришла, когда прочитала расходную книжку Плехановых: их не только обсчитывали, но записывали чуть не вдвое против действительного забора. И никто у них не обращал на это внимания. Менее всего сам Георгий Валентинович: он был вечно всецело погружен в научные экономические вопросы и в сношения с петербургскими рабочими, а также с немецкими социал-демократами, с которыми у него постепенно нарастали большие связи. Плеханов был, понятно, достаточно умен, чтобы понимать невозможность сходиться со мной в политике. Наши отношения держались на чисто личной почве, и когда мы даже говорили о европейских социал-демократах, то я расспрашивал его чисто из любознательности. Но Дейч однажды попробовал убедить меня сойтись с ними в совместной деятельности.
«Пойдемте прогуляемся», — пригласил он меня раз, когда я был у Плеханова. Пошли. Говорили о всяких пустяках, пока не дошли до ронского мола, jetee, как называется по-французски это прелестное местечко. При истоке Роны из Женевского озера в его голубые воды брошен длинный мол, который образует довольно большую гавань. Этот мол очень неширок и настолько невысок, что, севши на него, достигаешь ногами почти до воды. Мы пошли по молу; справа простиралась обширная даль озера, слева — водное пространство гавани, на которой, как всегда, не было ни одного суденка. Не знаю, для чего женевцы и делали свою jetee. Но место дивное: ширь, благодать в воздухе и нигде ни единой человеческой души. Удобно для секретных разговоров. Дейч как будто нарочно завел меня в такое конспиративное местечко. Сели мы на мол, далеко от берега. И вот он заговорил. «Давно уже хотел я с вами перетолковать», — начал он и высказал свой план. Мы с Плехановым, с Засулич — старые приятели, да и Дейча знаем. Компания благонадежная. Почему бы нам не работать вместе? Мы бы могли начать ряд изданий: и людям польза, и нам. Дейч обрисовал, что все мы живем без гроша. Издательская фирма с такими известными именами непременно привлечет пожертвования. Людей, пользующихся таким уважением и доверием, нет во всей России. Сочувствующие революционному делу непременно окажут нам материальную поддержку...
Это предложение мне было крайне неприятно. План Дейча был вполне правилен, но дело в том, что я вовсе не желал заниматься никакой революционной пропагандой, а открывать ему свою душу, свое настроение было невозможно. Поэтому я отвечал на таком языке, который был ему понятен. Я сослался на то, что я член определенной организации и без ее разрешения не могу вступать в соглашение с другими кружками. Принятая мной позиция, казалось бы, клала конец всякому дальнейшему разговору. Но Дейч был просто нахален. «Вы говорите неискренне, — отвечал он. — Какая такая организация? Я понимаю, что с посторонними людьми вы можете и должны скрывать истину. Но зачем притворяться между своими? Ведь я знаю, что организация ваша разбита и уничтожена и ничем не может вас связывать...» По всей вероятности, Дейч, не догадываясь об истинных причинах того одиночного положения, которое я занял, объяснял его себе тем, будто бы никаких народовольцев нет, так что мне и не с кем быть в связи. Это, конечно, была его ошибка. Народовольцев было много: сотни и даже тысячи. Охотник до игры в организации мог бы на моем месте разыгрывать роль центра огромных сил. Я совершенно искренне возразил ему, что он ошибается, что организация «Народной воли» совершенно жива и крепка и что я сохраняю к ней свои обязательства. Не знаю, насколько он поверил мне, но разговор этот оставил в обоих нас неприятный осадок. К счастью, моим отношениям с Плехановым это не повредило. Что касается Дейча, он мне вообще не нравился, я не искал хороших с ним отношений и не огорчился их охлаждением.
В кружке Плеханова, кроме него самого, в высшей степени привлекательна была только Вера Ивановна Засулич. Она была по внешности чистокровная нигилистка, грязная, нечесаная, ходила вечно оборванкой, в истерзанных башмаках, а то и вовсе босиком. Но душа у нее была золотая, чистая и светлая, на редкость искренняя. Засулич обладала и хорошим умом, не то чтобы очень выдающимся, но здоровым, самостоятельным. Она много читала, и общение с ней было очень привлекательно. Что касается Плеханова, его портили самолюбие и раздражительность. Но я всегда сохранял к нему товарищескую привязанность и глубокое уважение к его честности, идейности и преданности делу. Он никогда не думал о личных материальных интересах и весь жил интересами своей пропаганды.
За этот первый период заграничной жизни я встретился еще с одним старым товарищем не то что по «Земле и воле», как Плеханов, а еще по кружку чайковцев. Это был Сергей Михайлович Кравчинский, уже тогда известный за границей под именем Степняка.
Это был какой-то странный тип. Его прозвали мавром, и он действительно имел в физиономии нечто мавританское или турецкое, при совершенно белом цвете кожи, но темный брюнет. Волосы и маленькая борода его курчавились. Черты лица мелкие, превосходный цвет лица. Все телосложение истинно богатырское: крепкая кость, великолепная мускулатура и крупный рост при широких плечах. В общем, он был несомненный красавец, и женщины легко им увлекались, как, впрочем, и он ими. В натуре у него было много художественности и авантюризма. Он обладал несомненным литературным талантом. Его «Подпольная Россия» обошла всю Европу. Но я бы не назвал его очень умным. Он любил красоту, но философской складки ума я у него не замечал. В области знаний он страстно любил языки, легко их изучал и знал хорошо несколько языков. В общежитии он играл роль простачка. Я говорю «играл роль», потому что не верю этому. В делах он был чрезвычайно практичен и едва ли не один при всех русских умел своими литературными произведениями достигнуть не то что благосостояния, а зажиточности. И этого он достиг не одним литературным талантом, а ловким подделыванием под дух английской публики. Когда я впоследствии напечатал «La Russie politique et sociale», Кравчинский жестоко упрекал меня. Вы, говорил он, описываете Россию такой органически могучей, что англичанин думает: стоит ей только избавиться от самодержавия, и во всем свете не найдется более сильной страны. Какой отсюда вывод для англичанина? Тот, что не нужно поддерживать революционеров, а нужно поддерживать царя. Вот что вы достигаете своей книгой... Нужно писать совершенно иное: чтобы получалось впечатление, что с падением самодержавия Россия распадется на составные части.
Вот какие практические музы вдохновляли этого художника и простачка! А между тем близкие ему люди любовались им, как милым, наивным ребенком. Он жил за границей с Фанни Личкус (понятно, невенчанный), и при них постоянно находилась Анна Марковна Личкус, сестра Фанни. Обе они были еврейки. О Фанни я ничего не знаю, кроме того, что она была очень хорошенькая. Но Анна была прекрасное существо, добрая, любящая. Вот однажды случилось, что какой-то друг Личкусов и Кравчинского был сослан в Сибирь. Анна и говорит; «Посмотрите, я сообщу это Сергею совершенно спокойно, и вы увидите, он не будет нисколько огорчен». Так и вышло. Когда пришел Сергей, она ему сказала спокойно: «А знаешь новость: NN сослан в Сибирь». Кравчинский действительно не проявил никаких сожалений и заговорил о посторонних предметах. Тогда Анна говорит ему с укором: «Не стыдно ли тебе, Сергей? Твой закадычный друг сослан, и ты ходишь веселый, как будто ничего особенного не случилось». Тогда Кравчинский смутился: «Анна, да ведь ты мне ничего не сказала, ты говорила так спокойно и небрежно. Я и не подумал, что это несчастье». Замечательно, что Анна рассказывала об этом не только без упрека, но и с каким-то умилением: «Я вам говорю, это истинный ребенок, наивный, простодушный ребенок, он ничего не понимает».
Я этого «ребенка» помню чуть ли с 1872 года, когда он возвратился из экскурсии «в народ». Тогда эти хождения только что начинались. Помню, в комнату штаб-квартиры чайковцев в Казарменном переулке ввалился Кравчинский — в тулупе, валенках, свежий, краснощекий и веселый свыше меры. Он в восторге рассказы вал, как его кондуктор выгнал из чистого вагона к мужикам, с его огромным мешком: «Ты что залез сюда, сиволапый? Ступай к своей братии». Кравчинский восхищался: значит, он был совсем похож на мужика. Так же восхищался он деревенскими впечатлениями, все больше по поводу мужицкой простоты и грубости. Какая-то деревенская красотка пугнула его от себя... Кравчинский осмотрелся, не слушает ли кто из наших барышень. «„Ступай ты...“ — говорит, и красавица загнула действительно такое словечко, что не напечатаешь. Ха-ха-ха! — грохотал он. — А ведь хорошенькая какая...»
Однако в народ он не пошел. Мимолетные впечатления новизны не привлекли прочно его, он остался в интеллигенции и вместе с ней дошел до террора. Это его захватило новым интересом. Товарищи предложили ему убить шефа жандармов Мезенцева. {109} Кравчинский сначала мечтал отрубить ему голову и даже заказал для этого особую саблю по своему вкусу, очень короткую и толстую. При его громадной силе он, пожалуй, и мог отрубить голову, но в конце концов товарищи признали это оружие непрактичным и вооружили Кравчинского простым кинжалом. Свое дело он обделал с величайшим хладнокровием. Когда ничего не подозревавший Мезенцев вышел на прогулку, Кравчинский пошел ему навстречу с кинжалом, завернутым в большой лист бумаги. Поравнявшись со своей жертвой, он чуть не до рукоятки воткнул кинжал и имел предусмотрительность даже повернуть его во внутренностях убитого. Затем он вскочил в пролетку, ожидавшую его, и ускакал. Пролетка, лошадь и кучер были, конечно, свои. Это было в 1878 году.
После этого он эмигрировал.
За границей — в Южной Франции, в Италии — тогда был в большой моде анархизм. Не знаю когда, Кравчинский отправился в Италию и был очарован этой страной и ее народом. Он вступил в ряды местных революционеров и действовал с ними на проповеди революции. По-итальянски он научился говорить превосходно и мог даже писать. Его «Подпольная Россия» вышла, если не ошибаюсь, прежде всего на итальянском языке. Пробыл он здесь очень долго, не знаю сколько, и жил до тех пор, покуда его не выслали из Италии. Пропаганда революции при пылком темпераменте итальянцев, кончилась попыткой восстания. Тогда, в первом пылу анархизма, господствовала вера, что все народы ждут только толчка для того, чтобы восстать поголовно. Товарищи Кравчинского решили дать этот толчок. Горсть революционеров явилась в какой-то городок, захватила его, прогнала властей — и потом ничего из этого не вышло. Вернулись власти, явились войска, революционеров перехватали. Кравчинский был так счастлив, что его только выслали. Может быть, он лично не участвовал в захвате города, может быть — просто не попался, не знаю, но только отделался очень дешево.
Вот тут-то он явился в Швейцарию, где я с ним и увиделся. Он был с обеими сестрами Личкус. Ничего интересного от него я не узнал, кроме общих похвал Италии и итальянцам, которых он, однако, не обрисовывал сколько-нибудь ясно и точно. Вообще, в разговорах у него совсем не было той художественности, которая проявлялась в писании. Показывал он мне между прочим полки с большой коллекцией прекрасных словарей. Замечательно, что у него немедленно явилось красноречие, когда мы заговорили о языках. Я высказал (не буду отстаивать теперь этой мысли), что обилие языков только мешает прогрессу человечества, и Кравчинский с большим подъемом, ясностью и убедительностью возражал мне, доказывая, что каждый народ только на своем, им созданном языке может до тонкости вырабатывать свое чувство и свою мысль.
Один раз мы с Кравчинским совершили прогулку на Салев, для меня первую. Французская граница идет как раз под Салевом, и мы никак не могли ее заметить. Ничем она не обозначена, часовых тоже нет. Дальше нам пришлось подниматься по головокружительной Pas de l'echelle, но Кравчинский был хороший ходок, и в его компании было нестрашно идти. Замечательно, что за все время у нас не было произнесено ни слова о политике. Мы то обменивались впечатлениями от горных видов, то я слушал рассказы Кравчинского о том, как туристы с проводниками ходят но горам, какими приемами сберегаются силы и утоляется жажда и т. п. От него я впервые узнал, что при больших физических напряжениях неосторожное питье воды очень ослабляет силы.
Могу еще заметить о Кравчинском, что он в личных отношениях не обращал никакого внимания на партийные эмигрантские междоусобия и знался с кем хотел, в том числе и с Драгомановым, от которого отреклась как раз в это время вся революционная эмиграция. Вообще, Кравчинский сознательно не примыкал ни к какой партийной группе и даже анархистом себя не называл, а жил, как нынче выражаются, «беспартийным».
IV
Вот как оглянешься назад, то оказывается, что у меня и с эмигрантами было немало сношений. А между тем в моих планах было совсем не то. Я хотел знакомиться со швейцарским народом и серьезно читать. В отношении чтения я и не отступал от программы. Но знакомство с населением было сложное и трудное, и не скоро оно достигается. Все-таки я не упускал случаев, когда можно было видеть женевских граждан за их политическими функциями.
Очень скоро по приезде мы с женой услыхали, что неподалеку от нас должна быть политическая конференция для рабочих. Мы отправились туда, и первое, что увидели, было самое интересное. Уже издали перед нами открылась стена невысокой обширной пивной (брассери). И вот, подходя ближе, видим, что окна открываются и из них вылетают прямо кувырком на землю граждане, очевидно, не угодившие публике. Их было человек шесть, и эта сцена наполнила нас изумлением. Мы никак не ожидали такой практики свободы слова. Впоследствии я на нее насмотрелся вдоволь и даже признал неизбежность такой самообороны публики от нахалов, старающихся сорвать собрание разными помехами и чистыми безобразиями. Вероятно, и в данном случае в окошко выкинули именно таких безобразников. Но что касается самих собраний, я в них скоро совсем разочаровался. Бессодержательность их поражала. Все шли по одному шаблону. В более или менее обширной зале брассери за белыми железными или мраморными столиками, на удобных стульях — в Женеве брассери были все устроены очень комфортабельно — сидит сотни две-три рабочих с огромными кружками очень хорошего пива. Эти рабочие — как они почти поголовно бывали в Женеве — крепкие, здоровые, даже упитанные, слушают оратора, обыкновенно не из своей среды, а приезжего социалистического агитатора. Ни малейшего научения чему-нибудь этот оратор не дает аудитории. Он нанизывает одни и те же бойкие фразы о том, что хозяин эксплуатирует рабочих, обирает их и доводит их до того, что они голодают, истощаются, наживают всякие болезни. Этот несправедливый строй должен быть уничтожен. Оратор обычно даже не говорит, как его уничтожить и что создать на его месте. Рабочие слушают, потягивая пиво, и даже не одушевляются. Не возникает никакого спора, обмена мнений. Мне приходилось читать (у Уэббов), что в Англии рабочие собрания гораздо более содержательны, но это, очевидно, потому, что на них рассуждают о реальных интересах рабочих, например об установке минимума рабочей платы в связи с состоянием английского производства и цен на мировом рынке. Тут действительно есть о чем подумать. Эти содержательные рассуждения естественно возникают на почве профессионального рабочего движения. Но и на почве общереволюционной и социалистической, казалось бы, нашлось о чем подумать в отношении подробностей будущего строя, способов обеспечения в нем личной самостоятельности и всех прав человека и гражданина и т. д. В действительности на рабочих собраниях не видно было ни искры сознания тех многочисленных вопросов, которые неизбежно должны явиться при перемене одного строя на другой. В этом чувствовались чрезвычайная неразвитость и умственная лень, которые особенно не приличествуют сословию, заявляющему претензию на то, чтобы завладеть всем миром и перестроить его на свой лад.
Вообще, рабочие (ouvries) мне совсем не понравились. Но Швейцария и не была страной пролетарской. Рабочих в ней было немного. Всю массу населения составляла мелкая буржуазия, и ее жизнь производила, как я уже говорил, прекрасное впечатление. Его портило только одно — мелкость, узость интересов.
Помню я одно собрание, на этот раз не рабочее, а настоящих швейцарских граждан. О нем заранее возвещали объявления, в которых особенно подчеркивалось, что выступит с речью один полковник швейцарской армии, вероятно, какой-нибудь местный авторитет. Местом собрания назначалась одна громадная брассери, больше которой, кажется, и нет в Женеве. Она походила скорее на какой-то крытый рынок, чем на жилое помещение, вся из железа и стекла — от стен до крыши. Впрочем, брассери очень красивая, а главное — светлая, почти как на вольном воздухе. Народа собрал ось громадная, тесная толпа, и все, как обычно на собраниях, сидят за кружками пива у столиков. Весь этот люд имел очень оживленный вид. Видно было, что предмет обсуждения интересует всех. Предмет же этот составляла конно-железная дорога, которую какая-то компания проектировала провести из Женевы до какого-то железнодорожного пункта. С докладом об этом и выступил полковник, видный малый, с громким голосом и очень красноречивый. Он обрисовал направление новой дороги и обнаружил, что она оставит в стороне центральные пункты семи общин, в чрезвычайный для них ущерб. Полковник горячо протестовал против этого и требовал изменения направления дороги. Но чем же может население побудить компанию изменить свои планы? Полковник указал, что для проведения дороги потребуется отчуждение разных клочков земли этих семи коммюн, без чего компания никак не может обойтись. Поэтому он предлагал обратиться к центральному швейцарскому правительству с ультиматумом: или заставить компанию изменить направление дороги, или не давать под отчуждение земли этих семи коммюн. Пусть компания ищет себе земли где хочет. Полковник закончил горячим призывом граждан к такому решению, и под стеклянными сводами брассери звонко раскатилась его последняя бойкая фраза: «Pas d'un pouce de notre territoire!» (Ни пяди нашей земли!) Собрание шумно одобрило предложение, и, вероятно, подгородные коммюны отстояли свои интересы. Но я потом невольно подумал: а ведь о каком, в сущности, пустяке горячилась вся эта толпа. Ведь весь вопрос сводился к тому, придется ли бравому полковнику и другим заинтересованным пройти из дому на конку лишних двести-триста шагов. Стоило ли из-за этого так грозно восклицать: «Pas d'un pouce de notre territoire!»?
Конечно, я был не прав. Дело в том, что, когда мы в России мечтали о демократии, перед нашим воображением носилось некоторое великое дело. Но ведь оно было велико, собственно, потому, что его требовалось созидать. А в Швейцарии оно давно было создано, и тот строй, о котором мы мечтали, здесь должен был уже работать не на какую-нибудь грандиозную, а на мелкую будничную общественную работу. Для этого он и был создан. Мне же эта будничность казалась такой скучной в сравнении с идеалом.
Но зато вот где я почувствовал настоящую, с ее идеальными чертами, демократию — это на выборах кантональных властей.
Мне пришлось наблюдать выборы во Франции в обычное время и при кандидатуре генерала Буланже. В первом случае все было вяло, и мне рассказывали, что голоса покупались за пять франков. Но во втором случае это была горячечная борьба, возбуждение до сумасшествия и тоже трата огромных денег.
В Женеве я видел совсем не то. Это был какой-то праздник, какое-то священнодействие. Вся обычная деятельность в городе прекратилась, лавки закрылись. Население было все на улицах: мужчины, женщины, даже дети, разряженные как в великий праздник. Местами город производил впечатление праздничного гулянья среди тишины и разговоров вполголоса. Никакого шума, никаких столкновений партий не было и признака. Женевский народ вышел произнести свою волю и казался единым, ничем не разделенным. Разумеется, партии были, были и кандидаты различных партий, но это не подчеркивалось никакой перебранкой, никакими спорами или выходками против соперников. Только у мест подачи голосов было пошумнее. Сторонники кандидатов различных партий раздавали их списки и программы и громко выкрикивали каждый свое: «Liste radical liberale!» и т. д. Эти списки раздавались направо и налево, и среди раздатчиков листов и программ я видел знакомые лица приказчиков и тому подобного люда. На выборах работали не газетные разносчики, не наемные мальчишки, а сами граждане, по преимуществу молодежь со звонкими голосами и крепкими ногами. Это была безвозмездная служба отечеству. Они всюду рыскали от одной группы народа к другой и предлагали зычными голосами: «Liste такой-то, Liste такой-то, программа такая-то». Граждане брали то и другое и внимательно читали. А всякая программа неизменно заканчивалась увещанием: «Если вы желаете таких-то и других благ республике, вы подадите голос за список партии и скажете „si“». Это «si» виднелось огромными буквами внизу списков. (Слово «si» по-швейцарски и южнофранцузски означает «oui» — «да». Им подают голос за всякое предложение, а если против — то пишут и говорят «non». В Париже и вообще у настоящих французов слово «si» в смысле утверждения не употребляется и считается даже вульгарным.) Эта выборная операция продолжается целый день, с утра до вечера, и если толпы публики не одинаково сильно заполняли улицы, то и не расходились без остатка, все время сохраняя тот же мирный, дружелюбный вид, под которым непосвященному нельзя было и подметить борьбу партий.
Впрочем, в то время в Женеве и не было партий, в корне враждебных друг другу. Были консерваторы, органом которых служил «Journal de Geneve», и радикальные либералы с органом «Genevios». Эти партии можно сравнить с английскими тори и вигами. Что касается социалистов, они в то время, имея известную внутреннюю связь, не были организованы в партию, да среди рабочих-социалистов, вероятно, огромное большинство составляли не швейцарцы, а иностранцы. Социалисты-швейцарцы попадались главным образом среди интеллигенции. Их звездой первой величины был Элизе Реклю, 9 знаменитый географ. Не понимаю, как я не познакомился с ним. Правда, он был по убеждениям анархист, но к народовольцам анархисты относились все же довольно благосклонно. Его приятелем и сотрудником был наш Петр Алексеевич Крапоткин. В «Географии» Реклю вся Средняя Азия обработана Крапоткиным, у которого Реклю учился и вообще пониманию России. Тот, кто хорошо читал «Среднюю Азию» Реклю, может видеть, что у Крапоткина был глубоко вкоренен русский патриотизм и понимание великой миссии, совершенной в Средней Азии той самой царской Россией, которую Крапоткин подрывал в своей политической деятельности. Впрочем, он очень мало делал чего бы то ни было в качестве русского революционера.
Реклю был по убеждениям анархист. Но это не мешало ему иметь огромное состояние (правда, нажитое честным ученым трудом) и жить очень богато. Он был вегетарианец, а известно, как дорог хороший вегетарианский стол. У Реклю же, сверх того, готовили два обеда: один вегетарианский, другой — для желающих — мясной. Никогда я не слыхал, чтобы Реклю помогал нуждающимся единомышленникам. Не участвовал он и в политике, и его анархизм был просто философской концепцией без всяких практических последствий. Не знаю, был ли он хоть номинальным членом Юрской Федерации.
Юрской Федерацией (Federation de Jura, или Federation Jurassienne) называлось тогда революционное содружество или общество, существовавшее в юго-восточных департаментах, проникавшее и в Швейцарию. Я, в сущности, ничего не знаю об этом обществе, кроме того, что оно было очень боевого, анархического настроения. Жуковский предостерегал меня и других русских эмигрантов от сношений с ними, так как между ними есть люди отчаянные. Специально предостерегал он против некоего Сивокса (не знаю, как пишется его имя по-французски). Незадолго до моего приезда произошла история в Лионе, в связи с которой пострадал и наш Крапоткин. В Лионе было одно кафе, лучшее в городе, которого посетителями были только местные богачи. Анархисты бросили в окно этого кафе динамитную бомбу, имея в виду убить не какую-нибудь определенную личность, а вообще какого попадется «эксплуататора». К удивлению, страшный взрыв бомбы не повлек за собой человеческих жертв. Но понятно, что по этому поводу началось судебное дело, было много арестов, многие подверглись суровым судебным карам. К делу был привлечен и Крапоткин, который редактировал анархический журнал «Revolte». В этом журнале под заголовком «Научные новости» печатались рецепты для домашнего изготовления взрывчатых веществ. «Revolte» был закрыт, а Крапоткин присужден к полутора годам тюремного заключения. Он просидел довольно долго, кажется, в Majaen, но был освобожден до срока, по амнистии. Тогда-то я и мог повидаться с ним в Париже.
Разумеется, связи русских эмигрантов с анархическими динамитчиками могли бы повлечь со стороны швейцарского правительства какие-нибудь общие запретительные меры в отношении эмиграции. Именно по опасению этого Жуковский и советовал эмигрантам не заводить знакомств с боевыми анархистами.
В связи с делом «Revolte» был произведен обыск у самого Элизе Реклю. Он принял на себя вид оскорбленного гражданина, протестовал против обыска и отказался чем-нибудь содействовать полиции в осмотре своих вещей. Воображаю печальное положение полиции! Кругом целые горы книг, рукописей, географических карт, рисунков, клише. Привести все это в беспорядок — это значит вызвать негодующие крики всесветной печати, а в результате — нагоняй и от собственного начальства. Не обыскивать тоже нельзя, потому что в этом океане бумаг, конечно, легко спрятать компрометирующую переписку и т. п. Но конечно, такова уж судьба уголовного розыска, что за все будут ругать, что ни сделай.
Понятно, что я и помимо предупреждений Жуковского не имел никакого желания знакомиться с воспаленными головами, которые закатывали динамитными бомбами в окно кафе наудачу — не убьет ли какого-нибудь эксплуататора. Оберегать же право убежища — это был уже прямой долг каждого эмигранта.
Жуковский был большой специалист по той отрасли международного права, которая относится до революций, политических преступлений, права убежища и т. п. Он набрался этой премудрости, кажется, во времена польского восстания. Поляки серьезно изучали вопросы о том, при каких условиях революционеры могут претендовать на звание воюющей стороны, а власть, ими установленная, — действительной правительственной; при каких условиях производимые ими захваты казначейства, податей и т. п. могут считаться не простым грабежом, а взиманием податей; при каких условиях убийство приобретает характер политический, а не уголовный и т. п.
Конечно, все эти тезисы международного права очень теоретичны, однако во многих случаях его соображения могут получать важное практическое значение. Так, например, в Англии вопрос о выдаче политического преступника решается присяжными, а мнение присяжных может получить то или иное направление от теоретических соображений международного права, выставленных искусным защитником.
Весьма вероятно, что теперь точки зрения международного права уже значительно изменились сравнительно с теми временами, когда я выслушивал лекции Жуковского, а потому я и не стану распространяться о содержании их. Но понятно, что в 1882–1883 годах я старался возможно полнее составить себе представление о всех этих формулах и правилах, имевших такое важное значение для эмигранта.
V
Я, разумеется, первое время очень усердно осматривал Женеву и познакомился вообще с Французской Швейцарией, что почти равносильно сказать — с прибрежьем Женевского озера. На берегу его расположены canton de Geneve и canton de Vaud с городами Женевой, Лозанной, Монтре, Веве, далее — замок Шильон, а за ним вскоре верхняя долина Роны, низкая и болотистая, — не помню, к какому кантону она относится. Есть еще французский кантон Невшатель, но в нем я не был.
Женева, в сущности, небольшой город — если не ошибаюсь, в ней было не более 200 000 жителей. Но она бойкий пункт, промышленный, торговый, очень интеллигентный и составляет настоящую столицу Французской Швейцарии. Она издавна давала тон умственной и политической жизни других кантонов, то увлекая их на путь демократического развития, то толкая к своего рода империализму или, по крайней мере, к диктатуре, как было во времена Фази. Я сказал раньше, что Женева при мне казалась как бы застывшей в достигнутых ею формах благоденствия. Но в истории она переживала и бурные периоды разных новых направлений. Не нужно забывать, что это город Кальвина, занявший совершенно оригинальное положение при Реформации. Потом — недалеко от нашего времени — в ней же происходили глубокие реформы Фази, увлекавшегося духом французского бонапартизма. В отношении внешнем город Женева, в средние века очень небольшой, постепенно поглотил почти все общины своего кантона. Однажды я смотрел на панораму, разворачивавшуюся под моими ногами с высоты Салева, и меня поразила мысль, что вот я одним взглядом охватываю отсюда весь Женевский кантон, все «государство». При мысли о России это государство представлялось прямо микроскопическим. И все оно почти сливалось в одном городе. Коммюны, не вошедшие в состав Женевы, составляют крохотные клочки по периферии города. А в то же время многие коммюны, войдя в состав Женевы, продолжали тогда отделяться от нее таможнями, которых не существует для заграницы. Это производило курьезное впечатление: посреди города на улице вдруг видишь маленький домик со шлагбаумом, и около него останавливаются возы с разными деревенскими продуктами, уплачивая причитающиеся сборы. Такая douane (таможня) была у нас на Plain-Palais.
Старый, исторический город Женева теперь составляет небольшой квартал на невысоком холме; прежде он был окружен стенами, теперь его отличаешь по узким, кривым улочкам и высоким средневековым домам. Тут находятся некоторые древние здания, между прочим, собор чуть ли не Святого Петра (не помню хорошо). Он невелик, но очень красив, и между прочим поразил меня обилием цветных стекол в окнах, что придавало ему какой-то мистический вид. Этот маленький укрепленный город и созидал всю историю Женевского кантона в непрерывной борьбе за независимость. Особенно тяжелую борьбу приходилось ему выдерживать против герцогов Савойских, которые упорно старались подчинить Женеву своему господству. В настоящее время в Женеве ежегодно справляется в своем роде национальный праздник в память спасения города от одного набега савойцев. Не помню уже, когда произошла эта история, но войско савойцев успело застать город совершенно врасплох, их никто не ожидал, все спали, и савойцы уже начали лезть по стенам, как вдруг одна женщина, проснувшись, подняла тревогу и за неимением под рукой более подходящего оружия запустила во взбирающегося на стену савойца ночным горшком. Между тем пробужденные граждане бросились на нападающих, сбили их со стены, а потом сделали вылазку и нанесли савойцам жестокое поражение. В память этого события в Женеве под вечер и ночью празднуют веселый карнавал. Тут весь город высыпает на улицу, особенно молодежь и девицы, так как карнавал составляет воспоминание о беспорядочной потасовке сражавшихся, а потому на нем допускается множество шалостей, толкание друг друга и т. п. Одна русская студентка рассказывала, как к ней подскочил какой-то молодец и звонко поцеловал, а она его отпихнула изо всей силы при всеобщем хохоте толпы, к которому присоединилась и она. Надо сказать, что при благовоспитанности швейцарцев все эти шалости не переходят в непристойности и карнавал действительно очень весел. Я был на нем только раз. В память события сочинена и патриотическая песня, в которой, вспоминая доблести предков, граждане обещают:
Tachons nous a notre tour Diminuez leur arnours.А кончается она грозным припевом по адресу врагов:
Savoyard, gard, gard. [34]Конечно, вся эта средневековая вражда давно поросла быльем. Одна хорошенькая савойярка в Морне, рассказывая об этом женевском празднике, с хохотом и страшным грассированием, которому обучают детей в савойских школах, повторяла:
Savoyard, rah, rah...Эта угроза ее потешала.
Кроме маленького уголка старого города, в Женеве ничто не носит средневекового вида. Улицы прямые и широкие, дома по большей части современной архитектуры, но красивых зданий мало. Даже университет, обширный и, вероятно, удобный, совсем не рассчитан на красивое впечатление. Не мастера женевцы и на памятники. Они гордятся памятником герцогу Брауншвейгскому, тому самому, который своим нелепым и, как утверждают, изменническим [35] командованием прусской армией дал первую победу французам-республиканцам, уже готовым обратиться в паническое бегство.
Я спрашивал, какое дело Женеве до военных деяний герцога Брауншвейгского. Оказалось, что памятник поставлен не за то. Герцог, презираемый после своего похода по всей Европе, поселился в гостеприимной Женеве, где оставался до самой смерти и оставил ей в наследство свое громадное состояние. Так вот за этот дар, позволивший женевцам создать много полезных учреждений, они и поставили ему памятник. Он, говорят, стоил много денег, но совершенно ниже всякой критики: невысокая конная статуя герцога посреди четвероугольной площадки, обнесенной невысокой колоннадой. Никакой идеи, ни малейшей красоты.
Не расщедрились женевцы и для Жан-Жака Руссо, с которым, впрочем, и при жизни не ладили. Но если мал и незаметен памятник ему, зато место выбрано превосходно. Это крохотный островок Жан-Жака Руссо посреди Роны, около большого моста, с которого на него спускаются по узенькому мостику. Здесь, говорят, любил сидеть при жизни гениальный и несчастный философ. И здесь все охватывает меланхолическим настроением, так соответствующим его памяти. Высокие деревья покрывают островок густой тенью. Кристальная Рона неумолчно журчит, говоря о вечности, в которой бесследно исчезают наша жизнь, дела и величие. А кругом красуется вечная природа, равнодушно провожающая в могилу человеческие поколения. Быть может, и лучше, что памятник так незаметен: это более гармонизирует с общим настроением наблюдателя.
В Женеву я приехал по железной дороге и ознакомился с кантоном с берега. Потом мне тоже приходилось немного бродить пешком. Повсюду поражала тщательная обработка почвы и еще — бесконечные высокие каменные заборы. Мы с женой однажды вздумали выйти прогуляться в поле, за город. Шли-шли, наверное, версты две и ничего не видели, кроме каменных стен. Даже крыши не выглядывали из-за них. Это действовало крайне неприятно, словно тюрьма. Мы рассуждали между собой: неужто женевскому гражданину нельзя нигде вздохнуть вольным воздухом? В конце концов мы таки достигли этого вольного воздуха, но только уже у подножия Салева перед самой французской границей.
Впрочем, для женевцев есть все-таки одно вольное местечко, не захваченное частной собственностью, не перегороженное никакими заборами. Оно не очень велико — версты три в длину и в ширину, но на нем довольно много леса, много полян и лужаек, цветы, воздух, простор. Это так называемое Jonction — треугольник на месте слияния Арва с Роной. Сюда ходят гулять множество женевцев целыми семьями, и тут действительно можно наслаждаться природой. Но только если сделать десяток прогулок на Jonction, то, думаю, изучишь каждый аршин земли, каждое дерево, каждый кустик. В других местах все позанято, но, к счастью, не везде огораживают землю эти ужасные каменные стены. Есть даже превосходные сады, совершенно не отгороженные от дороги. Роскошные плоды, яблоки и т. п. унизывают деревья тут же, на глазах путника, и осыпаются даже на землю, но великое преступление сорвать что-нибудь или подобрать в пределах сада. Только если яблоко закатится на дорогу, прохожий имеет право взять его. Женевцы свято соблюдают все эти правила. Мне говорили, что доселе не отменен закон, который разрешает хозяину застрелить в своем саду забравшегося туда человека. Сомневаюсь, что этот варварский закон мог применяться на практике.
При тесноте женевской территории лучшее место для прогулок — это Салев, на французской территории. Гам масса пустых, диких мест и полное приволье.
В приозерные городки canton de Vaud (Виллио по-немецки) я ездил на пароходе. Одну прогулку совершили мы всей семьей, с Эльсницами и еще с кем-то. Езжал туда и один. Езда по Женевскому озеру не очень-то приятна. На него с гор постоянно налетают шквалы и разводят волнение, так называемую толчею. А пароходики маленькие, качаются, как скорлупки. Привыкши к поездкам по Черному морю, часто такому бурному, я и представить не мог, чтобы меня могло закачать на ничтожном озере. Однако один раз меня так закачаю, что если бы мы не подошли к берегу, то мне бы не избежать рвоты. Но рейсы парохода самые коротенькие, пристани на каждом шагу. Это выручает при качке.
Я уже говорил о красоте видов этих городков. В Женеве нет и подобия им, а из ряда городков самые очаровательные — это Лозанна, Кларан, Монтре... Это местности, где швейцарские горы обрываются в Женевское озеро. Веве — находится уже на более плоском прибрежье, так же как и Шильон. Но в Кларане и Монтре обрывы скал, на которых они расположены, опускаются в озеро местами вертикально, и самые дома по берегу построены так, что их фундамент упирается в дно, может быть, больше аршина глубиной. Не знаю, зачем их так строили, а может, их погружение произошло оттого, что воды озера поднялись. Любопытно, что и в Женеве на берегу Роны есть дома, которых фундамент погружен в воды реки, так что обыватели выбрасывают через окна всякий сор прямо в Рону. Не помню, в Кларане или Монтре мне рассказывали о страшной катастрофе, происшедшей давно, но в исторические времена. В Савойских Альпах громадная скала, целая гора обрушилась в озеро и произвела огромную волну, которая докатилась до противоположного швейцарского берега, нахлынула на него, смыла дома и произвела страшные опустошения. Но прошли века, жители успокоились и снова стали жить в домах, подымающихся прямо из воды. Разумеется, туристы и дачники не живут в них. Их жилища разбросаны гораздо выше, по откосам гор.
Хороша Лозанна, но еще лучше Монтре и Кларан, построенные на больших и малых террасах, покрытых садами, и на все стороны открывающие роскошные виды. Часто бывает, что дом на верхней части террасы имеет всего один этаж, а на другой стороне — два и три этажа. Тут-то и снимают квартиры многочисленные дачники. Я думаю, что приезжих в Кларане и Монтре больше, чем туземцев. Для детей иностранцев здесь имеются очень хорошие школы с интернатами. Разумеется, имеются прекрасные отели с пансионом. Все это очень дешево. Есть совсем недурные отели с пансионом по пять франков в сутки. Климат по всему прибрежью здоров, масса воздуха и солнца. Но среди иностранцев, ищущих здесь убежище, множество больных, чахоточных и иных. Бродя по кладбищу в Кларане, я заметил очень много могил с русскими надписями.
В противоположность Женеве, во всех этих маленьких городках — всюду кругом в изобилии имеются места для прогулок не только в искусственных садах, а и на вольном просторе никем не занятых лесков, кустарников, лугов. По Женевскому озеру можно и гулять в лодках, но иностранцы этим мало пользуются, не доверяя капризному озеру, на котором совершенно неожиданно налетают жестокие шквалы. Но есть хорошие прогулки и по горам. Особенно живописен так называемый Dent du Midi. Это громаднейшая скала, тонкая и высокая, немного искривленная, действительно имеющая форму клыка. Оттуда сверху, говорят, открывается вид неописуемой красоты, Но взбираться на Dent du Midi, а тем более спускаться с него очень трудно и опасно. Издали этот пик кажется совершенно отвесным. Но в действительности по нему извивается узенькая тропинка, по которой проводник кое-как доводит туриста до вершины. Эту вершину образует маленькая площадка, едва вмещающая несколько человек. Здесь, конечно, вечно дует ветер, угрожающий сбросить путника в любую сторону на верную гибель. Однако находятся все-таки любители сильных ощущений, подымающиеся на Dent du Midi.
Незадолго до нас тут едва не произошла катастрофа. Компания туристов была захвачена на площадке пика густыми облаками, которые упорно не расходились несколько дней. В глубокой тьме туристам пришлось сидеть на скале, среди холодной мокроты, заботясь только о том, чтобы не слететь в пропасть. Возвращаться было невозможно, потому что гид в этом тумане не в состоянии был найти тропинку. Так эти злополучные люди сидели без пищи и питья, без движения, в мокром холоде в течение нескольких дней. Они могли умереть даже от голода и истощения, если бы наконец утес не очистился от облаков. Тогда только неудачливые туристы могли освободиться из своей западни.
Помнится, не более получаса пути отделяет Кларан от знаменитого Шильона. Этот замок оказался совсем не таков, как я воображал. Он высится не на какой-нибудь скале, а расположен на совершенно плоском месте, каких почти не бывает на Женевском озере, и не представляет никакого величественного вида. Это огромное здание, то есть охватывает очень широкое пространство, и, конечно, окружено стенами, весьма солидными, но совсем не поражающими высотой. Эти стены со стороны суши защищены глубоким и чрезвычайно широким рвом, а со стороны озера как стены, так и все здания обрываются прямо в воду, то есть фундамент возведен прямо на дне. Собственно говоря, я не знаю, были ли они возводимы со дна или уровень озера повысился и залил их. На Женевском озере многое заставляло меня думать, что уровень его повысился на аршин и больше со времен постройки Шильона и других зданий, фундамент которых зиждется на дне. Как это могло случиться? Может быть, Рона не дает достаточного стока водам, стекающим в озеро с окружающих гор. Впрочем, это только мое предположение.
Здания Шильонского замка невысоки, хотя некоторые и имеют этажа по три. Также и башни, просторные и вместительные, не очень высоки. Вообще замок имеет вид крепости очень солидной, но нигде нет ни искры чего-нибудь легкого, воздушного. Вся его наружность суровая и мрачная.
Савойские герцоги очень дорожили Шильоном как пунктом, из которого они могли господствовать в Швейцарии. Они, конечно, могли держать в замке большое количество войска. В настоящее время больше половины Шильона занято каторжной тюрьмой. Остальная половина сохраняется в средневековом виде и доступна осмотру желающих. Эту часть замка я прошел из конца в конец.
К нему, конечно, подходишь, вспоминая стихи Жуковского:
На лоне вод стоит Шильон, Там в подземелье семь колонн...Входить в Шильон нужно по мосту через крепостной ров. В прежние времена, говорят, он был подъемный. Теперь это самый обыкновенный мост. Первое, что нам показали, — это подземная темница, где был заключен Бонивар. Строго говоря, она не совсем подземная, а только наполовину. Верхняя ее часть возвышается над землей, как бывает в подвальных этажах, и в ней есть несколько окон, выходящих прямо на озеро. Они находятся под самым сводом, так что узники не могли заглянуть в них, но света пропускают много, так что в тюрьме совсем не темно. Но над водой они должны выходить невысоко, и мне кажется, что при буре волны озера могли бы захлестнуть в них.
Могу сказать, что именно эта тюрьма, бониварская, очень красива. Ее потолок состоит из нескольких сводов, опирающихся на колонны. Семь ли их или нет, я уже не помню, но только эта совокупность сводов и колонн гораздо красивее, чем один общий свод камер Петропавловской крепости. Правда, колонны толстые, приземистые, и своды все-таки производят давящее впечатление. Но строитель, очевидно, был талантливым архитектором и сумел устроить свое сооружение очень красиво, тем более что тюрьма довольно светлая, светлее многих нижних камер Петропавловской крепости. Посетителям, разумеется, показывают столб, к которому был прикован Бонивар, и тропинку, протоптанную узником в каменном полу. Тропинка эта, впрочем, очень неглубока.
Из этой тюрьмы проходят в ряд других, гораздо худших, потому что совершенно темных и каких-то узких, а далее помещаются комнаты пыток. За ними какой-то темный коридор приводит к колодцу, служившему местом казни осужденных. Говорят, на дне этого колодца были натыканы острые ножи. Подлежащего казни толкали в колодец прямо на эти острия. Пройдя всю эту анфиладу мест мучений, чувствуешь наконец какую-то одурь. Чего только люди не проделывали здесь над своими ближними! Но я был еще более поражен, когда мы отсюда поднялись в покои савойских герцогов.
Ход туда идет по винтовой лестнице из комнаты пыток и прямо в спальню герцога. Положительно не постигаешь нервов и психики людей этих времен. Спальня герцога, оказывается, была помещена над пыточной комнатой для удобства. Отсюда, лежа в постели, он мог слышать крики и стоны несчастных, подвергаемых мучениям, и их показания. Незачем было беспокоиться спускаться в пыточную. Он все слышал от себя, из спальни, на сон грядущий, которого, очевидно, не портил мучительный визг истязаемых.
За спальней следуют другие комнаты герцога, между прочим, комната герцогини, которая окнами выходит прямо на озеро, но уже на большой высоте. Какой-то ревнивый герцог придумал для своей жены такое помещение из предосторожности, чтобы она не могла убежать. Но в те времена и у дам нервы были покрепче нынешних. Герцогиня именно этими окнами и воспользовалась для бегства. Ее возлюбленный подъехал на лодке к стене замка, а она сверху спустилась к нему на веревке и удрала таким образом от нежного супруга.
Из других комнат особенное впечатление производит громадная зала, в которой герцоги принимали и угощали своих рыцарей. Это целый манеж. Много сотен человек могли здесь разместиться с полным удобством. На двух противоположных сторонах залы устроены неимоверной величины камины. В каждый из них можно было уложить чуть не сажень дров. Живописное зрелище должна была представлять толпа пирующих рыцарей, освещенная с двух сторон заревом этих двух громадных костров.
VI
Немного месяцев суждено мне было пожить соответственно моим предположениям, то есть в отдалении от политической деятельности. Обстоятельства сильнее человека, и прошлое налагает на нас такие обязательства, которым мы не в состоянии противиться.
Но прежде чем перейти к этому, я должен сказать, что в Женеве нам пришлось пожить недолго по причинам чисто семейным.
Наш маленький Саша заболел коклюшем, и его требовалось немедленно вывезти из города. Ввиду приближавшихся холодов нужно было перебраться в теплую местность, где мальчик мог бы беспрепятственно оставаться на воздухе и в зимнее время. Таким местом была хорошенькая деревня Морне, в Савойе, близ Женевы. В самой Женеве зимой довольно холодно и бывает хотя непродолжительный, но сильный снег. В окрестностях города также нет ни одной местности, которая могла бы сравниться с Морне по обеспеченности от зимних холодов. Оно закрыто от севера, северо-запада и северо-востока горами Салева — Большим Салевом, Малым Салевом, Монгоссом и пр. Какая бы ни была погода в других местах, а в Морне, прижавшемся к самому подножию Малого Салева, вечное тепло и прекрасный горный воздух. Поэтому женевские врачи сюда посылают больных, нуждающихся в тепле, и в деревне уже давно основалось даже несколько недурных и недорогих пансионов (5 франков вдень). Есть также очень хорошая аптека какой-то католической общины. Сама деревня очень чистая и довольно богатая. От Женевы она очень близко. Если идти прямо перевалом через Салев, то расстояние, я думаю, не более верст трех; если же кто предпочитает дорогу обходом кругом Малого Салева, во избежание очень крутого перевала, то, может быть, наберется верст пять.
А перевал действительно очень круг. Дорожка шага два-три шириной врезана в крутой бок горы, так что с левой стороны ее идет обрыв, сначала небольшой, а потом все более и более глубокий; дорожка идет не круто, так градусов двадцать пять. Но потом она подходит к вертикальному обрыву страшной глубины и здесь превращается в лестницу, Pas de l'echelle, очень крутую, врезанную в бок горы и пробитую в камне. Шириной она каких-нибудь два шага. Слабая голова кружится, когда взглянешь в обрыв. Но если голова не кружится, то лестница вполне удобна, и туристы подымаются по ней даже на ослах. Я ходил но ней много раз, но потом стал предпочитать длинную обходную дорогу на Аннемас и пограничную деревню Монесюлла.
Все это находится уже во Франции. Но необходимые для жизни продукты и лавочки есть в достаточном количество и в самом Мор-не, да и в Женеву нетрудно сходить при надобности. Ходил туда даже какой-то дилижанс через городок Аннемас, но я ни разу им не пользовался.
В довершение всего Морне замечательно живописен. За спиной у него Салевские горы, а внизу под ним развертывается широкая долина Арва, окаймленная хребтами гор. По ту сторону, прямо перед Морне, как на ладони, белеет во всю долину вечно снежная громада Монблана.
Кругом, в какую сторону ни направься, местности одна другой красивее и притом самого разнообразного характера: то суровые до головокружения скалы Салева, то мягкие очертания долин в Монпетье, между двух вершин Салевов или при спуске из Морне к Арву и т. д. На всякий вкус, на всякий момент настроения тут можно выбрать местечко, на котором отдыхает душа, погружаясь в гармонию с природой.
Мы наняли себе квартирку в доме m-r Albert Bain с женой. Он находился на конце Морне, прямо упираясь в подножие Малого Салева. Эта местность деревни называлась La Chapelle, потому что тут когда-то стояла часовня. Вероятно, ей когда-то принадлежал сад крупных грецких орехов, который стал потом коммунальной собственностью, так что орехами могли невозбранно пользоваться все жители. Прямо из дверей нашей квартиры мы могли спускаться в красивое зеленое ущелье, ведущее к реке Арв. А повернув из дверей направо, мы видели над своими головами бесплодную громаду Малого Салева. Он гут подымается очень круто, но не обрывом и покрыт множеством желтых скал, которые, кажется, ежеминутно грозят падением. Жутко становится при мысли, что если какая-нибудь скала оборвется и начнет прыгать вниз по крутизне Салева, то остановится, конечно, не раньше чем сокрушив вдребезги добрый десяток морнеских домов. Но скалы держатся твердо. В деревне не видно никаких следов такого обрыва их.
Подъем на Салев составляет прогулку очень приятную, хотя довольно трудную. Долго приходится карабкаться, прежде чем доберешься до плоской площадки, составляющей вершину горы. Все время подъем идет по камню, среди скал, где очень редко сохранились кустики и кое-какие клочки травы. Однако здесь мальчики из Морне пасут своих коз, рассеянных там и сям небольшими группами. Мы часто любовались изумительной эквилибристикой коз, которые умудряются проходить по отвесным обрывам скал, чтобы сорвать какую-нибудь одну ничтожную травинку. Впрочем, они все-таки успевают наедаться среди этого бесплодия, ими же. конечно, и созданного.
Верхняя площадка Салева сравнительно недурно поросла кустами, деревьями и травой. Здесь же, кажется, не позволяют пасти коз, и потому можно найти немного тени и прохлады. А на середине площадки видны развалины башни на самом краю вертикального обрыва горы вниз. Эта башня входила в систему укреплений замка, находящегося и поныне под этим обрывом, на той стороне горы.
Но к замку нельзя спуститься из Морне. К нему нужно идти длинным обходом кругом горы, туда, где в Женеву спускается Pas de l'echelle. Это очень странное место. Малый Салев обрывается в сторону Женевы вертикально. Но между верхней частью обрыва и нижней тянется длинная площадка шириной шагов сто. На ней-то и был построен замок, ныне превращенный в отель. Замок был почти неприступен. Снизу нельзя к нему подняться, сверху — нельзя спуститься. Однако для еще большего обеспечения на верхушке Салева была воздвигнута уже упомянутая выше башня. Защитники замка имели еще одно средство защитить себя от обломков камней и скал с верха горы. На всем протяжении площадки в боку Салева против замка продолблен длинный каменный навес шагов десять–пятнадцать шириной. Спрятавшись под ним, можно было находиться в полной безопасности от камней сверху. Я задавал себе вопрос: природа или искусство создали этот удивительный навес? Это был бы египетский труд даже для современных инженеров. Но ходить под ним как-то неприятно, все думается: а что, если эта каменная масса осядет на тебя и раздавит как червяка?
С Малого Салева видна, как на географической карте, широкая долина Арва. Вид превосходный всегда. Но один раз я наблюдал сверху восход солнца, и это была картина уже совершенно феерическая. Сначала надо всей долиной лежала темная мгла и только по ту сторону сверкали отдельные вершины гор да сам величественный Монблан сиял, отражая лучи еще невидимого солнца. Постепенно количество освещенных вершин увеличивалось, и они начинали сливаться в целые хребты, а вся долина Арва закрывалась сплошным туманом. Еще несколько минут — из-за гор брызнули яркие лучи солнца, и вся долина преобразилась; она превратилась в море, поверхность которого ярко сверкала под лучами солнца и колыхалась грядами волн. А солнце все понемножку подымалось, и в сплошном море начали появляться островки более высоких мест. Они все вырастали и умножались в числе, начали между собой сливаться; через несколько времени явилась новая картина: передо мной развертывалась суша, а вместо моря осталось только множество озер. По мере того как солнце поднималось, эти озера высыхали, уменьшались, исчезали, и наконец все пришло в реальный вид: передо мной лежала долина Арва, освещенная свежими лучами солнца.
Для того чтобы полюбоваться такой фантасмагорией, стоит встать перед рассветом и вскарабкаться повыше на гору.
Замечательно хорош был от нас также вид на Монблан, который весь день, а особенно перед рассветом и на закате, десяток раз меняет свою окраску от белоснежной до лиловой и разных оттенков розового цвета. Кстати сказать, в Морне мне говорили, что Монблан — памятник Наполеону. Это совершенно верно. Очертания его снежных вершин изображают очень точно мертвеца, лежащего во всю длину тела, и не мертвеца вообще, а именно Наполеона: легко улавливаешь фигуру его головы, лица и туловища. Раз вглядевшись и уловив это сходство, уже нельзя отрешиться от этого впечатления, так что Монблан начинает нагонять какое-то унылое, траурное настроение. Я им любовался гораздо больше до тех пор, пока не признал в нем мертвого Наполеона.
Малый Салев был, так сказать, домашним местом наших прогулок, и помехой этому служила только трудность, а местами невозможность втаскивать на него колясочку ребенка. Но Большой Салев гораздо выше Малого и по массиву вдесятеро больше, так что в общем на нем больше живописных мест. Сверх того, он довольно лесист. Взбираться на него по крутизне можно по множеству тропинок, и, кроме того, на него ведет очень хорошее шоссе, так что мы доходили до самой вершины с колясочкой Саши. Дорога от нас к нему вела через долину, находящуюся между вершинами обоих Салевов, на которой расположена деревня Моннетье. В конце этой долины — обрыв, через который каменная дорожка Pas de l'echelle ведет к Женеве. От Моннетье шоссе подымается несколькими коленами на Большой Салев. На одной из боковых тропинок путник натыкается на изображение Богоматери на плите большой скалы. Это так называемая Notre Dame de Saleve. Вершина горы представляет обширную плоскость с прекрасными лугами, которая довольно полого спускается на савойскую сторону, а на женевскую сторону обрывается круто, местами отвесно, хотя эти обрывы все-таки не так громадны, как на Малом Салеве. Сверх того, этот обрыв прорезывается двумя узкими ущельями: Grande Garge и Petite Garge. По их дну узенькие тропинки ведут к подножию горы. Я по ним не ходил и думаю, что это все-таки страшная крутизна. Туристы, однако, любят сидеть на обрывах Большого Салева, сорваться с которых — это значит наверняка разбиться в лепешку. Опасность приятно шевелит нервы, тем более что снизу из обрывов часто подымаются облака, густым туманом скрывающие все, что находится под ногами. Эти облака, загибаясь на вершину, имеют вид гигантских клубов пара.
Плоскость Салева необитаема. Там живут иногда в шалашах только пастухи, когда наступает время перегонять стада на луга Салева. Сверх того, есть домик, в котором на летнее время помещается ресторан для туристов. Его содержала мать нашей хозяйки. В ресторане можно было напиться прекрасного кофе со сливками или по желанию недурно пообедать.
Прогулка на Большой Салев требовала чуть не целого дня, так что мы с ребенком не могли часто забираться так далеко. У нас и без того поблизости было так много прекрасных мест прогулки.
Интересную прогулку давала даже наша собственная деревня. Основная длинная извилистая улица ее с узкими высокими домами так и дышала средними веками. Маленькая площадка посредине ее, где находились бассейн и кузница, так и просилась в иллюстрацию к «Трем мушкетерам». Крепкая каменная постройка французских деревень, видимо, много веков не изменяется никаким капитальным ремонтом, и только на более новых немногочисленных улицах Морне исчезал средневековый характер обиталищ. Одна сторона деревни шла вдоль ущелья, окаймленная виноградниками и огородами. Другая сторона тянулась на сравнительно ровной плоскости к Mon Gosse, горе, на вершине которой находился замок. Это была богатая частная собственность, владелец которой был женат на русской. В этой части Морне все было тоже наполнено огородами и виноградниками. Я часто наблюдал тут работу французского крестьянина. Здесь не было ни плуга, ни сохи. Все работали громадными мотыгами. Медленно, с усилием поднимал ее крестьянин, и потом она сразу обрушивалась, глубоко вгрузая в землю. Затем он опять так же медленно поднимал ее для нового тяжелого удара. Случалось, что я уходил на прогулку, возвращался через час два и видел снова согнутую фигуру крестьянина, продолжавшего долбить землю. Я удивлялся этому тяжкому, упорному труду, и мне думалось, что русский крестьянин не выдержал бы его. Но в горах земли мало, тут местами плугу и не повернуться, да и земля вся в террасах. Наконец, в ней слишком много больших кусков камня. Приходится все делать всесокрушающей мотыгой да могучими мускулами и хребтом человека.
Много у морнеских крестьян было и домашней работы. Наш m-r Albert Bain тоже имел порядочное хозяйство: у них откармливались до безобразия жирные боровы, выводились кролики, много было птицы. Много было и коз. В определенные часы стада коз проходили по улице, и их доили для желающих тут же, на их глазах. Крупного скота у нас было совсем не видно.
Французский крестьянин неутомим в труде, но на многое не хватает рук, и множество итальянцев приходят на заработки во Францию. Их труд предпочитается по дешевизне, но они очень бунтливы и доставляют много хлопот своим хозяевам. Были итальянцы и у нашего хозяина, и помню, как m-me Albert Bain подавала им к столу непременно черствый хлеб, уверяя, что они не любят мягкого. На самом деле причина состояла, конечно, в том, что мягкого хлеба они бы съели гораздо больше, чем сухого.
Церкви в Морне не было, но была католическая община, в которой, конечно, совершалось богослужение. Школа же для окрестных деревень находилась в Monnetier. Мы там присутствовали при торжественном акте и раздаче наград. Торжество было действительно большое, собралась разряженная масса народа, оживленного и видимо заинтересованного учением детей. Учили их очень старательно, потому что в Савойях это имело и политическое значение. Савойский язык хотя и есть наречие французского, но непонятен для французов. Старики еще при нас говорили на своем родном patois, но молодые поколения заботливо обучались по-французски, и очень успешно, так что при нас уже вся масса населения хорошо говорила по-французски, и притом очень чисто и правильно. Источник этого в школе, где детей учат произносить все буквы и слова отчетливо и грамматически строить фразы, так что в Савойях говорили лучше, чем в природных провинциях Франции. Помню, как прекрасно я понимал здесь детей, совершенно вроде того, как понимал каждое слово в «Comedie-Francaise», где для артистов тоже обязательно отчетливо произносить каждую букву. Тут только наглядно понимаешь, что все эти аксани и прочие знаки имеют действительно реальное значение.
Пришлось нам видеть в Морне и торжество совсем другого рода — это большие маневры войск.
Маневры эти изображали вторжение неприятельской армии из Женевы во Францию и отбитие этого вторжения. По плану маневров, вторжение было сначала очень удачно, так что неприятель занял и Аннеси, и наш Морне, и проник далеко в глубь страны по долине Арва. Действия французской армии начались еще ночью, но я начал их наблюдать с утра, когда неприятель уже был отброшен на значительном пространстве долины Арва и французские войска приближались к Морне, где укрепился неприятель. Взобравшись на Салев, я наблюдал сверху за движением войск, хотя это было воспрещено, так как и неприятель мог бы сделать то же самое. Следовательно, если бы я был замечен, то мог бы быть арестован в качестве неприятельского соглядатая. Через несколько времени один прохожий, заметив меня, крикнул снизу, чтобы я сошел, и мне пришлось расстаться со своим наблюдательным пунктом. Тем не менее я успел увидеть, как французы одним скрытым ущельем подбирались к Морне. Но зато я не успел возвратиться в деревню к самому торжественному моменту: взятию ее штурмом.
В самый разгар штурма попала, напротив, жена с ребенком. Она гуляла с коляской в виноградниках Морне совершенно спокойная и не ожидала никаких страстей. Неприятель занимал деревню, но все было спокойно, битва шла далеко.
Как вдруг французы неожиданно ворвались в деревню. Началась страшная пальба с обеих сторон. Перепуганная жена не знала, куда им бежать в этой свалке. Но дело кончилось быстро. Неприятель принужден был очистить деревню, начать общее отступление к женевской границе. Этим и кончалось задание маневров.
После того началось мирное веселье. Солдаты после суточных боевых трудов рассеялись по деревне. Они начали мыться и бриться, и скоро дворы и террасы морнеских домов запестрели синими и красными пятнами военной униформы. Несколько человек пришли и к нашим хозяевам, куда набрались откуда-то и деревенские девицы. Начались у них всякие тары-бары. Вышел и я посмотреть на террасу. Там за столом угощали двух-трех галантных солдат, которые весело рассыпались перед девицами во всяких комплиментах. «Jamais je n'ai vu des si jolies filles, qu'a Mornez» (Нигде я не видел таких красивых девушек, как в Морне), — уверял один, а барышни краснели и хихикали.
Веселый народ французы. После всей маневренной усталости этих бравых молодцев тянет не к отдыху, а к тому, чтобы поболтать да подурачиться с девицами.
Наша жизнь в Морне была сравнительно уединенна. Я бывал в Женеве часто, но, чтобы посетить нас, требовалось во всяком случае несколько часов, так что нас навешали нечасто. Меня так и прозвали тогда «морнеским пустынником» — в подражание «фернейскому пустыннику». Ферней, где жил Вольтер, лежит тоже где-то в этих местах. Однако нас все-таки посещали, хотя, конечно, не так усердно, как «фернейского пустынника». Один раз явился к нам Плеханов с Верой Засулич и еще с кем-то, только без Дейча. Помню, что мы провели время очень весело и приятно, угощали их, много гуляли по окрестностям. Только во время прогулки вышло маленькое приключение с Плехановым. По дороге попалась крутая горка, вроде утеса, густо заросшая кустарником. Ему вздумалось на нее взобраться. Видно, что он в Швейцарии мало гулял, незнаком был с коварством гор и лесов. Стал он шибко подыматься кверху и скоро бесследно исчез в густой заросли. Из нас никто не последовал за ним. Через несколько времени мы стали окликать его: «Куда вы девались, спускайтесь!..» И вот сверху послышался его встревоженный голос: «Я не могу спуститься, тут так круто, что я падаю». Он, очевидно, не знал, что на гору влезть гораздо легче, чем спуститься, и, увлекшись, добрался до такой крутизны, что уже назад и ногу негде было поставить. Положим, в данном случае только очень неопытный турист мог тревожиться. Опасности никакой не было. В такой густой заросли нельзя было оборваться, руки везде цеплялись за ветви, ноги везде упирались в корни. Можно было поцарапать руки да изорвать платье, и только. Но напрасно мы кричали, чтобы он держался за кусты. Он не умел приспособиться, и кому-то из нас пришлось лезть помогать ему спуститься.
Вера Засулич, которой, видно, тоже нечасто приходилось гулять на лоне природы, была весела и оживленна, как никогда. Она громко кричала, бегала и совершенно скандализировала нашу чинную m-me Albert Bain. Нужно сказать, что Засулич явилась полной оборванкой, с растрепанными волосами и совсем скинула башмаки, бегая на босу ногу. M-me Albert Bain пришла в ужас и говорила потом мне, что она поражена, как к нам могла явиться «cette fille» (эта девица). Нелегко было успокоить ее, что «cette fille» очень хорошая, но только невоспитанная, что такие бывают в России и т. п.
Тихо, мирно и в довольстве протекала наша жизнь в Морне. Наших средств хватало на прожитье без нужды, даже с избытком. Жизнь здесь была очень дешева. Морне расположен в так называемой «зоне», то есть в полосе, свободной от таможни. Таможенная граница начинается у французов довольно далеко от политической границы со Швейцарией, а в Женевском кантоне ввозные продукты совсем не облагают пошлиной (кроме часов). Таким образом, в Морне все продукты очень дешевы. Мы жили в довольстве, без всяких долгов и, как тихие люди и хорошие плательщики, пользовались уважением хозяев и вообще жителей. Впоследствии, когда нам пришлось уехать в Париж, одна очень зажиточная семья не побоялась упросить жену взять с собой как прислугу ее молоденькую, очень милую дочь. Это показывает прочность нашей репутации в Морне, который оставался для нас приятным убежищем даже и тогда, когда неотступные волны политики вопреки моему желанию снова захлестнули меня. А их первый напор на меня произошел, к сожалению, очень скоро, в том же 1882 году.
VII
Кажется, в ноябре 1882 года и получил от Марины Никаноровны (то есть Оловениковой) известие, что в Париж едет для свидания со мной Николай Яковлевич Николадзе, {110} имеющий важные предложения исполнительному комитету со стороны влиятельных правительственных лиц. Так ей писала из России Вера Фигнер, к которой по этому предмету приезжал Николай Константинович Михайловский. {111} Должно сказать, что в своем «Запечатленном труде» Вера Фигнер передает предложения этого влиятельного лица (графа Воронцова-Дашкова) {112} не вполне так, как передавал мне потом Николадзе. Может быть, ей изменяет память, может быть, Михайловский излагал дело не совсем так, как Николадзе. Но это не важно. Сущность, во всяком случае, одинакова, и, сверх того, предложения Воронцова-Дашкова были только примерными.
Дело состояло в следующем. После цареубийства 1 марта, как известно, образовалась так называемая Священная дружина, поставившая своей задачей борьбу с террористами для охраны безопасности Императора. Среди лиц этой дружины явилась мысль, нельзя ли добиться от исполнительного комитета прекращения террористических действий хотя бы до коронации ценой каких-либо уступок со стороны правительства. Этим был озабочен в особенности граф Воронцов-Дашков, который через посредство некоего Бороздина разыскал Николадзе как человека, способного войти в эту идею и разыскать деятелей исполнительного комитета, чтобы войти с ними в соответственные переговоры. Николадзе сообщил о предложении Михайловскому, а Михайловский — Вере Фигнер. Но Фигнер не верила в искренность Воронцова-Дашкова и даже подозревала в этой затее простую ловушку — просто желание разыскать членов комитета для захвата их, и вести переговоры в России отказалась. Но она предложила мне и Марине Никаноровне взять переговоры на себя и посмотреть, можно ли из них извлечь что-либо выгодное. С этими известиями она послала за границу Салову (Неонилу Михайловну); {113} Михайловский же заявил Николадзе, что он должен ехать за границу ко мне как представителю исполнительного комитета. Николадзе так и сделал.
Должен сделать некоторую поправку к повествованию Фигнер об этом эпизоде. Она говорит, будто бы поручила нам заявить Николадзе, что ни при каком исходе переговоров исполнительный комитет не лишает себя права на террористические действия. Такой оговорки мы с Мариной Никаноровной ни письменно, ни устно через Салову не получали, и я полагаю, что Вера Фигнер ее не делала. Это было бы слишком нелепо. Воронцов-Дашков и его единомышленники предлагали вопрос: ценой каких уступок правительства исполнительный комитет может обещать не производить террористических действий? Если комитет ни при каких уступках не соглашался дать такого обещания, то очевидно, переговариваться не о чем, незачем Николадзе ездить за границу, незачем беспокоить меня и Марину Никаноровну. Такой ответ Вера Фигнер могла послать сразу через Михайловского. Но у нее теперь явилась просто некоторая аберрация памяти, в действительности же такого нелепого заявления она нам не посылала.
Имя Николадзе очень меня заинтриговало. Еще раньше, до моего приезда за границу, какие-то политические аферисты, может быть с примесью шпионства, связанные, кажется, с Добровольной охраной, тогда возникшей, приезжали к Лаврову с аналогичными предложениями, и на разговорах с ними присутствовала и Марина Никаноровна. Но это была явная пустопорожность, так что Марина Никаноровна даже не рассказывала мне о ней серьезно. В настоящем же случае дело получало иной вид.
Я до тех пор не знал лично Николадзе. Но он пользовался крупной репутацией в русском радикальном мире. Жизнь его также была мне известна. Грузин по племени, он обладал пылким южным темпераментом, но вместе с тем был очень умен, с университетским образованием и прошел такую житейскую школу, которая могла научить побольше, чем университет. Имея очень яркие радикальные убеждения, он подвергался и политическим преследованиям, был эмигрантом, издавал за границей газету, завел обширные знакомства с французскими радикалами. Между прочим, он близко сошелся со знаменитым тогда Рошфором, которого считал гениальным публицистом. По возвращении в Россию он участвовал и в городском самоуправлении, и в промышленных предприятиях и приобрел особенную известность как редактор-издатель тифлисской газеты «Обзор». Он поставил ее на высоту лучших петербургских изданий и вел ее так резко, что можно было только удивляться, как ему позволяют так свободно писать в провинции. Скоро потом воспоследовавший литературный процесс «Обзора» обнаружил, какими крайними средствами он добивался свободы слова. Цензор жаловался, что он вымогал у него разрешения статей почти прямым насилием. Припоминаю одну сцену такого рода. Разъяренный запрещением статьи, Николадзе однажды как буря налетел на квартиру цензора. Тот, испуганный, заперся на ключ, а Николадзе кричал на всю улицу, требуя, чтобы он его впустил. Цензор вышел на балкон и объявил, что не может впустить его в таком возбужденном состоянии. Николадзе долго бесновался, но наконец утих. «Ну, — крикнул он цензору, — вы видите, что я совершенно хладнокровен. Пустите же меня. Ведь надо же нам как-нибудь столковаться». Цензор впустил его, но, когда они начали столковываться, Николадзе постепенно опять пришел в раж, и цензор был принужден разрешить ему все, что он требовал... Человек был с темпераментом! Однако «Обзор» в конце концов все-таки запретили, хотя процесс свой он и выиграл.
Трудно было сомневаться в том, что Николадзе имеет какие-либо серьезные основания верить в пользу переговоров, и я отправился в Париж немедленно по получении известия о его приезде туда. Это было около половины декабря 1882 года. В воспоминаниях об этом эпизоде, данных Николадзе Бурцеву {114} в «Былое», он говорил, будто бы предварительно приезжал ко мне в Женеву и беседовал, а потом отправился в Париж, где его ждал Бороздин, бывший посредником между ним и графом Воронцовым-Дашковым. Это неверно. У меня память неплохая, а я решительно не помню, чтобы он заезжал ко мне в Женеву. Я его впервые увидел в Париже. Но как мог сделать Николадзе такую странную ошибку? Вероятно, причина этого именно в Бороздине. Этот господин, о котором Николадзе говорит почти с отвращением, настаивал, чтобы Николадзе вступил в переговоры чуть не с целым конгрессом народовольцев, и в то же время видно, что он был приставлен Воронцовым для контроля Николадзе и о ходе дела посылал правильные доклады Воронцову. Возможно, что Николадзе и сказал ему, будто заезжал ко мне и я будто бы обещал снестись с широкими кругами партии.
Возможно, что он даже и приезжал в Женеву, чтобы сбить с толку Бороздина, но у меня он не был, и я даже весьма сомневаюсь, чтобы он мог найти меня в Морне, потому что ни адреса моего, ни псевдонима ему неоткуда было узнать. Но, раз обманувши Бороздина, Николадзе, давая свои воспоминания, может быть, не находил удобным отречься от своих слов... Как бы то ни было, по моим воспоминаниям, я прямо отправился в Париж и только там с ним лично познакомился.
Тут я впервые увидал за границей и Марину Никанороопу. Она занимала на rue Flatters небольшую квартирку, в три комнаты с кухней, светлую и уютную, недурно меблированную. Мебель, помнится, у нее была своя, но в Париже можно было очень задешево обзавестись мебелью. Впоследствии с ней поселилась и Гатина Чернявская. Разумеется, мы встретились с Мариной Никаноровной с великой радостью, как родные, и сразу перешли на «ты». Оказалось, что Николадзе уже в Париже и был у Лаврова, познакомился и с Мариной Никаноровной.
Я отправился к нему незамедлительно. Он жил в какой-то весьма приличной гостинице. Никого другого я у него не видал, хотя в той же гостинице жил какой-то русский, с которым он был в сношениях. В своих воспоминаниях Николадзе говорит, что Бороздин жил не с ним, а в Grand Hotel. Мне же он тогда вовсе не упоминал о Бороздине. А теперь мне странно, что Бороздин, который, в сущности, был навязан Николадзе в какие-то надзиратели, поселился в другой гостинице... Вообще, правду сказать, воспоминания Николадзе мне кажутся очень сомнительной искренности.
На меня он произвел тогда очень хорошее впечатление. Ум и энергия его обнаруживались сразу. К своей миссии он относился очень серьезно, не ожидая от правительства слишком добросовестного исполнения обещаний, но находя, что эти обещания, даже и с урезками, должны дать достаточно для того, чтобы стоило похлопотать о достижении некоторого соглашения между правительством и исполнительным комитетом. Таково же было мнение Михайловского и Кривенко, и тем более мое — человека, знавшего жалкое ничтожество сил партии. О своих доверителях Николадзе не распространялся. Ему, вероятно, не хотелось говорить, что он связался со Священной дружиной, да и говорить об этом было излишне, потому что раз произносилось имя Воронцова-Дашкова, то само собою понятно было, что в дело замешана Священная дружина. Он ставил дело так, что приносит предложения группы очень влиятельных лиц, от имени которых выступал Воронцов-Дашков.
Само собою подразумевалось, что Воронцов-Дашков не мог вступить в переговоры без ведома и согласия Императора. Но Николадзе ручался мне за нечто большее. Он был совершенно уверен, что Император по крайней мере один раз самолично, хотя и невидимо, присутствовал при переговорах, слушая их из другой комнаты, скрытый за портьерой. Николадзе подмечал, что в более интересных местах разговора портьера шевелилась, и утверждал, что, по его сведениям, там был именно Император. Откуда шли сведения, он не говорил. Он вообще, казалось мне, умел держать язык за зубами... Но я имею некоторое косвенное основание думать, что Император был очень хорошо ознакомлен с переговорами Воронцова. Когда я подавал на Высочайшее Имя прошение об амнистии, то должен был перечислить вкратце все революционные мои дела, конечно, не говоря ни о каких моих сообщниках. Дойдя до эпизода переговоров с Воронцовым, я постеснялся говорить о нем в бумаге, которая будет прочитана, конечно, не одним Императором. Поэтому я упомянул об этом деле очень глухо, с замечанием, что оно, мне кажется, известно Государю и что поэтому я расскажу эпизод подробно лишь в том случае, если он это мне прикажет... И однако такого приказа не воспоследовало. Это ясно указывает, что в моих объяснениях нет надобности, что Император и без них все знает, а осведомлять комиссию о принятии прошений в такой момент, когда он готов был вступать в соглашение с цареубийцами, вовсе нежелательно.
Николадзе имел с Воронцовым несколько свиданий. На них выяснилось, что высшие сферы считают исполнительный комитет таинственной грозной силой, справиться с которой они потеряли надежду. Между тем, не говоря уже о правлении вообще, необходимо было совершить коронацию нового Царя. Письмо исполнительного комитета к Императору Александру III было свидетельством, что комитет соглашался прекратить террор на известных условиях, но они были неприемлемы, потому что требовали, в сущности, отречения от самодержавия. Воронцов ставил вопрос: нельзя ли получить от комитета обязательства прекратить террор, хотя бы до коронации, на каких-либо других, более исполнимых условиях? Николадзе выражал свое мнение, что это действительно возможно. Весь вопрос в условиях, в тех уступках, какие сочтет возможным сделать власть. По поводу террора Николадзе заметил, что политические убийства иногда составляют только акт самозащиты от полицейских агентов. Воронцов отвечал, что шпионы не идут в счет, пусть берегутся сами. Требуется только прекращение террора в отношении Царской фамилии и правительственных лиц.
Но что же можно предложить комитету за эту уступку? Об этом Николадзе и должен был переговорить с народовольческим центром. В разговоре с Воронцовым правительственные уступки могли быть намечены только примерно. Воронцов находил возможным дать общую политическую амнистию, свободу печати, свободу организации обществ, свободу мирной пропаганды, расширение земского и городского самоуправления. Обо всем этом требовалось, так сказать, поторговаться с комитетом. Сверх того, являлся другой вопрос. Переговоры вело не само правительство, а некоторая таинственная группа влиятельных лиц. Не само правительство давало обязательства, а эта группа обязывалась выхлопотать в коронационном манифесте объявление уступок, которые будут условлены при переговорах. Но где же гарантия не только добросовестности этой группы, но даже силы се в правительстве? Нужны были,, стало быть, какие-то немедленные уступки.
Входить обо всем этом в подробные условия Воронцов с Николадзе не могли до переговоров с исполнительным комитетом. Условия набрасывались только примерно. Окончательный проект договора мог быть составлен только при переговорах с исполнительным комитетом, да и этот проект должен был быть подвергнут на решение обеих сторон, причем снова возможно было представить себе какие-либо его видоизменения. И вот почему лица, пишущие об этом предполагавшемся договоре, далеко не одинаково излагают его пункты, а каждый помнит только то, что ему хотелось. Наиболее точное изложение мы находим теперь в меморандуме, составленном, по-видимому, Бороздиным со слов Николадзе, но со множеством произвольных прибавок. [36]
Нужно сказать, что повествование самого Николадзе о переговорах со мной в воспоминаниях его в высшей степени неточно, и эти неточности так велики, что не могут быть объяснены простым обманом памяти. Он говорит, будто бы я привез ему от имени конгресса русской социал-революционной партии заявление, что если правительство дозволит в русском обществе мирную пропаганду социальных (?!) воззрений хотя бы в той скромной мере и в тех узких границах, в каких это дозволительно в современной Германии, и если, кроме того, оно дарует амнистию и некоторое облегчение общественной деятельности для интеллигенции в печати, земстве и т. п., то революционная партия обяжется прекратить террористическую деятельность и упразднить себя как партию противоправительственную. Если же сверх того правительство пожелает взять в свои руки проведение и осуществление реформ, улучшающих аграрный и экономический быт народа, то названная партия от всей души искренне пойдет за правительством... Что касается обязательства не производить никакого покушения до и во время коронации, то оно обусловливалось двумя предложениями:
1) чтобы Государь послал доверенное лицо для расследования вопиющих несправедливостей, причиненных в Каре политическим ссыльным;
2) чтобы освобожден и возвращен был на родину писатель Н. Г. Чернышевский.
В этом изложении все неверно. Ни о каком «конгрессе» я не говорил, а явился просто уполномоченным исполнительного комитета «Народной воли», и не с предложениями, а для переговоров. Уступки, требуемые от правительства, Николадзе излагаются в самом жалком виде. Понятно, что об упразднении партии не было и слова. О том, что при каких бы то ни было условиях партия пойдет за правительством, не мог бы заикнуться даже самый последний идиот. Нагородивши эту кучу вздора, Николадзе прибавляет: «Собственноручную записку Л. А. Тихомирова, резюмировавшую эти предложения и обязательства, я лично передал графу Воронцову-Дашкову по возвращении в Петербург в последних числах декабря 1882 года».
Не знаю, какую записку передал он Воронцову, мы отмечали у себя, может быть, десяток записочек для памяти при разговорах, но, во-первых, ни в одной не было и не могло быть того, что выше понаписал Николадзе, во-вторых, переговоры были прерваны внезапно и никакого итога ни в каких записках им не было подведено.
Для меня теперь является вопрос: почему Николадзе в воспоминаниях пишет ряд этих заведомо ложных заявлений? Думаю, что причины заключаются в том, что он обманывал Воронцова. Бороздин, явно неразборчивый в средствах, чуть не сразу советовал и Николадзе не стесняться правдой. На месте Николадзе, говорил он, он бы «не постеснялся сразу покончить со всеми колебаниями графа (Воронцова), заявив ему, что он уже виделся с революционерами, условился с ними и удостоверился в осуществимости своих предложений. Успокоив графа этим способом, можно будет придать ему большую решимость по отношению к Государю, а себе — больший вес в глазах графа». Чем же можно было успокоить графа? Ему хотелось, чтобы переговоры велись с целым конгрессом революционеров и чтобы революционеры оказались возможно более склонны примириться с правительством. Николадзе ответил Бороздину в тоне высокого благородства. «Я ответил, — говорит он, — что тут обман, вообще гнусный во всяком деле, в подобных случаях еще и глуп, так как на нем далеко не уедешь. Я прямо отказался вводить графа Воронцова в заблуждение на этот или на какой бы то ни было другой счет». [37]
Так он ответил, может быть, не желая вступать с Бороздиным в союз обмана. Однако для меня ясно, что он вполне усвоил совет Бороздина, но только начал обманывать графа не вместе с Бороздиным, а посредством него, то есть обманывал его самого, зная, что он в донесениях графу тотчас изложит все, что скажет Николадзе о переговорах со мной. Но, раз наговоривши выдумок Бороздину и запечатлевши их в документах письменных, Николадзе уже находит теперь неудобным сознаваться в обмане, так как подобные прецеденты могут подорвать к нему доверие и на будущее время. И вот он поддерживает в воспоминаниях те выдумки, которые позволил себе в 1882 году. Так я понимаю это дело.
Можно спросить: зачем же он пишет о том, о чем не может говорить искренне? Но ведь Бурцев буквально вымогал воспоминания для своего «Былого», от него отделаться было очень трудно, почти невозможно. Я это знаю по опыту, он мог найти способы заставить Николадзе писать вопреки всякого своего желания.
Но что же было при переговорах в действительности? В этих переговорах мы с Николадзе остановились лишь в общих чертах на следующих пунктах:
1) общая политическая амнистия;
2) свобода печати, мирной социалистической пропаганды, свобода обществ;
3) расширение земского и городского самоуправления.
Этой ценой исполнительный комитет должен дать обязательство не производить террористических покушений до и во время коронации. Мы оба прекрасно понимали, что выторговываемые нами свободы при законодательном определении могут быть и расширяемы, и суживаемы, а потому и не пытались определить их с точностью.
Что касается, так сказать, «залога» со стороны «влиятельных лиц», мы остановились:
1) на немедленном освобождении какого-нибудь важного политического преступника;
2) на внесении «влиятельными лицами» какой-либо крупной суммы, например миллиона рублей, какому-либо благонадежному третьему лицу в Париже с тем, чтобы эти деньги возвращались «влиятельным лицам» по исполнении ими обещаний или передавались исполнительному комитету в случае неисполнения обещаний.
Мы с Николадзе несколько раз переговаривались об этих условиях, переделывали их, дополняли. Он записывал наши разговоры, но кто сочинял упомянутый меморандум — не знаю. Я, конечно, говорил ему, что мне необходимо перетолковать с товарищами, но в действительности мне не с кем было и толковать, кроме Марины Никаноровны. Мнения наши были совершенно одинаковы. Мы твердо решили приложить все усилия, чтобы уговорить русские толпы народовольцев и тамошний жалкий «центр» Веры Фигнер принять предлагаемые условия. Нам прямо валился с неба подарок. От чего мы должны отказаться? От террора, на который все равно не было сил. А взамен этой фиктивной уступки мы получали ряд реальных ценностей, и каких!
Мы с Мариной Никаноровной не были террористами и даже не без удовольствия думали, что партия хоть временно откажется от этой системы убийств. Но со всех точек зрения амнистия, возвращение к жизни десятков и сотен испытанных бойцов, была такой ценностью, из-за которой даже террористы могли бы временно пожертвовать террором. Для меня лично мысль послужить орудием освобождения товарищей была невыразимо отрадна. Ну и прочие уступки — самоуправление, свободы, — в каком бы урезанном виде ни явились они фактически, все же были полезны для развития страны.
В конце концов мы столковались с Николадзе на вышепомеченных условиях. Относительно суммы залога он мог сделать изменения, если нужно. Относительно человека, которого требовалось освободить немедленно, я предоставил ему выбор по усмотрению, и он хотел требовать Чернышевского. Я обязался добиваться от партии ратификации условий, а он — добиваться ратификации от Воронцова с К°. Он извещал Воронцова о ходе переговоров с «представителем исполнительного комитета», но делал ли это лично или через Бороздина — не знаю. Оба мы были чрезвычайно довольны и вместе мечтали о будущем, которому оказали такую услугу своими переговорами. Николадзе в душе верил, что множество революционеров при новых условиях перейдут на почву легальной деятельности, да так, вероятно, и было бы. Я же в душе надеялся, что после этой последней работы буду в состоянии совсем отойти от политики и заняться серьезно проверкой своего миросозерцания. Мы с Николадзе с каждым днем сдружались, оба веселые и довольные.
Но только наши прекрасные дни Аранжуенца оказались очень непродолжительны. Не знаю, протянулись ли они с неделю.
Однажды прихожу я к Николадзе и застаю его мрачным и встревоженным. Он сообщил, что произошло нечто непонятное и, очевидно, очень скверное. Какой-то единомышленник извещал его из России: «Прекрати переговоры и немедленно возвращайся, иначе угрожают большие неприятности». Оба мы ломали голову, что может означать такой переворот, но мне только месяца через два пришлось узнать печальную разгадку тайны. Что касается Николадзе, он поспешил уложить свои чемоданы, и мы только на прощание условились, что если окажется возможным продолжать переговоры, то известит меня, и тогда мы начнем хлопотать о согласии своих российских товарищей, а он снова приедет для, так сказать, окончательного обмена ратификаций. Но ничему подобному не суждено было случиться.
Разгадка же тайны состояла в предательстве Дегаева. Арестованный 20 декабря 1882 года, он вступил в переговоры с Судейкиным, сделался его единомышленником и выдал ему всех и вся, раскрыв подробно все жалкое положение партии. Выпущенный под видом побега, он стал главой партии, оставаясь агентом охранной полиции, которая посредством него держала в руках все злополучное народовольчество.
Вот какое происшествие перевернуло вверх дном все хитроумные планы Николадзе.
Правительство боялось комитета и потому готово было идти на уступки. Но вот глаза его раскрылись, и оно увидело, на краю какой колоссальной глупости оно чуть-чуть не очутилось. Моментально ударили отбой — «прекратить переговоры», и Николадзе мог легко попасть под подозрение, что он дурачил правительство и сознательно вовлекал его в такую невыгодную сделку.
Все это объяснилось нам лишь в марте 1883 года. Пока мне, в сущности, можно было бы убраться в свое Морне. Но мы все еще думали, что, может быть, дела у Николадзе изменятся. Сверх того — раз уж я был в Париже, следовало хоть из приличия похлопотать о «Вестнике „Народной воли“», к редакторству в котором Марина Никаноровна уже привлекла Лаврова. Другим редактором числился я. В случае возобновления переговоров с Николадзе издание «Вестника», усиливающее наше влияние на Россию, сделалось бы очень важным делом.
Итак, я еще остался некоторое время в Париже, в многочисленных разговорах с Лавровым.
VIII
Таким образом мне пришлось положить начало знакомству с Лавровым. Это знакомство и помимо деловых соображений было весьма интересно. Во-первых, он был немалой революционной знаменитостью, во-вторых, человек положительно симпатичный, несмотря на некоторые отрицательные стороны.
Жил Петр Лаврович на rue Saint Jaques, № 328, где пробыл до конца дней своих. Эта улица, упирающаяся в boulevard Port Royal, — одна из старых парижских улиц со всей свойственной им наружностью. Узкая, с узенькими тротуарчиками, с домами такими же узкими и слитыми между собой без промежутков, но очень высокими, этажей в пять. По старинной манере верхние этажи чуточку выступали над ню&ними, так что дома сверху немного наклонялись. Не знаю, почему явилась эта странная архитектурная манера, но благодаря ей дома лучше защищали прохожих от дождя, нежели дома, поставленные совсем прямо. Улица эта очень бойкая, со множеством посредственных магазинчиков и таких же посредственных кабачков.
Квартира Лаврова помещалась невысоко, на втором или третьем этаже, и была невелика — всего две комнаты с передней и кухней. Первая комната служила приемной, задняя — спальней и кабинетом. Впрочем, обе они, как и кухня, представляли больше всего не то библиотеку, не то склад книг, буквально набитые книгами не только на открытых узких полках по всем стенам до потолка всех помещений, но везде, где возможно, — на столах, стульях, книги грудами лежали даже на полу. На взгляд, думаю, у Петра Лавровича было больше десяти тысяч томов, на всех главных языках, и книги все хорошие, научные, по всем отраслям знания. Он получал постоянно все новые и новые пачки книг, по большей части бесплатно. Многочисленные друзья его, профессора и литераторы, в изобилии снабжали его всеми новыми произведениями литературы, то есть научной. Беллетристики я у него совсем не помню, но было довольно много русских ежемесячных журналов. Думаю я, что он покупал кое-что и на собственный счет. Получая книгу, Петр Лаврович обязательно разрезывал ее и просматривал. Перечитывать серьезно всю массу получаемых им книг было, конечно, физически невозможно, да, конечно, и бесполезно. Но знания его были поразительно обширны по всем предметам. У него можно было спрашивать о чем угодно, и он тотчас осведомлял как по существу, так и о литературе предмета. Я встретил в течение жизни только трех человек таких универсальных знаний: Лаврова да еще Николая Федоровича Федорова {115} в Румянцевском музее и Владимира Александровича Кожевникова. {116} Разумеется, Петр Лаврович все-таки не мог обойтись своими книгами и иногда ходил в Bibliotheque National. По специальности он был когда-то естественник и состоял когда-то профессором химии в одном высшем учебном военном заведении, чуть ли не в Академии Генерального штаба. Вообще, я не знаю хорошо его биографии. По происхождению он был сыном богатого помещика, состоял на военной службе (в артиллерии) и дослужился чуть ли не до полковника. Потом был профессором. Не знаю, по какому случаю он был сослан административно в Вологду, откуда бежал за границу в 1870 году. С 1875 года уже начал выходить его «Вперед».
Писал он легко и много, отвратительным неразборчивым почерком. Кроме большой литературной работы в революционных изданиях и отдельных изданиях (как «Государственный элемент в будущем обществе»), он писал, так сказать, основной труд жизни — громадный, бесконечный, которого заглавие я, к сожалению, позабыл. Тему его составляло, насколько помню, развитие жизни на Земле, начиная от зарождения земного шара и кончая историей человека, человеческой мысли и общественности. Поклонники его собирались иногда у него слушать отрывки из этого сочинения. Я ни разу на эти чтения не ходил.
Разумеется, в такой книжной кладовой, которую представляла квартира Лаврова, не было возможности поддерживать чистоту. Хотя к нему и ходила femme de menage (уборщица), но немыслимо убрать слои вечной пыли. Что еще хуже — квартира была заполнена бесчисленными стаями клопов. Мне приходилось изредка у него ночевать, на диване в приемной, и это было нестерпимое мучение. Клопы лезли десятками и заедали до невозможности спать. Как он сам умудрялся спать — не понимаю, но эту неприятную сторону своего жилища он, конечно, хорошо знал и, когда кто-нибудь просился заночевать, сам предупреждал: «Милости просим, но только клопы будут очень беспокоить».
По обыкновению французских ученых, Лавров вставал очень рано и, умывшись, немедленно садился за работу. Работа на свежую голову считается наилучшей. Окно, около которого стоял его рабочий стол, выходило в очень хорошенький светлый сад с красивыми кустами и множеством цветов. «Петр Лаврович, как у вас тут хорошо, — воскликнула раз Марина Никаноровна, — как приятно писать перед таким прелестным садом». Он добродушно посмеивался: «Да, да, он мне не мешает заниматься». Лавров был до странности равнодушен к красоте природы, да и ко всему художественному, и не скрывал этого, даже подчеркивал. Итак, он занимался, а тем временем у него слегка убирали комнаты. Потом, не помню, в котором часу, появлялся бравый молодец из соседней «горготки» и приносил ему завтрак. Двери у него, кажется, никогда не затворялись, но раздавался громкий голос: «Bonjour, monsieur Lavroff». Петр Лаврович вставал и принимал посуду с завтраком. Завтрак был скромный, в оловянной посуде, но вкусный, что-нибудь вроде свиной головки с овощами. Лавров любил покушать, но не позволял себе ни излишества, ни роскоши — по принципу. Он все делал по принципу. После завтрака он прочитывал корреспонденцию, пересматривал новые книги, принимал посетителей, в которых обыкновенно не было недостатка. Это были эмигранты, студенты, иногда приезжие из России. Молодежь его очень любила, особенно студентки, которые всячески ухаживали за ним и пытались привести в порядок его хозяйство. Вечером, если набиралось порядочно гостей, какая-нибудь студентка отправлялась на кухню готовить чай, а другие его разносили. Чай приготовляли на большой спиртовой лампе, в большом чайнике. Среди сменяющихся поколений учащейся молодежи у Петра Лавровича всегда были студентки, особенно ему преданные. При мне долгое время о нем заботилась Гераклида, а из студентов — Лорис-Меликов. И немудрено, что Лаврова любили. Он был добр и ласков в обращении, умел как-то поставить себя на равную ногу с молодежью, относился участливо ко всякому запросу и вообще был очень хороший человек с очень маленькими недостатками. Сверх того, он был одинок, а это возбуждает жалость в женском сердце. Действительно: человек старый, живет один, без всякого призора, некому подумать о ею нуждах, о его хозяйстве, починить белье, присмотреть при нездоровье. Правда, Лавров был очень крепкий старик, однако не мог иногда не прихварывать... Вот и являлись сердобольные барышни, которые старались ему помочь. А Лорис-Меликов любил его с истинно сыновним чувством.
Посетителей у Лаврова было очень много и по самым разнообразным причинам. В том числе нередко приходили за деньгами. Лавров в материальном отношении обыкновенно был довольно обеспечен. Не знаю, получал ли он что-нибудь от семьи из России, но его литературные и ученые друзья в России очень о нем думали, устраивали ему литературную работу, присылали деньги даже в счет будущих благ, в кредит. Должен сознаться, что я не знаю хорошо подробностей этого, потому что мне некогда было думать о Лаврове. За границей я был слишком завален политическими делами, заботами о своем материальном положении, а впоследствии поглощен трудным духовным переломом, в котором был так далек от духовного состояния Лаврова... Но как бы то ни было, у Петра Лавровича обыкновенно был лишний десяток франков, особенно при его чрезвычайно строгой экономии в отношении собственных потребностей. И вот голодные эмигранты нередко обращались к нему, и он по возможности не отказывал в помощи.
Приходили к нему за всякими справками и советами по литературной части. Приходили за книгами. Он не отказывал в книгах. Присутствовал я раз (позднее, конечно) при сцене, глубоко меня возмущавшей. Прихожу раз. Кравчинский лазает по полкам, вытаскивает книги и вырывает из них огромные пачки страниц, а Петр Лаврович, мрачный и страдающий, сидит у себя в спальне за столом и как будто старается даже не смотреть на то, что делает Кравчинский, так что не вышел ко мне в переднюю комнату, а принял в спальне. Удивленный, начинаю расспрашивать. Оказывается следующее. Кравчинский переселяется для большей безопасности в Англию и будет там писать о России. Но о России он, в сущности, ничего не знает и потому придумал — повыдирать из «Отечественных записок» все внутренние обозрения и статьи, касающиеся внутренних дел России, и на основании этого материала писать статьи в английских газетах. Злополучный Петр Лаврович до глубины души страдает при виде такого варварского разорения своей библиотеки, но отказать не в силах. Ведь Кравчинскому это необходимо для его журнальной карьеры в Лондоне.
Меня это глубоко возмущало. Правда, Кравчинский обещал прислать эту громадную кипу вырванных страниц обратно. Но было совершенно ясно, что, во-первых, он их истреплет в клочья, во-вторых, если и пришлет, то через несколько лет, и в-третьих — для их обратной вставки в «Отечественные записки» потребуются от Лаврова огромная работа и значительные переплетные издержки. Но что за дело до всего этого Кравчинскому! Он на несколько лет лишит эмигрантов возможности пользоваться журналами Лаврова, но зато сам получит в Лондоне заработок и репутацию знатока России.
Все это прекрасно понимал Лавров, но отказать эмигранту в помощи он был не в силах.
Приходили к нему иногда просить заступничества перед французскими властями, и он немедленно напяливал черный сюртук и отправлялся хлопотать. С ним в очень дружеских отношениях находился Клемансо, который тогда был могущественным главой радикальной оппозиции и редактором влиятельной «Justice». Правительство с ним очень считалось и готово было при возможности сделать ему что-нибудь приятное. Он же в свою очередь рад был услужить Лаврову. В своих выступлениях перед властями Петр Лаврович был не всегда тактичен, как и вообще не отличался дипломатической сообразительностью. Так, когда возникло требование русского правительства о выдаче Гартмана {117} (замешанного в деле о попытке цареубийства в Москве), Лавров отправился во главе эмигрантской депутации к Гамбетте просить об отказе в этом требовании. Он заранее приготовил речь, в которой было очень неудачное обращение к «чести Франции» — «honneur de la France». Но насчет чести французы очень щепетильны, и напоминание о требованиях чести составляет само по себе оскорбление. Когда Лавров выпалил это свое «honneur de la France», Гамбетта {118} резко прервал его: «Не беспокойтесь, l'honneur de la France est entre les bonnes mains...» (Честь Франции в хороших руках). Этим и кончилась аудиенция. Лавров потом никак не мог понять, что рассердило главу правительства. Но если он не всегда действовал умело, то всегда был старателен.
Приходили к Петру Лавровичу, конечно, и просто в гости. По-метение у него было тесное, и сидеть не на чем было, но случалось, по вечерам набивалось человек по десять—пятнадцать, и уж тогда ютились как могли, переходили даже на кухню. Случалось, что он читал какую-нибудь новинку, ему присланную, как, помню, раз «Три смерти» Толстого. И собеседник, и чтец он был посредственный, но у него не было скучно. Все-таки у него узнавались разные новости из эмигрантской или французской жизни, а иногда даже и из русской. Случалось, он рассказывал что-нибудь из виденного на свете, но этот материал у него был небогат: он мало жил и вращался всегда в довольно ограниченном круге событий, так что за пределами эмигрантской жизни мало наблюдал. Впрочем, он немножко видел Парижскую Коммуну.
В обращении с людьми он был ровен и спокоен. Для него не существовало волнующих вопросов. Он глубоко верил в торжество разума и прогресса на земле, а вопросы мистики и загробной жизни его не беспокоили: он ни во что подобное не верил. Не помню, кто раз спрашивал его: «Петр Лаврович, ну вот живешь-живешь и помрешь... А дальше же что? Что выйдет из моего процесса жизни?» «А дальше ничего, — отвечал он, — умрешь, и все кончится, ничего дальше не будет». Перспектива небытия его не беспокоила. Это, конечно, показывало какую-то ограниченность ума и чувства. Но Лавров оставался спокоен и безмятежен.
Любопытную черту его составляло то, что он, верующий в разум и науку, почти не отличал умного от глупого и научного от ненаучного. Я решительно не помню, чтобы он кого-нибудь считал или называл глупым. Не помню, чтобы он кого-нибудь называл гениальным. Приходил к нему раз полусумасшедший эмигрант (забыл фамилию), городил ужасный вздор и в довершение начал даже скакать на одной ножке. Но Лавров слушал его и разговаривал с ним совершенно спокойно и серьезно, как со всяким другим человеком. Точно такая же странность была у него в отношении статей или книг. Приходит к нему какой-нибудь NN и сообщает, что пишет статью, положим, о социалистической культуре. Лавров после этого рассказывает: «А слыхали вы — NN пишет труд о социалистической культуре?» Этот NN — первый встречный, с самыми ограниченными знаниями, пишет просто компилятивную статейку, но она касается важного предмета, и Лавров именует ее трудом. Это меня поражало. Он классифицировал людей и произведения по ярлыкам: если писатель профессор или признан за ученого — Лавров называет его ученым. Если произведение касается важного предмета — значит, это «труд». Я думаю, если бы к нему явился какой-нибудь новый Руссо и принес нечто гениальное, вроде «Contrat Sociale», Петр Лаврович не придал бы ему ни малейшего значения, но и не забраковал бы, а просто отметил у себя в памяти, что вот человек написал «труд». Для него все были как-то одинаковы: все люди, все мыслят. Но одни служат социализму и прогрессу, а другие — реакции. Первые — это свои, близкие; вторые — враги. Это и кладет между ними разницу. Когда же эти «свои», служащие прогрессу и социализму, распадаются на фракции и жестоко враждуют между собой, каждый за свою правду, Лавров не приставал ни на одну сторону, ему казалось, что они все правы и их требуется только объединить. Но он не представлял себе, что такое объединение требует высшей синтезирующей идеи, которая бы, в сущности, отбросила все частные заблуждения, и думал о каком-то механическом союзном объединении. Он был не синтетист, а прирожденный синкретист, именно как выражался женевский насмешник:
Лавр и мирт, говорят, Сочетал квас и спирт.К общему скажу: по моему мнению, Петр Лаврович, кладезь знаний, не имел ни одной искры гениальности, ни искры проникновения в самую глубину какой бы то ни было идеи. Но его синкретизм был очень удобен для того, чтобы около него собирались люди весьма различных мнений, особенно молодежь, еще не оформившая своих идей. А ютиться около него было тем легче, что он был человек, повторяю, очень хороший, хотя и узкий. С «врагом», то есть с человеком, не стоявшим под знаменами социализма и прогресса, он не мог дружить и такому человеку ни в чем не стал бы помогать. Но все прочие — милости просим, сходитесь, объединяйтесь.
Петр Лаврович жил по принципу, а не по личным влечениям. Принцип требовал братства между своими, и он всем своим помогал. Принцип требовал жизни нравственной — и он был нравствен. Принцип требовал, чтобы человек не позволял себе роскоши и излишеств, — и он строго соблюдал это. Он был лакомка и любил покушать, но нельзя было много тратить на себя — и он не тратил. Обедал он в скромном дешевом ресторане. После обеда он имел право скушать два сладких пирожка, и он их съедал, но — не больше. Его видывали перед кондитерскими, окна которых так и сверкали лакомствами. Петр Лаврович долго простаивал перед соблазнительными приманками и любовался ими. Но принцип торжествовал: два пирожка уже были съедены, больше не полагалось — и он отрывался от соблазна и шел дальше по улице...
Лавров был человек принципа, и простой человеческой сердечности у него было мало. Но все же он был человек, и одиночество не могло его не тяготить. Конечно, он был окружен «своими» людьми, людьми своего дела, и, вероятно, сам бы протестовал, если бы кто-нибудь сказал, что его жизнь протекает в одиночестве. Но в действительности, с точки зрения человеческого сердца, это были люди чужие, посторонние, и если среди них было несколько человек, его сердечно любящих, то он по возрасту, по воспитанию жизни стоял слишком далеко от них. Они не были друзья, к которым бы он мог быть лично привязан, которым мог бы свободно открыть душу. Поэтому он был все-таки одинок, и это его тяготило — может быть, меньше, чем людей более сердечных, но все-таки тяготило. Он имел потребность заполнить эту пустоту, потребность чувствовать привязанность, и в течение известной мне его жизни было два таких человека, которых он полюбил как личных друзей. Первый это был Герман Лопатин, который вывез его из Вологды за границу. Конечно, Герман Лопатин был гораздо моложе его, но имел в изобилии то, чего недоставало Лаврову; практическую смекалку, мужество, предприимчивость. Это их как бы уравнивало. Лавров любил его сердечно, так что даже идеализировал его. Если Германа Лопатина арестовывали и ссылали, Петр Лаврович огорчался, но даже не очень беспокоился: Герман Лопатин для него был герой — никакие тюрьмы, никакие стены его не удержат, он отовсюду сумеет убежать и снова свидится с ним. Петр Лаврович им гордился, как отец гордится любимым сыном, и это чувство скрашивало, как цветок, его довольно-таки сухую душу. Другим таким личным его другом, хотя и в меньшей степени, сделалась Марина Никаноровна. И, чувствуя эту привязанность старика, Герман Лопатин и Марина Никаноровна сами его любили. Не скрывая от себя его недостатков, подсмеиваясь над его слабостями, они не переставали его любить искренно и сердечно. Не знаю, были ли у Петра Лавровича раньше другие такие же привязанности, но, повторяю, он не был чужд человеческой потребности в них.
Разумеется, я пишу эту характеристику Лаврова на основании того, что я узнал в течение нескольких лет. Собственно, в первый мой приезд в Париж я мог узнать его только довольно поверхностно. Но общие черты его характера заметить было нетрудно, ну а я не питаю больших симпатий к людям такого типа. Конечно, я все-таки постарался стать с ним в возможно более дружеские отношения ввиду того, что нам предстояло совместно вести редакцию «Вестника „Народной воли“». Правда, на это еще не было денег. Но ввиду предприятия Николадзе, которое нельзя было еще считать вполне провалившимся, партии «Народной воли» необходимо было проявить свою жизненность. Нужно было что-нибудь издавать, а издавая что бы то ни было, важно было показать Лаврова гласно в союзе с нами. Приходилось с ним во что бы то ни стало столковаться, а это было очень трудно. Его, с одной стороны, тянуло желание выйти из бездействия, начать снова активную роль, да еще во главе наиболее сильной и прославленной партии. Но как пойти об руку с террористами, с людьми, действующими на политической почве? И вот приходилось ему объяснять, что народовольцы тоже социалисты. Мы ему показали подготовительную работу партии, программу исполнительного комитета, где, хотя и довольно слабо, все-таки проводится социалистическая идея. Это немножко действовало, но Лаврову хотелось если уж примыкать к народовольчеству, то не одному, а с другими социалистами, то есть с кружком Плеханова. Я прекрасно знал, что Плеханов не пойдет в такой союз. Но разумеется, мы с Мариной Никаноровной соглашались, что нужно постараться привлечь Плеханова. На случай же, если он не согласится, нужно выработать такую программу издания, которая бы вполне соответствовала желаниям Петра Лавровича и была бы также приемлема нами. Об этом мы с ним толковали очень много.
Издание журнала предвиделось только вдали. Но при первом же известии о предстоящем приезде Николадзе я понял, что нам необходимо проявить свое существование, и отыскал Владимира Голдовского как единственного человека, во-первых, вполне нашего, во-вторых, обладающего практическими способностями. Он хотя и был страшно обижен тем, что я от него прятался, но великодушно махнул на это рукой. Я заговорил, что нужно предпринимать какие-нибудь издания, и Голдовский приятно удивил меня, сообщив, что у него есть идея, для осуществления которой он уже кое-что и подготовил, а именно издание «Календаря „Народной воли“». Я вполне одобрил эту мысль и решил осуществить ее неотложно. Он беспрекословно подчинился моему редакторству, и стали спешно работать оба. Должен сказать, что чисто календарный материал обработан исключительно им. Остальной материал подбирал я, кое-что и сам написал.
Так вот, этот «Календарь» явился очень удобным способом быстро, явно связать Лаврова с народовольчеством. Я предложил ему дать для «Календаря» статью за подписью «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма». Это послужило для Петра Лавровича прекрасным способом объяснить, почему он может и даже, пожалуй, должен пойти об руку с народовольцами. В своей статье он «синкретизировал» все революционные направления, всем им дал характер различных разветвлений социализма и отвел в движении очень почетное место «Народной воле». После такого объяснения, в нашем издании, за его подписью, он уже почти не мог отказаться от редакторства в «Вестнике „Народной воли“».
Это был очень важный результат моей поездки в Париж, и я затем возвратился в Морне работать над «Календарем» и дожидаться, не явится ли каких-нибудь благоприятных вестей от Николадзе.
А о жизни партии Марина Никаноровна получила скорее благоприятные известия. Между прочим, ей прислали номер возобновившейся «Народной воли». По содержанию это было довольно жалкое издание. Но оно доказывало все-таки существование типографии.
IX
Известий от Николадзе мы так и не дождались. Но на место этого схлынувшего приключения передо мной явилось новое, похуже, перевернувшее мне всю душу. Оно явилось с осложнением, тоже крайне неприятным.
Я получил известие от Марины Никаноровны, что, по сведениям из Петербурга, Стефанович, арестованный в 1882 году, выдает Третьему отделению все революционные дела. Голдовский тоже сообщил мне об этом. Я, по правде сказать, не поверил. Но вот в один прекрасный день является ко мне яростный и озлобленный Дейч и начинает ругаться как по поводу клеветы на Стефановича, так и по поводу письма Стефановича Плеханову, перехваченного народовольцами и пересланного будто бы мне. Дейч требовал, чтобы я отдал это письмо, довольно прозрачно намекая, что он убьет меня, если я этого не сделаю. От такого сумасшедшего, как Дейч, участвовавшего в ужасной попытке убить Гориновича, всего можно было ожидать. Этот Горинович, заподозренный компанией Дейча в Одессе в шпионстве, был оглушен ударами Дейча с товарищами и облит серной кислотой, которая выжгла ему глаза и все лицо, превратившееся в какую-то плоскую лепешку. Убийцы уверяли, что они считали Гориновича убитым и облили серной кислотой собственно для того, чтобы труп нельзя было опознать. Но как бы то ни было, Горинович остался жив, без глаз, с изуродованным лицом и вдобавок всю жизнь уверял интимнейших друзей, что он чист от какого бы то ни было шпионства или выдачи товарищей полиции. [38]
Так вот на что способен был Дейч, и я, сказав, что никакого письма у меня нет, напомнил ему, что ему следовало бы получше помнить свое прошлое и воздерживаться от мыслей об убийстве. Дейч ушел, не знаю, насколько поверивши мне.
Но оказалось, что плехановцы были правы. Народовольцы, то есть собственно Дегаев, действительно перехватили письмо Стефановича из тюрьмы и переслали его в Париж с кем-то (забыл фамилию, назову его NN). Письмо находилось у Марины Никаноровны, и она, извещая меня о Стефановиче, спрашивала, что делать с письмом. К сожалению, ее письмо я получил после посещения Дейча. А Голдовский, получив такое же известие от нее или от NN, стал рассказывать в Женеве о якобы измене Стефановича и о перехваченном его письме, служащем якобы доказательством измены.
В это время — было начало 1883 года, может быть, в марте, не могу припомнить, — явился ко мне неожиданный посетитель — Сергей Васильевич Дегаев. Я очень обрадовался. Понятно, что я считал его честным революционером. И вот когда я разговаривал с ним, влетает вторично Дейч, такой же разъяренный и с теми же требованиями. Дегаев замечательно спокойно посоветовал ему не говорить о том, чего он не знает, и не забывать, что в России существует исполнительный комитет «Народной воли». При этом он прибавил, что приехал из России. Дейч, по своей ошалелости, вывел заключение, что это и есть NN, которого фамилию он, оказывается, откуда-то знал, и, называя его этой фамилией, требовал выдачи письма Стефановича. Дегаев, нисколько не отрицая, что он NN, заявил, что все это дело касается исполнительного комитета, а он не станет и разговаривать с Дейчем. Не знаю, чем бы кончилось у них, но я вступился и сказал Дейчу, что прошу свидания с Плехановым, с которым улажу все это дело.
Чтобы кончить этот эпизод, скажу, что, кажется, на другой же день ко мне пришел Плеханов, мрачный и гневный. Он рассыпался в выражениях негодования против Голдовского: «Этакое ничтожество, дурак, червяк осмеливается клеветать на нас, осмеливается участвовать в захвате наших писем...» Не знаю, с чего взял Плеханов, будто Голдовский в этом участвовал, но он был взбешен холодным бешенством и, может быть, плохо сознавал, что говорит. Обращаясь ко мне, он сказал, как бы овладевши собой, что ничего подобного от меня не ожидал. «Мы с вами были товарищи, мы считали друг друга честными людьми, и вот между нами возникает ссора о похищении чужого письма». Я ему ответил, что как был, так и остаюсь честным человеком и даю ему честное слово, что письма у меня нет и что если это письмо действительно перехвачено, то я ему его достану и возвращу. Прошу мне дать на это несколько дней. Он ушел смирный, но такой же мрачный. Он, конечно, мне верил, но перехват письма Стефановича моими единомышленниками, знал ли я об этом или не знал, во всяком случае клал между нами преграду, рвал наши добрые отношения. Однако слово свое я сдержал, немедленно написал, чтобы Марина Никаноровна прислала письмо ко мне. Она это исполнила очень быстро, и я передал его Плеханову. Содержание этого письма мне неизвестно. Марина Никаноровна тоже не читала его. Знал, вероятно, один Дегаев.
Что касается якобы измены Стефановича, то это (я был и остаюсь убежден) чистейший вздор и выдумка самого Дегаева, которому было выгодно сваливать на кого угодно выдачи дел и людей, совершенные им самим. Зная характер Стефановича, я уверен, что он держал себя с жандармами ласково и любезно, с удовольствием болтал с ними, вероятно, и им понравился, вообще подружился, как подружился когда-то с начальником Киевского тюремного замка. Может быть, он когда-нибудь и сболтнул что-нибудь лишнее, да и то вряд ли. Он был претонкая шельма, природный комедиант, которому подобного я в жизни не видал. Ни нашим жандармам, ни самому Судейкину невозможно было обойти Якова Стефановича и выпытать что-нибудь от него. [39]
Так я понимаю эту историю.
Возвращаюсь к Дегаеву. Я знал его и отчасти семью его уже давно, с первых лет народовольчества. Сам он был артиллерийский офицер, брат находился, кажется, в кадетском корпусе, сестра (забыл ее имя) была замужем за неким Маклецовым. Вся семья отличалась ярым революционным направлением, но в каких-либо серьезных революционных делах участия не принимала. Брат (кажется, Володя) был еще совсем мальчишка. Маклецова изображала из себя художественную натуру, недурно пела, кажется, училась декламации и беспощадно надоедала своим гостям декламированием разных монологов, вроде речи Демона Тамаре. Помню, как она страстным шепотом заканчивала:
Я дам тебе все, все земное — Люби меня! —и в изнеможении опускалась на колени... А мне было смешно.
Были у нее поползновения создать у себя политический салон, и народу у нее собиралось много, в том числе даже из исполнительного комитета. Очень недурная собой, только ужасно манерная и недавно вышедшая замуж, она афишировала свою влюбленность в мужа и иногда как бы разрывалась на части от борьбы различных чувств. Среди пылкого политического или артистического разговора вдруг осматривается и кричит с тревогой: «А Коля?.. Где же Коля? Где ты, Коля?» (Кажется, так назывался ее муж.) А Маклецов, дюжий малый, добродушный и до последней степени непоэтичный, блаженно улыбается и отзывается из задних рядов толпы: «Я здесь, здесь». Он действительно был по уши влюблен в жену и благоговел перед ней как высшей натурой. Маклецова же оглядывается на гостей с якобы наивной, виноватой улыбкой, как бы извиняясь, что не могла сдержать чувств, и снова переходит к прерванному разговору. Не знаю, была ли она артисткой, но комедиантка была большая. Занимала она своих гостей и спиритизмом. Раз я как-то был на спиритическом сеансе при массе народа. Никаких чудес на сеансе не вышло, но Маклецова считалась «сенситивной».
Сергей Дегаев не входил тогда серьезно в революционные дела. Он помогал нам знакомиться с офицерами. Вел между ними и сам пропаганду. О нем все были хорошего мнения. Но вероятно, у него еще не назрела решимость броситься в омут революции. Он, несомненно, был умен, энергичен и с большим характером, но также с непомерным самомнением. Думаю, что по плечу себе он считал только великие дела и, может быть, находил, что происходившая тогда террористическая борьба недостаточно велика для него. Потом, уже после 1 марта 1881 года, когда я собирался покидать деятельность, он погрузился в нее с головой. Вероятно, он был охвачен порывом, который многих увлек в этот момент успеха террористов. Может быть, не осталась на него без влияния Вера Фигнер, с которой он очень сдружился. Как бы то ни было, он бросился в революцию и быстро занял первое место среди ее деятелей.
И вот он заявился теперь ко мне. Я был, конечно, очень рад и засыпал его вопросами о том, что делается в России. Он рассказывал, и в этих разговорах мы провели несколько дней. Но скоро он начал казаться мне несколько странным, в рассказах его концы не сходились с концами, я переспрашивал (у меня таки были способности следователя). Его объяснения еще более запутывали картину, он начал замечать, что я усматриваю в его рассказах какое-то вранье, стал путаться и что-то на третий или четвертый день ошарашил меня неожиданным признанием. Что его к этому побудило? Тут действовало, конечно, очень сложное сочетание чувств и размышлений. Ехал он за границу, конечно, не для такого самозаклания, а для того, чтобы и заграничных народовольцев опутать полицейскими сетями. Что касается лично меня, то он даже имел от Судейкина поручение заманить меня на германскую территорию, где я был бы тотчас схвачен и отправлен в Россию. Но при разговорах со мной в нем пробудилось прежнее уважение к старым деятелям исполнительного комитета, даже преклонение перед ними. Он дрогнул при мысли поднять руку и на меня. Сверх того, он стал предполагать, что я угадываю его тайну, и в то же время кое-что из моих слов внушило ему мысль, не могу ли я стать его единомышленником. Действительно, не упоминая о Николадзе, я высказывал, что положение партии безнадежно, людей нет и что, может быть, было бы выгоднее всего сойтись с правительством на каком-нибудь компромиссе. Вся эта сложность впечатлений потрясла его, сбила с толку, тем более что было ясно: если я действительно угадаю его предательство, то могу погубить его двумя-тремя словами публичного обвинения и разоблачения.
И вот он — может быть, неожиданно и для самого себя — прервал мои расспросы. «Слушайте, — сказал он, — не будем играть в прятки. Расскажу вам начистоту всю правду, а тогда судите меня. Отдаюсь на вашу волю. Что скажете, то я и сделаю».
Так началась его кошмарная правда. Можно представить, с каким вниманием я его слушал, серьезно, сосредоточенно, только ставя при надобности вопросы, но ни малейшим движением лица, ни малейшей интонацией голоса не выдавая своих ощущений, чтобы и не спугнуть его откровенности, и не внушить никакой надежды, а дать ему как можно сильнее вариться в собственном соку. Да, меня недаром считали в комитете дипломатом и выдвигали на труднейшие переговоры. Я рассчитал, что мое бесстрастие будет сильнее всего вытягивать из него жилы. И он действительно старался вырвать у меня хоть какое-нибудь негодующее восклицание, цинично входя в подробности предательства, и какой-нибудь знак одобрения, выставляя высоту своих побуждений. Напрасно. Я твердо держался своей позиции, а на сердце у меня скребли кошки, и, слушая его, я в то же время на все лады обдумывал вопрос: что же я сделаю с этим негодяем?
В декабре 1882 года Дегаев держал типографию Одессы под фальшивым паспортом на имя Суворова и был арестован 20 декабря. Мне случилось видеть его фотографию, снятую в тюрьме. Выражение лица ужасное, мрачное, подавленное, лицо преступника, обдумывающего злодейство. И он действительно находился в таком настроении. «Вы, — говорил он мне, — знаете, что за ничтожества составляют так называемую партию. Ведь я был один на всю Россию. Теперь я арестован и уже не выскочу. Значит, не осталось ни одного человека. Не считать же Веру Фигнер! Я ее очень люблю, но какая же она деятельница! Я мог надеяться как-нибудь вырастить организацию из этой толпы плохеньких новобранцев. Но вот я выбыл из строя. Теперь все пропало. И я, как ни размышлял, приходил к одному заключению, что мне приходится поискать способ сделать что-нибудь из тюрьмы, своими собственными силами, в одиночку».
Эти роковые размышления самовлюбленного человека привели его к мысли попробовать сойтись с Судейкиным... Мысль совершенно глупая. Я говорил, что Дегаев был умен, но, очевидно, его ума не хватало на сложные задачи. Кроме того, нравственная тупость в высшей степени спутывает действия ума, а Дегаев в нравственном смысле был очень туп. Почему, однако, он подумал именно о Судейкине? Судейкин распускал слухи, будто бы он убежденный народник и стоит не против пропаганды, а только против конституции. На этой почве он дурил многих арестованных народников. На эту детскую удочку пошел Дегаев. Он не хотел пропадать, не хотел расстаться с мечтой какого-нибудь великого дела и поддался на фантазию совершить какое-то великое, ему самому еще не ясное дело в союзе с гениальным сыщиком. Он обратился через тюремное начальство с письмом на имя инспектора секретной полиции Судейкина, извещая, что он — Дегаев и просит личного с ним свидания. Судейкин немедленно покатил в Одессу, и у них с Дегаевым начались длинные разговоры, в течение которых он совершенно одурачил самовлюбленного безумца, подпевая в тон его новой мечте, высказывая, что он сам только и мечтал, как бы найти себе друга-единомышленника среди крупнейших революционеров, чтобы совместными усилиями дать совершенно новое направление политике правительства. Он, Судейкин, так же одинок в правительственных сферах, как Дегаев, в сущности, одинок среди революционеров, не способных возвыситься до его новых идей. Соединившись вместе, действуя, с одной стороны, на правительство, с другой — на революционеров, они могут добиться великих результатов в ходе развития России. Изумительно, что Дегаев мог поверить этой болтовне и воспарил духом до какой-то восторженности. Его жалкая судьба решилась как раз около рождественских праздников. Он форменно принял должность агента секретной полиции и, кажется, на сочельник вызвал к себе сидевшую тоже в тюрьме жену свою для совместного празднования этого дня и начала своего подвига. Жена его была толстая, совершенно неразвитая женщина, едва ли имевшая какие-нибудь идеи, но веровавшая в своего мужа как в непогрешимый авторитет. Он был в восторге: значит, все хорошо — и ей оставалось только проливать слезы умиления. В этих сладких и торжественных чувствах они встретили праздник со всякими яствами и питиями, в мечтах о будущих великих делах, которые совершит Дегаев. Эти минуты он переживал в таких светлых ощущениях, что даже теперь вспоминал их весь расчувствованный и обрисовывал почти художественную картину; мрачная, бедная обстановка тюремной камеры, еле освещенной тусклой лампой, с одной стороны, а с другой — две человеческие души, освещенные яркими лучами радости и торжества.
Таковы были безумные мечты. В действительности в ожидании будущих благ нужно было, конечно, немедленно посвятить своего нового союзника во все тайны революционных дел. Дегаев сделал это со всей полнотой, перечислил кружки и людей, охарактеризовал их, дал их адреса, открыл, под какими паспортами они проживают, что замышляют, какими шифрами переписываются и т. д. Он выдал все до последней ниточки. Я переспрашивал его поименно о многих. Он подтверждал:
— Да, конечно, выдал.
— И Веру Фигнер?
— Ну понятно.
— Но ведь вы с нею большие друзья.
— Конечно, но что же из этого? Притом Судейкин обещал ее не арестовывать...
Да и вообще Судейкин сказал ему, что не имеет в виду никого арестовывать. Задача состояла в том, чтобы дать деятельности революционеров направление, соответствующее совместным планам Судейкина и Дегаева, и только впоследствии будет видно, кого требуется убрать.
Прежде всего нужно было выпустить Дегаева, и они решили, что это лучше всего сделать в виде бегства из тюрьмы... Это псевдо-бегство было проделано 14 января 1883 года.
— Так что, вы не сами убежали? — невольно переспросил я.
Он криво усмехнулся:
— Ну конечно. Как же я мог убежать? Наши же агенты вытребовали меня из тюрьмы и будто бы повели куда приказано, а потом пустили на все четыре стороны.
Но когда бежавший Дегаев явился к товарищам, это возбудило общий восторг. Вот молодец! Давно уж не было ничего подобного. Вера Фигнер ему безусловно доверяла. Но она была все-таки единственным человеком, способным ему мешать. Когда же она была 10 февраля арестована вопреки обещанию Судейкина, Дегаев стал владыкой революционной России. Еще раньше сама Вера Фигнер сделала его членом устроенной ею «центральной организации», без нее он уже делал что хотел. По соглашению с Судейкиным они решили возобновить издание «Народной воли».
— Так эта газета — тоже судейкинское дело? — переспросил я.
— Ну конечно. Я устроил типографию, набрал для нее людей. Шрифт достал у него же. Денег у него брал, конечно, сколько нужно на содержание, да и вообще на все. Говорил, будто это пожертвования.
— Но как же Судейкин допускал писать против правительства?
— Да ведь без него не печаталась ни одна статья. Я ему носил, он поправлял, что нужно. Иных совсем не допускал. Мы все это вместе делали.
Приводя в порядок провинциальные кружки, Дегаев решил, что нужно организовать также исполнительный комитет, через который можно бы было за ними присматривать. Судейкин одобрил эту мысль. В этот исполнительный комитет, организацию которого начала еще Вера Фигнер, Дегаев не привел ни одного полицейского агента, это было излишне. Но он набрал людей безличных, вполне ему подчинявшихся. Я не помню их фамилий. Впоследствии, когда измена Дегаева разоблачилась, эта организация получила прозвище «соломенный исполнительный комитет».
Таким образом, получилось нечто неслыханное в истории революций. Вся революционная организация была всецело в руках полиции, которая руководила ее высшим управлением и цензуровала революционную печать. Судейкин воспользовался Дегаевым во всей полноте. Он создал какое-то главное управление революционной деятельностью, которого директором был Сергей Дегаев. Но что же делал сыскной маг и волшебник по созданию нового направления правительственной политики? Разумеется, ничего. Он отклонял разговоры об этом, говоря, что предварительно нужно обезопасить власть от покушений революционеров, и стал даже арестовывать некоторых, плохо поддававшихся управлению комитетом. А теперь поручил ему заманить меня на немецкую территорию, где меня должны были схватить и отправить в Россию. Впрочем, он всегда советовался с Дегаевым, а к нему лично относился самым дружеским образом.
Рассказывая обо всем этом, Дегаев раз печально произнес, опустив голову, что ему даже приходит иногда мысль, не обманывает ли его Судейкин.
Я слушал, расспрашивал, а в голове напряженно кипели мысли: что мне делать? Первое желание, огнем меня палившее, было — убить этого негодяя, полусумасшедшую ядовитую гадину. Но и это было нелегко. Главный ужас моего положения состоял в том, что я был совершенно одинок. Надежных друзей не было. Опереться было не на кого. А он... почем я знал, сколько около него шпионья? Впрочем, убивать его было во всяком случае невозможно, потому что Судейкин тогда моментально заарестовал бы всех, кого знал, а знал он всех... Нет, этот исход не годился. Нужно что-то другое. Нужно что-нибудь спасающее людей из рук полиции. А я не имел возможности даже известить российских народовольцев об угрожающей им опасности. Начни извещать — пройдет три месяца, а слухи пойдут моментально, и Судейкин узнает и всех перехватает. Да что еще будет делать Дегаев? Слушая его исповедь, соображая его психику, раскрывшуюся передо мной, я ни на йоту не верил его искренности или, лучше сказать, видел ясно, что он сам не знает, что сделает завтра или даже через полчаса. Его положение было такое отвратительное, он так запутался, в нем боролось столько противоположных чувств, что невозможно было предвидеть, какое возьмет верх и в какую сторону толкнет его. Как ни ворочал я мозгами, выходило, что для спасения загубленных им нельзя обойтись без него же самого. А для этого нужно было и хорошенько приструнить его, и не довести его до отчаяния, и показать ему какой-нибудь луч искупления, и пригрозить ему так, чтобы он не вздумал не послушаться меня. Сложная была задача, а решать ее должен был я один, без возможности сторонней помощи и совета.
Когда он кончил, решение, как мне казалось, единственно возможное, было у меня готово, но я хотел, чтобы он видел, что я размышляю. Он смолк.
— Ну, вот вам вся правда. Я все открыл. Теперь — что вы скажете?
— Подождите. Нужно взвесить.
Я предложил ему для видимости еще несколько вопросов, помолчал и наконец сказал с мрачным и сосредоточенным видом:
— Вы сказали, что отдаетесь на мое решение и сделаете то, что я скажу. Решение мое готово. Вы совершили величайшее преступление. Вы знаете, что полагалось в исполнительном комитете за десятую долю того, что вы сделали. Вас следовало бы убить. Если допустить, что у вас осталась искра порядочности, вам можно бы разрешить самому убить себя, чтобы не создавать осложнений для других и несколько реабилитировать свою память. Но я не останавливаюсь на таком решении... Вы сделали не только преступление, по и невероятную глупость. Я знал вас за умного человека и недоумеваю, какая злая сила могла отнять у вас разум до того, чтобы поверить полицейскому сыщику. Мое решение состоит в том, что вы обязаны искупить свое преступление — не своей смертью, а спасением тех, кого предали, и смертью того, кто воспользовался невероятным вашим поступком.
Он слушал смирно и внимательно. Лицо его немножко прояснилось.
— Я не знаю только, — продолжал я, — возможно ли спасти ваши жертвы. Ведь они известны правительству. Со смертью Судейкина они все равно будут схвачены...
Он возразил:
— Нет. Полицейские агенты вовсе не открывают инспекции всего, что знают. Они многое берегут про себя, чтобы оставаться незаменимыми. Судейкин знает все, но далеко не все зарегистрировано в инспекции.
— Ну, тем лучше. Однако нужно теперь же спасти наиболее компрометированных и нужных людей. Вы должны какими хотите способами, под какими хотите предлогами вывезти и выслать за границу вот кого...
Я перечислил несколько человек, мне известных, прибавив, что он должен выслать вообще наиболее скомпрометированных.
— Затем, когда это будет исполнено, вы должны убить Судейкина и приезжайте сюда же.
— Хорошо. Я все это сделаю, — покорно произнес Дегаев.
— Теперь выслушайте мое последнее слово. Если вы не исполните этих обязательств, знайте, что я немедленно опубликую о вашем предательстве. Вы, вероятно, не успокаиваете себя мыслью, что у меня нет доказательств. Доказательств для меня не требуется. Я опубликую весь наш разговор в русских и заграничных изданиях, и вы понимаете, что мне поверят. И вы будете тогда уничтожены, не будете нужны для Судейкина и не в состоянии уже будете вредить. Итак, вот я вам показал линию поведения и мое безотменное решение. А пока я буду молчать, чтобы не помешать вам совершить свое искупление.
— Хорошо, — сказал он. — Угроз не нужно. Я все сделаю.
Молчать мне действительно приходилось безусловно, иначе Дегаев не в состоянии был бы исполнить мои требования. Приходилось схоронить в душе страшную тайну и одному нести ее тяжесть. Только Марине Никаноровне я ее открыл, когда получил возможность лично переговорить с нею. Бумаге я ничего не доверил.
После этого Дегаев пробыл в Женеве еще несколько дней. Это было ему необходимо дня поддержания вида, что он тут занят делами. Он был в Женеве, приходил и в Морне. Я раза два провожал его в Женеву, и мы с ним, кажется, испытывали одинаковые чувства опасения. Мне приходило в голову: а что, как он пойдет на попятный? Достаточно было бы легкого толчка, чтобы сбросить меня в пропасть Pas de l'echelle и, схоронив свою тайну вместе со мною, снова стать свободным, делать что заблагорассудится. Ему тоже, видимо, приходило в голову: а что, если он, усыпив меня своим якобы решением, поступит по первому рецепту исполнительного комитета и размозжит мне голову о камни пропасти? Без всяких уговоров мы направлялись не на Pas de l'echelle, а поворачивали налево, на обходной путь через Аннемас, да и тут шли не слишком близко друг к другу и не допускали один другого очутиться сзади. Ни он, ни я не знали, есть ли при спутнике револьвер, и, беседуя о всевозможных предметах, не выпускали с глаз друг друга.
Наконец он убрался, и я вздохнул с облегчением. Но теперь уже мои мечты удалиться от политической деятельности шли окончательно прахом. Приходилось, напротив, усиленно хлопотать о создании за границей какого-нибудь крупного притягательного центра, который мог бы затмить «соломенный исполнительный комитет» и послужить для российских народовольцев пунктом объединения, хотя бы и вдали от родины. Центр организации за границей есть ненормальность. Но тут он предполагался как явление временное и даже кратковременное. Мы ждали хоть частичного исполнения обещаний Дегаева, которые должны были дать нам некоторое количество новых людей. Ознакомившись между собой и спевшись, они должны были снова двинуться в Россию в виде чистой, хорошо сорганизованной центральной силы. Тогда люди, оставшиеся за границей, естественно должны были отойти на второй план и утратить значение руководителей. Но все это предполагалось только в близком будущем, а пока нужно было создавать за границей некоторое подобие центра. Скорейшее издание «Вестника „Народной воли“» становилось для этого настоятельно необходимо, и моему пустынничеству в Морне приходил конец. Нужно было перебираться в Париж.
X
Окончательный переезд в Париж затянулся почти до конца 1883 года, потому что в Женеве было очень много дел. Прежде всего нужно было устраивать типографию. Затем нужно было встречать приезжих из России. Дегаев, в общем, сдержал слово. Как он побуждал лучших народовольцев ехать за границу, как предохранял их от захвата полицией — я не знаю. Но люди к нам потянулись понемножку, отчасти из числа намеченных мной, отчасти мне неизвестные, но все вообще весьма порядочные. Исключение составлял только шпион Геккельман-Ландезен, но он был изобличен тоже приезжими из России.
Приезжие прибывали по большей части с разными поручениями и иногда являлись в Париж, иногда в Женеву. Их нужно было встречать, нужно было с ними ознакомляться. Я это делал в Женеве, а Марина Никаноровна в Париже. Этот постепенный съезд народовольцев был чрезвычайно благодетелен для партии. Мы получали все больше сведений о положении дел в России, все больше связей с различными кружками. Чем более распространялись го России известия о сформировании за границей сильного центра, тем более ободрялись местные революционеры, а к нам в Париж стали притекать и денежные средства. Стали являться также корреспонденции и статьи. С увеличением нашей известности и влияния мы все менее могли бояться какой-нибудь новой измены Дегаева и получали возможность подрывать вмешательство Судейкина в дела российских народовольческих кружков. Конечно, отвратительно было получать время от времени судейкинскую «Народную волю» (их сфабриковали, помнится, всего три номера), но теперь можно было утешать себя хоть тем, что этой гнусности скоро будет положен конец.
В числе приезжих было несколько и таких, которым мы могли открыть дегаевскую тайну и которые поэтому вполне сознательно помогали нашей политике. Это были Салова и Караулов, надежные, испытанные товарищи. Позднее открыли все также Герману Лопатину. Раньше всех сказали Галине Чернявской, которая, живя с Полонской, должна была охранять ее от шпионства. Знала об измене Дегаева также жена моя, которая должна была охранять мою безопасность. Таким образом, даже и тогда, когда мы были окружены уже значительным числом своих единомышленников, только самый тесный кружок вполне знал положение партии. До всего же внешнего мира представителями народовольчества являлись исключительно мы двое — я и Полонская.
Другим настоятельным делом, как я сказал, являлось устройство типографии. По этой части лучшим помощником был Голдовский. Типографской работы он не знал, но был малый оборотистый, со способностями фактора. Задача казалась для нас почти невозможной, потому что средства наши все-таки оставались весьма ограниченными. Но Голдовский умел скомиссионерствовать типографию у старого «набатчика», сотоварища Ткачева, Турского. Это была личность весьма сомнительной репутации, не разбиравшая средств действия, как — если справедливы слухи — вообще водилось у Ткачева в «Набате». Впоследствии Турский предлагал Голдовскому покупку в Англии фальшивых русских кредиток, и мы сказали Голдовскому, чтобы он отказался даже передавать нам такое предложение. Вообще, с ним неприятно было иметь сношения, но Голдовский не обращал внимания на тонкие деликатности и в отношении типографии оказал нам огромную услугу. У Турского она лежала без употребления, и Голдовский уговорил его отдать ее нам для издания «Вестника „Народной воли“». Впоследствии из этого вышли довольно крупные неприятности, так как Турский потребовал ее обратно, уверяя, что дал ее в пользование лишь на время, пока она ему самому не понадобится. Но в первое время мы считали, что она отдана «Вестнику» безвозвратно, и только радовались, что устроились так счастливо. Типография эта, нужно сказать, была весьма недурна, с большим количеством шрифтов, со всеми принадлежностями. Печатный станок был ручной, но действовал, по нашим потребностям, достаточно быстро. Вообще, это была прямая находка, сразу развязывавшая нам руки.
Я не помню хорошо, какой у нас был первоначально рабочий персонал. Но потом типографией заведовал Бохановский, который был очень хорошим наборщиком — даже зарабатывал этим хлеб — и недурно знал вообще типографское дело. Мои собственные знания по типографской части совершенно поверхностны, но, осматривая наше заведение, я находил, что оно устроено вполне хорошо. Во всяком случае, книжки «Вестника „Народной воли“», весьма объемистые, выходили в свет без больших задержек, и задержки, когда они случались, шли больше из Парижа, происходя от недостаточно быстрой доставки литературного материала и корректур.
Задерживаемый в Женеве этими делами, я, однако, не мог не бывать в Париже и ездил туда, кажется, три раза, оставаясь в нем подолгу. Путь мой шел на Бельгард-Макон и Дижон, на большей части протяжения весьма скучный. Только переезд через горы, в центре которых находится Бельгард-Макон, поражает живописностью. Поезд мчится то через длинные мосты, узкой лентой висящие на страшной высоте над глубокими долинами, то через мрак туннелей, из которых выскакивает на такой же мост или сворачивает на балкон, пробитый в отвесных обрывах горы. Такой железностроительной дерзости я нигде больше не видел. Но по выходе из гор до самого Парижа тянется равнина, гладкая, ничем не привлекающая глаза.
На обратном пути из Парижа я натолкнулся в Бельгард-Маконе на сцену, обрисовавшую мне французскую дисциплину. В нашем вагоне сидел веселый солдатик, радостно болтавший о том, что едет в отпуск на родину, во внутреннюю Савойю. А по платформе важно расхаживал великолепный жандарм. Они во Франции набираются из самых рослых молодцов. Форма их очень красива, особенно треугольная шляпа, сохранившаяся, кажется, только у них. Вот жандарм раза два прошел мимо нас и вдруг остановился:
— Куда следуете, солдат?
Солдат сказал.
— Покажите документы.
Солдат вытащил пачку бумаг, и жандарм внимательно пересмотрел.
— Почему у вас билет на Аннемас?
Надо сказать, что у Бельгарда путь разветвляется. Одна дорога идет через Аннемас — в Женеву, другая — к какому-то городку внутренней Савойи. По этому-то направлению и должен был ехать наш солдат к себе на родину. Почему же он взял билет на Аннемас? Солдат начал объяснять, что у него здесь родственники, которых он хочет навестить, а от них отправится на родину. Жандарм выслушал бесстрастно и отрывисто произнес:
— Выходите и пересаживайтесь на другой поезд.
Очевидно, уверенный, что приказание не может быть не исполнено, он, даже не оглядываясь, продолжал прогулку по платформе, а наш солдатик, смущенный, раскрасневшийся, стал торопливо вытаскивать свои пожитки, ворча на притеснения. Живо выскочив из вагона, он побежал брать билет на другой поезд. А этот билет у него, стало быть, пропал задаром. Подивился я на республиканскую дисциплину, которая составила бы предмет бесплодной зависти для русских властей.
Я отклонился, однако, в сторону. Итак, я несколько раз ездил в Париж. Там мое время проходило суетливо и оживленно. Нужно было устанавливать с Петром Лавровичем содержание книжек «Вестника», собирать статьи, заказывать их, сортировать. Из России к нам поступало очень много известий, так что составлять хронику можно было весьма недурно. Эта обязанность лежала всецело на мне. Но со статьями дело обстояло хуже. Сотрудников за все время существования журнала было немного. Написал что-то такое Аксельрод, но Плеханов начисто отклонил сотрудничество.
Мы не были в ссоре. История с письмом Стефановича улеглась, да притом Плеханов видел мою безусловную чистоту в ней. Когда мы встречались, мы держали себя вполне по-товарищески. В марте 1883 года умер Карл Маркс, и Плеханов, хотя вообще малоподвижный, вскоре предпринял поездку в Лондон.
— Надо, — говорил он мне, — познакомиться с Энгельсом. Старика-то (Маркса) я упустил. Все откладывал личное знакомство, да и дождался, что он умер.
— Что за беда, — заметил я, — ведь он весь в своих сочинениях. Ничего нового он бы вам не дал при свидании.
— Что вы, как можно! Конечно, в теоретическом отношении он бы ничего не прибавил. Но при пропаганде для публики очень важно, был ли ученик лично знаком с учителем. Это действует на публику. Теперь нужно познакомиться с Энгельсом.
Вот как мы беседовали, совсем по-товарищески, откровенно. Но он совершенно правильно рассуждал, что гласные связи с народовольцами не принесут пользы его делу. Он был погружен в работу по организации группы «Освобождение труда», и тратить время на чужое дело не имело смысла. Он, конечно, писал в русские журналы, но это был вопрос заработка; писал и в немецкие социалистические журналы, но это был вопрос укрепления партийных связей. Писать же в «Вестник „Народной воли“» ни с какой стороны не было причин. Да, по правде сказать, и нам он не мог дать ничего интересного для наших читателей, которые чуть не поголовно относились с крайней антипатией к теории экономического материализма.
Но я нашел в Париже другого человека, который обещал сделаться — и действительно сделался — в высшей степени ценным сотрудником. Это именно Николай Сергеевич Русанов. {119} Вообще, значительная часть моего времени в Париже уходила на знакомства с людьми той среды, в которой нам приходилось жить и действовать. Тут отчасти была надежда натолкнуться и на пригодных сотрудников, а более всего нужно было пересмотреть веек, кто мог явиться своим человеком, или союзником, или даже противником, а также определить тех, которые ни на что не могли годиться и, следовательно, должны были впредь быть совершенно оставлены без внимания.
В Париже слой людей, принадлежавших такому пересмотру, составлял целые сотни лиц, так что ознакомиться с большинством из них не хватало ни времени, ни сил.
Пока мы не перебрались в Париж, я жил там, где придется, — то у Русановых, то у Лаврова или еще в других местах. В деловом отношении там у нас было два центра. Вся редакционная работа сосредоточивалась у Петра Лавровича, вся партийная — у Марины Никаноровны. Переписка с Россией шла через нее, то есть, конечно, письма шли не на ее адрес, но препровождались к ней. Все деньги получались также ею, и она была чем-то вроде казначея, отпуская суммы куда нужно. Иногда она по этому предмету советовалась со мной, по большей же части распоряжалась самостоятельно. Свидания с лицами, с которыми требовалось познакомиться, происходили и у нее, и у Лаврова. Но когда хотелось побеседовать с такими лицами по душам, присмотреться к ним, повлиять на них, мы предпочитали приглашать их по вечерам к Марине Никаноровне, потому что при таких разговорах иногда приходилось высказывать многое, что могло не понравиться Петру Лавровичу. Небольшая уютная гостиная Марины Никаноровны превращалась в маленький политический салон, где беседа за стаканом чая шла непринужденно и весело. Она была хозяйка любезная, остроумная, тактичная, и все очень любили собираться по вечерам у нее на rue Flatters. Смотря по надобности, мы приглашали к ней по одному человеку и по нескольку.
Вспоминаю и сам с удовольствием эти маленькие собрания. Хорошее было время: когда впереди рисовалось столько надежд, а в настоящем еще не мучили никакие разочарования и разногласия.
Пробывши сколько требовалось в Париже, я возвращался к себе в Морне, к женевским делам, и потом опять ехал в Париж. Женевские дела меня задержали более чем на полгода, прежде чем возможно было окончательно перебраться.
За эти полгода в Женеве произошли два тяжелых, трагических происшествия. В апреле — самоубийство Бардиной, {120} в августе — совместное самоубийство Франжоли и Завадской.
Софья Илларионовна Бардина была тогда до некоторой степени знаменитостью. Она судилась в 1877 году в Петербурге по так называемому «процессу 50-ти» и на суде произнесла речь, произведшую огромное впечатление на публику и даже на судей. Она говорила, что напрасно правительство рассчитывает репрессиями подавить движение, порождаемое развитием идеи. «Идеи, господа судьи, на штыки не улавливаются!» — воскликнула она с большим подъемом, и эта фраза в свое время повторялась всем интеллигентным Петербургом. Несмотря на эту демонстрацию, ее наказание было довольно снисходительно: ссылка на поселение в Тобольскую губернию. Оттуда, из Ишима, она в 1880 году бежала. За границей она жила без большого участия в политике. Я ее видывал, но близкого знакомства не имел. Это, помню, была девушка уже немолодая, худенькая, щупленькая, небольшого роста, некрасивая, но симпатичная, с очень умной физиономией. На ней лежал глубокий отпечаток грусти, и вряд ли она была довольна своей жизнью. Раз, впрочем, я видел, что она развеселилась и с чисто французским шиком спела бойкую карманьолу:
Que faut il au republicain? La liberte du genre humain. Du pain pour se vanter...И потом:
Dansons la carmagnole! Vive le son, vive le son, Dansons la carmagnole, Vive le son de canons! [40]Так вот эта Бардина в апреле 1883 года всадила себе в грудь пульку из маленького револьвера. Пуля застряла в мускулах сердца. Несколько дней она балансировала между жизнью и смертью. Были даже надежды, что она останется в живых. По-видимому, любовь к жизни проснулась в ней, и она говорила одной своей приятельнице, что если выживет, то уже никогда не повторит попытки самоубийства. Но к сожалению, оказалось достаточно и первой попытки. 26 апреля 1833 года она скончалась.
Еще более печальна история Франжоли и Завадской. Но я подробно описывал ее в очерке «Революционная элегия» и теперь повторять не стану. Замечу только, что я несколько раз навещал больного калеку в Женеве, вынося самые тяжелые впечатления. Он лежал неподвижный как пласт посреди большой, светлой комнаты, окруженной с трех сторон роскошным цветником, благоухающим и красующимся всеми переливами красок. Это было какое-то кричащее противоположение жизни и смерти. У него уже развилась водянка, он не мог повернуться с боку на бок и только руками еще кое-как владел. В разговоре он постоянно вспоминал ту роковую минуту, когда под ним сломалась давно подгнившая нога и он неожиданно упал, чтобы уже больше не встать. Теперь это был почти труп, безобразный, в одних частях раздутый, в других высохший. Около него, как ангел-хранитель, с утра до ночи ухаживала Завадская, любящая до конца. Но что могла она сделать для полумертвеца? Смерть его быстро приближалась.
Жившие с ними в том же дворе русские случайно схватывали кое-какие обрывки их разговоров, которых тогда не могли понять, и только потом сообразили, что они уговаривались вместе умереть. А между тем Завадская была здорова и сильна, и умирать ей не было причин. 6 августа 1883 года она дала соседке пакет с просьбой передать одному знакомому и сказала, что просит ее не беспокоить, что она устала и хочет вздремнуть. Потом она прилегла на грудь Франжоли, и соседка видела, уходя, что она что-то хлебнула из пузырька. Через несколько часов их нашли обоих мертвыми: он на кровати, она на стуле, склонившись на грудь его. Около валялся пузырек из-под опия. Попытки возвратить их к жизни оказались бесплодными.
В пакете находились их последние распоряжения, деньги на их похороны и около тысячи франков на издание биографий народовольцев.
Тяжелое впечатление произвело на всех это самоубийство, особенно Завадской, которая могла бы прожить еще десятки лет.
Это было последнее событие, которое нам пришлось пережить в Женеве и Морне перед окончательным отъездом в Париж.
XI
Конец 1883 года мы встретили уже в Париже. Начался новый четырехлетний курс моей жизненной школы. Ни один из городов, ни Москва, ни Петербург, не имел такого глубокого влияния на мою внутреннюю эволюцию, как Париж. Я вышел из него совсем иным, чем вступил. Но все это будет видно в свое время.
Я думал заранее приискать квартиру для семьи. Присмотрел себе квартиру какой-то девицы или дамы, по-видимому, очень легкого поведения, которая собиралась переезжать. Я снял у нее квартиру и имел неосторожность заплатить хозяину дома вперед. Но девица вдруг раздумала съезжать. Я потребовал у хозяина назад свои деньги. Он категорически отказал, заявив, что девица ему не платит и я могу взыскивать с нее. Что тут будешь делать? Не успел приехать, как уже нужно начинать судебные дела... Я махнул рукой на свои триста или четыреста франков, а шельма хозяин на прощание очень вежливо сказал мне: «Comment faire, monsieur, les etrangers payent toujours leus tribut a Paris» (Что делать, сударь, иностранцы всегда платят дань Парижу), то есть что их за неопытность всегда обчищают местные жулики, как он и его девица.
Пришлось искать квартиру вместе с женой. После роскошного воздуха в Морне ей не хотелось погружаться в городскую духоту, и мы после долгих исканий наняли квартиру на avenue Raylle (авеню Рэй), около парка Монсури, близ самых фортификаций, то есть на краю города. Это далеконько и от Марины Никаноровны, и от Лаврова. К ним приходилось пройти нашу авеню Рэй, потом rue de la Glaciere и еще какой-то переулок, прежде чем выйдешь наконец на boulevard Port Royal. Но местность была очень хороша в санитарном отношении и по живописности. Авеню Рэй — улица новая, малозастроенная, дома на ней высокие, но с широкими пустыми промежутками между строениями, так что с верхних этажей взгляд мог охватывать огромные пространства. Наша квартира находилась на пятом этаже, под самой крышей, а снаружи, с улицы, окаймлялась узеньким балконом, с которого, как с воздушного шара, открывался дивный вид на город с одной стороны и на парк Монсури — с другой. Квартира была невелика, в четыре комнаты с кухней, но светлая и чистенькая, и нам очень понравилась.
Жили мы здесь привольно. Двора, конечно, не было, то есть был величиной в большую комнату, но мы в него спускались только для того, чтобы опорожнить ведра с сором. Для прогулки служил парк Монсури, до которого приходилось пройти двести-триста шагов, и фортификации, начинавшиеся за парком. В парк вывозили и нашего маленького Сашу. Тут было очень хорошо. Весьма обширный парк был уже немолод, многие деревья имели вид 30–40-летних. Посредине была горка, а под парком проходил туннель малой окружной дороги, которая внутри фортификаций обходит весь Париж. Около самой горки туннель превращается в обшитую камнем выемку, в которой видны были пробегающие с шумом и свистом поезда. Недалеко от горки находился также фонтан, который, впрочем, пускали только на несколько часов в день. Парк со своими зарослями и зеленеющими лужайками был очень красив, а множество скамеек позволяли где угодно отдыхать и даже лежать. На траву же было, безусловно, воспрещено и ногой ступить, а тем паче сесть, и никогда никто не нарушал этого правила.
Но как ни хорош был наш парк, мы с еще большим удовольствием ходили, когда было время, гулять на фортификации.
Фортификации составляли вал, окружающий весь Париж, с глубоким, обшитым камнем рвом. На некоторых интервалах вал образовывал бастионы, которые, будучи вооружены орудиями, могли обстреливать и продольным, и перекрестным огнем значительное пространство вокруг города. Эти фортификации были устроены, кажется, при Луи Филиппе и в свое время считались очень сильной защитой Парижа. Потом, с развитием артиллерии и инженерной техники, они утратили это значение, и Париж, как все прочие крупные города, был опоясан линией фортов в нескольких верстах от города. Однако же военные специалисты Франции находили, что старые фортификации продолжают быть полезным подспорьем фортов, а потому они остались нетронутыми в наше время (не знаю, как теперь). Фортификации составляли как бы очень широкую улицу, на которой не дозволялось возводить никаких строений. Вся эта широчайшая полоса земли была заросшей травой. За фортификациями, по ту сторону рва, на некотором пространстве точно так же не разрешалось никаких солидных построек, которые могли бы мешать действию артиллерийского огня; но кое-какие легкие деревянные балаганы допускались на этом пространстве, потому что их можно было моментально снести в случае военных действий. Но и этих случайных балаганов было немного, так что гуляющий по валу видел по обе стороны от себя зеленеющее невозделанное пространство травы. Нам это очень нравилось. Конечно, по фортификациям не было ни единой скамейки, но по траве можно было свободно ходить, где угодно усаживаться и лежать. Всей этой благодатью пользовалось исключительно демократическое население. Ни разу я не видел здесь никого, кроме рабочих и их семейств. Часто видел я, как сладко спит, растянувшись на траве, на солнышке, отдыхающий рабочий. Один какой-то — я его заприметил — ходил сюда с ручным вороном, который скакал около него, пока хозяин спал. Случались тут, говорят, и несчастья, когда кто-нибудь неосторожно засыпал на валу под самым рвом. Рассказывали, что один, оборвавшись во сне, насмерть разбился в каменном рву. Мы здесь, когда позволяло время, просиживали по нескольку часов. Эта дикая трава так напоминала Россию. Однажды я нашел тут душистый чобор, который так любил рвать на родине, — и не знаю как обрадовался. Трудно выразить, как отрадно на чужбине все напоминающее родную землю.
В первое время мы жили на авеню Рэй очень хорошо. Я продолжал сотрудничать в «Деле», пока этот журнал не запретили. Кажется, последней моей статьей была характеристика Тургенева по случаю его смерти. Кроме того, я получал плату за ведение «Вестника „Народной воли“». Лавров ни гроша не брал за свои труды, но я, не имея собственных средств, не мог подражать его примеру. Не помню, сколько я получал, но Марина Никаноровна была снисходительным казначеем, и у нее всегда можно было перехватить денег авансом в случае надобности.
Жена была очень довольна парижской жизнью. Она занималась домашним хозяйством и воспитанием ребенка. В уходе за ним у нее была молоденькая Элиза, которую ее родители в Морне упросили взять с собой в Париж. Это была очень милая девушка, но потом оставила нас, соблазнившись каким-то солдатом. Она пережила тяжелые испытания и в конце концов возвратилась к родителям, которые имели глупость отпустить ее в парижский омут. Понятно, что мы никак не могли предохранить ее от приключения с солдатом, который и не ходил к нам, а виделся с ней в парке.
Знакомств у жены сразу оказалось много. Прежде всего, ее старинный закадычный друг Марина Никаноровна. Сошлась она и с Галиной Чернявской. Потом стали набираться и другие дружеские знакомства: г-жа Русанова, сестры Катя и Дора Тетельман. Это были очень симпатичные еврейки, особенно Катя, добрейшее существо. У нас даже в доме явилось очень приятное знакомство — с Аделаидой Николаевной Паевской. Она с мужем жила в том же доме, наши балконы соприкасались, так что мы могли ходить друг к другу через балкон, перелезая через низенький барьер. Жена и познакомилась с нею на балконе. Не знаю, кем был по специальности Паевский, но Аделаида Николаевна была врач, и даже очень известный. Очень умная, образованная и добрая, она дружески сблизилась с нами, и Катя скоро была посвящена в интимности ее семейной жизни. Хотя очень еще пышная, Аделаида Николаевна уже перестала нравиться мужу, и это ее терзало. Они, впрочем, в это время не были венчаны, а повенчались только через несколько лет в России... Повенчались — и разошлись. Но уже и в Париже супруг (более молодой, чем она) охладел к ней. Она делала ему сцены, и это, конечно, не улучшало отношений; она каялась и плакала, и от этого тоже, понятно, не могло быть толку. Раз как-то она дошла до того, что ударила его в спину. А он только обернулся и сказал: «Что ты делаешь, ведь мне больно». Ну уж после этого у нее не было конца слезам и раскаянию. Бедная Аделаида Николаевна! У нее была любимая, очень умная кошка. Однажды Аделаида Николаевна после каких-то историй с мужем сидела пригорюнившись, в слезах, как вдруг кошка вскочила к ней на плечо и начала ласково гладить ее лапкой по лицу. Растрогала ее до последней степени.
Впрочем, понятно, не всегда же были истории с мужем, и Аделаида Николаевна обычно оказывалась очень милой собеседницей, даже веселой, так что жена любила бывать у нее.
Через несколько времени в наш дом перебрались также Русановы, по нашей же лестнице, но ниже нас.
Немного дальше нас, на самых фортификациях, жили Лев Константинович Бух {121} с женой, и у них же поселилась приехавшая из России Неонила Михайловна Салова, замечательно симпатичная девушка, умная и редкой душевной чистоты. С Бухом я тут познакомился впервые. Он был братом Николая Буха, заведовавшего типографией исполнительного комитета в Саперном переулке и вместе с ней погибшего. Бух, кажется, не был эмигрантом, а выехал из России только из предосторожности. Он хорошо знал финансы и в этом отношении был полезен нашему «Вестнику».
На rue de la Glaciere, недалеко от нас, поселился с какими-то двумя эмигрантами Эспер Александрович Серебряков, {122} лейтенант флота, член кружка Суханова. Таким образом, мы были окружены соседями, и все хорошими людьми, находившимися с нами в дружеских отношениях.
Из России в Париж постепенно прибывали все новые народовольцы: Караулов, Серебряков, Мелкон, Софья Александровна Бородина, Александр Николаевич Бах, {123} Яков Френкель, Семеновский (Коган) и другие. Приехал уже после убийства Судейкина Герман Лопатин. {124}
Яков Френкель, одесский еврей, был малый простоватый, но честный и хороший. Он был близким другом Тетельманов. Семеновский состоял даже мужем Доры Тетельман. В Одессе он пользовался репутацией восходящего светила, но я не находил в нем ничего замечательного, он мне не нравился и даже не внушал доверия. Но что касается Баха — он возбудил во мне самые горячие симпатии.
Я не знал подробно его революционного прошлого, знал только, что он действовал в Киеве и пользовался очень хорошей репутацией. Я почему-то считал, что он еврейского происхождения, хотя ни в наружности, ни в речи его это нисколько не проявлялось, и, сверх того, он был православного вероисповедания. Мне он нравился своим умом, большими знаниями, развитостью, вообще, так сказать, высокой интеллигентностью и всем характером своим, ровным, спокойным, добродушным. Но на нем лежал какой-то отпечаток грусти, как будто он не нашел в жизни, чего искал. Мы очень подружились, но потом, когда я уже возвратился в Россию, у меня вдруг возникли против него тяжелые подозрения в связях с полицией, да простит мне его тень — он, кажется, уже не существует на земле... Притом я и не утверждаю ничего. Меня вообще считали подозрительным и говорили, что я везде вижу шпионов... Может быть. Скажу только, что даже при этой отраве сомнения я не утратил привязанности, которую он мне внушал за все время совместной жизни. Как сейчас стоит он передо мной. Высокий, худой, со впалой грудью, с сухим лицом, он имел вид чахоточного. Он редко говорил о революционной политике. Казалось, она ему уже надоела. Он редко вспоминал о революционных делах и любил вспоминать только о России. К ней он был сердечно привязан. Ему было неприятно, что я считаю его евреем, и однажды он без всякого вызова с моей стороны сказал: «Знаете ли вы, что я православный? Я нарочно разыскал свой паспорт, чтобы вам это показать». В паспорте было действительно отмечено: «Вероисповедания православного». Он и за границей никакой политикой активно не занимался, а жил пассивно, на покое. Только и покой его был какой-то невеселый. Он был большей частью задумчив и печален. Помню, копается над чем-нибудь по хозяйству и своим слабым, глухим голосом мурлыкает:
Заложила дивчина душу И купила казаку папушу, За душу папушу купила, Бо казака вирно любила.Эту песенку он напевал очень часто, и никакой другой я от него не слыхал. Она меня за сердце хватала. В хоре Славянского ее пели в мажорном тоне, в ней звучали какое-то торжество и похвальба. Совсем не так пел Бах: минорно, заунывно, в каждой нотке слышалась тоска, чувствовалось, что тяжело и нехорошо покупать что-нибудь за свою душу, но... ничего не поделаешь, когда к этому тянет верная любовь. Слушая Баха, не раз я думал, что его песенка имеет отношение к какой-то личной драме жизни его, что он ноет про свою душу. Но жизни его я не знал.
А парижская его жизнь для меня отравляется воспоминанием о его дружбе с Геккельманом-Ландезеном, который впоследствии оказался агентом-подстрекателем.
Однажды к нам прибежал из России некто Михаил Геккельман. Он основал тайную типографию в Дерпте. Полиция захватила се и нескольких работавших в ней. Сам же Геккельман бежал за границу. Это был молодой человек, образованный, веселый, разбитной, темный брюнете блестящими глазами и сильным еврейским акцентом. Мы встретили его дружелюбно, он бывал у многих, в том числе у Лаврова. Но особенно приютил его Бах, поселившийся с ним на одной квартире. Геккельман выдавал себя за сына богатого торговца и всегда имел лишние деньги, которые у него охотно занимали вечно нуждавшиеся эмигранты. Это, конечно, способствовало его популярности, и я полагал даже, что и Бах поселился с ним отчасти из экономических соображений. Впрочем, мрачному Баху должно было быть приятно и просто жить с вечно веселым Мишелем, который, по его словам, поступил в какое-то высшее учебное заведение, кажется земледельческое. Так он жил у нас вполне благополучно, пока один из причастных к дерптской типографии не известил нас, что Геккельман — провокатор, который организовал типографию с преднамеренной целью: выловить дерптских революционеров.
У нас решили назначить над Геккельманом суд. Не помню всех лиц, которым было поручено расследование, но среди них находились я, Бах и, кажется, Герман Лопатин. Мы рассмотрели все обстоятельства очень внимательно. Геккельман был чрезвычайно взволнован, но защищался горячо. У обвинителя не было, в сущности, ничего, кроме предположений, без всяких серьезных доказательств. Но более всего в пользу Геккельмана послужило заступничество Баха. Он заявил, что, живя с Геккельманом, хорошо присмотрелся к нему, что это малый совсем еще молодой, наивный, может быть, недалекий, но, несомненно, честный и шпионом никак не может быть. Притом отец его очень богат, сам Геккельман решил докончить образование в Париже и уже слушает лекции. На каком основании он мог пойти в шпионы, из каких выгод, для какой цели? Это прямой абсурд. Аргументы Баха подействовали на всех нас, и с Мишеля были сняты всякие подозрения. Так он и продолжал жить спокойно, иногда видясь с нами, но вообще в политические дела не вмешиваясь.
Когда я с семьей поселился в Ле-Ренси, в сорока верстах от Парижа, Бах со своим неразлучным Мишелем приехали на каникулы туда же, жили недалеко от нас, и мы часто виделись. Потом они возвратились в Париж, и я иногда, бывая в городе, заходил к Баху. Несмотря на мою подозрительность, во всем поведении Геккельмана ни разу не заметил я ни малейшей черточки, которая могла возбудить во мне сомнения. Он был именно таков, как характеризовал его Бах: веселый, добродушный, любил погулять и пощеголять костюмом, настоящий французский студент, и уже выучился порядочно говорить по-французски.
Однажды (кажется, уже в 1881 году), бывши в Париже, я зашел к Баху и (было уже поздно) заночевал у него. У Мишеля были, по словам его и Баха, экзамены, и он всю ночь зубрил лекции. Мне показалось только, что он очень плохо занимается, потому что несколько раз замечал, что он, держа лекции в руках, спит крепчайшим сном, откинувшись в кресле. Впоследствии мне пришло в голову, что, может быть, у него и не было никаких экзаменов и он просто разыгрывал комедию передо мной, а может быть, и перед Бахом. Тем временем мы толковали с Александром Николаевичем о разных разностях, и между прочим он вдруг сказал мне: «А знаете ли, чем я теперь занимаюсь?» Он принес большой лист александрийской бумаги и развернул. Это был чертеж динамитной бомбы или, точнее, ядра — конической формы, с какими-то пустотами и винтами внутри. Это была не ручная бомба, а оружейная. Я спросил, для чего он это делает. Бах ответил, что у него совершенно новая, оригинальная система и когда он отделает окончательно свое изобретение, его можно продать за хорошие деньги любой державе. «Вы не знали, — заметил он, — что я занимаюсь этими предметами, но я в них действительно кое-что смыслю». И он пустился в объяснение подробностей, начал разные технические выкладки, чтобы объяснить мне силу своей бомбы и разрушительность ее действия. Видно было, что он очень сведущий человек по части артиллерии и взрывчатых веществ...
После этого прошло несколько лет. Я уже был в России, как вдруг в газетах появилось известие, что в Париже захвачена мастерская ручных динамитных бомб и целая группа русских эмигрантов, в ней работавших. Их судили во Франции, и на суде обнаружилось, что в этом деле роль шпиона-провокатора играл Геккельман, который, конечно, скрылся и на суд не попал. Имени Баха при этом совсем не упоминалось.
По делу о динамитной мастерской главной жертвой Геккельмана был некто Лаврениус. Он был судим в 1881 году в Курске вместе с кружком, которым он руководил. Никаких важных преступлений он не совершил и был сослан на поселение. Через несколько лет Лаврениус подал прошение о помиловании и о разрешении выехать за границу для какого-то специального обучения, причем давал «честное слово русского дворянина», что отрешился от своих политических заблуждений, и обещал впредь верно служить Государю. Это неслыханное в летописях революции «честное слово русского дворянина», говорят, произвело впечатление на Императора Александра III, и ходатайство было удовлетворено. Лаврениус уехал за границу и жил там сначала смирно. У него было в Курской губернии имение, которое он ликвидировал и перевел деньги за границу. Когда он закончил эту операцию, он каким-то образом сошелся с Геккельманом (вероятно, тот сам его отыскал), и у них явился план изготовлять динамитные бомбы, которые предназначались для перевозки в Россию. Русская полиция знала весь ход дела и могла уничтожить мастерскую в зародыше, но, как водится у провокаторов, ждала, чтобы предприятие созрело, и потребовала у французского правительства захватить мастерскую только тогда, когда было изготовлено порядочное количество бомб, кажется штук десять– двенадцать. Полиция даже чуть не опоздала — и, говорят, очень тревожилась тем, что одна бомба куда-то исчезла. Возникало опасение, не отправлена ли она в Россию без ведома Геккельмана.
Лаврениуса и его компанию французский суд судил. Ни имен подсудимых, ни приговора я не знаю. Имени Баха в связи с этим делом я не слыхал, да и вообще ничего о нем не знаю со времени моего отъезда в Россию в 1888 году. Что касается Геккельмана, он через несколько времени вынырнул в Бельгии в качестве русского полицейского чина под именем Ландезена и тоже там что-то напутал, а затем снова скрылся, и я уже больше ничего не слыхал о нем.
И вот когда обнаружилась провокаторская роль Геккельмана, предо мной встал вопрос: что же такое Бах? Был ли он обманут Геккельманом, был ли его соучастником? Но роль Геккельмана, так ловко дурачившего всех, даже меня, раскрылась очень нескоро, в самом конце 80-х годов. Во все время моего пребывания за границей он оставался вне всяких подозрений. О Бахе, конечно, и говорить нечего. И в настоящее время одно из самых горячих моих пожеланий состоит в том, чтобы мне можно было убедиться в его политической честности. Но теперь едва ли найдется кто-нибудь, способный это разъяснить, если только нет каких-нибудь сведений у всезнающего Бурцева.
XII
Rue de la Glaciere — одна из самых захудалых, старых парижских улиц, узкая, кривая, грязная, дома на ней древней постройки, но нескладные, неживописные, грязные, давно не ремонтированные. На всей улице вряд ли живет хоть одна зажиточная семья, и всюду ютится беднота. Не увидишь тут магазинов, а если попадется где-нибудь лавочка, то тоже бедная, грязная, некрасивая... Наша авеню Рэй, хотя наполовину пустая, — улица будущего, проведена по струнке, широкая, дома новой конструкции. А на Гласьеру словно сама судьба махнула рукой: не стоит с ней возиться, пускай догнивает свой век как знает.
Вот тут-то по узенькой, крутой каменной лестнице была тесная, грязная и темная квартира в две маленькие комнаты с крошечной кухонькой. В первой комнате у маленького почерневшего камина, в котором еле теплится несколько горстей кокса, сидит сгорбившись худощавый молодой блондин и что-то усердно копается в своих рваных ботинках.
— Здравствуйте, Эспер Александрович, — говорю ему. — Как поживаете? Работаете? Бог помощь...
Он вскакивает, весь обшарпанный, одна нога в рваном ботинке, другая босиком. Он держит ботинок от нее в руке и изящнейшим образом раскланивается:
— Да вот совсем разваливаются, не знаю, как и скрепить их...
Ботинки действительно при последнем издыхании. Все они состоят из латок, но и латки разлезаются. Являются новые дыры. Пальцы высовываются наружу.
— Самое главное, — говорит он, — подошвы в дырах и отваливаются. Никак не умудришься привести их в порядок...
Этот оборванец был наш милейший и симпатичнейший Эспер Александрович Серебряков, несколько месяцев назад — изящный лейтенант русского флота. Он служил на каком-то броненосце, и перед ним раскрывалась блестящая карьера. Но он присоединился к народовольческому кружку Суханова и, когда полиция начала поголовные аресты членов кружка, бежал за границу.
Здесь он жил в величайшей бедности, по крайней мере на первое время. С собой, очевидно, захватил немного денег. Просить партийной помощи стыдился. Он знал, что мы очень небогаты и хотя оплачивали тех, кто что-нибудь работал, но Серебряков ничего и не работа;], кроме разных побегушек на частные надобности. Таким образом, если ему помогали, то также частным образом, из личных средств. Из дому ему сначала присылали какие-то гроши. Отец его, чуть ли не адмирал, во всяком случае, довольно важного чина, был не без средств, но серьезно сердился на сына за то, что тот эмигрировал. Старик, очевидно, совершенно не понимал поведения сына. Он ему писал, что бежать за границу было недостойным поступком. «Если что набедокурил — так и отвечай за свою вину». Ему представлялось, что действия сына схожи с нередкими шалостями и дерзостями морской молодежи, когда какой-нибудь мичман или гардемарин что-нибудь нагрубит начальству или самовольно сбежит с дежурства в театр. Старик, очевидно, долго не мог понять, что сын объявил себя врагом и начальства, и Царя и хотел их низвергнуть, а вовсе не «отвечать за свою вину», отдаваясь в их руки. Вероятно, глаза отца раскрылись на действительность только тогда, когда Суханов, Штромберг {125} и другие члены кружка были казнены, да и то он не мог примириться с мыслью, что сын — бутовщик. Нужно помнить, что царская идея при Александре III воскресала и зацветала с каждым месяцем сильнее и чувство монархической преданности поднялось до необычайной степени. Тем не менее Эсперу Александровичу позднее стали помогать — не знаю, отец ли или другие родственники, — и его положение улучшилось. Но первое время он бедствовал ужасно.
Эту нищету он выносил стоически: мерз, голодал, ходил в отрепьях и как будто не обращал на это никакого внимания. Как истинный лейтенант флота, он отличался утонченно светскими манерами и рыцарским ухаживанием за всеми знакомыми девицами и дамами. Иногда это производило невыразимо комический эффект. Идет с барышнями на гулянье, развязно болтает, одной предлагает руку, к другой изящно наклоняется и шепчет что-нибудь забавное — одним словом, кавалер, с которым не всякий француз сравнится. А у самого — в одном месте пола зияет белой дырой, в другом — рукав отпоролся, из пяти пуговиц четыре не застегиваются, большой палеи вылезает из сапога, а на другом сапоге мотается отрывающаяся заплатка. Прямо умора смотреть, а сам Эспер Александрович как будто и не замечает вопиющего несоответствия между своими изящными манерами и костюмом бродяги. Иногда, за неимением лучшего спорта, вздумает удивить барышень своим проворством. Они садятся в трамвай, а он говорит: «Хотите, я раньше вас приду пешком?» Те хохочут, а он пускается во всю прыть, не щадя своих еле дышащих сапог, и действительно, весь запотевший и запыхавшийся с торжеством выходит навстречу барышням, только еще вылезающим из вагона.
Он был всеобщим любимцем. Вежливый, любезный, веселый, он рад был услужить каждому, чем мог. Купить ли что-нибудь, разузнать что-нибудь — Эспер Александрович тут как тут: «Да давайте я сделаю». Сам разговор с ним действовал успокоительно, потому что ни уныния, ни жалобы не было у него, а всегда ровное, простое отношение к жизни. Не проявлял он ни нервности, ни раздражительности — и это при такой тяжелой жизни, которую долго пришлось ему вести. Вдобавок он был слабого здоровья, с видимой наклонностью к чахотке, но даже и это не выводило его из спокойного настроения. Только о России он очень тосковал и с увлечением рассказывал о флоте, о своей морской службе, о плаваниях, нравах наших матросов и т. п. Собственно говоря, он и тосковал не о России, а о флоте, о своей службе, и каждая мелочь пережитого вставала перед ним как живая.
Помню, как комично рассказывал он о своей первой вахте. Он был еще совсем неопытный мальчишка и с важностью шагал по мостику, наслаждаясь сознанием своей важной роли, но очень плохо понимая, что перед ним делается. Вот подходит старый боцман и докладывает: румб такой-то, ветер такой-то. Хорошо, отвечает он и продолжает расхаживать. А дело в том, что им угрожал удар шквала в бак, нужно переменить курс корабля... Но Эспер Александрович этого не соображает. Видя, что никаких распоряжений нет, боцман снова подходит: румб такой-то, ветер такой-то... Хорошо, отвечает он, и тут у него закрадывается мысль, что боцман неспроста повторяет доклад, что нужно что-то сделать, а что — он не понимает. Но пока он размышлял об этом, страшный шквал потряс и накренил корабль... Капитан как встрепанный выскакивает из каюты: «Эспер Александрович, да что же вы смотрите!» Он живо крикнул распоряжение рулевому в машину, и корабль выпрямился. Уж потом он ругал неопытного вахтенного на все корки.
— ...Вот наша служба, — заключал свой рассказ Серебряков. — Ведь и учился, и плавал, а пока на опыте не узнаешь, то самого пустяка не можешь сообразить. А вы думаете, легко отдавать приказания? У нас на броненосце как-то везли великого князя с супругой. Великая княгиня сидела на рубке. Между тем погода разыгралась не на шутку, нужно смотреть в оба, а на броненосце делается какая-то чепуха, приказания исполняются неточно, запоздало, капитан из сил выбился с командой. Наконец подходит к великому князю: «Ваше высочество, попросите ее высочество уйти в каюту. Иначе я не отвечаю за безопасность корабля...» Оказалось, что в присутствии великой княгини он стеснялся ругаться, а когда он не ругался — матросы не понимали и не принимали всерьез его команды. Пришлось великой княгине убраться с мостика, и тогда все пошло как по маслу.
Таких анекдотов у него было множество, и воспоминания о службе постоянно наполняли его. Правду сказать, он был больше моряк, чем революционер. Его, несомненно, мучило сознание, что он дезертир, покинул свой пост. Душа его раздваивалась: с одной стороны, он как будто был прав, выступив против правительства, но прав ли он в отношении флота? Ведь он покинул пост защитника России, сделался дезертиром. Однажды в минуту интимного разговора он сказал мне, что в случае войны будет просить русское правительство принять его снова на службу. Мечта нелепая. Правительство могло простить ему дезертирство, но отдало бы его под суд как государственного преступника именно за то, за что совесть его не тревожила.
Эта мысль о флоте и о своем дезертирстве была единственным темным облачком, омрачавшим его светлое, ровное настроение. Но не всегда же этот червяк точил его. Он начинал извиваться в его сердце только по временам, да и то Эспер Александрович не выдавал другим своих ощущений.
Он был для нас превосходным товарищем и в известном смысле приносил большую пользу, так как во всякое время и на всяком месте проповедовал народовольческую идею и защищал нас и всех ее служителей. А голос его раздавался далеко кругом. Он был очень общителен и завел обширные знакомства по всему эмигрантскому Парижу, бывая во всех местах его скоплений. Главные места были Русская библиотека и так называемая «эмигрантская кухмистерская Динера». Эта кухмистерская, в сущности, не была эмигрантской, а просто личное предприятие Динера — еврея, не знаю почему попавшего в эмиграцию. Но кажется, разная утварь досталась ему от какой-то прежней эмигрантской кухмистерской, да и столовались у него исключительно эмигранты и та часть студенчества, которая находилась в тесной связи с ними. Что касается библиотеки, то она была действительно эмигрантская, то есть находилась в их заведовании. Это было учреждение старое и очень порядочно обставленное. Библиотека получила при своем основании большие пожертвования книгами и продолжала их получать понемногу от сочувствующих. Журналы и газеты присылались ей бесплатно из русских редакций. Учреждение было, несомненно, очень полезное, и, кажется, заведующие его вели свое дело довольно сносно и книги не очень рас-пропадали. Я лично в ней не бывал, не помню, платили ли за чтение и как она была организована. Да и вообще мы, то есть кружок «Вестника „Народной воли“», с массой эмигрантов имели мало сношений. Но Эспер Александрович бывал повсюду и перезнакомился с множеством лиц этого слоя. Французских знакомств у него не было, и, само собою разумеется, он совершенно не был вхож в легальное русское общество, очень многочисленное в Париже.
Мало-помалу Серебряков особенно сблизился с семейством Тетельман. Это были две сестры, одесские еврейки, Катя и Дора, и кажется, не эмигрантки, но народоволки. Дора состояла женой (кажется, без всякого венчания) Симоновского или Семеновского — не помню, как он переименовал себя из Когана. Он был эмигрант. В Одессе он пользовался большим значением в народовольческих кружках и считался блестящей восходящей звездой, но принужден был бежать от преследований полиции. Я совершенно не замечал в нем блестящих способностей, о которых гласила молва, но он был неглуп, образован, совершенно русифицирован, говорил без малейшего акцента, умел хорошо держать себя. Вдобавок он был очень красив, с правильным, выразительным лицом. Дора была положительно хорошенькая, Катя — так себе, но зато добрая, чудной души. Обе они также были хорошо воспитаны, приличных манер и говорили без акцента. Ближайшим другом их семьи был Френкель. Вот к ним-то приютился и наш Эспер Александрович. Как я упомянул, Тетельманы стали и нашими близкими друзьями, точно так же, как Френкель. Семеновский мне не нравился, но это, как говорится, дело вкуса, потому что ничего худого я не сумел бы у него указать. Мы бывали у Тетельманов запросто, как и они у нас. Мне нравилась та чисто семейная обстановка, в которой они жили. У Доры было уже двое маленьких детей, мальчик и девочка. Приходилось заботиться о хозяйстве, вечно быть в хлопотах. Около Тетельманов вертелось несколько близких знакомых или, может быть, родных: молоденькая Роза Моргулис, потом Эсфирь (забыл фамилию), которые чему-то учились и не имели никакого отношения к политике. Сама Катя Тетельман была очень веселого характера. В этой семье я погружался в чисто житейскую обстановку, к которой меня тянуло сердце несмотря на то, что я был снова прикован судьбой к политике. Вероятно, так же легко чувствовал себя у них и Серебряков, который вдобавок начал все серьезнее ухаживать за Катей.
Эспер Александрович всей душой принадлежал к нашему центральному народовольческому кружку , и помогал ему усердно во всяких мелочах, но в его серьезной работе не мог принимать участия. В «Вестнике „Народной воли“» ему нечего было делать; в подготовке нового исполнительного комитета, который мы намеревались отправить в Россию, когда Дегаев покончит с Судейкиным, Серебряков тоже не участвовал, и мы даже не сообщали ему об этом плане. Почему? Потому что он лично для заговорщицкого дела, по своему характеру, очевидно не годился, а говорить о своих планах с теми, которые в них не могли принять участия, мы считали бесполезной и вредной болтовней. Да Серебряков не обнаруживал даже и никакого желания ехать в Россию для возобновления революционной деятельности. В эти планы были посвящены только Галина Чернявская, Караулов, Герман Лопатин, Салова и еще молодой человек, которого фамилию я позабыл. Серебряков, таким образом, стоял в стороне от самой сущности наших задач. Никакой крупной общественной деятельности он не имел все время нашего знакомства. Поэтому я могу без ущерба для рассказа о заграничных делах докончить повествование об Эспере Александровиче в его личном биографическом порядке, насколько его жизнь мне известна.
Как сказано выше, его ухаживание за Катей Тетельман принимало все более серьезный характер, он ей тоже нравился, и наконец они сошлись как муж и жена, конечно, тоже ни по какому обряду не венчанные. Когда это случилось, моя память колеблется. Кажется, дело было так, что около лета 1885 года Тетельманы и Серебряков уехали в Швейцарию, в Кларан, — по всей вероятности, для поправления здоровья, в чем и Катя, и Серебряков одинаково нуждались. От самого Эспера Александровича я слыхал, как он катал Катю на лодке под парусом по Женевскому озеру, щеголяя своей ловкостью моряка. Она приходила в ужас, а он, не обращая внимания на ее просьбы высадиться, забирался в даль озера, проделывая самые блестящие эволюции. По-моему, Катя была права, потому что шквалы Женевского озера чрезвычайно капризны, но понятно, что его смелость и ловкость не могли не покорять ее трепещущего сердца. Тут-то, на берегу Женевского озера, и произошло, как мне кажется, их окончательное сближение.
Здесь же произошло и другое важное событие его жизни — поступление на службу в Болгарский военный флот.
Это были времена княжения Александра Батгенбергского. {126} Как известно, единство Болгарии не было достигнуто русско-турецкой войной и болгарская земля осталась разорванной на две части. На севере от Балкан образовалась Болгария с князем Александром; на юге от Балкан образована Восточная Румелия с другим князем (кажется, его звали Алеко Паша). Но понятно, что и сами болгары только и мечтали о соединении этих двух частей, и в общественном мнении Европы почему-то господствовало мнение, что русское правительство также желает скорейшего объединения Болгарии. В это время в Болгарию потянулось несколько человек русских эмигрантов из числа тех, которые тосковали о России и в душе, в сущности, примирились с русским правительством, так что работа в Болгарии была для них как бы суррогатом работы в России.
Таким был, помню, Судзиловский. {127} Он давно эмигрировал в Соединенные Штаты и очень хорошо там устроился, сделавшись даже гражданином Калифорнийского штата. Но его грызла тоска по России, и он перебрался из Америки в Болгарию. Надо помнить, что правительство Александра III с каждым годом не скажу — приобретало симпатии, но покоряло сердца множества людей в Европе. При Александре II Россия была какой-то приниженной страной, и, конечно, никому не могло прийти в голову гордиться тем, что он русский. При Александре III произошло превращение. Россия стала вставать в вице какой-то громадной национальной силы. Это производило огромное впечатление даже на эмиграцию. Прежде быть врагом правительства нимало не значило быть врагом России. Теперь правительство начало все больше отождествляться с Россией, так что, враждуя с ним, человек в глубине души начинал спрашивать себя, не враждует ли он и со своим народом. И вот, говорю я, кое-кто стал перебираться в Болгарию, которая казалась чем-то сродным и дружественным России. В этом числе был Судзиловский, в это число попал и Серебряков.
Какими путями, с помощью каких связей, каких рекомендаций Эспер Александрович мог поступить на службу в Болгарский флот, я совершенно не знаю. Но по-видимому, эти связи он нашел не в Париже, а в Швейцарии и, как бы то ни было, отправился оттуда в Болгарию с Катей как уже своей женой. Тут наступило новое, светлое время его жизни. Он возвратился к своей любимой морской службе, сделался легальным человеком, получил прекрасное материальное обеспечение, так как ему дали место капитана парохода. По надобностям болгарского правительства Серебряков совершал постоянные рейсы по Дунаю. Его Катя была в полном восторге, она сделалась в своем роде важной особой, живя в прекрасной каюте с мужем. Для обоих пребывание в теплом климате — если не на море, то на такой великой реке — было чрезвычайно полезно и в смысле здоровья. Одним словом, всем было хорошо это существование, одним только плохо — что оказалось весьма кратковременным.
В 1886 году произошел переворот в Восточной Румелии. Кто его устраивал — я не знаю. Во всяком случае, там действовали болгарские патриоты, были и кое-кто из русских авантюристов, по всей вероятности, помогал перевороту и Александр Баттенбергский. В публике существовала ошибочная, как оказалось, уверенность, что и русское правительство одобряло заговорщиков. Сам переворот был произведен очень ловко, в двадцать четыре часа, Алеко Паша не оказал никакого сопротивления, и заговорщики провозгласили соединение Восточной Румелии с Болгарией.
Я помню, как в Ле-Ренси ко мне пришел Бах, весь сияющий, каким я его никогда ни раньше, ни позже не видел: «Читали о румелийском перевороте?.. Но знаете, у русского правительства есть что-то крупное, революционное! Ведь как обделано! И без всяких конгрессов, без дипломатов. Просто по шапке Алеко Пашу, и Берлинский трактат торжественно идет к черту».
Это образчик того, как тогда верили в причастность русского правительства к перевороту. Но в действительности именно этого и не оказалось. Напротив, Александр III проявил крайнее неудовольствие совершившимся фактом и настолько рассердился на Александра Баттенберга, что не захотел иметь с ним никаких сношений. Как кажется, Александр Баттенбергский обещал Александру III, что соединение двух разорванных половин Болгарии не произойдет иначе как по инициативе России. Выходило, стало быть, что он обманул русского Императора. Александр же III никогда не прощал таких обманов. Напрасно Баттенберг предлагал ему решить, что он должен делать, заявляя, что поступит так, как скажет Император. В ответ на это ему сухо было сказано, что он может поступать как ему угодно. Ввиду такой ссоры с Россией горсть болгарских патриотов свергла Баттенберга с престола и отправила на пароходе в ближайший русский порт (Рени на Дунае) с заявлением местным властям, что Россия может делать с низвергнутым князем что ей угодно. Напрасно Баттенберг искал переговоров с Императором. Ему не позволено было остаться в России, и он уехал в Австрию. Между тем в Болгарии произошел новый переворот в его пользу. Его просили возвратиться на княжение, но он не пожелал новых авантюр и отказался от предложения.
Таковы вкратце были болгарские события. Понятно, что с падением Баттенберга Серебрякову пришлось также убегать, и он снова превратился в эмигранта.
Его жизнь в Париже потекла так же, как до болгарских приключений, с той разницей, что он привез со службы некоторые скопленные суммы. Жил он, по крайней мере некоторое время, с Тетельманами без нужды, значительно поправившись здоровьем и гораздо более веселый, чем прежде. Вероятно, семейная жизнь дала ему лучшее настроение. Я с ним виделся по-прежнему. Но в революционных делах он, кажется, окончательно перестал принимать участие, даже такое отдаленное, как прежде.
Что с ним было дальше, чем он стал жить, сколько прожил и если умер, то когда — ничего больше не знаю. Что сталось с Тетельманами, тоже не знаю. Но в 1922 году было в газетах известие о смерти в Париже «известного вожака народовольцев Семеновского». Очевидно, что это относится к мужу Доры Тетельман.
XIII
Очень близким мне человеком сделался также Николай Сергеевич Русанов, с которым я познакомился и сблизился еще со времени первых моих поездок в Париж. Русанов не был эмигрантом в буквальном смысле слова. Он приехал легально, с паспортом. Но по его направлению, по его знакомствам он, конечно, мог и даже должен был подвергнуться преследованиям полиции. Судить его было не за что, но услать в какие-либо достаточно отдаленные места его могли очень легко. Ну, жить с таким дамокловым мечом над головой не очень-то приятно. Сверх того, он был литератор, публицист и совершенно не удовлетворялся той степенью свободы печати, какую имел в России. Вот он и рассудил уехать за границу вместе с женой, Натальей Федоровной. Жили они безбедно. Вероятно, получали деньги из России. Оба были родом орловские, оба из купеческих семейств, и отец самого Русанова был, помнится, даже крупным, богатым купцом. Может быть, Николай Сергеевич писал что-нибудь и в русские издания, я на это не обращал внимания.
Он был довольно крупной литературной силой. С хорошим образованием он соединял большую начитанность, даже удивительную в его довольно молодые годы. Он был, думаю, лет на пять моложе меня, то есть, значит, около 25 лет. Особенно силен он был в экономических вопросах, и в частности хорошо знал Маркса, но марксистом не был и даже питал некоторое отвращение к теории экономического материализма. Он хорошо знал несколько новых языков — французский, немецкий, английский; это облегчало ему очень расширять круг своего чтения, а это, в свою очередь, расширяло его кругозор и мешало поддаваться одностороннему влиянию какого-либо одного автора. Однако его социально-экономическая философия до знакомства со мной не успела еще сложиться, и наши продолжительные разговоры на эту тему именно и сблизили нас. При этом я сделался как бы учителем его, но нельзя сказать, чтобы его роль была пассивно воспринимающая. Нет, он нередко дополнял мои взгляды, еще чаше отыскивал им экономические основания, так что мы, можно сказать, совместно работали умственно, и если моя роль имела характер учительский, то собственно потому, что у меня уже отчетливо сложилось то миросозерцание, которое еще только открывалось перед ним. Сверх того, у меня ум был инициативный, он стремился обнять все, находящееся вокруг основных пунктов миросозерцания, не боясь и отбросить все, не выдерживающее критики, не боясь идти вперед и вперед, ища только истину. У Русанова не было ни этой пытливости, ни этой смелости мысли, и поэтому он без таких импульсов, какие получал от меня, мог неподвижно остановиться на раз достигнутой точке, не развивая ее, не идя вперед. Для живого развития его мысль нуждалась в толчках извне. Он был умен, но по характеру своего ума был не мастер, а подмастерье.
Общность взглядов и работа нас, конечно, крепко связывала. «Вестник „Народной воли“» начал выходить очень кстати для удовлетворения его потребности высказываться полнее и свободнее, чем позволяли русские условия печати. Русанов сделался для нас чрезвычайно полезным сотрудником, и нередко, можно сказать, мы почти совместно писали статьи, перечитывая их, исправляя и дополняя по совместным соображениям.
Странно сказать, но нашему сближению очень способствовала его жена. Наталья Федоровна была очень молоденькая, хорошенькая дамочка, свежая, румяная, minois chiffone, как говорят французы, с неправильными чертами лица, но в общем привлекательными. Веселая, хохотушка, кокетка, она не была умна в «мужском» смысле, но обладала женской чуткостью и остроумием и умела сразу отличить умное от глупого, филистерство от живой работы мысли. Ничего не смысля в принципах, не нуждаясь в них, она очень любила народовольцев за активность, отвагу, личный почин, а в частности, очень одобряла и мои идеи. Народничество и марксизм ей казались одинаково скучными. Почему? Вероятно, она не сумела бы то сформулировать, но я думаю, потому, что они сковывали личность подчинением посторонней силе пароду или материальным условиям. Она же любила самостоятельное и свободное. Так я полагаю. И поэтому она всегда одобряла и поддерживала то, что я говорил. А Русанов очень ценил мнение своей жены. Мужчины по большей части высоко ставят чуткость женщины и чувствуют, что эта инстинктивная чуткость выше их хитроумных рассудочных соображений и принципиальных разысканий, где кроется истина. Постоянное единогласие Натальи Федоровны со мной поддерживало убеждение Русанова в моей правоте.
Надо сказать, что вопрос, разбираемый нами с Николаем Сергеевичем и отчасти выносимый и в печать, имел огромное общественное значение, хотя, может быть, полубессознательное. Я говорю «полубессознательное», потому что у нас тогда плохо вообще знали социалистические учения. «Капитал» Маркса был переведен давно (его переводчиком был Герман Лопатин), но многие ли способны прочитать «Капитал»? «Манифест коммунистической партии» и «Социализм утопический и научный» читали крайне поверхностно, невнимательно. Наша революционная интеллигенция, всегда называвшая себя «социалистической», совершенно не знала социализма и, по существу, не интересовалась им. Это может казаться невероятным, но это совершенная правда. Если употреблять тонные термины, то этих якобы социалистов-революционеров нужно назвать просто радикалами. Они были и демократами, и республиканцами и в этой области имели убеждения горячие, за которые отдавали жизнь. Но социализм пристегивали к себе просто по какой-то моде, потому что было принято, что передовой человек должен быть «социалистом». Но из социализма никто не собирался делать практического употребления, а потому и не вникал глубоко, что это за штука.
Итак, говорю, только полубессознательно все чувствовали, что есть две противоположные точки зрения на роль личности в общественном процессе, полубессознательно сочувствовали всему, что эту роль повышало, и с некоторой антипатией относились к тому, что ее понижало. Необходимой задачей времени было создать социалистическую философию, которая бы выяснила разумно и сознательно то, что чувствовалось бессознательно. Но эта задача так и не была исполнена. Почему? Потому, очевидно, что не было людей достаточно крупного для этого роста. В революционном мире никто не хотел колебать авторитет Маркса. В «Вестнике „Народной воли“» Лавров ни за что не позволил бы и малейшей критики Карла Маркса, а иначе оставил бы и редакторство, и сотрудничество в «Вестнике». Критика экономического материализма у нас с Русановым не имела поэтому прямого практического значения. Но мы, разумеется, занимались не только этой критикой. Нас интересовал общий вопрос социальной философии, которая, как мы полагали, должна осветить задачи революции. Мы оба знали старых, утопических социалистов и у них не могли найти ответы на наши запросы. Даже Роберт Оуэн, наиболее, в сущности, интересный, совершенно разделял мнение Маркса, что человек таков, каковы окружающие его условия, но у Маркса окружающие условия (условия производства) имели самостоятельный характер, а потому было понятно, что они способны влиять на человека; у Роберта же Оуэна предполагалось, что люди могут пересоздать эти условия и тогда условия жизни пересоздадут их. Это какая-то путаница. У Маркса ум был более точный, логичный, и потому теория была стройна. Мы не могли с ней согласиться только потому, что она отрицала инициативную роль личности, делала личность не творцом, а тварью. Мы поэтому искали ответов не в социализме, а в социальной науке. Тогда уже явилось много исследователей природы общества (Эспинас, {128} Фулье, Фюстель дс Куланж, {129} Лебон, {130} Тард {131}), и они казались стоящими на более верной почве. У всех у них была та точка зрения, что общество есть создание не материальных условий, а психологических, которых источник заключался в человеке, личности. Но у них слагающееся таким общество имеет органический характер, а потому его развитие совершается эволюционно, а не революционно. Мы же не хотели отказаться от революционной идеи, хотя и не могли доискаться ясного ее смысла и содержания. Но мы искали этого, искали такой революции, которая создавалась бы не внешними условиями, а силами личности и создавала бы такой строй, при котором самостоятельность и значение личности возрастали бы еще больше. Может быть, тут в нас говорила немножко анархическая идея, но мы ее не принимали и считали явным вздором. Как бы то ни было, мы своей социальной философии не создали, но много интересного переговорили между собой на эту тему. Для меня лично искания кончились тем, что я стал на органическую, эволюционную точку зрения. Русанов же не хотел отрешиться от революционной точки зрения. Таким образом, мы в конце концов разошлись, но это случилось только через несколько лет, которые провели в дружной совместной работе мысли.
Русанов не был членом нашей редакции; их вообще не было, кроме Лаврова и меня. Но он часто участвовал в обсуждении статей и вопросов. Его антимарксистское направление крайне не нравилось Лаврову, но нельзя было не ценить его знаний.
Семья Русановых, особенно с тех пор, как они поселились в нашем доме, была одна из самых дружеских для нас. Виделись мы ежедневно, стоило только опуститься на одну лестницу. Мы вместе работали, вместе болтали, вместе гуляли. Русановы, кажется, совсем не имели знакомств вне эмигрантской среды, так что у нас были все общие знакомые. Исключение составлял один Лодыгин. {132}
Лодыгин был «изобретатель». Люди этой своеобразной специальности в то время не переводились в Париже, начиная с Яблочкова, которого электрические фонари несколько лет освещали всю Европу. У Лодыгина также был фонарь своего изобретения, также очень распространенный и давший ему большой заработок. Но он работал не по одному электричеству. У него были и другие изобретения, также находившие покупателей. Много работал он над каким-то водолазным колоколом на большие глубины; не знаю, получился ли из этого какой-нибудь толк. Одно время, при нас, он очень увлекался изучением магнетических токов человеческого организма. Мы все тоже по его примеру втянулись в опыты над истечением магнетизма из пальцев, но, конечно, наши опыты были несовершенны и грубы. А Лодыгин устраивал для этого и особые приборы, и пробовал действие на эти токи разных металлов, даже золота. Ни до какого толка по этой части он, насколько мне известно, не дошел. Вообще, у господ изобретателей (я их знавал несколько человек) огромные суммы уходят на опыты и пробы без всяких последствий. Впрочем, Лодыгин, во всяком случае, зарабатывал хорошие средства жизни. Политикой он не занимался, но собеседник был веселый и интересный. Он, между прочим, очень ухаживал за мадам Русановой и серьезно ею увлекался, да и она кокетничала с ним до невозможности, и хотя это все имело вид шутки, но доходило до таких границ, за которыми положение мужа становилось неприятным. А впрочем, они оставались до конца в дружеских отношениях.
Когда Русановы жили в нашем доме, у них произошло великое событие, всегда переворачивающее семью вверх дном, — первые роды Натальи Федоровны. Вдобавок роды были трудные. К этому времени ей на помощь приехала из Орла сестра. Навещала их и женщина-врач Крафт, но все-таки, когда наступил момент родов, больная осталась без помощи. Русанова мучилась ужасно. Крафт, бывшая за акушерку, но совершенно не знавшая этого дела, не могла справиться и побежала за врачом в округ. Дело было ночью. Дежурный врач, приятель Крафт, совсем еще молодой и отродясь не принимавший детей у родильниц, очевидно, обладал высшим качеством врача — смелостью. Идя по улице с Крафт, он наскоро вспоминал с ней лекции по акушерству, а пришедши к Русановым, они в особой комнате стали делать из тряпок чучело ребенка и пробовали, сообразно лекциям, как его нужно вынимать. Затем он мужественно приложил эти опыты к практике — и роды Натальи Федоровны окончились с блистательным успехом. Николай Сергеевич, в ужасе от криков жены и от тяжелого хода родов, забежал ко мне на квартиру и просидел вне себя от тревоги все время трагедии... Наконец за ним прибежали с известием, что все кончилось благополучно и новорожденная девочка явилась на свет. Он просиял и потом сказал мне: «Вот что значит, пришел настоящий доктор: сразу поправил дело». Он не знал, что этот «настоящий доктор» не имел понятии о том, как принимать новорождающегося ребенка.
Русановы оба были очень общительные люди. С легальным миром русских в Париже у них не было знакомств, но в эмигрантской среде — очень обширные.
Эмигрантская колония была в это время в Париже очень многочисленна, то есть включала не одну сотню человек, но точное число установить очень трудно, потому что с нею тесно соприкасалось множество студентов и студенток, из которых некоторые были эмигранты, некоторые жили легально. Большая часть эмигрантов и студентов были евреи. Вся эта масса лиц никакой форменной организации не имела, но внутренне была довольно сильно сплочена. Да, сверх того, существовали и учреждения, около которых они сходились. Прежде всего, такую сплачивающую роль имела Русская библиотека. Я не знаю, как было организовано управление ею, никогда не поинтересовался расспросить. Но библиотека была весьма недурна и обслуживалась хорошо. Составилась она уже давно, получивши большие пожертвования книгами, но пополнялась слабо, тоже пожертвованиями. Журналы и газеты присылались бесплатно русскими редакциями. Книги, кажется, не очень растаскивались. Вообще, библиотека была недурна и очень полезна для эмигрантов и студентов. Другим учреждением была русская кухмистерская, содержимая в мое время неким Динером. Это был еврей и, кажется, тоже эмигрант. Не знаю, был ли он полный собственник кухмистерской, потому что получил всякого рола утварь от какого-то поляка, ранее его державшего эту кухмистерскую. Немало способствовали объединению эмигрантско-студенческой массы разные вечеринки, имевшие иногда благотворительные цели, иногда просто увеселительные. Эти вечеринки бывали очень оживленны. На них и танцевали. Помню один музыкальный вечер — концерт какого-то молодого еврейского виртуоза. На благотворительных вечерах главную роль, конечно, играл буфет, в котором торговали барышни, разумеется, неимоверно дравшие за каждый бутерброд или рюмку. Но на благотворительную цель никто не жалел заплатить впятеро. Помню одну штуку, которую я выкинул на таком вечере. Я никогда не был ни пьяницей, ни кутилой, но выпить при случае мог очень много без всякого опьянения. Спирт на меня мало действовал. Вот я и придумал такой способ дать буфету доход. Я собирал компанию в шесть, семь, десять человек и предлагал им какой-нибудь заманчивый тост. Пили коньяк, как наименее вредный при моем плане. Потом я собирал другую компанию и проделывал такую же штуку. В конце концов я выпил четырнадцать рюмок коньяка и, следовательно, сверх них дал буфету доход еще около ста рюмок. Замечу, что после моих четырнадцати рюмок я был, что называется, ни в одном глазу, только развеселился немного.
На танцевальных вечерах обыкновенно отличались поляки, которые всегда усердно их посещали. Они, конечно, отплясывали мазурку, и многие прекрасно. Это различие между русскими и польскими революционерами. Русские большей частью совсем не умели танцевать или, во всяком случае, танцевали прескверно. Поляки, наоборот, все танцевали, и многие очень хорошо. В этом случае они похожи на французов, таких же весельчаков и плясунов.
Поляков-эмигрантов в Париже было тогда множество, гораздо больше, чем русских, несколько поколений, выброшенных за границу за много десятков лет. Многие из них совершенно обжились во Франции, устроились, приняли французское гражданство. Я помню одного, который усвоил даже имя Шарль Эдмон и занимал выгодное и почетное место библиотекаря Сената в Люксембургском дворце. Не знаю его польской фамилии, может быть — Хоецкий. Лавров был знаком с ним, я — нет. Но нам, народовольцам, не было ни цели, ни причины заводить знакомства с массой поляков. У нас среди них были союзниками и официальными друзьями только члены польского общества «Пролетариат». С членами его народовольцы давно были в сношениях и даже совместно вели дела. Я не знаю, где организовался «Пролетариат», но в нем было много воспитанников петербургских высших школ, сжившихся с русскими. Центр же его, по крайней мере при мне, находился в Париже. Русские революционеры не привыкли устраивать центры своих организаций за границей и считали это даже ненормальным. По русским понятиям, центр должен был находиться на месте действия и борьбы, чтобы быть постоянно проникнутым настроением революционной среды и постоянно наблюдать непосредственно, что можно и должно делать в текущих русских условиях. Польская заговорщицкая традиция была издавна совершенно иная. У поляков издавна повелось, чтобы центры организаций находились за границей, и только во время восстания 1863 года Ржонд Народовой и диктаторы пребывали в Польше. У «Пролетариата» центр организации был в мое время в Париже. Несмотря на союзнические отношения, ни мы, ни члены «Пролетариата» не открывали друг другу подробностей своей организации. Поэтому я не знаю официально, кто у них был «начальством». Но несомненно, что главными лицами были Людвиг Варыньский, {133} Мендельсон и Янковская. Крупную роль играли также Дембский и Куницкий. Все они были весьма русифицированы и превосходно говорили по-русски. Варыньский и Куницкий жили по большей части в России: Куницкий в Петербурге, а Варыньский в Царстве Польском. Дел с ними в Париже мы не имели решительно никаких и видались на правах простого знакомства, а пани Янковская даже делала визиты, расфуфыренная и раскрашенная. Только Куницкий в Петербурге жил в тесной связи с русскими кружками и, между прочим, и фал важнейшую роль в убийстве Судейкина.
С Варыньским я познакомился в Женеве. Еще раньше, во времена второго, московского исполнительного комитета, мне говорил много о нем Стефанович, который предлагал мне устроить высший тайный центр всех организаций — то есть социально-демократической, народовольческой и «пролетариатской». От социал-демократов (народников и плехановцев) должен был быть представителем он, от народовольцев — я и от поляков — Варыньский. Этот тайный центр должен был руководить совместно всеми революционными силами. Этот проект я отверг категорически и с некоторым негодованием, потому что каковы бы ни были мои тогдашние товарищи, но надувать их я никак не хотел.
Но справедливость высокой оценки Варыньского, делаемой Стефановичем, я увидел при личном знакомстве. Из всех людей «Пролетариата» это был, конечно, самый крупный и способный. Довольно высокий, стройный, с очень красивым, оживленным лицом, он был необычайно симпатичен, не говоря о том, что был очень умен, прекрасно говорил и отличался добродушной веселостью человека, совершенно не склонного впадать в уныние. Вообще, это был прекрасный польский тип: изящный, отважный, остроумный и дамский кавалер. Революция сама по себе, а пропустить хорошенькую барышню, не ухаживая за ней, тоже было для него невозможно. «Ведь я не могу, я прежде всего поляк, — распинался он при мне перед такой барышней, — я не могу». То есть не может спокойно выдержать себя перед ней. Одно мне не понравилось: отсутствие осторожности. Я как-то увидал его на Plain-Palais и из любопытства долго следил за ним, желая знать, обратит ли он на меня внимание. Но он ничего не заметил. Потом я сказал ему: «Как же вы занимаетесь заговорщицкими делами и не замечаете, что за вами следят». Он небрежно махнул рукой: «Ну, буду я еще в Женеве следить за собой». Но дело в том, что кто привык следить за собой, тот это делает всегда и везде. Вымуштрованный в школе Александра Михайлова, я потом, уже сделавшись легальным, много лет не мог отвыкнуть обращать внимание, кто идет за мной или хоть впереди «делает углы», то есть переходит с одной стороны улицы на другую, чтобы незаметно бросить взгляд назад. А если человек не следит за собой в Женеве, то, значит, будет очень плохо следить и в Варшаве. И Варыньский действительно очень скоро погиб, именно по неосторожности.
Он скоро уехал в Польшу и просуществовал там весьма недолго. Зашел он как-то в «каверню», в которых варшавяне распивают кофе и шоколад с разными пирожками. Только что он уселся, продавщица, подавая ему кофе, шепнула: «Уходите скорее, за вами следят». Варыньский вскочил, но на улице попал прямо в объятия полицейских сыщиков. Не знаю его дальнейшей судьбы. Кажется, был сослан в Сибирь. За границей он оставил жену, конечно без всяких средств. Ей помогала организация «Пролетариат», но довольно скупо, так что Варыньская была недовольна, а пролетариатцы ворчали, что приходится тратить деньги ни на что. Она была очень красива, но деловой ценности не имела. Помогали только в память мужа.
О госпоже Янковской говорили, что она в России проявляла энергическую деятельность. В Париже я не видал в ней ничего, кроме светской дамы. Она когда-то, вероятно, была хороша собой, но уже стала увядать и держалась только искусственными средствами, между прочим, страшно белилась и румянилась. Одевалась с величайшим вкусом и почти роскошно. Манеры — изысканные, привычное кокетство. Вообще, это была светская дама, которая могла еще иметь романы и имела их. Сначала она была в связи с каким-то богатым англичанином. Потом Мендельсон «отбил» ее у англичанина. Говорят, что Янковская имела свои значительные средства, в России у нее были поместья.
Мендельсон (пан Мендель, как его называли товарищи) был племянник известного берлинского банкира того же имени, и отец его был тоже богат. Бисмарк однажды сострил, что эмигрант Мендельсон ни по имени, ни по общественному положению не напоминает ничего ни немецкого, ни пролетарского. Благодаря деньгам он спасся от ссылки. Арестованный в Берлине, он был выслан в Россию, но подкупил своих жандармов, и они оставили его только на границе России. Когда они удалились, Мендельсон повернул обратно в Германию и благополучно уехал во Францию. Говорят, что ему высылали от родных много денег, но жил он без всякой роскоши. Квартира была небольшая. Книг у него было много, но стояли они на простых, даже некрашеных деревянных полках. Только одевался он весьма щеголевато. Говорят, он много помогал деньгами своей организации. Плотный, полный, румяный, он имел вид веселого, добродушного еврея и был весьма неглуп, хотя никаких особенных способностей я в нем тоже не замечал.
Дембский вырос в общении с русскими революционерами и сам говорил: «Ну, я совсем помоскалился». Действительно, его нельзя было бы отличить от русского. Он был по-русски серьезен, и в нем совсем не проявлялось типичной польской разудалости, балагурства, кавалерства. Даже и к динамиту он пристрастился совсем по-русски, из-за чего и погиб. Через год или два после нашего знакомства он начал изготовлять в Швейцарии динамитные бомбы и ездил в горы пробовать их действие. По несчастью, он поскользнулся, бомба взорвалась и оторвала у него обе руки. Не знаю, что с ним было потом и надолго ли он пережил эту катастрофу.
По старинной привычке польских революционеров «Пролетариат», в отличие от мае, очень заботился о своей рекламе перед европейским общественным мнением и о проявлении своей солидарности с европейскими революционерами. Если гам у них умирал кто-нибудь — «Пролетариат» подносил ненок; если собирались пожертвовать в пользу кого-нибудь — он вносил и свою лепту. Правда, он был без сравнения богаче нас, но мы бы не стали заниматься этими церемониями революционной светскости, если бы даже имели деньги.
Я уже сказал, что никаких практических дел мы в Париже с «Пролетариатом» не имели, и единственным подобием дела была выработка взаимоотношений между нашими организациями. Мысль о соглашении по этому предмету возникала еще в России. В идее предполагалось, что мы ведем одно и то же дело, боремся с одним и тем же врагом. С другой стороны, ни у народовольцев, ни у пролетариатцев, предполагалось в идее, нет националистических тенденций. Нам все равно — что поляки, что русские, но совершенно слиться нам нельзя, потому что «Пролетариат» действует среди поляков, мы же — среди русских. Среда действия у нас и у них различна. Поэтому мы могли соединиться только в некоторый федеративный союз, и в этом отношении требовалось установить известные отношения между нами. Об этом-то мы и толковали. Не помню, кто был тут с польской стороны и кто с нашей. В это время народовольцев в Париже набралось уже довольно мною. С нашей стороны были, во всяком случае, я, может быть, Бах, Лопатин, может быть, Салова. Переговоры эти были довольно курьезны в том отношении, что и мы, и поляки были в действительности большими патриотами и каждая сторона старалась эксплуатировать интернациональную идею в свою пользу. Нужно было определить, в каких местностях должен действовать «Пролетариат» и в каких «Народная воля», и вот поднялась торговля за города и территории. Поляки сначала хотели захватить себе Киев на том основании, что у них там есть кружки — а не все ли равно, кто будет действовать? Но мы отвечали, что и у нас есть кружки и что в русском центре, как Киев, поляки не могут развить такой сильной организации, как мы. Таким образом, Киева не отдали, да и по поводу каждого другого города торговались с тем же упорством, хотя мы тогда, в сущности, нигде ничего не имели, кроме отдельных знакомств. Не могли отстоять только Белостока, где у нас не было ничего, а у «Пролетариата» находился сильный рабочий кружок в сто человек. По распределении территории решили, что обе стороны могут основывать кружки где угодно, но эти кружки на территории «Пролетариата» должны подчиняться ему, а на нашей территории — нам. Затем установили, что «Пролетариат» нигде не может предпринимать крупных террористических актов или попыток восстания без разрешения «Народной воли». Таким образом, наша организация все-таки получила некоторое первенство.
Впрочем, все эти соглашения практически не имели никаких последствий, потому что у нас, правду сказать, нигде ничего не делалось, а у «Пролетариата», кажется, очень немногим больше нашего.
XIV
Среди парижских эмигрантов я встретил несколько старых друзей, уже не принимавших участия в революционной деятельности. Это были Павловский, Цакни, Антов, Аркадакский, Леонид Попов-Павловский Исаак Яковлевич [41] был моим сотоварищем по дому предварительного заключения и судился, как я, по «делу 193-х». Нас сближало и то, что мы оба южане: я керченский гимназист, а он таганрогский.
На суде он отделался очень легко: ему было вменено в наказание время тюремного заключения. После этого наши пути разошлись.
В тюрьме мы долго были членами одного «клуба», то есть находились в постоянных сношениях. Я бросился в омут политики, он ничего больше не делал и скоро уехал за границу, где стал корреспондентом «Нового времени». Впервые после тюрьмы мы свиделись за границей, и не в Париже, а в Морне. Павловский, живший тогда с некоей Лазаревой (он вечно путался с женщинами), приехал в 1882 году в Савойю и поселился в соседней с нами деревне Моннетье. Здесь-то мы и увиделись. Мы бывали у него, он бывал у нас. Но компания у него была особая. С эмигрантами он не знался, кроме меня. Но около него ютились его знакомые, из которых я помню только Тестова, [42] брата или вообще родственника известного московского трактирщика Тестова. Это был упитанный и уже страдающий разными недугами отпрыск российского купечества, имевший кое-какие деньжата и доедавший их в бесцельном шлянье за границей. Но в Савойе Павловский был только в качестве туриста. Он за годы эти вообще много путешествовал, между прочим, объездил всю Испанию, а резиденцией его оставался все-таки Париж, где я его и застал. Здесь мы постепенно очень сблизились, и он был чуть ли не единственный русский, с которым я сохранил товарищеские отношения до самого возвращения в Россию. О нем мне еще придется много говорить.
Николай Петрович Цакни был моим товарищем еще с университета, хотя он был студентом не университета, а Петровской академии. Он уже тогда был погружен в политику, впрочем, совершенно невинную: вел пропаганду между студентами и барышнями, распространял разные книги для самообразования [43] и вечно заподозривался в политических преступлениях, которых, в сущности, не совершал. Но жандармерия его несколько раз арестовывала и по нескольку месяцев держала в части, потом выпускала и снова арестовывала. Его аресты были постоянно связаны с арестами Семена Львовича Клячко, пожалуй, единственной личности, которая имела в Москве более серьезные политические замыслы.
Тогда в Петербурге, после разгромов нечаевских времен, впервые стала складываться новая политическая организация — кружок Чайковского. Она имела чисто пропагандистские цели, хотя вела революционную пропаганду между молодежью и рабочими. Тактика этой пропаганды состояла в «самообразовании»: молодежь направляли к самообразованию и для этого распространяли книги, все равно, легальные или нелегальные, как, например, «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, {134} «История революции 1848 года» Вермореля, роман «Эмма», из немецкой революции 1849 года, и т. п., а также разные книги по естествознанию, разумеется антирелигиозные. Чайковцы старались сбивать молодежь в кружки с целями этого самообразования, которое должно было выработать у участников революционное миросозерцание. Клячко был членом кружка чайковцев [44] и был назначен в Москву именно для развития таких кружков. Среди молодежи постарше тогда этому помогали несколько кончающих курс студентов — Лев Федорович Рагозин, Бруни, Шервинский, Фахт, которые на этом и кончили свою революционную деятельность и все вышли мирными медиками и даже профессорами. Но из числа молодежи, выросшей на самообразовании по системе чайковцев, развилось очень много видных революционеров позднейшего времени.
Цакни был товарищем Клячко и главным его помощником, но, в сущности, ни тот ни другой не были революционерами ни по темпераменту, ни даже по убеждениям, и оба очень скоро совсем покинули революцию. Клячко эмигрировал в Вену, сделался там корреспондентом разных газет и в последующем революционном движении не принимал никакого участия. Так же пошла жизнь и Цакни. Я не знаю, когда он уехал за границу, но ни в один из политических процессов он не попал, и когда я с ним в 1887 году встретился в Париже, он точно так же ни в каких революциях не участвовал, а просто жил и тоже корреспондировал в русские газеты, а может быть, и журналы. Среди парижских эмигрантов большинство было таких — люди от революции отставшие, хотя, конечно, ей сочувствующие. Цакни едва ли даже и сочувствовал террору, едва ли сочувствовал и рабочему социализму, а был демократом и радикалом, впрочем, совершенно ничем не способствовавшим развитию демократизма в России. Ему давно надоела всякая политика, и он жил мирным семьянином, в кругу родных.
Я, конечно, встретился с ним по-товарищески, но, по правде сказать, у него было очень скучно. Павловский тоже не был революционером, но имел множество интересов общечеловеческих, научных, художественных. Я помню, когда первый раз пришел к нему в Париже, то мы засиделись целую ночь, немножко в воспоминаниях о бывшей тюремной жизни, а больше всего в живых разговорах обо всем на свете. Он хорошо наблюдал парижскую жизнь, то есть, конечно, не эмигрантскую, а французскую, рассказывал об Испании и Алжире, о политических партиях, о французских деятелях и т. д. С Цакни же не о чем было и слова сказать.
Собственно говоря, это был странный тип. Происхождение свое он вел от греческих пиратов, которые были также патриотами и грабили турецкие корабли во славу освобождения Греции, но, в конце концов, были все-таки прежде всего разбойники. При Екатерине II целая куча этих пиратов, спасаясь от турок, эмигрировала в Россию. Здесь некоторые из них устроились очень хорошо, как, например, Кагони и Цакни. Они поступили на службу, выслужились, и кое-кто из них занимал даже высокие административные посты. Один Цакни был атаманом Кубанского войска. Казалось бы, с такой кровью в жилах Николай Петрович должен бы быть горячим, как вулкан. Он и в наружности сохранил тип предков. Высокий, красавец, брюнет с тонкими, умными чертами лица. Посмотреть на него — так и думалось: вот вспыхнет. Но ничего в нем не вспыхивало. Был он какой-то вялый, расхлябанный, пассивный. Только в одном проявлялось у него горячее чувство — в любви к жене.
Жена его, Зинаида, урожденная Львова, была еврейка, красавица, пылкого темперамента, полная ветхозаветной энергии Израиля. Но симпатичной ее нельзя было назвать. Я ее помню еще по Москве по одному случаю. Дело в том, что они сошлись с Цакни без брака и жили так вольно до тех пор, пока она не оказалась беременной. Семья Львовых очень приличная, и необходимо было повенчаться. Но Зинаида была иудейского вероисповедания и хотя вряд ли верила в Бога, но за свое еврейство держалась крепко. Тем не менее волей-неволей приходилось принимать православие, иначе нельзя было повенчаться. Это ее раздражало до злости. И вот я помню, как она возвратилась с принятия святого крещения. Влетела красная, как будто ей кто-нибудь пощечин надавал, задыхаясь от злобы, не в силах произнести слова. В руках у нее была просфора, которую ей дал священник после принятия причастия. А тут как раз вертелась собака. Зинаида с размаху бросила ей просфору, и собака, конечно, с жадностью ее проглотила. Помню, я и другие товарищи глядели на это с искренним сожалением о новокрещеной.
Да и действительно, не полное ли безобразие гак крестить и так допускать к причастию? Ведь она до того относилась к христианству безразлично, а после такого надругательства над собой, после такого насилия над ее истинными чувствами должна была возненавидеть веру, к которой ее силком присоединили. И это при нетерпимости, которой вообще очень отличалась Зинаида Цакни.
По этой части припоминаю другой случай. Они с мужем жили как-то на даче. Тут же неподалеку жил жандармский офицер с женой, которой предстояло родить. А Зинаида Цакни была по специальности акушерка и даже практикующая. Случилось так, что у жены жандарма роды начались преждевременно. Что делать? Куда обратиться на даче, вдали от всякой помощи? Жандармский офицер послал просить Зинаиду Цакни наведать роженицу. Но упорная Зинаида начисто отказала и не пошла. «Стану я еще жандармят принимать», — сказала она своим друзьям. Жандарм очень оскорбился. «Вот что за люди эти радикалы, — говорил он потом, — никаких человеческих чувств нет». И нужно признать, что у нее этих чувств часто не замечалось.
Однажды очень расплакался ее собственный ребенок. Ей надоело наконец возиться с ним, она ушла в другую комнату и, затворив дверь, чтобы не слышать плача, погрузилась в чтение какой-то книжки. Но дитя постепенно так раскричалось, что прибежала соседка-француженка. Думая, что матери нет дома, она начала ухаживать за ребенком. Потом она стала что-то искать для него и отворила дверь в другую комнату — и вдруг видит, что там сидит сама мамаша за книжкой! Француженка себя не вспомнила от негодования. «Mere denatusee!» (Мать, лишенная материнских чувств) — воскликнула она и удалилась, недоумевая, как может быть на свете такая женщина. Не знаю, чем привязала к себе мужа эта «mere denaturee», но любил он ее беспредельно. Она не долго пожила и умерла при нас. Цакни едва не сошел с ума и долгое время ходил как ошалелый. Он доходил до галлюцинаций. «Знаешь, кого я сейчас встретил? — говорил он брату покойницы. — Зину. Она сегодня прошла по улице мимо меня».
Однако он не умер с горя и с ума не сошел, а года через два женился на одной русской студентке, Гераклиди, тоже по племени гречанке. Впоследствии они, уже после нас, уехали в Россию, где Цакни занял какое-то видное место в земском самоуправлении, кажется, в Херсонской губернии.
Аркадакский тоже был мой старый московский знакомый, когда я еще состоял в кружке Чайковского. Я, собственно, и «распропагандировал» его, что было очень нетрудно, так как он и сам тянулся к пропаганде в народе. Очень простой, среднего ума, но очень хорошего сердца, он не обнаруживал стремления к революции и насилию и только хотел просвещать народ. Не знаю, пристал ли он к каким-нибудь партиям за время моего тюремного сидения. Потом я уже не встречал его в России и как и почему он эмигрировал — не знаю. Но за границей я встретил его с удовольствием и нередко посещал его и жену его — не помню ее имени. Моя жена тоже у них бывала. Это была очень симпатичная парочка. Жили они душа в душу, как два голубя, довольно бедно, но довольные судьбой, детей у них не было, но зато были необыкновенные животные — крупные белые крысы, совершенно ручные, жившие в какой-то коробке. Они их брали в руки, ласкали, кормили. Эти крысы жили в полной дружбе с их кошкой, замечательно умной и очень любившей своих хозяев. Она даже иногда заботилась об их пропитании и воровала где-то для них съедобные продукты. Помню, как-то приволокла им прекрасную, большую рыбу, которую сама не тронула, а притащила в целости к хозяевам.
Аркадакский жил корреспонденциями в русские газеты и, вероятно, получал немного, да и корреспонденции, вероятно, были плоховаты, составлялись по французским газетам. Раз как-то, уже в конце моего пребывания в Париже, я встретил его в омнибусе. Он ехал необычайно самодовольно. «Куда направляетесь?» — спросил я. «В палату депутатов, — отвечал он с важностью. — Надо все-таки лично посмотреть заседание». Может быть, это был чуть не первый вход его в Palais Bourbon.
Впоследствии Аркадакский возвратился в Россию, и я встречал его статьи в журналах. Вероятно, продолжал жить литературным трудом. Но лично я его уже не видел.
Довелось мне встретить в Париже и несколько чайковцев. Самого Николая Васильевича Чайковского я тоже видел, но не в Париже, а в Лондоне. В Париже немножко видел Крапоткина за то краткое время, которое он здесь провел от своего освобождения из тюрьмы до отъезда в Англию. А на постоянном жительстве в Париже был тогда несчастный Леонид Попов. Я его видел очень мало, потому что это было слишком тяжело. В кружке чайковцев я помню его свежим, веселым юношей. Он с золотой медалью кончил курс гимназии, но между товарищами популярен был больше всего своими остротами и шутками. Однажды товарищи торжественно увенчали его венком из ветвей гороха с провозглашением его «шутом гороховым». В кружке он занимался специально пропагандой среди рабочих, которые его очень любили. Дальнейшей судьбы и приключений его не знаю, не знаю и причин его эмигрирования за границу. Встретил его только через десять лет в Париже, но в каком виде! Он совершенно опустился, утратил все способности и постепенно сходил с ума. Помешательство его состояло в мании преследования. Ему всюду мерещились шпионы. Идет по улице и бормочет сам с собой: «Они не отстают от меня, хотят съесть меня, как курчонка».
Однажды он пришел ко мне с таинственным видом и заявил, что хочет говорить со мной по очень важному делу. Я и тогда не сумел бы записать несуразицу, которую он говорил, а уж теперь и подавно: перезабыл. Суть дела состояла вот в чем. «Они», то есть преследующая алая сила — русские и французские шпионы, церемонятся с «важными» эмигрантами, как я, побаиваются их, не смеют трогать слишком нахально. Но мелкую сошку эмиграции, как он, Попов, они преследуют совершенно нахально. Поэтому я должен защитить его. Как защитить? Этого совершенно нельзя было понять, хотя у него была в отношении этого какая-то аргументация, недоступная здравому смыслу. Но он настойчиво просил у меня помощи, как у старого товарища. Разумеется, я, чтобы ободрить его, обещал со своей стороны самую внимательную помощь, и он ушел несколько успокоенный. Через несколько времени он совершенно рехнулся и был посажен в дом умалишенных. Не знаю, чем он кончил.
Совсем иную судьбу имел Давид Антов, тоже мой товарищ, не по кружку, а по «процессу 193-х». Он устроился в книгоиздательстве известного Гашетта и получал хорошее жалованье, которого, конечно, вполне стоил. Это был очень своеобразный человек. Родом он был татарин и по вере магометанин, хотя, пройдя интеллигентскую школу, в конце концов утратил всякую веру. Крепче у него оказалась нравственная выправка, полученная в семье. Его отец, очень уважаемый в своей татарской среде, был в то же время русским патриотом, то есть заботился о том, чтобы сблизить свой народ с Россией и сделать его причастным общерусской культуре. Он состоял на государственной службе и каким-то образом причислен к дворянству. Правительству он оказывал крупные услуги по рассеянию разных недоумений, кажется, в киргизской степи. В нравственном отношении это был человек чрезвычайной чистоты и свои добрые качества передал сыну. Давид Антов, превосходный человек в частной жизни, именно поэтому совсем не годился для политики. Ему органически противны были всякое насилие и всякая ложь. Можно удивляться, как он все-таки был захвачен революционным движением в народ, но участие его было незначительно, так что по «процессу 193-х» ему было вменено в наказание предварительное заключение. Не знаю, почему, очутившись на полной свободе, он не захотел оставаться в России и уехал за границу. Вероятно, политические страсти, все более разгоравшиеся в России, делали для него неприятной жизнь на родине. Осевши во Франции, он нашел себе работу и зажил по своему вкусу — тихо, мирно, в труде и семейных заботах, так как он тут же, в Париже, и женился. По этому случаю ему пришлось переменить веру, чтобы иметь возможность обвенчаться, и сделал он это очень оригинально.
Он отправился сначала к парижскому православному священнику и объяснил, что желает перейти из магометанства в православие. Священник был очень рад и стал было рассказывать о сущности христианской веры, но Давид его моментально разочаровал. Он заявил, что желает быть только зачисленным в православные для возможности жениться, но не верит не только в христианские догматы, но даже в существование Бога и что креститься он тоже не хочет, потому что ему при этом обряде пришлось бы лгать на каждом шагу и словом, и делом. Изумленный священник ответил, что и он тоже честный человек и не может записать в христиане такого ярого атеиста. Давид попробовал счастья у католического священника и от него получил такой же ответ. Он отправился к протестантскому пастору, тот хотя готов был как-нибудь упростить для него крещение, но все-таки не счел возможным зачислять в христиане человека, который даже не притворяется, не молчит, а прямо заявляет, что не верит в Бога. Таким образом, положение Давида оказалось безвыходным. Нужно церковно венчаться, а зачислить его христианином никто не хочет. На выручку ему пришел какой-то знакомый, который посоветовал сходить еще к предстоятелю какой-то американской секты, чрезвычайно снисходительной к верованиям своих членов. Тут наконец его дело устроилось.
Этот сектантский священник, выслушав заявление Антова о его полном неверии, спросил его:
— Да почему же вы думаете, что не верите в Бога? Может быть, вы ошибаетесь?
Давид отвечал, что он нисколько не ошибается, а вполне отчетливо сознает, что не верит в Бога.
— Расскажите мне, пожалуйста, вашу жизнь, — сказал священник, — я хотел бы знать, какие мотивы вообще руководили вашими поступками.
Давид начал рассказывать, а священник переспрашивал подробно и, выслушавши-это длинное повествование, вынес такое решение.
— Ну, — сказал он, — я теперь совершенно убедился, что вы вполне заблуждаетесь, считая себя неверующим. Это ошибка разума, это неумение ваше вникнуть в свою душу. Я вижу, что вы всю жизнь, как немногие, поступали но учению Христа и по тем вдохновениям, какие дает нам Дух Божий. Вы, следовательно, жили во Христе, и я йогу по чистой совести признать вас христианином.
— Ну, — ответил Антов, — я с вами не спорю, не опровергаю ваших рассуждений, а только все же повторяю, что не верю в Бога. Но как же быть с крещением?
— О, в этом отношении я легко могу вас уволить от обрядности и просто заявляю вам, что вы крещаетесь во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Так-то Давид Актов стал христианином и в качестве протестанта какой-то секты мог обвенчаться со своей православной невестой.
Он мало знался с эмигрантами и уже совсем не входил в их дела. Я тоже виделся с ним очень редко и, кажется, никогда не был у него. Жены его, по крайней мере, совсем не помню. Знаю только, что дети у них воспитывались в любви к России и были настроены очень патриотически. Помню довольно курьезный случай Однажды в школе (его дочь училась, конечно, во французской школе) учащимся было задано сочинение на тему «Мое отечество». Девочка написала по этому случаю очерк «Россия», в котором, между прочим, обрисовала в самых теплых красках личность «своего Императора». Учитель был очень удивлен таким исполнением темы и сказал, что нужно было обрисовать Францию и республику. Но девочка горячо заспорила, утверждая, что ее отечество не Франция, а Россия и что в ее отечестве нет республики, а есть великий самодержавный Царь. Правда, что в эти времена ореол России чуть не с каждым месяцем сиял все ярче по всей Европе. В самой Франции тогда появилась своеобразная переделка «Марсельезы»:
Buvons, enfant de la Patrie, Pour la russie et pour le Tzar, Pour nous contre la tirranie Alexandre et lesc rampant... [45]Но тем не менее патриотическое настроение девочки Антова вряд ли могло возникнуть без соответственных влияний со стороны родителей.
Не знаю, возвратился ли Антов в Россию хотя бы из-за воспитания детей, бросивши прекрасное место службы у Гашетта, где его очень ценили. По моем возвращении на родину я уже о нем ничего не слыхал.
С Крапоткиным у меня было недолгое свидание. Видел его, кажется, раза два. Сначала мы обрадовались друг другу. Ведь когда-то, в кружке Чайковского, мы действовали об руку и принадлежали к одной «фракции», подавая одинаковые голосования во всех решениях кружка. Но я никогда не был анархистом и теперь, встретившись с ним через много лет, надеялся выяснить себе от него, как анархисты представляют себе строение общества, в котором они уничтожали всякую организацию. Но разговор с Крапоткиным совершенно разочаровал меня. Он мне рисовал какие-то бредни сумасшедшего. Пусть люди организуются в свободные кружки и живут и работают как вздумают. Я говорил, что ведь они могут притеснять меня, захватывать мою землю, мои орудия труда. Как же мне себя защитить и обеспечить? «Соединяйся со своими единомышленниками и друзьями в один кружок, и он тебя защитит...» «Но, — возражал я, — я вовсе не хочу драться, не хочу никого обижать, не хочу и защищаться, а желаю просто жить мирно». Он сердился на это возражение: «Не хочешь защищаться, так и не защищайся, тебе предоставляется полная свобода жить как желаешь». Вообще, он производил на меня такое впечатление, что этот анархизм у него просто «пункт помешательства». Во всем остальном это человек умный и весьма способный. Но как дело коснется анархизма, тут уже ни ум, ни способности его не действуют. Он не рассуждает, ничего не может ни объяснить, ни защитить и потому именно сердится, когда к нему пристают с расспросами. Ему субъективно его химера кажется такой прекрасной, такой иеной, такой аксиомой, что и доказывать нечего. А возражения указывают на неосуществимость этой химеры, и защитить ее никакими доказательствами нельзя. Вот он и сердится за свою святыню и даже, может быть, подозревает, что противник нарочно прикидывается не понимающим такой простой вещи. Говорят, сумасшедшие всегда сердятся, когда их понуждают объяснять свой «пунктик». Такое впечатление произвел на меня и Крапоткин, во всех других отношениях умный и проницательный.
Я с ним больше уже не встречался.
Среди эмигрантов тогда, кажется, совсем не было анархистов, кроме еще Н. В. Чайковского. Но у Чайковского была все-таки своя теория природной любвеобильности человека, а у Крапоткина анархизм висел совсем на воздухе.
В Париже я встречал еще одного анархиста: это был Федершер, приятель Френкеля, казавшийся очень неглупым и, по словам Френкеля, очень хороший человек. Он и на меня производил симпатичное впечатление. Молодой, худощавый, вечно молчаливый и самоуглубленный, какой-то печальный, нерадостный, он не входил в подробные разговоры о своих идеалах, ограничиваясь простым заявлением: «Я анархист». Что касается французских анархистов, я не видел из них ни одного человека, кроме разве ученого Эли Реклю (брата Элизе Реклю). Это был, по-видимому, человек весьма кроткий и в отношении идеалов чрезвычайный фантазер. Он ждал возможности эры анархизма от успехов науки, которая откроет способы давать такое плодородие растениям, что, засеяв у себя в комнате несколько цветочных горшков пшеницей, горохом и т. д., каждый будет собирать с них урожай, достаточный для пропитания человека.
XV
Первые годы пребывания в Париже я был очень занят разнородными «делами», так как и заведение новых знакомств имело целью не препровождение времени, а будущие потребности той организации, которую мы имели в виду отправить в Россию по очищении почвы от разведенной Дегаевым грязи. Собственно говоря, это была одна фантазия, потому что и грязь развелась не от одного Дегаева, а от всей совокупности новых условий политической жизни в России. Да и сама суть дела состояла не в какой-либо нравственной грязи, а в том, что песенка народовольчества была спета. По всему настроению страны, по соотношению политических сил нечего было и думать о каком-либо перевороте, захвате власти и т. п. В конце царствования Александра II можно было иметь такую мечту, которая могла привлекать к себе умы и сердца. При Александре III эта мечта становилась пустой фантазией, в которую ни один умный человек уже не мог поверить. Таким образом, и мы, собираясь восстановить народовольческую организацию, думали о совершенном вздоре. И конечно, я, охваченный сомнениями уже до эмигрирования, мог бы, должен бы понять это скорее, чем кто-нибудь другой. Но обстоятельства сильнее человека. Я думал отдалиться от политики и заняться пересмотром своего политическо-общественного миросозерцания. Но раз меня не допустили обстоятельства — сначала планы Николадзе, а потом страшная измена Дегаева, — раз я был снова, насильственно, брошен в политику, приходилось работать по плану, указанному этими обстоятельствами. А когда работаешь над каким-нибудь делом, неизбежно в него втягиваешься, заставляешь себя думать только о его успехе, отбрасываешь от себя критику, по существу, отмахиваешься от нее. Такова была и моя участь.
Итак, я работал с усердием, и во мне воскресали те отпрыски революционной веры, которые совсем было увядали в 1881–1882 годах. В некоторое оправдание себе скажу, что другие, и очень крупные, люди гак и до конца жизни не имели силы отказаться от служения идее, ложность которой прозревали и которую совершенно забраковали бы, если бы у них хватило мужества вырваться из гипноза своего прошлого. Я же все-таки в конце концов нашел силу это сделать.
Но в первые годы парижской жизни я снова погрузился в революцию, от которой раньше чуть было не отпал. При этом я стоял на прежней, народовольческой точке зрения. Я раньше большинства наших интеллигентов познакомился с доктриной К. Маркса, которая помогла Плеханову найти единственное живое слово революции, какое тогда было возможно. Но я никогда не соглашался с этой доктриной, никогда не усваивал коммунистического идеала. Поэтому для меня даже логически не было иного исхода, как оставаться народовольцем-якобинцем или... совсем отбросить идею революции. В конце концов я и пришел к этому последнему исходу, но, пока не назрел во мне такой глубокий разрыв с собственным прошлым, я оставался народовольцем.
Дела на этой почве была бездна. Один «Вестник „Народной воли“» брал очень много времени. Искание и подготовка революционных сил — еще больше. Сверх того, я все-таки не забывал основной цели своего прибытия за границу — очень много учился, читал, работал даже в Национальной библиотеке, и по мере сил изучал французскую жизнь.
А между тем время шло, приблизилась и развязка дегаевской трагедии. Она наконец и наступила 16 декабря 1883 года. Дегаев очень затянул в исполнении своего обязательства убить Судейкина, и с марта 1883 года прошло целых восемь месяцев, прежде чем он его исполнил. Об этой истории имеется немало воспоминаний, которыми воспользовался Глинский в своих исследованиях о нашей революции. Писала об этом А. Корба {135} (Былое. 1902. № 4), писала какая-то г-жа О. («Нераскрытое дело. Из воспоминаний о Судейкине» в историческом сборнике «Наша страна». № 1), писала сестра Дегаева Наталия Маклецова (Былое. 1906. Кн. VIII). Эти воспоминания я читал не в подлиннике, а у Глинского, в статье «Эпоха мира и успокоения» (Исторический вестник. 1911. № 10). В них, конечно, много интересного, но много и неточностей. Анна Павловна Корба особенно грешит в этом отношении: очевидно, она знает дело из десятых рук. Маклецова пишет со слов брата, который иногда открывал ей свою душу больше, чем кому другому, а иногда прямо врал. Глинский пользуется и официальными документами: из процесса убийц Судейкина — Стародворского {136} и Конашевича. {137} Но оба они держали себя честно, то есть старались ничего не открыть следователям, и, когда стало уже невозможно отпираться, рассказали все только о себе, отказавшись отвечать на вопросы, способные впутать других пособников. Таким образом, хотя сцена убийства на суде раскрыта в мельчайших подробностях, но подготовка этой кровавой расправы осталась в тумане.
Я писал в «Вестнике „Народной воли“» очень подробно о Судейкине, Дегаеве, их отношениях и о самом убийстве. Тогда я имел подробнейшие сведения обо всех этих делах, и в настоящее время, по прошествии сорока лет, разумеется, многое уже позабыл. Проще всего было бы переписать теперь статьи из «Вестника „Народной воли“», но на это не стоит тратить места, и я расскажу лишь слегка свои воспоминания, особенно о том, чего нет в «Вестнике». Наибольшие подробности мне передавали сам Дегаев и Куницкий, которого участие в подготовке убийства осталось, по-видимому, малоизвестным — вероятно, по системе умолчания Стародворского.
Дегаев целых восемь месяцев откладывал расправу с Судейкиным. Некоторое время, необходимое для удаления за границу лиц особенно скомпрометированных, он, конечно, должен был щадить его. Но еще больше затягивалось у него дело, думаю, потому, что он колебался... Не то чтобы он хотел совсем увильнуть — это было бы невозможно. Но он был по темпераменту совсем не террорист, он даже не был храбрым, а убийство такого человека, как Судейкин, было дело нелегкое и весьма рискованное. Вот Дегаев и откладывал под разными предлогами и тянул время. Такие предлоги перед собственным сознанием (не хочу употребить здесь слово «совесть») ему давало и необузданное, беспредельно бесчестное честолюбие Судейкина.
Инспектор охраны Георгий Порфирьевич Судейкин, выскочивший в люди с низших полицейских должностей, человек самого поверхностного образования, без всяких великих стремлений, без всяких идеалов, мнил себя великим гением и обладал ненасытимым честолюбием. Он жаждал беспредельной власти, хотя не сумел бы и сам сказать, на что ему власть, что он бы с нею сделал великого и полезного; он хотел власти для собственного удовлетворения, собственного величия. Между тем, хотя начальство весьма ценило его сыскные таланты и поставило его достаточно высоко (инспектором охраны), но не обнаруживало никаких намерений выводить его на более широкое поприще. Он мечтал добиться доступа к Императору, надеясь покорить его. Но граф Толстой, достигший влиятельнейшего положения, конечно, и не думал допускать инспектора охраны к Царю, без сомнения, не потому, что боялся его влияния на Императора, а просто потому, что на это не было никаких оснований. Граф Толстой был истинный государственный человек и поддерживал все приводы государственной машины на свойственном им месте, не допуская их перепутаться между собою. Неразвитый в государственном смысле Судейкин не мог понимать этого, воображал, будто бы министр внутренних дел действует именно лично против него, и за это возненавидел его всеми силами души. Без всяких принципов, без всякой чести, совершенно не разбирая средств действия, он — по крайней мере в мечтах — задумывал такой план. Придравшись к чему-нибудь, он должен был выйти в отставку, а Дегаев, с помощью революционеров и при подготовленных Судейкиным средствах, должен был убить Толстого и совершить еще несколько террористических убийств. По мечтаниям Судейкина, это должно было навести ужас на Императора и правительство. Они должны были вспомнить о Судейкине, призвать его. Он же запросит с них настоящую цену — министра внутренних дел, а добившись этого, сумеет сделаться диктатором, забрать в свои руки и Царя, и все правительство. Тогда он и Дегаеву даст какое-либо выдающееся место при себе, и будут они вдвоем владыками России. Эту операцию предполагалось начать после коронации.
Все эти планы Судейкина, я знаю, конечно, только от Дегаева. Во всей полноте он их рассказал уже после убийства. А до убийства сообщил только, что при помощи Судейкина может убить Толстого и еще какое-либо высокопоставленное лицо, а потом уже покончить и с Судейкиным. Не помню, через кого он сообщил эти планы. Кажется, через жену, которую выслал за границу (кажется, с братом Володей) и которую мы отправили в Лондон, не желая иметь над душой, так сказать, вернопреданную дегаевскую шпионку. Я ему все время не верил... Кстати сказать, Маклецова пишет, будто бы Дегаева каждый день обедала у меня. Это вздор. Может быть, когда-нибудь я и накормил ее, но вообще она у нас не обедала. В этом для нее не было надобности, а мне было очень важно, чтобы она поменьше шлялась ко мне. Что касается новых планов Дегаева, то я из них увидел только, что он оттягивает дело. Сверх того, убивать графа Толстого и каких бы то ни было высокопоставленных лиц не было ни малейшей надобности. Поэтому я известил Дегаева, чтобы он оставил в стороне все эти планы и как можно скорее кончал с Судейкиным.
Нет сомнения, что мой ответ ускорил его действия. Но на него повлияло и другое обстоятельство. Петербургский кружок народовольцев, в числе которых состоял и Куницкий, стал сильно заподозривать Дегаева и наконец потребовал у него разъяснения его действий. Дегаев, припертый к стене, сознался им в том, что сделался агентом Судейкина, но сказал также, что по поручению заграничных членов комитета должен убить его. Тогда Куницкий заявил ему то же самое, что я, то есть что если так, то нечего тянуть дело, а нужно кончать его немедленно. Дегаеву пришлось волей-неволей оставить всякие дальнейшие оттяжки. По словам Дегаева, а также и по показаниям Стародворского и Конашевича, этих последних пригласил для совершения убийства именно он. По моим сведениям, это неверно. Стародворского и Конашевича пригласил Куницкий, и после этого Дегаев уже не мог отговариваться тем, что у него нет помощников. Если Конашевич и Стародворский указали на суде на Дегаева, то это, вероятно, для того, чтобы не запутывать в дело Куницкого, который в это время находился на свободе. Я, по правде сказать, не знаю никаких подробностей о пособничестве убийству Германа Лопатина, находившегося тогда в Петербурге. Какое-то пособничество было, но какое — не знаю. Вероятно, Герман Лопатин предпочел ничего об этом не разглашать, хотя бы даже и мне: ведь я до тех пор не был с ним даже и знаком. Но что касается Куницкого, то он все время стоял, как говорится, с ножом у горла над Дегаевым. Он не имел ни искры доверия к нему. Но Дегаев все-таки пытался оттягивать. Он даже предлагал подстеречь Судейкина в каком-то парке, тогда как самое простое место представляла его собственная квартира на Невском проспекте (дом 91, квартира 13), где он жил под фальшивой фамилией Яблонского. На этой квартире его часто навещал Судейкин, иногда даже брал ее, так сказать, напрокат для своих любовных похождений, и тогда, конечно, хозяин должен был куда-нибудь удаляться. Однажды, возвратясь на квартиру после такой уступки ее своему принципалу, Дегаев нашел на полу розовый бантик и лукаво показал его Судей-кину. Тот только рассмеялся. Дегаев всегда мог пригласить к себе Судейкина под предлогом какого-нибудь дела, так что эта квартира была наилучшей ловушкой. Но он, по-видимому, все питал надежду, нельзя ли устроить убийство так, чтобы самому остаться в стороне. Тем не менее пришлось уступить очевидности.
Местом трагедии была назначена его квартира. Дегаев должен был пригласить к себе Судейкина, а Стародворский и Конашевич должны были спрятаться в другой комнате и в кухне. Оружием для себя они выбрали железные ломы с обрубленными концами. Конечно, для такого страшного оружия нужно было иметь большую силу и стальные нервы... Когда все было готово, Дегаев все-таки раз отсрочил катастрофу. Он сказал обоим сотоварищам, чтобы они уходили, потому что уже поздно и Судейкин, очевидно, не придет. Они ушли, а Судейкин явился после их ухода... Стародворский и Конашевич очевидно не верили Дегаеву и сговорились, что в другой раз они не уйдут, несмотря на его приглашение... Наступил этот второй раз. Дегаеву было, по-видимому, совестно перед товарищами, и на этот раз он решил принять личное участие в убийстве. Он должен был выстрелить в Судейкина, а остальные двое выскочить на выстрел и прикончить свою жертву ломами. 16 декабря к вечеру явился Судейкин, но не один, а со своим подчиненным и родственником Судовским. Это было неожиданное и важное осложнение. Однако оно не остановило хода событий. Судейкин, сбросив пальто, быстро вошел в комнату, а Судовский еще снимал шубу в передней. После двух-трех слов разговора Дегаев выстрелил в Судейкина сзади. Стародворский выскочил в комнату, а Конашевич бросился в переднюю. Началась отвратительная бойня. Конашевич бил ломом Судовского, которого сразу поверг на пол. Удар Стародворского по Судейкину пришелся вкось. Судейкин бросился в переднюю, где дверь была заперта при входе гостей, и потому он вскочил в ватерклозет, где старался затвориться, но преследовавший его Стародворский бил его ломом. Судейкин снова выскочил в переднюю, но страшный удар лома тотчас свалил его, полумертвого, на пол. Стародворский, однако, продолжат молотить его, пока убийцы не убедились, что оба размозженных врага мертвы. В отношении Судовского они ошиблись: он потом отжил. Но Судейкин был мертв. Конечно, они его и били гораздо старательнее, чем Судовского.
Что касается Дегаева, то он во время этой бойни выскочил на лестницу и удрал, даже не затворивши за собой двери, и прямо отправился на Варшавский вокзал.
Оба же его товарища, почистившись от крови и пыли, тоже удалились незамеченными и были арестованы только через несколько месяцев, причем полиция первое время даже и не знала, что они убийцы знаменитого гения сыска.
Дегаев немедленно уехал за границу. Но относительно его пути мои сведения снова расходятся с тем, что я читал в других воспоминаниях. По-моему, его вывез Куницкий. Не знаю, может быть, они переехали границу и сухопутно, но остальную часть пути совершили на пароходе. Куницкий сопровождал Дегаева до самого Парижа и — говорил он мне — не расставался ни на минуту с революционером, чтобы застрелить своего спутника при малейшем признаке измены. Он продолжал не верить его искренности. А конечно, можно было бы себе представить какую-нибудь штуку со стороны Дегаева. Оба они тогда думали, что убиты и Судейкин, и Судовский. Следовательно, свидетелей участия Дегаева в убийстве не было, и он легко мог повернуть дело так, что убийство совершено не им, а Конашевичем и Стародворским, мог выдать и их, и еще кого-нибудь из пособников... Уж не знаю, а только Куницкий считал возможной новую измену Дегаева.
Как бы го ни было, Дегаев благополучно прибыл в Париж, исполнив принятое на себя восемь месяцев назад обязательство. Должен сказать, что он держал себя вполне прилично, как человек, совершивший преступление перед партией и хотя по возможности его искупивший, но не забывающий своей вины. Он сказал, что теперь отдает себя на суд партии и готов подчиниться всякому ее решению. Если постановят — он готов застрелиться. Если постановят — будет работать.
Само собой, он дал подробный отчет о том, что происходило в полицейском и революционном мире, о Судейкине, о Скандракове (начальник Московской охраны), о всем известном ему шпионском персонале и т. д. В отношении шпионов его сведения оказались не очень обильные, и немудрено, потому что он с ними почти не имел дела. Скандраков, по его словам, как руководитель охранной полиции был не ниже Судейкина, но человек гораздо более порядочный, без судейкинского шарлатанства и безумного честолюбия. Скажу здесь мимоходом, что Скандраков вскоре после дегаевской истории вышел в отставку и удалился куда-то в Западный край, где у него было имение. Там он впоследствии занимал какую-то земскую должность — не то по выборам, не то по назначению, но сношений с охраной не прерывал и внимательно следил за революционной деятельностью. Его мнения весьма ценились охранной полицией, и его даже вызывали для совещаний. Кажется, он не одобрял провокаторской системы, привившейся со времен Судейкина в русской политической полиции. Не знаю, как кончилась его жизнь (и кончилась ли), но он еще жил и действовал во времена редакторства Грингмута, который с ним был знаком и получал от него сведения о ходе революционной деятельности. Мне с ним ни разу не пришлось столкнуться.
Пребывание Дегаева в Париже было очень непродолжительно. Здесь трудно было сохранить его присутствие в тайне и нельзя было бы поручиться, что французское правительство его не выдаст. Поэтому когда Дегаев был опрошен во всех подробностях, мы его отправили в Лондон, куда обещали сообщить ему, какой приговор произнесет над ним партийный суд. В это время в Лондоне жили Н. В. Чайковский и один его приятель, которого фамилию я, к сожалению, не могу вспомнить. Им-то, и особенно этому приятелю, мы поручили позаботиться о Дегаеве. Он нуждался в разнородной помощи, так как не только не знал Лондона, но даже и английского языка.
Участь Дегаева у нас была почти предрешена, но все-таки мы собрались для окончательного рассмотрения этого вопроса и формулировки решения, сделанного от имени исполнительного комитета. В этом собрании участвовали, помнится, все наши народовольцы, то есть человек пять-шесть. Лаврова, конечно, не было. Не помню хорошо, был ли Герман Лопатин, приехавший почти одновременно с Дегаевым. Кажется, был. Не помню также, был ли Бах. Мы подробно перебрали все деяния Дегаева и вопрос о том, какие отношения возможны к нему теперь. Дело было совершенно ясно. Спорить было не о чем. Резолюцию постановили такую:
1. Дегаев избавляется от смертной казни, и исполнительный комитет объявляет революционерам всех партий, что берет жизнь Дегаева под свою защиту и никому не позволит безнаказанно его убить.
2. Дегаев, однако, объявляется недостойным никакой политической деятельности и обязан от нее безусловно отказаться, удалившись в жизнь частную. Он не смеет вступить впредь ни в какие политические кружки, и никакие кружки каких бы то ни было партий не должны его принимать.
3. Дегаев должен удалиться с Европейского материка и переселиться в Америку.
4. Исполнительный комитет берет на себя обязанность помочь Дегаеву устроиться в новом месте его жительства.
Я излагаю это решение на память, не текстуально, а передаю лишь смысл его содержания. Приговор этот был, конечно, строг, но справедлив. Никакой другой резолюции нельзя было вынести. Но должен сознаться, что мы весьма недостаточно исполнили 4-й пункт приговора. Хотя мы и помогли Дегаеву, но по своей бедности могли дать ему очень немного.
Это решение партии сообщил Дегаеву я, поехавши специально для этого в Лондон. Он принял мое сообщение с видимой покорностью. Но мне кажется, что в глубине души он находил осуждение на политическую смерть слишком жестоким. Это проявилось через несколько времени в письме, которое он мне прислал, находясь еще в Лондоне. Он жаловался на свое тяжелое нравственное положение и переходил на оправдание себя: он сознает, что смерть Судейкина составляет очень недостаточную компенсацию тех опустошений, которые он произвел в партии. Но он ли виноват, что не мог сделать ничего более грандиозного? Тут был, конечно, намек на его предложение устроить при помощи Судейкина убийство Толстого и других высокопоставленных лиц. Тон письма произвел на меня очень неприятное впечатление. Этот человек никак не мог понять, что самое страшное опустошение, им произведенное, состояло в подрыве нравственности, порядочности, честности, верности слову и т. д. и что только самое суровое осуждение может до некоторой степени исправить последствия этого зла. Я ему написал, что он должен теперь думать не о грандиозном, а о нравственно высоком и постараться дать в себе образчик его.
На это я не получил ответа, и Дегаев на много лет совершенно исчез с моего горизонта. Но около 1910 года в «Новом времени» появились корреспонденции из Америки за подписью «Филдс». Я в это время издавал «Московские ведомости» и вот получаю однажды от этого Филдса статью и предложение сотрудничества. Я ответил, что статья мне нравится, но что я желаю прежде всего знать, кто такой г-н Филдс, не эмигрант ли и если да, то по какой причине. Он ответил, что настоящая его фамилия Полевой, а Филдс — только перевод фамилии, что он хотя эмигрант, но давно осел в Соединенных Штатах, имеет очень выгодные занятия, в литературном заработке не нуждается, а желает только делиться с родиной своими наблюдениями Америки. Так он прислал несколько корреспонденций, потом перестал. Прошло еще года полтора, и некто Ментиков, полицейский агент, сотрудник некоторых газет, опубликовал, что Филдс-Полевой не кто иной, как известный Дегаев. Прошло еще несколько лет, и в иностранных газетах было сообщение, что в Америке какие-то анархисты убили Дегаева-Полевого. Я так и считал, что этим окончилась бурная жизнь его. Но Глинский в статье «Эпоха мира и успокоения» утверждает — не знаю, по каким источникам, — что Дегаев обосновался в Австралии, занял там университетскую кафедру и пользовался очень хорошей репутацией. «Скончался он, — пишет Глинский, — лишь недавно, всего года 3–4 назад (значит, около 1907–1908 годов), и только лишь после его смерти стало известно, кто такой был австралийский ученый».
Что думать об этих противоречиях? Разве, может быть, одно из известий касается Сергея Дегаева, а другое — Владимира Дегаева? Кстати сказать, я и слыхал, что злополучный Володя был в Англии сослан (под чужой фамилией) за какое-то преступление.
Так или иначе, ясно, что С. Дегаев умер и, видимо, по обеим версиям, очистил свою жизнь — вероятно, и душу свою — от былой грязи. Сердечно этого желаю.
В мое миросозерцание он внес в свое время очень ценный вклад. Он дал мне живой, истерзавший меня образчик того страшного нравственного и даже умственного принижения, к которому приводят революционно-террористические заговоры. И прежде я подмечал это, но Дегаев демонстрировал это в истинно ужасающей наглядности. Мое отвращение к этой форме революции доведено было С. Дегаевым до полной сознательности и последней степени интенсивности.
Теперь, покончив с историей Дегаева, я хочу рассказать о моей поездке в Лондон. Хотя я ездил из-за Дегаева, но уже не буду упоминать о нем, а стану говорить только о путевых впечатлениях.
XVI
В те времена я недурно читал по-английски, но с произношением слов не мог справиться. Готовясь ехать в Лондон, я старался заучить произношение хоть необходимейших фраз и усердно трудился над этим под руководством Русанова, который, впрочем, и сам говорил очень плохо. Вообще, среди наших парижских знакомых ни один не имел английского произношения. Лавров прекрасно знал язык, но говорил отвратительно. Из моих стараний тоже ничего не вышло, кроме разве того, что я проникся некоторой, хотя и вполне ошибочной, уверенностью, что сумею как-нибудь объясниться с англичанами. Разумеется, я прихватил с собой английский словарь.
Железнодорожный путь до Кале довольно скучен. Ровная, гладкая равнина, совсем не бросающиеся в глаза поселки. Но расстояние так коротко, что и нормандские луга не успеют надоесть. Города тоже не пришлось посмотреть. Это было время прилива, и со станции маленькая городская ветка железной дороги доставила нас прямо на место погрузки на берег. Здесь было поинтереснее. Море, бледное и мутное, прихлынуло почти прямо к высокому берегу, оставляя свободной лишь довольно узкую полосу сырого песка, которая была обрамлена не пристанями в строгом смысле слова, а каким-то деревянным помостом вроде тротуара. Около нее стояли бортом несколько пароходов. Один из них был мой, то есть направлялся поперек пролива в Дувр.
Пароход был английский, и я с любопытством осмотрел ею. Это было настоящее морское судно, очень крупное, вроде хороших наших черноморских пароходов, но порядка и чистоты на нем было положительно больше, это бросалось в глаза. Пассажиров в Дувр оказалось немного, но в том числе одна английская семья, с которой я и поспешил познакомиться. Англичанин сошелся со мной очень охотно. Говорили мы по-французски, и он объяснялся на этом языке довольно свободно, только с произношением гораздо хуже моего. Я в это время уже настолько освоился с французской речью, что мой англичанин все время принимал меня за чистокровного француза. Я нашел излишним выводить его из заблуждения, потому что скажи только, что ты русский, сейчас пойдут расспросы: кто да зачем, не эмигрант ли? Русских приезжает в Англию очень мало. Мне же гораздо интереснее было расспросить спутника о его стране, чем рассказывать о себе. Мы разговорились и почти не расставались.
Пролив Па-де-Кале — самое узкое место Ла-Манша, но пароход при очень хорошем ходе пересекает его все-таки целых два часа. Море меня весьма заинтересовало. Я такого еще не видал. Мутная вода напоминала немножко Азовское море, но она гораздо зеленее и производила впечатление большей глубины. Свежий ветер дул на просторе. Волна была широкая и сильная, без всяких признаков той толчеи, которая вечно чувствуется даже на средине Азовского моря. Качало нас довольно сильно, но ровной качкой, которая не производит неприятного ощущения, если не переходить известной границы. Вообще, море производило впечатление своеобразное, так что я мог долго с любопытством наблюдать его. Пролив был также очень оживлен, всюду бороздили его пароходы и парусные суда. Вдали скоро стали вырисовываться серовато-белые берега Англии, с каждой минутой более явственно. Показались наконец и здания Дувра, какие-то черные, некрасивые. Особенно бросался в глаза массив мрачного замка.
Мы подошли к длинной пристани, которыми утыкан берег грязного, но оживленного порта. На пристани прежде всего — таможенный осмотр. Роются в вещах с большим усердием. Я, конечно, отдался всецело под покровительство моего спутника, который указывал — куда идти, что делать. «Я вас посажу и на поезд», — сказал он и действительно не только помог мне взять билет, но и побежал со мной занимать место в вагоне. Поезд стоял тут же, совсем близко от пристани. Усадив меня в вагон, мой англичанин непременно хотел показать меня кондуктору и сказать, чтобы он высадил меня в Чаринг-Кроссе. Пересекая Лондон, железная дорога имеет остановки на трех городских станциях (пространство города громадно). Мне — я направлялся к квартире вышеупомянутого приятеля Чайковского — следовало выйти именно в Чаринг-Кроссе. Но кондуктор куда-то запропал, а уже прозвучало два звонка. Мой англичанин должен был идти к своей семье на другой конец поезда, но ни за что не хотел оставить меня, не сдавши на руки кондуктору. Наконец он явился, мой покровитель торопливо объяснил ему все касающееся меня, а между тем пробил третий звонок, и он полным галопом помчался к семейству своему. Эта заботливость меня чрезвычайно тронула. Вообще, из моего краткого пребывания в Англии я вынес убеждение, что англичане — самый обязательный народ в мире. Француз наговорит любезных фраз и ничего не сделает. Англичанин на вид сдержан и даже суров, но тотчас входит в ваше положение и поможет. Я помню в Лондоне случай, когда я заблудился и не мог отыскать нужной мне улицы. Обратился с расспросами к прохожему, но оказалось, что ни он не понимает ни одного моего слова, ни я его. Разобрал он только название улицы и, видя, что мне невозможно ничего растолковать, сделал знак, чтобы я шел за ним. Так он меня довел до моей улицы и, указавши ее, пошел обратно. Замечательно любезные люди. Ведь он бросил свое дело и сделал огромный крюк, чтобы выручить безъязычного иностранца. С благодарностью вспоминаю я своего хозяина, у которого несколько дней снимал комнату и который обо мне заботился очень внимательно. Вообще — хороший народ... Правда, один англичанин чуть не убил меня, но это особая и странная история.
Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, как на пути в Лондон. В вагоне не было никого, кроме англичан. Я не понимал их разговоров. Ни одного моего слова они не понимали. Я не мог бы просить помощи, если бы заболел или вообще что-нибудь случилось со мной. Тоска была ужасная. А поезд шел несколько часов, и когда мы вступили наконец в пределы Лондона, я ему обрадовался, как магометанский паломник Мекке. Вот и Чаринг-Кросс! Кондуктор не исполнил обещания высадить меня, но спутники, слава Богу, поняли кое-как мой вопрос: «Это Чаринг-Кросс?» Я ступил на почву Лондона и, к счастью, увидал дилижанс из гостиницы, в которой говорят по-французски, как объяснил комиссионер. Это меня спасало, и я отправился в гостиницу. Она находилась очень далеко от всех мест, куда мне нужно было идти, но в ней действительно половина прислуги понимала и говорила по-французски. Тут я мог получить все указания, справки, объяснения. Единственное неудобство составляла дороговизна помещения, совсем не по моему карману. Но я рассчитывал, что лондонские приятели помогут мне найти что-нибудь более подходящее.
Итак, почистившись, поевши, собрав справки о пути, я немедленно отправился на поиски. По дороге я купил в первом встретившемся книжном магазине план Лондона — Map of London. С этого первого же дня я много бродил по Лондону и исколесил всю среднюю его часть, величиной почти в Париж. Осмотреть хе хотя бы самым поверхностным образом весь Лондон казалось почти невозможным. Это город такой безмерной величины, как я до тех пор не мог и вообразить. И все в нем было своеобразно, не похоже на другие города.
Я разыскал приятеля Чайковского без большого труда и на первый раз немного затруднился только тем, что не нашел звонка. Посмотрев туда-сюда, я начал стучать в дверь. Хозяин вышел ко мне и, узнав, кто я, радушно пригласил к себе.
— Что же вы молотком не стучали? — заметил он.
— Какой молоток? Там не было молотка.
Я слыхал, читал у Диккенса об этих молотках, помнил даже, что они называются door nail, но не знал их формы. Оказалось, что это действительно скорее «дверной гвоздь», чем молоток. Это висячая скобка, железная, с железным носиком, прикрепленная на петле к железной доске. Вот этим носиком и стучат в доску, вделанную в дверь. Стук очень сильный и, конечно, может быть чрезвычайно разнообразным. Жители дома или квартиры по стуку узнают — пришел ли зеленщик, или молочница, или просто знакомый. Торговцы и ремесленники все имеют свой особенный стук, и, конечно, легко условиться даже со знакомыми и членами семьи в условном стуке дня каждого. Мне это понравилось и напомнило, как мы перестукивались между собой в тюрьме. Этот door nail имеет много преимуществ перед звонком. Не успел я посидеть полчаса, как узнал другую особенность английских квартир. У хозяина немного начадил самовар, и он отворил окно. Оказалось, что окно растворяют не распахивая его половинок, а опуская и подымая верхнюю и нижнюю половину рамы, как это бывает иногда в наших крестьянских избах или как отворяются окна в вагонах железной дороги. Но это мне показалось уже неудобным, так как в больших окнах подымать и опускать половину рамы слишком тяжело. Но англичане очень консервативны и не любят изменять раз заведенного порядка.
Первым делом я разузнал, как разыскать Дегаева, и, помнится, в этот же день повидался с ним. Но о Дегаеве я уже рассказал в предыдущей главе. Что касается Чайковского, то оказалось, что он с семьей живет за городом, довольно далеко, но каждый день приезжает в Лондон на службу, и ему нужно дать знать о моем приезде. Служил он в каком-то Электрическом обществе и занимал хорошую должность. Его приятель служил тоже в этом обществе, только в другом отделении. Условившись о свидании с Чайковским и расспросивши о путях сообщения по Лондону, я посвятил остаток свободного времени на осмотр города.
Еще в гостинице мне сообщили, что самая удобная для меня часть Лондона — это Пикадили. Есть и улица Пикадили, но вообще это название носит целый квартал. Это, так сказать, французская часть города. В ней много французских магазинов, есть и французские рестораны — впрочем, с английской кухней. Квартал Пикадили мне очень понравился. Хотя большинство населения и магазинов в нем английские, но французы наложили на него свой отпечаток. Лондон вообще некрасив, угрюм и грязен. В Пикадили все гораздо чище и изящнее. Даже воздух там кажется прозрачнее, вероятно, потому, что вывески чаще подкрашиваются и поддерживаются в более ярких цветах. В мрачной лондонской атмосфере, пропитанной дымными туманами, все чрезвычайно быстро чернеет. Там даже крахмальные рубашки нужно менять два-три раза в день. Знаменитый собор Святого Павла, выкрашенный в белый цвет, похож на какую-то зебру, так как все части стен, более подверженные действию ветров, превратились в черные полосы на относительно белом фоне. Вывески по улицам тусклы, иногда совсем почернели, а для того чтобы они были сколько-нибудь красивы, их нужно подкрашивать очень часто. Вероятно, в Пикадили так и поступают.
Эта черноватая туманность, придающая Лондону такой мрачный вид, происходит от соединения двух условий: сырого воздуха и массы фабричного дыма. Частички дыма обволакивают частички паров, и из этого смешения образуется тяжелое, грязное облако, лежащее над землей и с трудом сдуваемое ветром. Я был в Лондоне о светлое, по-тамошнему, время, так что несколько раз видел красный диск солнца, однако и при мне туман несколько раз мешал находить дорогу на улицах. А лондонцы говорят, что когда наступает настоящий туман, то на улицах не видно экипажей и на тротуаре человек пропадает из виду уже в двух шагах. Ольга Алексеевна Новикова {138} рассказывала мне, что однажды она была застигнута таким туманом на какой-то большой улице. В руках она держала сумочку. Вдруг протянулась неведомо откуда рука, выхватила у нее сумочку и снова бесследно исчезла во мгле.
В относительно очень светлое время я выходил на Темзу — посмотреть на великую английскую реку, и можно сказать, немного увидал. Правда, был смутно заметен даже противоположный берег — а Темза гораздо шире Невы, — но трудно было что-нибудь рассмотреть. Разные суда, копошившиеся по реке, были видны тоже плохо, да и сама Темза имела вид какого-то тяжелого, гигантского стока помоев.
В сравнительно хорошую погоду я осматривал также знаменитые лондонские парки — Гайд-парк, Риджентс-парк, Виктория-парк. Они, конечно, очень велики, но мне кажется, берлинский Тиргартен и венский Пратул не меньше. Красивее всего мне показался Виктория-парк, в котором деревья посажены редко и масса зеленых пятен, так что весь он светлее прочих. О Риджентс-парке ничего особенно сказать нельзя — он, по мне, хуже всех. Но Гайд-парк, во-первых, огромен и представляет какой-то сплошной лес, окружающий змеей извивающееся озеро, или пруд Серпантин. Здесь же, в Гайд-парке, круг для прогулок на лошадях в экипажах. В часы прогулки около круга вечно теснится толпа зрителей. Этот круг очень длинен и обставлен барьером, образуя нечто вроде улицы или бульвара, по которому медленно движется непрерывная вереница или, скорее, толпа экипажей и всадников. Тут всевозможных сортов лошади, крупные скакуны, пони, всевозможные кавалеры и дамы, старики, молодые. Но двигаться в такой тесноте они могут только шагом, так что, в сущности, прогулка не дает, мне кажется, ничего приятного. Разве только людей посмотреть и себя показать. Но лондонцы любят и ежедневно наполняют лошадиный круг Гайд-парка.
Из других местностей Лондона я обратил внимание только на Трафальгар-сквер — любимое место митингов и демонстраций. В противоположность Парижу, в Лондоне совсем нет площадей, и только за неимением лучшего можно так упорно пользоваться Трафальгар-сквером для демонстраций. Это красивая, но совсем небольшая площадь, а сам сквер при мне был украшен очень низкой растительностью. Мне показалось, что тут едва ли может поместиться больше пяти тысяч человек.
Мое внимание обратила на себя чрезвычайная неодинаковость лондонского уличного благоустройства. Как правило, он вообще грязен, а уж особенно в воскресенье. Не знаю, как теперь, но тогда подметание улицы составляло привилегию нищих, которые, подметая улицы, собирали в свою пользу всякий мусор, сортировали его и продавали крупным мусорщикам. Но в воскресенье англичане, а в том числе и нищие, не работают, и улицы остаются до понедельника усыпаны всякими окурками, бумажками, тряпками, конским навозом и т. п. Однако есть части города, которые по крайней мере после воскресенья довольно чисты, имеют хорошую мостовую и тротуары, на всех улицах — надписи их наименований и т. д. Но в других частях полное запущение. Это зависит от широты самоуправления. Лондон состоит из 60 общин, и каждая из них устраивается по своему усмотрению. Я встречал ряды улиц, на которых не были написаны их названия. Казалось, жители рассуждают, что они и без надписей знают свои улицы, а посторонние люди могут расспрашивать. Я встретил одну улицу без малейшего признака мостовой — натуральный грунт, как у нас в деревнях. Это прямо поражает в великом всемирном городе. Удивили меня также улицы, составляющие частную собственность. Когда-то какой-нибудь богач проложил ее среди своих владений, и такие улицы, обыкновенно очень короткие, были именно очень благоустроены, с хорошими мостовыми и тротуарами. Но хозяин, если бы вздумал, мог взимать плату за проход и проезд, и хотя этого не делал, но раз в год проявлял свои права собственности, а именно: перегораживал улицу и никого не пускал пользоваться ею. В одном месте я видел очень хороший зеленеющий сквер с роскошными деревьями, огороженный железными решетками, с калитками на замках. Это была собственность десятка окружающих домов. Каждый дом имел ключ от сквера, и никто, кроме жителей этих домов, не смел пользоваться сквером. Я думаю, на всем свете не видел ничего подобного. Заинтересовали меня также дома, предназначенные для квартир. Конечно, квартиры имеются во всех домах, по всем улицам. Но есть целые улицы, застроенные специально под квартиры. Вид их утомительно скучен. На огромном протяжении вы видите двухэтажные дома в небольшом расстоянии один от другого. Каждый дом разделен фундаментальной стеной на две части. Иногда обе части принадлежат одному собственнику, но можно купить и половину дома. Они все безусловно одинаковы. При каждой есть небольшой палисадник. Вход с улицы. В нижнем этаже помещается кухня и parlour — гостиная или вообще приемная комната. В верхнем этаже — прочие жилые комнаты. И все это по одному плану, по одному масштабу. Такие квартиры предназначены для состоятельных людей, но, конечно, не первоклассных богачей, и на улице не видно никаких лавочек, магазинов, мастерских — ничего, кроме этих однообразных квартир.
По своему обычаю, я вообще много посвятил временя внешнему осмотру Лондона. Между прочим, побывал и в Сити — центре делового Лондона, откуда управляется промышленность и торговля всего мира. Эта часть города имеет совсем средневековую наружность. Громаднейшие дома, тянущиеся сплошной стеной по необычайно узеньким улицам, в которых не без труда разъедутся два экипажа. Эти улочки почти пусты, по крайней мере, совсем неоживленны. А между тем в домах кишит целый муравейник в бесчисленных конторах, и он показывается на улицах два раза в день. Утром густые толпы конторского люда заполоняют улицы, вливаясь в Сити снаружи. Вечером, по окончании работы, они опять загружают улицы, выливаясь обратно в Лондон. Постоянное же население Сити, говорят, совершенно ничтожно.
Возвращаюсь, однако, к своему пребыванию в Лондоне. Само собою, встреча с Чайковским была самая радостная. Ведь он был до некоторой степени моим учителем в революционной жизни. Кружок чайковцев был основан не им одним, а теперь Натансоном, Сердюковым и Лермонтовым, а название свое получил все-таки от него. Это само по себе показывает его значение. Я не скажу, чтобы он был выдающийся организатор, но он объединял всех около своей личности. Для этого у Чайковского были все необходимые качества. Он был умен, образован, общителен, очень симпатичен и, сверх того, совершенно чужд нетерпимости. Около него все легко сплачивались, и для меня он навсегда остался одним из самых приятных воспоминаний прошлого. Оно и тогда уже было отдаленным. Целых десять лет мы не видались, и, сверх того, наши дороги очень скоро разошлись. Я все резче становился на революционный путь и до конца оставался чайковцем, а он что-то через год перестал быть чайковцем и сделался маликовцем.
В начале 70-х годов прошлого века в Москве появился оригинальный проповедник Маликов. {139} По специальности он был, кажется, медик. По учению своему — настоящий предшественник графа Льва Толстого. Это учение мы, посторонние, называли «богочеловечеством». Маликов именно исходил из того, что люди — «богочеловеки»: соединяют в себе элементы божественные и человеческие. Задачи жизни вообще, задачи обновления, в котором нуждается Россия, состоят в том, чтобы ощутить в себе божественный элемент и внутренне возродиться. Революции внешне ничему не помогут. Насилия вообще не должно быть, даже насильственное сопротивление злу только вредно. Благо создается только внутренним возрождением.
Я один раз видел Маликова, когда был студентом. Он жил где-то у Крымского моста, очень скромно, почти бедно. Встретил он нас (не помню, с кем я ходил к нему) очень ласково и охотно отвечал на расспросы о его учении, но не произвел на меня никакого особенного впечатления. Многих, однако, он увлекал, и около него скоро образовалась целая секта маликовцев. Увлекся им и наш Николай Васильевич Чайковский в первое время моего тюремного заключения.
Не помню его дальнейших приключений. Арестован он не был, не был привлечен к нашему процессу и уехал в Америку. Маликовцы тогда основали свою общину в Соединенных Штатах, и, кажется, в нее вступил и Чайковский. Община скоро распалась, Чайковский же на несколько лет остался в Америке. Впрочем, он жил одно время и во Франции. Я вообще не знаю хорошо его curriculum vitae (жизненный путь). Америку он, во всяком случае, знал очень хорошо, работал там и в Лондон попал как служащий американского предприятия по электричеству. Работником он был хорошим, но все время оставался — и, вероятно, на весь век остался — неисправимейшим идеалистом. Ничто не могло разубедить его веру в человека как существо, кроющее в себе задатки всех добродетелей. Мне рассказывали, что однажды, кажется в Париже, хозяин выгнал его с семьей из квартиры за невзнос платы. Выгнал он по закону, то есть все вещи, не подлежащие конфискации, выбросил на улицу и затворил двери. Подошел какой-то приятель и, видя эту сцену, насмешливо спросил его, что он думает теперь о добродетели своего хозяина. И что же? Чайковский, сидя посреди улицы на своих ломаных кроватях, не зная, где преклонить голову, сейчас же стал горячо доказывать, что у всех людей в душе живет любовь к ближнему и т. п. После своей маликовщины он сделался анархистом, но именно в самом идеальном смысле, веря и уверяя других, что человек творит добро, когда действует свободно, что все, совершаемое человеком по свободному убеждению, непременно вносит в жизнь какое-нибудь благо и что люди, когда они будут жить без всякого принуждения, на всей своей воле, устроятся между собою так, что всем будет хорошо. Он прекрасно видел человеческие безобразия и рассказывал об этом много интересного, но ничто не могло поколебать его веры в человека и в свободу, хотя он и знал, на что люди употребляют свою свободу.
«Однажды, — рассказывал он мне, — еду я в Америке но железной дороге и завел с соседями речь о злоупотреблении разных businness men (деловых людей). Один из соседей слушал-слушал, засмеялся и говорит: „Вот вы толкуете о businness men, а сами даже не знаете, что такое businness men...“ — „Как не знаю? Отлично знаю...“ — „Ну скажите, что значит быть businness men“. — „Очень просто: купил за доллар, продал за десять...“ — „Ну вот и совсем не то. Настоящие дела совсем не так ведутся. Еду я, положим, с вами и увидал ваш бумажник, заметил, что в нем много денег, и подумал, что не худо бы мне их иметь. Так вот, если я не достигну, какими бы то ни было путями, чтобы этот бумажник перешел в мой карман, то я не businness men. Как это сделать — это вопрос моего соображения и ловкости, но если я не изобрету на это способ — я не businness men“. — Признаюсь, — заключил Чайковский, — я тогда опешил, слушая такую формулировку. Но потом я убедился, что американец говорит правду».
И он мне порассказал разные истории о том, как делаются дела. Чайковский уже насмотрелся в этом отношении. А для меня это было в диковину. Мы собирались делать государственные перевороты, переделывать социальный строй, а в действительности не имели понятия ни о государственном, ни о социальном строе. Я был в этом отношении скорее лучше, чем хуже большинства, а все-таки, конечно, брался в революции не за свое дело. Потом я, перейдя с конспиративных квартир на широкую реальную жизнь, увидал и узнал, пожалуй, и побольше Чайковского, но тогда рассказы его были для меня откровением.
Особенно заинтересовала меня история электрического освещения Лондона. Начали это дело какие-то предприимчивые американцы. Денег у них не было, но, как предприниматели, они получили на свою долю значительное число акций. Остальное сделала на первое время реклама. Акции и облигации успешно разошлись, и дело было начато. С технической стороны прокладка электричества была исполнена хорошо, но для привлечения публики электрическую энергию нужно было отпускать дешево, а для привлечения акционеров нужно было давать хорошие доходы, которых не могло быть при дешевизне электричества. Американцы совместили оба требования самым простым мошенничеством. Они в отчетах показывали стоимость производства энергии без сравнения ниже действительной и отпускали электричество себе в убыток, акционерам же выдавали огромные дивиденды из капитала. Акции предприятия выросли до чудовищной степени, и американцы своевременно сбыли свои акции, наживши огромные миллионы, а затем, по истощении капитала, предприятие, конечно, лопнуло, и легковерные акционеры поплатились карманами за кратковременное получение жирных дивидендов. Дело обычное, и поучительность его состоит лишь в том, что это мошенничество можно было проделать даже в Лондоне, этом всемирном эксплуататоре, прожженном во всяких businness. Должно прибавить, однако, что с точки зрения электрического освещения Лондона дело кончилось все-таки «по-хорошему». Имущество обанкротившегося предприятия было за бесценок куплено другими предпринимателями, они поэтому могли сделать постановку возобновленного дела очень дешево и затем уже повели его без блеска и треска, но и без мошенничества. Таким образом, разорившиеся акционеры первого, так сказать, созыва унавозили своими кошельками почву, на которой в конце концов и выросло электрическое освещение Лондона.
С Чайковским я виделся каждый день в Лондоне, но на его квартиру за городом так и не собрался приехать. Моя жизнь в Лондоне обходилась дорого, не по карману. Чайковский помог мне нанять комнату в каком-то английском семействе, куда я и перебрался из гостиницы. Мой новый хозяин был очень любезен, но мы не понимали ни слова друг у друга, так что я иногда должен был отыскивать нужные слова в диксионере и показывать ему, так как произношения моего он не понимал. Но это мало помогало делу, и жить в таких условиях было весьма неудобно. Обедать же я продолжал ходить в Пикадили. Этот французский ресторан предназначался для самой средней публики, но для меня оказывался все-таки дорог. Я держался за него потому, что там говорили по-французски. Стол был английский: картошка, мясо, рыба, какие-то овощи и неизменный пудинг. Готовят в Англии все невкусно, но я этого никогда не разбирал.
Но вот раз вышло приключение, которое мне уже совсем не понравилось. Я сидел чинно и тихо и ел свои блюда, как вдруг какой-то англичанин, сидевший против меня, обратился ко мне с очевидно гневными словами, которых я, конечно, не понял. Я ему ответил, как умел: «I don't understand English», но, вероятно, и он меня не понимал и продолжал, сверкая глазами, атаковать меня. «I don't speak English», — повторил я и, позвав слугу, просил объяснить этому господину, что я не знаю по-английски. Но это нисколько не помогло. Он разъярялся все больше, кричал все более грозно, наконец вскочил и запустил в меня ножом. К счастью, нож пролетел мимо, а соседи и слуги бросились к этому бесноватому и вытолкали его на улицу. Что это было такое — для меня осталось тайной.
Когда я рассказал это приключение Чайковскому, он заметил, что такие случаи нередки в Англии. У них в конторе был случай совершенно беспричинного убийства служащего каким-то неизвестным посетителем. Я не помню только, убит ли он насмерть или ранен... По мнению Чайковского, в натуре англичан много кровожадности. От этого и явилось в нравах их требование самообладания, вечного держания себя в руках. Без такого воспитания самодисциплины в Англии нельзя было бы жить от массы кровавых насилий. Я отмечаю это мнение Чайковского, человека весьма наблюдательного, не смея ничего по этому поводу высказать от себя.
Я первоначально рассчитывал прожить в Лондоне подольше, чтобы хорошенько познакомиться с Англией. Но карманы мои пустели с чрезвычайной быстротой. Там все ужасно дорого в сравнении с Парижем. Пришлось убираться восвояси что-то через десяток дней.
На этом обратном пути мне было гораздо веселее, потому что и в поезде, и на пароходе ехало несколько французов, возвращавшихся на родину. Переезд через Ла-Манш, то есть Па-де-Кале, был тоже еще более интересным: я все время любовался прекрасным маяком Кале, который бросал на море гигантский вращающийся сноп электрического света. Он описывал громадный круг — то подымаясь высоко в небо, то черкая по воде, чтобы потом снова подняться на небеса. Когда он освещал облака, море было темно и мрачно, в нем ничего нельзя было разглядеть. Но вот сноп света пробегает по воде, и перед глазами сразу являются корабли, пересекающие пролив в разных направлениях, и морские волны, вздымающиеся и падающие. Через минуту все снова исчезает во мраке и в следующую минуту опять появляется ярко и отчетливо. Это феерическое зрелище развертывалось перед нами всю ночь, пока не стало рассветать.
«Pas plus difficile que», — весело сказал один пассажир, сходя на сходни к пристани, и я, кажется, был обрадован не меньше его, ступая на почву Франции. Я почувствовал себя точно на родине. Это было раннее утро. В море был отлив, так что пароход пристал совсем в другом месте — к длинной пристани. Не знаю почему, нам нужно было довольно долго ждать вагонов для передачи нас на станцию железной дороги. Это показалось мне довольно скучно, а местные жители сказали мне, что в Кале можно отправиться и пешком — по насыпи, которую море захлестывает только во время прилива. Но прилив должен был начаться еще не скоро, и я соблазнился мыслью дать себе такую своеобразную утреннюю прогулку. Она оказалась действительно интересна. По обе стороны насыпи простиралось морское дно, то совершенно сухое, то покрытое лужами. В разных местах там и сям лежали на боку суда в ожидании, когда их снова поднимет прилив. Узенькая полоска насыпи тянулась, как мне показалось, очень далеко. Впереди — у конца ее — чуть виднелись огоньки Кале. Я решительно не мог определить, сколько времени мне понадобится, чтобы дойти до твердого берега, и на половине пути меня стала тревожить мысль: а что, если прилив окажется быстрее меня? Беспокоило меня и то, что на всем пути я не встретил ни единого человека. Значит, тут ходят не очень охотно. Я ускорил шаги, но оказалось, что тревожиться нечего, и когда я вступал на территорию Кале, обсохшее море не проявляло еще никаких признаков обратного возвращения воды. На станцию железной дороги я, кажется, явился одновременно с прочими спутниками, и скоро поезд помчал нас в Париж.
Не могу выразить, как я рад был после лондонского мрака увидеть светлый, веселый Париж. Но только тут я заметил также, насколько Лондон теплее Парижа. Там была самая обыкновенная осень, а здесь пощипывал зимний мороз. Вот как греет облачная шуба лондонской атмосферы вдобавок к Гольфстриму.
XVII
По окончании дегаевской истории для парижских народовольцев наступила очередь снаряжать в Петербург новый исполнительный комитет. Но с этим, не могу сказать почему, никто не торопился. Вероятно, никому особенно не хотелось, никто не ожидал от этого ничего важного и крупного. Как бы то ни было, прошло много времени в разговорах, в толках о программе, о системе будущих действий. Я не помню, когда кончились все эти прелиминарии, когда у нас накопилось достаточно денег для путешественников и найдены были способы их переправки в Россию. Не помню даже хорошо, из кого состояла группа, бравшая на себя задачу возродить дело старого, «великого» исполнительного комитета. В нее вошли Герман Лопатин, Неонила Сапова, Караулов, остальных двух-трех не помню. Из старых народовольцев никто не поехал. Я не вошел даже в состав исполнительного комитета, хотя согласился быть его представителем за границей. Таково же было положение Марины Никаноровны. Поехали наши сотоварищи, и хотя мы переписывались, но я не помню, что они делали на родине. Знаю только, что деятельность их оказалась весьма бесцветной и не повела к созданию какой-нибудь крупной организации. Эта бесплодность их работы зависела не от недостатка их способностей или усердия, а от того, что, повторяю, песенка народовольчества была спета. Силы, пробужденные и собранные первым исполнительным комитетом, были истреблены в течение 1881–1883 годов; процесс, именуемый «процессом 14-ти» (Фигнер, Рогачев, Похитонов, {140} Ашенбреннер {141} и другие), был в 1884 году заключительным моментом ликвидации прежних революционных сил. Новых не являлось им на смену. Главной причиной этого, по моему мнению, была охватившая страну реакция. Вера в возможность переворота исчезла, да исчезло и мнение в отношении надобности переворота. Император Александр III умел вызвать в России высокий подъем национального чувства и сделаться представителем национальной России. Он достиг также упорядочения государственных дел. Не изменяя образа правления, он сумел изменить способ правления, и страна при нем стала с каждым годом сильнее развиваться и процветать. При таких условиях в революцию никто не хотел идти. Смысл революционного действия оставался только в среде фабрично-заводского рабочего класса, и у Плеханова дела шли вполне успешно. Но народовольчество погибало. В отношении полицейском убийство Судейкина, понятно, не имело никакого значения, и охранная полиция действовала без него так же прекрасно, как при нем. Она не менее успешно срезывала все ростки революции, которые где-нибудь появлялись.
Таким образом, отправившиеся из Парижа народовольцы ничего крупного никак не могли сделать. Да они и сами уцелели недолго и были истреблены, притом даже без всякого блеска и шума.
Что касается меня, я, когда они были еще в целости, подал форменную отставку, написавши Герману Лопатину, что выхожу из их организации. Как я уже говорил, я еще в России хотел покинуть революционную деятельность. Николадзе и Дегаев поневоле втянули меня в нее снова. Но с окончанием дегаевшины и с оформлением новой, «чистой» организации я считал себя вправе осуществить наконец свое давнишнее желание и сделаться свободным человеком, не связанным никакими партийными обязательствами. Первым актом моего освобождения и было это заявление о выходе из организации. Это было примерно в 1885 году.
Но, выйдя из организации, я еще оставался членом партии впредь до окончательного разрыва. Пока существовал «Вестник „Народной воли“», я принимал в нем участие, хотя вообще я, можно сказать, с каждым месяцем принимал все менее участия в партийной жизни, все более погружался в свои собственные дела, то есть в учение, в чтение, в наблюдение французской жизни. Наряду с этим мне приходилось все более усиленно заботиться о «хлебной» работе, то есть о заработке. С запрещением «Дела» вопрос о пропитании семьи и самого себя стал очень трудно разрешимым. Приходилось искать работы по русским газетам, стал я задумывать и работы на французском языке, которым начинал владеть все более свободно. Все это брало много времени и труда, а денег давало мало. Мы постепенно стали жить все беднее, все более подходили под уровень рядовых эмигрантов. А жизнь рядового эмигранта — это вечное полунищенское существование, которое давит тем сильнее, что надежды добиться чего-нибудь лучшего в будущем почти нет. Мы с женой были еще молоды и здоровы, могли еще выносить всякие лишения, но все же эти годы парижской жизни были для нас весьма тяжелы.
Я постепенно отходил от политики, но, правду сказать, в 1884–1885 годах у парижского народовольчества уже не было никакой серьезной политической деятельности. Из России частенько наезжали разные революционеры и радикалы. Они бывали у Марины Никаноровны, у Лаврова, у меня, рассказывали русские новости, спрашивали наших мнений о положении дел, но все это были разговоры, из которых не рождалось никаких «дел». У Марины Никаноровны все время держался маленький политический салон, иногда интересный, но все же «салон», а не «штаб-квартира», за отсутствием армии. Моя жизнь в революционном мире совершенно утратила характер какого-нибудь «дела», «процесса» и не осмысливалась даже какими-нибудь ожиданиями революционных переворотов в России. Наоборот, я с каждым днем сильнее убеждался, что революция в России умирает, и скажу больше: с каждым месяцем я все менее желал ее воскресения, все более охватывался мыслью, что революция ошибочна, не нужна и вредна.
Это мое внутреннее отпадение от революционного миросозерцания совершалось в процессе крайне мучительном. Размышление и анализ пережитого и переживаемого отрывали у меня день за днем, словно куски живого мяса, у меня буквально заходил ум за разум, и я иногда боялся, что сойду с ума. Переживать такие переломы, какой происходил во мне, — нестерпимо тяжело, и совершенно понятно, что громадное большинство людей, охватываемых сомнениями в разумности того, на что они уложили лучшие годы жизни, предпочитает перестать думать, придавить если не сомнение, то мысль о нем и уходят из жизни в простое прозябание. Но у меня было еще слишком много жизненной силы, и, убеждаясь в ложности революционной идеи, я не мог не искать, где же правда, где разумная идея.
Находясь в таком состоянии, я, понятно, не мог иметь никаких органических связей с революционной средой, в которую был вкраплен обстоятельствами моей прошлой жизни. Я был теперь связан с этой средой только механически, постепенно все более от нее отрываясь, и в воспоминаниях моих это время оставило только калейдоскоп несвязных, случайных происшествий, встреч и столкновений, не имевших ни цели, ни последствий. Моя действительная и осмысленная жизнь развивалась уже вне революционной среды.
Из того, что касалось ее, небезынтересно, однако, отметить кое-что, и прежде всего новую тактику охранной полиции. Это было изобретение Петра Ивановича Рачковского, заведовавшего заграничной политической полицией и состоявшего начальником охраны при парижском русском консульстве.
В начале карьеры Клеточникова бывшее III отделение задумало провести в ряды революционеров своего шпиона, и эта роль была предназначена Рачковскому. Он стал «радикальничать», был арестован, сослан в Архангельскую губернию, бежал из ссылки и, без сомнения, явился бы в среде революционеров в качестве видного товарища, если бы, на его горе, в III отделении не служил уже Клеточников, который и разоблачил всю эту затею. В «Земле и воле» было опубликовано предостережение о Рачковском, и ему пришлось на время исчезнуть. Как проходила его дальнейшая служба в политической полиции — не знаю, но в конце концов он вынырнул в Париже как начальник охраны. Впоследствии я имел случай с ним немножко познакомиться. Личность была типичная. Темный брюнет, тогда еще молодой, крепкого сложения, чрезвычайно энергический, красивый, но с несколько хищным выражением лица. Революцию и революционеров он глубоко и искренне ненавидел, а в то время уже и презирал. Думаю, что как сыщик он обладал всеми качествами, необходимыми для этой специальности. У него были прекрасное зрение и большая наблюдательность. Его физиономия едва ли была знакома кому-нибудь из эмигрантов, а он их всех знал в лицо и далеко замечал на улицах. Несмотря на то что он искусно берег себя, у него была постоянная мысль, что ему грозит вечная опасность. «Я знаю, что меня когда-нибудь убьют», — говорил он. Но это опасение, мне кажется, никогда не осуществилось. По крайней мере, он благополучно дожил до начала этого века и был большим другом последнего «гения» охраны — Зубатова. {142} Вся заграничная революционная среда была до тонкости известна Рачковскому, который умел всюду проводить своих агентов. Говорят, он лично докладывал Императору Александру III о состоянии революционных дел за границей, и надо думать, что эти доклады были очень содержательны. Вообще, кажется, он был самый талантливый из всех знаменитостей сыска — Скандракова, Судейкина, Зубатова.
Так вот, он придумал особую систему борьбы с революционерами, которую называл «системой деморализации». Эта система состояла не только в подкупе, но и в ряде действий, которые должны были вносить смуту в среду революционеров, перессорить их между собой, внушить недоверие друг к другу, вселить в них убеждение в том, что полиция всесильна и всемогуща, так что действовать совершенно невозможно. С этой целью он распространял разные клеветы на революционеров, и очень ловко, потому что умел узнать всю подноготную их частной жизни. Между прочим, и я был жертвой этой клеветы. Он как-то пустил в обращение листок, обвинявший меня в крайне безнравственной жизни и в таком обращении с женой, что она должна была искать утешения в объятиях другого революционера (который назывался в листке по имени). Все это были чистые выдумки, но Рачковский придерживался правила: главное — пустить слух, а он не пройдет бесследно. Вообще, эти «подметные листки» одно время составили целую литературу. Я их собирал и долго хранил, но, к сожалению, они во время нашей революции погибли вместе с другими моими бумагами. В этих листках Рачковский часто просто потешался над своими врагами Однажды несколько эмигрантов затеяли проследить одного шпиона. И вот один из них получает письмо на французском языке, в котором говорилось, что он, очевидно, склонен к сыску, и потому не желает ли он поступить на «une service relugue» (подглядывать, высматривать, следить), то есть, значит, в полицию. Одно время это шутовство, перемешанное с клеветой, распространялось за подписью: «Барон Грюн и граф Кун», причем авторы нарочно перепутывали свои титулы: то пишут «барон Грюн и граф Кун», то «граф Грюн и барон Кун». И нужно сказать, что эта литература весьма достигала своей цели и в рядах революционеров действительно являлась какая-то смута, заподозривание друг друга, тщетные догадки, откуда эти Куны и Грюны почерпали свои сведения, облекавшие в форму лжи и клеветы разные происшествия, действительно имевшие место, хотя и совершенно иного характера. Я сам часто ломал голову, кто же таки? шпионы, которые могли узнавать мелочи жизни революционеров, способные дать канву для вышивания клеветнических узоров. Ясно было, что агенты полиции находятся в самой революционной среде — но кто же они? Начинаешь подозревать одного, другого и в конце концов не знаешь, кому, наконец, можно верить. Из всех форм провокации Рачковский придумал, кажется, самую гнусную. Зубатов старался внушать своим подчиненным, что они не делают ничего дурного. «Поймите, господа, что вы порядочные люди», — говорил он. Ну уж агенты по «системе деморализации» вряд ли могли бы представить себя «порядочными людьми». А между тем вся эта система едва ли поколебала хоть один из крупных революционных авторитетов.
Как раз в это время произошло чествование Лаврова, где можно было видеть, какое почтение в массе эмигрантов возбуждала действительно честная и безупречная жизнь этого старейшего представителя революции. Я, к сожалению, не помню с точностью, когда произошло это скромное торжество, но только время это было для Петра Лаврова очень печальное. «Вестник „Народной воли“» прекратил фактически свое существование. Попытка последнего исполнительного комитета (Германа Лопатина) воссоздать народовольческое движение не удалась. В довершение всего Лавров, никогда не знавший безвыходной нищеты, в какой жило большинство эмигрантов, остался без работы. Не помню, что подорвало его российских друзей, но только для него наступила угроза остаться без денег. У него явилось очень угнетенное состояние духа, и молодой Лорис-Меликов задумал чем-нибудь утешить старика.
Этот Лорис-Меликов (забыл его имя) был очень симпатичный молодой человек. Он обучался в Париже чуть ли не медицине. Красавец собой, он был, пожалуй, и неглуп, но как-то по-армянски, со смешной наивностью, так часто проявляющейся у его соплеменников. Ему было очень трудно учиться, и он советовался с врачами о том, как можно помочь его умственной нетрудоспособности. Доктора дали очень вежливое объяснение, и он простодушно сообщал его: «Они сказали, что мозг у меня очень хорош, но шейная артерия действует плохо, так что мозг получает недостаточное питание». Ну уж такому горю нельзя было помочь.
Но если мозг его действовал вяло, то сердце было хорошо. Он очень любил Петра Лавровича, трогательно, с привязанностью доброго сына. И вот он задумал устроить «лавровскую выставку».
Это вышло удачнее, чем можно было ожидать. Выставка была организована в каком-то обширном полуподвальном помещении, но довольно светлом. Какой-то учившийся в Париже молодой художник-еврей нарисовал углем очень большой, весьма схожий портрет Лаврова, затем ряд отделов содержал отчасти предметы, отчасти письменные описания, которые должны были очертить всю жизнь и деятельность Петра Лавровича. Довольно курьезен был отдел «Военная деятельность П. Л. Лаврова», так как военная деятельность его проявилась лишь в том, что на батарее, где он командовал, разорвалась пушка. Но остальные стороны и эпохи его жизни были представлены очень сносно. Нужна была большая старательность со стороны Лорис-Меликова и его сотрудников, чтобы собрать и расположить стройно все литературные данные, необходимые для этого, и составить объяснительные описания. Вышла действительно картина полной биографии Петра Лавровича. Народу собралось на это чествование бездна: эмигранты, студенты и студентки. Лавров, довольно-таки тщеславный, сиял радостью, проходя эти группы своих поклонников и осматривая отделы выставки, иногда со своими замечаниями и поправками. Разумеется, ему была произнесена приветственная речь, сопровождаемая овациями присутствующих. Это чествование надолго подняло самочувствие Петра Лавровича.
Ему часто устраивали что-нибудь приятное. Однажды затеяли прогулку, кажется, в Rois de Vincenne. Да, это, помнится, наверное было Rois de Vincenne. Там есть деревня или городок Сент-Морис, где тогда жил на даче Динер с женой, а у него снимала комнату моя жена с сыном Сашей. Я к ним только наезжал. Там же жила на даче Эсфирь, которая раз чуть не утонула в канале. Канал этот иди, скорее, протока Уазы, проходящей по садам, очень неглубок и едва хватает по пояс, но купавшаяся Эсфирь, когда ее понесло течение, так перепугалась, что не догадалась стать ногами на дно и действительно стала утопать, но ее вытащил хозяин Динера. Вот в эту-то местность, довольно живописную, всю в садах, и повезли Лаврова погулять на незатейливый пикник. С ним поехало много народа, так что мы заняли верхние скамьи (империалы) на нескольких вагонах трамвая. «Voila le liant papa» (вот приветливый папаша), — говорили встречные французы, видя сияющего старика, сопровождаемого весело перекликающейся молодежью. Они принимали это за какой-то семейный праздник.
Мне и теперь приятно вспомнить эти проявления симпатии эмигрантов и студентов к старику, который как-никак честно и усердно работал целый век на деле проповеди своих идеалов. В истории нашей эмиграции, полагаю, никому не доводилось сосредоточивать на себе столько симпатий, и он, конечно, этого заслуживал.
Не помню, водили ли тогда Лаврова на шлюзы Уазы, но я и еще кое-кто ходили. Удивительно, как обделаны водяные пути сообщения во Франции. Уаза, дрянная речушка, не лучше нашей Яузы, приспособлена, однако, к судоходству посредством шлюзования. Было очень интересно смотреть, как через эти шлюзы проходили небольшие, впрочем, барки.
Однажды Лаврова возили и ко мне в Ле-Ренси, где чудные гулянья. Конечно, он ходил уже плоховато и не мог много гулять. Но зато его можно было угостить — а он весьма любил покушать. Помню, тут произошел эпизод, характеризующий, до какой степени Лавров знал все по книгам, а не в реальности. Мой маленький сынок сорвал на лугу красный цветок и подал ему: «Monsieur Валввоф (он так произносил его фамилию), что это за цветочек?» Лавров взял, повертел, поднес к своим близоруким глазам и ответил: «Не знаю, дружок». А это был самый обыкновенный мак. Если бы Лаврова спросили, что такое мак, он бы мог произнести о нем целую лекцию. Но различить маковый цветок на лугу он не умел.
Курьезный был это человек, книжный, не имевший непосредственного чувства, интуиции. От этого он был и наивен и никогда не мог усмотреть смешного, раз дело делалось сообразно принципу. Он не умел различить реального проявления принципа и бумажного. О нем на эту тему можно вспоминать не согни, а тысячи анекдотов. Помню, как привезли к Пастеру человек двадцать смоленских мужиков, искусанных бешеным волком. У нас тогда не умели делать прививок, и смоленское земство прислало этих крестьян к Пастеру. И что же? Разные дурачки из эмигрантов немедленно побежали к мужикам — вести пропаганду! Мы с Мариной Никаноровной только хохотали над этой пропагандой среди «бешеных мужиков», но Петр Лаврович не находил в этом ничего смешного и отнесся как к самому нормальному явлению. А между тем крестьянам было совсем не до пропаганды: они, конечно, были поглощены всецело заботой о том, вылечат ли их или им предстоит страшная участь умереть в бешенстве. Да притом они были совсем дикари, не видавшие ничего дальше своей деревни, и, попавши теперь в Париж, были даже как-то неспособны подмечать действительные чудеса цивилизации, а поражались только совершенными пустяками. Так, их особенно изумляли перила на лестницах, гладкие, лакированные. «Уж тут руки не занозишь», — говорили они с восхищением. Удивлялись также французской кухне — что подают есть «траву» (салат). «Нет, уж это проноси мимо», — говорили они, когда приносили салат. Они воспринимали только самые элементарные впечатления и уже самим уровнем развития были забронированы против всякой пропаганды. К своему «Пастору», как они называли доктора Пастера, они относились, однако, с чрезвычайным почтением и доверием. Замечу кстати, что их лечение совершилось вполне благополучно и, кажется, из них не умер ни один.
XVIII
Из приезжавших в Париж единомышленников я не упомянул до сих пор так называемого Феофана, которого у нас прозвали Фалалеем. Зачем он приезжал — трудно сказать, потому что он был совсем не нашего поля ягода. Называл он себя народовольцем, но по взглядам был какой-то народник, находивший, что в революционном отношении нужно действовать через сектантов. Это поставило его в одинокое положение, хотя с ним перезнакомились все и относились к нему дружески. Это был детина — рыжий, высокий, крепкий, на вид как будто из деревенских торговцев, малообразованный самоучка, не очень глупый, не очень умный. Он весьма гордился тем, что его «женой» была Настя Осинская, и со слезами на глазах, дрожащим голосом вспоминал о ее ужасной смерти (она повесилась). Можно удивляться, что такая интеллигентная девушка полюбила такого парня, чуть не из мужиков. Таких случаев я больше не знаю. В самый разгар народничества интеллигенты и крестьяне (как и рабочие) не смешивались между собой на почве браков. Помню только один случай: когда пропагандист (Левашов) женился на крестьянской девушке, да и то оставил ее в соломенных вдовах, спасаясь от полиции, и, по-видимому, впоследствии совсем не считал себя связанным этим браком. Каким образом Настасья Осинская могла сойтись с Феофаном — не знаю, хотя, конечно, в деревне он был бы назван очень красивым и имел бы успех у крестьянских девиц.
В идейном отношении он являлся последним могиканом того увлечения сектантством, которое было довольно распространено в первый период народничества. В данное время он уже нигде среди нас не находил сочувствия своим идеям и, проживши за границей несколько месяцев, так же одиночно уехал в Россию. Помню, как он, собираясь в путь, усердно переплетал книгу, в доски и корешок которой заделал фальшивый паспорт, несколько кредитных билетов и тоненькую стальную пилку на случай, если попадет в тюрьму. Больше я ничего не знаю о дальнейшей судьбе этого пережитка народнической старины.
Более интересны похождения Тонконогова. {143} Это был тоже эмигрант, сбежавший по каким-то пустякам, кажется, из Крыма, где служил, помнится, в земстве. Никаких особых политических преступлений за ним не числилось, и за границей он тоже не принимал участия ни в каких делах эмигрантов, а просто жил в праздности, жуируя на свои медные гроши, пока они были. Веселый и смазливый, он даже покорял сердца француженок. Но скоро деньги были прожиты, и мсье Тон Коногоф, как называли его французы, остался совсем на мели. Он, однако, не смутился. В это время рыли Панамский канал, где европейцы умирали как мухи от желтой лихорадки. Там большинство не могло прожить и одного месяца и умирало или покидало службу. Администрация канала платила служащим баснословные деньги, и все-таки комплект их был вечно неполон. Тонконогов порешил, что безразлично — умереть в Париже с голоду или на Панаме от желтой лихорадки, и предложил компании свои услуги. Его приняли на службу. Правда, на канале требовался инженер, а Тонконогов по инженерной части ничего не смыслил, но это его не смутило. «Рабочие, — говорил он, — и сами знают, что требуется делать, я буду только наблюдать за ними». Так и вышло. Он получил должность на одном участке канала, среди непроходимых тропических болот, заросших густыми лесами, стеной стоявшими по обе стороны просеки, проделанной для канала. Тонконогов был очарован красотой могучей растительности; его поражали пронзительные концерты обезьян, населявших огромными стадами эти леса. Но воздух был всюду пропитан смертоносными миазмами. Его товарищи по работе, желтые и истощенные, умирали один за другим. Тонконогов принял свои меры. Он построил себе жилище на самом высоком месте над каналом, завел себе костюмы, какие рекомендуются врачами в таких местностях, установил самый рациональный режим и диету, благо громадное жалованье давало возможность легко покрывать все расходы. Что касается работы, он получал инструкции своего начальства, передавал их рабочим и предоставлял им действовать. Руководить ими он не мог и принял систему только давать рабочим всевозможные льготы, как можно лучше обставлять их жизнь, как можно больше платить жалованья — и дела шли прекрасно. Рабочие очень полюбили своего доброго руководителя и, отлично видя его полное невежество, тщательно скрывали все его промахи. Однажды он испортил неудачным распоряжением какую-то важную машину, и рабочие приняли всю вину на себя, выгородив Тонконогова от всякой ответственности. С такой системой он, как можно меньше показываясь в отравленном болоте, благополучно прожил целый год, оставшись цел и скопивши порядочный капиталец. Его сильно соблазняла мысль продолжать выгодную службу дальше, но, подумавши, решил не искушать судьбу, бросил службу и возвратился в Париж с кругленькой суммой франков. Мне он привез на память палку из железного дерева необычайной прочности. Потом он возвратился на родину и скрылся из моего кругозора.
Продолжали приезжать в Париж, конечно, и люди, занимающиеся политикой. Из них с Алехиным у меня не прерывались мимолетные связи до самой революции. Это был человек замечательно чувствительный к веяниям времени. В эпоху своего приезда в Париж он был народовольцем, но уже охладевшим к заговорам и террору, а склонным к пропаганде партийных идей; впоследствии я его встретил толстовцем, еще позднее — строителем местного самоуправления; когда же настала первая революция, он с головой окунулся в нее. Судя по наружности, нельзя было предположить его таким переменчивым.
Аркадий Васильевич Алехин, сын довольно богатого курского купца, получивший образование в Московском университете, здоровый, крепкий, плотный, выглядел солидным молодым барином. Говорил он медленно, обдуманно, казался почти флегматичным. На меня он произвел прекрасное впечатление, и я даже теперь, вспоминая наше долголетнее знакомство, удивляюсь, каким образом его душевное содержание оказывалось таким непрочным и так легко заменялось другим.
Не знаю, зачем он приезжал в Париж в сопровождении какой-то очень милой дамы (или девицы), которой фамилию я позабыл. Но Алехин несколько раз посетил Лаврова и меня, выражая нам обоим большое почтение, и предлагал начать разные серьезные издания, целую маленькую библиотеку. Он не сомневался, что найдет на это средства в России. Ничего, однако, из этого не осуществилось, и по отъезде своем он ни разу даже не извещал нас о себе и своих издательских планах.
Совсем иного характера была другая приезжая, посетившая, кажется, меня одного. Вероятно, она рассчитывала встретить во мне террориста, члена старого исполнительного комитета. Это была девица Гинсбург, {144} кажется София, из Керчи. Я в это время уже никак не склонен был толкать кого-нибудь к террору, напротив, мог только удерживать. Но она просто пылала ненавистью к правительству, к деспотизму, как ей казалось, к его насилиям. Совсем еще молодая, довольно красивая, она заливалась румянцем, говоря о происходящем подавлении революции, ее ноздри раздувались, как у горячей лошади. К сожалению, она попала ко мне в такой момент моего развития, когда я ничего не мог дать ей — ни сочувствия, конечно, ни горячего отпора охватывающему ее настроению. Так она и уехала, полагаю, не удовлетворенная визитом и не сообщив мне ничего о своих планах. Но скоро я услыхал о ее аресте по случаю замышлявшегося ею цареубийства. В это время уже перестали печатать не то что отчеты, а хотя бы малейшие упоминания о политических процессах, и я только частным образом узнал, что ее судили, видел и захваченную у нее прокламацию, которую она с единомышленниками предполагала публиковать после убийства Царя. Прокламация, впрочем, была написана плохо, довольно вяло. Сама Гинсбург была присуждена к смертной казни, но не знаю, был ли смягчен приговор или приведен в исполнение. Как бы то ни было, образ пламенной еврейки, в которой видна была огромная сила чувства и воли, и до сих пор стоит передо мной. Жаль, когда гибнут такие личности, видимо способные к большим делам. А впрочем, за мой век в России так же трагически погибли тысячи таких людей различных лагерей, и ведь одинаково бесплодно. Общая судьба революций!
А рядом с гибнущими плодится, сохраняется и процветает ничтожность. Прикатил тогда в Париж некто Берг, то есть именующий себя Бергом. Действительную свою фамилию он никому не сообщал. Выдавал себя за политического эмигранта, но в чем состояли его прегрешения против власти — тоже не мог объяснить в точности. Мне иной раз думалось: нет ли за ним скорее прегрешений по части казенных денег? Это был тип либеральной пошлости. Толстая рожа с прищуренными глазками, вечное хихиканье, вечные либеральные выходки против всего, совершающегося в России, — довольно противная личность. По он втерся в эмигрантские круги, у всех бывал, видимо старался слиться с обществом политических изгнанников. Приехал он с большим багажом, привез много книг и, по-видимому, был при деньгах. Между прочим, мне он подарил «Всенаучный словарь» Клюшникова. Спасибо, конечно, хотя, как известно, словарь этот весьма плохенький. Не знаю, как проводил Берг свое время в Париже. Ни в каких делах он не участвовал. По-видимому, просто проживал, и что с ним сталось в конце концов — не знаю. Не стоило бы, пожалуй, вспоминать, но нелишне и отметить, что в разнообразном букете эмиграции были и такие цветки. Надо прибавить, что он был вполне образованный человек, вероятно — университетский, говорил, что был в Москве нотариусом.
Мне доводилось встречаться в Париже и с действительно крупными представителями нашей интеллигенции — не только эмигрантами, но и просто приезжими погулять в «столице мира». Так, познакомился я с профессором Максимом Ковалевским {145} и с Де Роберти. {146} Ковалевский был звезда Московского университета, имевший репутацию человека гениальных способностей. Лицо у него было истинно прекрасно — по выражению ума и способностей. Но он, думаю, может быть образчиком того, что не развивается гениев там, у кого нет сильной страсти к чему-либо, кто ничего сильно не любит, ничего сильно не желает. А у него именно ничего этого и не было. Я слыхал, что он известен чувственными склонностями. Это похоже на правду. Я видел раз, как он «наелся допьяна». Это было в ресторане. Обедали мы вчетвером: Де Роберти с Женой, М. Ковалевский и я. Разумеется, к обеду было и вино, но в обычной французской порции, просто столовое вино, не кутеж какой-нибудь; сам же обед был обильный и вкусный, и я обратил внимание, что Ковалевский ест очень много и с жадностью, все ему нравится, все хочет съесть. Кончилось это тем, что он вдруг опустился На стуле и на столе как бесчувственный. Я испугался: думал, не удар ли. Но Де Роберти спокойно продолжал разговор, заметив мне: «Не беспокойтесь, с ним это часто бывает: просто много съел». Мне это было ужасно грустно слышать: такой прекрасный лоб, такое выразительное лицо, такая тонкость в мысли — объелся до бесчувствия, как эскимос! Нужно сказать, что он хотя был чрезвычайно умен в разговоре, но как-то холоден ко всем общественным вопросам. Я тогда говорил против революции, он же вовсе не отрешился от революционной идеи, но и не защищал ее, как будто ему все равно. Вообще, он оставил у меня грустные впечатления какого-то бесплодного таланта.
Де Роберти был совсем иной человек, неглуп конечно, но без одной искорки гения, ничего глубокого, ничего своеобразного. Зато он по крайней мере твердо и упорно верил в позитивную философию, был ей предан, гордился ею. Это было его живое место, и сам он был оживлен, без каких-нибудь глубоких задач, но в прочной уверенности, что его, в сущности, весьма бессодержательная жизнь есть нормальное человеческое существование. Он, конечно, был либерал, Россию презирал: страна некультурная, отсталая, и нация низка, и государство плохо; но он вовсе не чувствовал потребности повышать эту страну. «Мы с женой, — говорил он, — устроились так: зиму живем в России, накапливаем деньги, а летом едем в Европу — отдохнуть душой». В России он, стало быть, находился как бы на заработках, а душой жил в просвещенной Европе. Нечего сказать, отрадную участь стране предсказывают такие граждане.
Но еще более удручающий тип показал мне в себе Моисей Соломонович Гольденвейзер.
Некоторое время, и очень длинное, лет двадцать, пожалуй, он был вернейшим слугой и сотрудником Каткова. {147} Катков вывел его в люди, помог ему устроиться, с величайшей радостью крестил его (из еврейского вероисповедания), ввел его в лучшее московское общество, дал ему возможность широкой адвокатской практики, пристроил к своей газете («Московским ведомостям») и в конце концов устроил ему женитьбу на богатой девице из лучшего московского общества, вдобавок красавице и богатой. Катков вообще не имел предубеждения против евреев, а Моисея Гольденвейзера очень полюбил. Молодой человек был действительно чрезвычайно умен и талантлив и со своей стороны выражал горячую привязанность к своему благодетелю и, казалось, разделял его убеждения. Когда Катков крестил его, то сердечно обнял и сказал: «Теперь я приветствую вас как совсем своего». Моисей служил ему верой и правдой, вел его процесс против Московского университета. Писал в «Московских ведомостях» множество передовых статей — словом, казалось бы, действительно был свой...
И вот я встретился в Париже с этим сподвижником Каткова. Я не знал, что он уже отошел от своего покровителя, — а он нашел выгоднейшее место юрисконсульта у Полякова и, укрепившись на такой гранитной скале, прекратил связи с Катковым. Я в это время уже гласно разорвал связь с революцией и, получив приглашение Гольденвейзера навестить его, полагал, что увижу яркого консерватора. Вышло совсем не то. Я увидел красивого, полного барина, хотя по чертам лица очевидно из евреев, но самых настоящих дворянских манер и прекрасно, без малейшего акцента говорящего по-русски. Он знал уже о моем расхождении с революцией, но заговорил со мной так, как бы я собственно перешел в лагерь либералов. Потом, в России, я убедился, что так думают многие либералы. И вот Моисей Соломонович первым делом счел нужным открыть мне свою душу. Он мне рассказал, что сначала поддался, по молодости, влиянию Каткова, но потом увидел ошибочность и вред консерватизма и правильность либеральных идей и с тех пор служил Каткову против сердца, против убеждения. Некуда было податься. «Это был крест!» — патетически воскликнул он, и этот «крест» лганья и притворства он нес что-то лет пятнадцать. Наконец он нашел возможность устроиться иначе и мог наконец стать самим собой, то есть убежденным либералом. Нужно заметить, что во время несения этого «креста» он, будучи либералом, писал Каткову красноречивые консервативные статьи... У него и теперь не было ни малейшей догадки о том, что он был, в сущности, просто мерзавец, потому что обманывал Каткова даже не с голоду, а для сохранения блестящего положения. Просто хорошее, обеспеченное положение он имел уже давно и мог бы уйти от Каткова, не рискуя участью своей и семьи. Но он ушел только тогда, когда нашел еще лучшее место — у Полякова. Однако, обманывая Каткова из-за выгоды, он, конечно, страдал — страдало его самолюбие, и он выработал жгучую ненависть к тому, которого так бессовестно обманывал. О Каткове он не мог равнодушно говорить: злоба так и сочилась у него из каждого слова. Консервативные идеи он не мог достаточно сильно заклеймить, и теперь его главное мучение состояло в том, что его — убежденного либерала — многие считали консерватором из-за его прежних связей с Катковым. «Но, — говорил он, — я надеюсь еще показать, какой я консерватор!»
Такой тип российского гражданина я тогда встретил впервые, а их было очень много, и Моисей Гольденвейзер только резче большинства выражал в себе политическую бессовестность. В это время Катков уже умер (очень недавно, с год), и я стал расспрашивать Гольденвейзера о наличных руководителях «Московских ведомостей». Редактором-издателем сделался тогда Петровский. {148} Но Гольденвейзер сообщил мне, что в газете всем орудует собственно Грингмут, тоже ученик Каткова.
— Ну а он, — спросил я, — что же, убежденный консерватор?
— Грингмут настолько глуп, что воображает себя действительно убежденным человеком, — со злостью ответил Гольденвейзер.
Впоследствии я увидел еще Гольденвейзера в Москве. Жил он в Гранатном переулке, чуть ли не в собственном доме, и, во всяком случае, жил по-барски, в прекрасной обстановке. Жена его была красивая пышная барыня, вполне belle femme. Тут же за чаем вертелись и дети, помнится, еще маленькие. Гольденвейзер снова жаловался на то, что его считают консерватором... Жена, нежно улыбаясь, коснулась его рукой:
— Ну успокойся, будет время, все узнают твои истинные убеждения...
Не знаю, что у него было на уме, журнал он, что ли, затевал издавать? Но во всяком случае, ему не суждено было показать свои «истинные убеждения». Он скоро умер, и еще какой смертью! Был он в гостях, играл в карты. Ему везло. И вот, протянув руку за взяткой, он внезапно упал мертвым: его поразил апоплексический удар.
Любопытный интеллигентный тип представляла другая моя знакомая — Никитина Варвара. {149} Помнится, Александровна. Ничего оригинального в ней не было, личность самая заурядная, но именно потому типичная — и притом, так сказать, в хорошем смысле. По большей части «передовые» образованные женщины пропитаны самой противной пошлостью. Ничего такого не было в Никитиной. Маленькая, миниатюрная, с мелкими чертами лица, нисколько не красивого, но симпатичного, бедновато, но чистенько одетая, вечно занятая какими-нибудь «прогрессивными» делами, она была так скромно счастлива уверенностью в своем причастии высшей человеческой жизни, что обезоруживала всякую насмешку. Ее симпатичность именно и зависела от этой скромной убежденности. Лично о себе она ничего высокого не воображала, а высоко ставила только ту просвещенную и передовую жизнь, которой жила. И все у нее было такое маленькое и скромное. Квартирка крохотная, но чистенькая, даже не без украшающих безделушек, и мебель такая же чистенькая и маленькая. Жила она с г-жой Блонской, полькой, такого же типа, только менее образованной. Они были сердечные, неразлучные друзья. Блонская занималась больше но хозяйственной части, Никитина постоянно была погружена в высшие интеллигентные задачи. Блонская гордилась своей Варей, и обе любили друг друга, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в юбках. Тихое счастье веяло в их уютной квартирке. Но счастье окружало Никитину и за стенами квартиры. Она жила в самом передовом культурном обществе Парижа, центра мировой культуры. Петр Лаврович Лавров был ее другом и любил посидеть у нее. Известный ученый Летурно был ее возлюбленным, то есть вроде мужа (хотя он был женат на другой). У нее собирались известные парижские деятельницы по эмансипации женщин и по уравнению прав женщин с мужчинами. Мне пришлось видеть у нее этих деятельниц и слышать их горячие дебаты. Особенно отличалась англичанка m-lle Эдвардс, приехавшая в Париж для агитации. Француженки, которых я видел у Никитиной, были на подбор некрасивы, вроде нес самой, но m-lle Эдвардс, крупная, прекрасно сложенная, с великолепным цветом лица, была просто красавица, и притом энергична и красноречива. Даже любопытно было послушать ее обличения коварства мужчин, не желающих допустить женщин к деятельности под предлогом того, что они будто бы не обладают нужными для этого способностями. M-lle Эдвардс рассказывала о своем свидании с каким-то министром, который ей это высказал. «Но мужчины лгут сознательно! — восклицала она. — Jls savent, gue nous pouvoyious faire tout ce gu'ies tont (они знают, что мы можем делать все то же, что делают они) Они поэтому и не дают прав на деятельность». Меня так и подмывало сказать ей: «Мадемуазель, такой ли хорошенькой девице разглагольствовать об этих глупостях!» Другие деятельницы тоже обличали мужчин. Одна только что возвратилась от какого-то государственного человека, которому эмансипированные дамы подавали прошения о допущении их к разным должностям, доказывая, что у женщин такой же разум, как у мужчин. Но коварный мужчина ответил ей: «Madame, vous me prouves vous meme, que les femmes n'ont pas de la raison (мадам, вы сами мне доказали, что у женщин нет для этого причины). Вы требуете допущения на целую кучу должностей, но il ne faut jamais demander trop a la fois (никогда не следует требовать сразу многого). Требуйте поменьше, исполните хорошо то, что дадут, и тогда идите дальше. Вот как действуют рассудительные люди».
Сама Никитина не хлопотала о должностях, она вела пропаганду литературную, занималась журналистикой, проникнувши при помощи Летурно и во французскую печать. Писала она усердно и успешно, так что ко времени нашего знакомства уже зарабатывала достаточно для жизни. Это опять наполняло ее счастьем. Точно так же она радовалась и гордилась, что у нее такой возлюбленный — профессор, известный ученый. Я у нее именно и познакомился с Летурно. Это был уже пожилой человек, толстенький, полный сознания своего достоинства, очень флегматичный, по убеждениям социалист и охотно познакомился со мной как с известным русским революционером. С первых же слов он заявил себя социалистом, скромно прибавивши: «Chez nous c'est plus facile, que chez vous» (для нас это значительно легче, чем для вас). На вид он казался очень добродушным, но совсем непригодным в качестве персонажа для романа. Как бы то ни было, я с удовольствием вспоминаю это тихое гнездышко «прогрессивной» женщины и с грустью думаю о его внезапном разрушении.
Странно, что Варвара Александровна как будто предчувствовала смерть. Она говорила Блонской, что чувствует себя слишком счастливой. Много было трудностей в прошлом, все прошли, все разгладилось, все хорошо, она устроилась, кругом любящие люди. Это не может так остаться... Она наверно умрет. И хотя все эти мотивы для смерти, казалось бы, очень недостаточные, но предчувствие ее не обмануло. В холодную дождливую погоду, ездивши куда-то далеко по делам, она схватила жестокую инфлюэнцу, которая покончила с ней в несколько дней. Никитина была такая худенькая, слабосильная, что нетрудно было болезни с ней справиться... Бедная Блонская была в отчаянии...
Худая и желтая лежала Варвара Александровна на кровати, приготовленная к погребению. В комнате толпилось десятка полтора друзей, пришедших сказать последнее «прости». Время от времени вносили венки от разных лиц. Блонская расставляла их вокруг покойницы... «Espaser beau», — повторяла она посыльным, то есть: «Ставьте венки в порядке». А потом обращалась к покойнице: «Варя, Вари, недобрая, зачем же ты ушла, зачем меня оставила?» — и опять бросалась что-нибудь готовить к выносу тела. Похороны, конечно, были скромные, но за гробом, покрытым венками, все-таки шло несколько десятков человек — и все были печальны. Варвару Александровну любили все ее знакомые, а уж о Блонской и говорить нечего. Она с ней теряла полжизни.
В эту минуту она, конечно, не думала; какой ужасный конец ожидал ее саму через немного лет. Происходил в Париже какой-то крупный благотворительный базар. Блонскую пригласили участвовать в продаже. И вот на базаре произошел пожар, парусинные перегородки, пересекавшие помещение во всех направлениях, вспыхнули как солома. Началась паника, толпы посетителей давили друг друга в безумном смятении. Несколько человек сгорело, и в числе их Блонская. Это произошло, когда я уже возвратился в Россию.
Во время же нашего пребывания в Париже, сказать мимоходом, произошел знаменитый пожар в «Опера Комик». Я не был, к счастью, ни в театре, ни даже поблизости, так что знаю об этой страшной катастрофе, стоившей жизни нескольким сотням зрителей, только по газетам и городским толкам. Рассказывали, что обезумевшая толпа загородила сама себе все проходы, многие ножами прокладывали себе муть, но это мало помогало, потому что бегущие зрители падали и образовывали своими телами целые баррикады, через которые невозможно было перебраться. Не более счастливы были и более хладнокровные, решившиеся не выходить из лож, пока не схлынет толпа. Они задохлись в ложах от дыма... Меня особенно поразил рассказ об одной провинциалке, приехавшей в Париж получать наследство. Окончив все хлопоты, она в самый день пожара получила деньги, несколько сот тысяч франков, и на радостях пошла в «Opera Comique», где и сгорела. Какая страшная насмешка злой судьбы!
Мне довелось впоследствии быть за кулисами в одном парижском театре, и я только дивился, как эти театры не горят каждый день. Тогда освещение было газовое; электрическое только начинало прокладывать себе триумфальный путь. Газовые рожки торчали за кулисами повсюду. Непосвященные не знают, что сцена обвешана со всех сторон несколькими слоями декораций, заранее заготовленных. И вот между ними, среди этих размалеванных тряпок, всюду горят рожки газа, за которыми даже и следить невозможно, потому что они скрыты декорациями. Совершенно непонятно, как эти колыхающиеся полосы материи не вспыхивают каждый день. Беспечность надзора за огнем поражала меня. Люди ко всему привыкают. Не было пожара ни вчера, ни месяц назад, ни даже несколько лет — и вот все привыкают небрежничать и не думать о катастрофе, способной разразиться ежеминутно.
XIX
Между тем дела наши шли очень неважно. «Вестник „Народной воли“» выходил очень медленно, а потом возникла очень крупная неприятность, угрожавшая ему. Турский, давший нам типографию, потребовал ее обратно, утверждая, что дал ее на время, пока она не понадобится ему самому. Голдовский уверял, что это неправда и что Турский отдал типографию «Вестнику „Народной воли“» совсем, без возврата. Кто из них прав — не знаю. Записка, которой Турский отдавал типографию, написана, по-моему, неясно, и скорее можно думать, что типография отдана нам небезусловно. Но Марина Никаноровна горячилась, говорила, что Турский врет и что типографию ни в каком случае не следует отдавать. Разумеется, главная причина такой решимости не отдавать состояла в том, что без типографии нам невозможно было бы продолжать издание: хоть закрывай лавочку. Показала она мне записку Турского. Я нашел, что в ней нет отказа его от права собственности и что, стало быть, хочешь не хочешь — нужно отдавать.
— Ну а как же быть без типографии? — горячо спрашивала она. — Ведь нам тогда погибать.
— Что же делать, — говорю, — погибать так погибать, но нужно быть честными.
Она страшно рассердилась.
— Вот напала на него честность! — почти закричала она.
Я отвечал, что я всегда был честен и полагал, что и она тоже... Между нами произошел крупный, неприятный разговор, близкий к ссоре. Я не помню, как она окончательно решила вопрос. Но на типографию вообще обрушились бедствия. Я уже говорил о нахальных выходках шпионов Рачковского... Так вот что они наконец выкинули. По женевским патриархальным нравам, в типографии никто не жил, и она на ночь оставалась без всякого присмотра, только двери запирались на ключ. Однажды утром приходит Бохановский с товарищами на работу и видит, что двери отворены и типография разгромлена. Видно, что шпионы действовали очень торопливо, боясь быть захваченными. Поэтому они не произвели полного разрушения, но все-таки навредили ужасно. Кое-что поломали, шрифты сначала стали рассыпать, но, должно быть, нашли, что это долгая канитель, а потому просто исчеркали напильником сверстанные наборы, перепутав таким образом шрифты. Конечно, ущерб типографии был огромный, работа была надолго приостановлена, и значительная часть шрифта годилась только на новую переливку...
Это безобразие осталось безнаказанным. Да и на кого было жаловаться? Где полиция могла искать преступников?
После того пошла чепуха и у самого Голдовского. Он был влюблен в одну студентку, Ольгу Павелко, и — непостижимо для меня — добился взаимности. Он был совсем не хорош внешне, не отличался ни умом, ни какими бы то ни было способностями, был просто хороший, добрый человек. Павелко же была прямо красавица. Высокая, стройная как тополь, румяная, молодая, с прекрасными чертами лица. Как могли они сойтись? Женская фантазия... Но в Женеве появился один эмигрант, красавец, способный, энергичный. Я его не видал и обрисовываю по слухам. Жил он, помнится, под именем Петрова. Он начал ухаживать за Ольгой Павелко, и, по слухам, не без успеха. Для бедного Голдовского начались мучения ревности. Он совсем сходил с ума и в один день, явившись под окнами Павелко, у которой сидел Петров, выстрелил из револьвера... Никого он не убил и не ранил, но скандал, разумеется, вышел большой — на всю эмигрантскую Женеву. Ну и конечно, Голдовский, при таких личных трагедиях, был весьма отвлечен от революционных дел.
Нужно сказать, однако, что его роман с Павелко не прекратился. За границей я о них больше не слыхал, но года через два-три, находясь в Петербурге, узнал, что Голдовский возвратился в Россию и назначен к высылке административно в Сибирь. Павелко тоже возвратилась в Россию — она не была эмигранткой и могла это сделать свободно. Голдовский в ожидании высылки содержался в тюрьме, Павелко подала прошение о разрешении с ним венчаться и добилась-таки этого. Но, давши Голдовскому — в то время, понятно, носившему свое действительное имя Иохельсона — такое доказательство своей верности, она, однако, не поехала с ним в ссылку, а осталась в России. Не берусь распутывать эту психологию. Не знаю также, где Голдовский принял православие, без чего не могло бы совершиться бракосочетание.
На меня самого обрушились одна за другой беды. Сначала заболел мой сын. маленький Саша. Это было тягчайшее испытание для меня и для жены. Но я об этом рассказываю подробно в другом очерке («Enfant Jesus») и теперь не буду повторять.
Революционная элегия
В длинном ряду образов прошлого, проносящихся в моем воображении, Андрей Франжоли и Евгения Завадская [46] встают какими-то загадочными, грустно-покорными тенями. Так и хочется сказать им: зачем вы так тихо шепчете, отчего не скажете громче, для чего вы жили и томились и нашли ли где-нибудь то, чего не получили здесь, среди нас?
Они оба были очень хорошие люди, и у них было все для того, чтобы оставить что-нибудь по себе. Но прошла их жизнь, и не разберешь за ней ничего, кроме туманной светящейся полосы без определенного содержания, хотя это все же полоса света, а не тьмы.
Андрей Франжоли был родом южанин — не то из Херсона, не то из Кременчуга, очень мешаного племени и сохранял даже австрийское подданство. Но по душе это был чистый мужик-малоросс. Хотя он принадлежал к интеллигенции — по профессии помощник аптекаря, но сам язык его сохранял южнорусский акцент и народные обороты и выражения, а склад мысли и симпатий — все было мало-русское.
Небольшого роста, нескладного телосложения, черноволосый, с резкими, неправильными чертами лица и крючковатым носом, он совсем не был красив. И речь его, нервная, дрожащая, не годилась для оратора. Однако и наружность, и речь его привлекали задушевностью, говорящей сердцу. Он был глубокий идеалист, живущий правдой, ищущий правды и верующий в нее. Имел ли он какую-нибудь религиозную веру? Определенной — конечно, нет, но и антирелигиозного ничего не выражал. Его настроение напоминает мне стихи Шевченко, которые он напевал козлиным голосом и которым я от него же научился:
Доле, де ти! Доле, де ти? Нема ниякои. Коли доброй жаль, Боже, То дай злой, злой! Не дай спати ходячому, Сердцем замирати И гнилою колодою По свиту валятись. А дай жити, сердцем жити И людей любити, А коли ни — то проклинати И свит запалити!..В этом настроении есть что-то бессознательно-религиозное, и «правда» Франжоли, во всяком случае, ничем не разнилась от христианской. Вообще, хотя он считал себя социалистом, но, как и у многих тогда, этот социализм выражался только в требовании, чтобы люди не притесняли и не эксплуатировали друг друга и жили по справедливости. Во всем этом было больше анархизма, чем определенного социализма, и таким идеалистам казалось, что только злая, сверху давящая сила мешает людям жить счастливо, по правде.
Может быть, ему, по содержанию души, совсем не следовало втягиваться в революцию, а нужно было просто жить с людьми, пробуждая в них правду, зажигая в них чистую сердечную жизнь. Но, должно, слишком уже мало правды чувствовалось кругом, и осиротелое сердце потянуло «проклинати» и «свит запалити».
Да притом революционное движение в начале 70-х годов захватывало эпидемически молодые слои интеллигенции, имея тот народнический характер, который именно окрашивал самую глубину души Франжоли. Он примкнул к общему движению (кружок Мартина Лангаиса) и был арестован за революционную пропаганду во время массовых арестов, из которых возник «большой процесс» («193-х»). По этому делу он и судился в Петербурге в 1877/78 году. По этому же процессу сулилась и Евгения Завадская. Франжоли просидел в тюрьме что-то очень долго, года два, помнится, и собственно приговором суда ему было вменено в наказание продолжительное тюремное заключение. Но приговор суда был очень сильно изменен высочайшим повелением от 21 мая 1878 года, и Франжоли попал в ту категорию, которая отдана была на три года полицейского надзора, с тем, что в случае нового проявления неблагонамеренности лица этой категории подлежат наказанию, определенному судом «по закону». Для Франжоли это составляло ссылку в Тобольскую губернию с лишением особых прав.
Завадская же по приговору суда была оправдана.
Во всяком случае, и Франжоли отделался от суда сравнительно очень дешево. Но за это время с ним произошло приключение, определившее во многом его последующую жизнь.
Когда его арестованного препровождали в общий резервуар обвиняемых — Петербург, он задумал бежать. Везли его по железной дороге в отдельном купе, под конвоем двух жандармов. Он сидел близ окна, а они — около дверей купе. На пути жандармы заснули, и Франжоли счел минуту благоприятной. Он открыл окно и на полном ходу поезда успел выпрыгнуть, прежде чем пробудившиеся стражи могли его схватить. Но торопливый прыжок вышел очень неудачен, он так сильно расшиб себе ногу, что едва мог подняться и уж совсем не мог бежать. Между тем поезд остановили, и жандармы бросились ловить Франжоли. Разумеется, его моментально схватили и водворили на прежнее место.
Нога его не была в прямом смысле сломана, но оказалась серьезно повреждена. Может быть, в костях была трещина. Нога сильно болела, Франжоли хромал, что дальше, то хуже. Очевидно, в ней развивался какой-то болезненный процесс. Совершенно не знаю, что с этим делали врачи, но никакого толка из лечения не получалось. Франжоли постепенно становился калекой.
Где он познакомился с Завадской — я не знаю. Не помню и подробностей ее политической деятельности. Судилась она по «процессу 193-х» и была оправдана. Во всяком случае, деятельность ее была мелкая, незаметная. Но саму личность Завадской я хорошо помню. Тихая, скромная, молчаливая и замкнутая, она была очень умна и производила впечатление натуры, богатой внутренними силами. Это чувствовали все окружающие и постоянно очень уважали ее. Конечно, она была способна к крупному, серьезному делу. Почему она не бралась ни за что подобное? Потому ли, что не находила ничего способного ее удовлетворить? Потому ли, что крупное дело требует от человека всецело отдаться ему, а Завадская не могла уже этого сделать с тех пор, как встретилась с Франжоли? Может быть, она не умела делить своего сердца — а полюбила она своего Андрея действительно всей душой. В нем она встретила нежную, любящую натуру, в которой можно было поместить все свое чувство. Он сам был в таком же роде, как она. Чтобы «проклинати» и «свит запалити», нужна ненависть, а ему дано было «сердцем жити» и «людей любити».
Завадская тем полнее отдалась Франжоли, что он все более начинал нуждаться в уходе. Нога все сильнее разбаливалась, и это отражалось на всем здоровье.
Не знаю, почему они не венчались, да и вообще, правду сказать, не могу хорошо разобраться в их отношениях. Детей у них не было. А жили они неразлучно вместе, в самом нежном дружелюбии, в самой трогательной заботе друг о друге. После суда они жили где-то в Харьковской губернии, [47] поддерживая старые знакомства и дружеские связи со своей революционной средой. Франжоли {150} особенно любил народовольцев — партию не только самую крайнюю в те времена, террористическую, но даже упорно ведшую попытки на цареубийство. Но мне кажется, что его больше притягивали люди, тогда подобравшиеся у народовольцев из самых горячих и самоотверженных элементов. При всех этих симпатиях Франжоли не принимал никакого участия в делах, кроме каких-нибудь мелких услуг. С ним любили говорить, ценили его мнение. Он был действительно весьма умен и рассудителен. Нравственный ею авторитет стоял высоко. При всем том он находился в бездействии. Некоторая его инвалидность не может этого объяснить, потому что в революционных делах есть функции, при которых она не мешает, а даже очень выгодна, как, например, для официальных хозяев конспиративных квартир. Раз как-то его и вызвали в Петербург, рассчитывая к чему-нибудь пристроить, и они с Завадской {151} приехали. Но выходило так, что ни к чему его нельзя было приспособить. Я говорю о нем потому, что Завадская уже не имела самостоятельного бытия, жила при Андрее, для Андрея, с ним бы пошла всюду и без него никуда.
Когда подумаешь, что они так долго, в сущности, ничего не делали, то даже удивительно становится, до какой степени они удовлетворяли и наполняли друг друга совместной внутренней жизнью. Они как будто могли жить только друг другом, составляя какой-то маленький, но законченный микрокосм. Что было в этой жизни? Чем они обменивались? Ведь оба они были существа развитые, сложные, с разнообразными запросами, растительной жизнью не могли удовлетворяться. Да и какая там растительная жизнь?. Они жили бедно, скудно, аскетически. Мне теперь даже приходит на мысль; не было ли в их микрокосме чего-нибудь мистического, никому не открываемого?
Я к ним заходил в Петербурге. Они себе приискали какую-то жалкую квартирку в две комнаты, с сенцами и маленькой кухней. Комнаты были грязны. Мебель, очевидно хозяйская, очень убогая. Когда я пришел, Франжоли возился с промыванием масла в соленой воде. Масло, объяснил он, прогоркло, но если его хорошенько отмыть в нескольких водах, то сделается вполне пригодным. Он любил возиться с домашним хозяйством. Меня, конечно, более интересовали южные новости.
Они оказались невеселыми. О ком ни спросишь — «арестован», «сидит в тюрьме». Потом, понижая голос, с некоторым ужасом говорит: «А вот с NN (он назвал нашу общую приятельницу) совсем плохо». — «Что же такое?» — «Да что — прелюбодействует». Он, собственно, употребил более выразительное, мужицкое, грубое слово... «Муж в отсутствии, а она прелюбодействует». Чудачный человек: его все еще могли удивлять и приводить в негодование такие вещи. Мы даже забыли заповедь «Не прелюбы сотвори» и в подобных случаях выражаемся: «Она увлеклась». Но Франжоли как был, так и остался старобытным мужичком.
В Петербурге они пробыли недолго. По городу шли лорис-меликовские обыски и аресты, а Исполнительный комитет пустил предостережение по «радикальному» миру, чтобы все убирались из города, так как будет еще хуже. Он подготовлял 1 марта 1881 года. Франжоли с Завадской тоже выпроводили, и куда они уехали — не знаю. Я их увидел потом только в Женеве.
У него же произошла за это время окончательная катастрофа с ногой. Бедренная кость совсем переломилась, так что он-не мог ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Кажется, это была правая нога. Положение выходило самое сложное. По всей России по случаю 1 марта 1881 года шли страшные аресты. Франжоли с Завадской жили в революционной среде и в этих погромах делались все более одинокими, беспомощными, да могли, конечно, и сами быть привлечены к делу. Что же сталось бы с Франжоли, если бы потревожили Завадскую?
В этом положении вещей она решила увезти его за границу. Страшную массу энергии, даже вдохновения она должна была найти в себе для исполнения этого. Начать с того, что требовалось получить заграничные паспорта в такое тревожное время. Могу себе представить, что Завадской понадобилось развить много дипломатического искусства, чтобы раздобыть паспорта — все равно, легальные или фальшивые. Но переезд был нелегок и в материальном отношении. Положим, у Франжоли или, точнее, у Завадской были маленькие средства. Они жили бедно, но самостоятельно и никогда не прибегали к «партийной» помощи. Но Франжоли можно было повезти только на носилках. Вставать он не мог и в лучшем случае способен был полулежать, облокачиваясь на руку. При таких условиях провоз по железным дорогам крайне усложнялся и удорожался. Но перед Завадской носилась светлая мечта. Андрей еще молод. За границей она найдет искусных докторов. Там он будет находиться в животворном воздухе, в полном душевном спокойствии, он поправится, хотя бы остался без одной ноги. Он будет жить. И Завадская все устроила, преодолела все трудности и довезла-таки Андрея до Женевы.
Здесь она его устроила прекрасно: в предместье, кажется, в стороне Пленпале, во всяком случае, на свежем, здоровом воздухе, среди садов. Их квартира помещалась в доме среди большого двора с множеством цветов. Франжоли лежал в просторной комнате, светлой, с большими окнами. Когда я пришел к нему, он очень скоро стал с волнением рассказывать о своем несчастье с ногой. Он ничего подобного не ожидал, как вдруг однажды, когда он стоял около эй стола, нога хрустнула, и он повалился на пол Как все больные, он готов был несколько раз повторять историю этого момента, превратившего его из живого человека в какой-то неподвижный кусок мяса и костей. Впрочем, первое время он все-таки был доволен и даже относительно весел. Из окон напротив себя он видел солнце, вдыхал чудный воздух. Его выносили и на двор на кровати, и он лежал среди роскошных цветов и кустов. У него сначала была и надежда, что лечение даст добрые результаты. Но, увы, ничему подобному не суждено было осуществиться.
Я не видал врачей, не знаю, что они с ним делали и имели ли сами какие-нибудь надежды. Но никакой операции с его ногой не делали. Сверх того, у него начали развиваться и какие-то другие болезненные процессы, и появилась водянка. Жизнь его в таком состоянии протянулась, пожалуй, с год. Завадская, понятно, неусыпно сидела над ним. Навещали его и друзья. Нашлись среди эмигрантов кое-какие знакомые по России. Вообще, положение было бы сносное, если бы он подвигался к выздоровлению. Но он, наоборот, медленно и неуклонно разрушался. Наконец дело разрешилось катастрофой, но такой, что никто и не ожидал.
Я в это время перебрался из Женевы в деревню Морне, на горе Салев, высящейся над городом и кантоном. Ходу к нам прямой дорогой было часа три, так что я не мог часто бывать в Женеве и Франжоли довольно долго не видал. Как вдруг однажды прибегают ко мне из города и сообщают, что Франжоли и Завадская умерли: оба отравились.
Я отправился в город и там узнал много странного.
Соседки, постоянно бывавшие у Франжоли и очень сдружившиеся с Завадской, могли близко наблюдать их жизнь и отношения, время от времени слышали отдельные слова и отрывки их конфиденциальных разговоров, так как неподвижно лежащему больному трудно конспирировать. Завадская иногда пускалась и в очень откровенные излияния. Наконец, само отравление его и се совершилось, можно сказать, на глазах у приятельницы Завадской. Соединяя все эти отрывочные сведения, освещенные окончательно только трагедией самоубийства, можно было составить себе полное представление о том, как все это произошло.
Завадская еще раньше говорила, что у них с Андреем давно решено умереть вместе, как жили вместе, или — в другой форме — «не расставаться и в смерти». Слушатели не придавали этим словам никакого серьезного смысла, потому что речь шла не о самоубийстве, а была просто выражением пожелания. Потом, незадолго до самоубийства, у Франжоли с Завадской в их разговорах наедине слышны были словечки, из которых теперь можно заключить, что у них начались приготовления к совместной смерти. Передававшая мне это особа даже выражала полную уверенность, что хотел этого, собственно, Андрей и уговаривал Завадскую, которая как будто колебалась и не хотела умирать.
В самый день самоубийства (это было 6 августа 1883 года) та же особа была у Франжоли. Он лежал живой, но молча и как будто в забытьи, однако делал Завадской рукой знаки, которые, как теперь можно понять, звали ее за Франжоли, к нему. Вероятно, он только что принял яд (то есть опиум), который уже начал действовать, но Франжоли еще не заснул. Завадская же была очень нервная и взволнованная. В руках у нее был пузырек, но так как у них постоянно возились с лекарствами, то это не возбуждало никакого подозрения. Наконец Завадская прямо попросила приятельницу оставить ее одну, так как она страшно устала. При этом она передала ей конверт, прося отдать его такому-то лицу, если он зайдет. Приятельница удалилась и видела, уходя, что Завадская прилегла на грудь Франжоли и как будто готовилась вздремнуть.
Через несколько часов знакомые снова зашли к Франжоли и застали обоих уже мертвыми. Андрей лежал на кровати. Евгения, сидя рядом на стуле, обняла его руками и лежала головой на груди его. На полу валялся пустой пузырек от опиума.
Все усилия оживить отравившихся остались тщетны. Бывший помощник аптекаря хорошо рассчитал дозы яда, у обоих безусловно смертельные.
В конверте, оставленном покойницей приятельнице, оказалась записка, которая гласила, что она и Андрей оставляют полторы тысячи франков на издание биографий народовольцев. Эти деньги представляли остатки имущества покойной, кроме того, что пошло на погребение ее и Франжоли.
Что значит это решение «умереть вместе», что значат эти упорные призывы уже принявшего яд Андрея, обращенные к Евгении, которая даже и в этот решительный момент могла бы еще отбросить от себя роковой пузырек?
Мыслимы ли такие сговоры и такое поведение у людей, не верящих в загробную жизнь, где души могут встретиться и продолжать совместное существование? Но покончившие с собой унесли в могилу свою тайну, которая, может быть, могла бы объяснить не только смерть их, но и жизнь.
И вот их тени стоят перед моим воспоминанием, молчаливо печальные, и не дают ответа на вопрос: зачем они жили в той совместной жизни, которой глубочайшее содержание никому не открыли?
Богомолье на rue Daru
«Отправимся на богомолье, — говаривали мы с женой, собираясь в русскую парижскую церковь, — давно не были». Это для нас было действительно целое богомольное путешествие.
От Москвы до Троицы Сергия в старину требовалось езды по железной дороге два часа, а на ярославском поезде — даже всего полтора часа. С извозчиками на богомолье выходило, значит, часа три езды, От нас же до rue Daru приходилось ехать хотя и меньше, но все-таки добрых часа полтора.
Мы жили тогда в самом конце avenue du Maine, около предместья Монруж. Rue Daru, на которой стоит православная церковь, находится на противоположном конце города, около парка Монсо. Чтобы попасть туда от нас, нужно было пройти порядочный конец пешком, переменить несколько трамвайных линий и, наконец, опять пешком, хотя уже и немного.
О своей русской церкви мы долго не имели никакого понятия. Все время пребывания в Париже мы жили на южной стороне города, на avenue Raille, около Монсури, потом перебрались за город, в Ле-Ренси, верстах в сорока от Парижа, а возвратясь оттуда, наняли квартиру на avenue du Maine. Таким образом, мы всегда были на очень далеком расстоянии от русской церкви. Зайти в нее мимоходом нельзя было, для этого требовалось специальное намерение посетить православный храм, а такого намерения не могло у нас возникать все время, пока религия оставалась чужда нашей обычной жизни. По всем причинам я в течение нескольких лет ни разу не удосужился хотя бы из любопытства побывать в русской церкви. Правду сказать, я даже чувствовал к ней какую-то предвзятую антипатию. Церковь эта посольская и мне представлялась каким-то казенным учреждением, в котором мне совсем не место. Посольство, консульство, церковь — все это сливалось в моем ощущении в нечто единое, хотя посольство находится на Сен-Жермен, а церковь — очень далеко от него, на rue Daru.
А между тем я в это время уже много бродил по католическим храмам в смутном влечении к местам, где люди ищут и находят Бога. Это влечение у меня, да и у жены, постепенно нарастало все более и именно во время нашего жительства в Ле-Ренси завершилось полным возвращением к вере. Смертельная болезнь маленького сына, выздоровевшего только каким-то чудом, была решающим толчком, вырвавшим у меня молитву к неведомому Всемогущему Распорядителю человеческих судеб. И я искал Его, хотел к Нему приблизиться.
Часто заходил я в католические церкви, долго в них простаивал, и они что-то такое давали мне. Трудно передать словами эти настроения. Бывал я, например, и в протестантских церквах. В них все было так холодно, так чуждо мистичности, что мне казалось: в этой обширной зале, похожей на школу или аудиторию, совсем нет Бога. Может быть, здесь собрались и хорошие люди, может быть, даже искренне верующие. Но Бога здесь я не ощущал. Совсем не те чувства охватывали меня в римско-католических храмах. Я сердцем чуял, что Бог тут, несомненно, присутствует. Он, конечно, слышит молящихся. Здесь я около Него. Я не анализировал своих ощущений, но они были именно таковы. Теперь, оглядываясь назад, я склонен думать, что они порождались обстановкой. В обрядовой обстановке у римо-католиков, как и у православных, каждая черточка создавалась горячим религиозным чувством, стремлением к Богу, и только к Нему. У протестантов обстановка создавалась рассудочным разысканием истины о Боге и рационалистическим поучением. И потому-то, должно быть, в их храме чувствуется только человек, а не Сам Бог... У католиков чувствуется — Бог...
И все-таки я не получал полного удовлетворения среди молитвы римо-католиков. Я оставался чужд ей, и не только потому, что моя Церковь воспрещает молиться с иноверцами. Это запрещение я помнил и ни разу его не нарушил, но, если бы и не было такого запрещения, мне трудно бы было слиться с окружавшей меня толпой в общей молитве. Чудно хороша римско-католическая служба, и глубоко захватывает она душу. Но я в ней не находил того, чего больше всего искал в то время, — той задушевности, которой полон православный обряд. Я искал Бога, но не как грозного повелителя и судью, а как любящего отца. Психологический момент моего религиозного настроения был таков, что я не столько каялся в грехах, сколько искал милости, любви, благостной поддержки. По моему настроению мне нужна была русская православная молитва.
К ней нас с женой вообще все больше тянуло, и все о ней напоминавшее радостно отзывалось в душе. Как сейчас помню светлое лицо жены, услыхавшей колокола нашего Сен Пьера. Мы тогда только что перебрались на avenue du Maine. Наша квартира была на четвертом этаже, и на противоположной стороне улицы, дома через три от нас, находилась католическая церковь Saint Pierre. Ее колокола приходились как раз на уровень нашей квартиры, и при открытых окнах их звон врывался в комнаты так густо и полно, как никогда не услышишь на улице, хотя, конечно, сравнительно с нашими колокола были очень невелики. Утомленный переборкой, я заспался, а жена, рано проснувшись, отворила окна и занялась вытряхиванием запыленных вещей. Поднявшись с постели, я увидел, что она, высунувшись на улицу, так и застыла в окне. Я ее окликнул:
— Что ты там рассматриваешь?
Она обернулась, радостная и сияющая:
— Да ты послушай. Какая прелесть! Так и кажется, что мы в России!..
Она заслушалась колоколов, как музыки. И действительно хороша была музыка эта, навевавшая на душу ощущение молитвы и далекой родной земли.
В Saint Pierre'е я стал захаживать часто, водил туда и сына Сашу. Это была высокая-превысокая церковь чисто готического стиля. Не скажу, чтобы она была красива снаружи, но внутри стрельчатые своды, тонувшие в сумраке потолка, и даже этот таинственный сумрак производили сильное впечатление. Она была очень темна, так что во время службы всегда освещалась газовыми фонарями, тянувшимися по обеим сторонам церкви. Много я тут насмотрелся разных служб, видел даже крестный ход. Не помню, какой это случился праздник. Зашел я накануне в церковь и узнал, что в ней будет говорить один знаменитый проповедник, а на сам праздник приглашен хор оперных певцов. Народу набилась бездна, так что густая кайма молящихся стоя окружала сплошь заполненные скамейки. Проповедник говорил действительно прекрасно и даже меня, постороннего, пронял, когда коснулся предстоящего крестного хода. Он вспомнил торжественные крестные ходы недавнего прошлого, когда Церковь была еще свободна во Франции. Обрисовавши их картину, он вздохнул: «Увы, мы теперь уже не можем славить нашего Господа так, как в прежние времена. Закону должно подчиняться. Ну что же, мы сделаем все, что можем». Сделать много было, однако, нельзя, и крестный ход вышел довольно жалкий. По закону он не может выходить на улицу, и это еще хорошо, что у Saint Pierre'а был довольно большой двор и узенькая полоска земли, обнесенная железной решеткой, окаймляла его даже со стороны улицы. Но полоска была так узка, что по ней не могли идти в ряд даже два человека, и густой толпе, наполнявшей сзади двор, приходилось дефилировать по ней тоненькой нитью. Грустно было смотреть на это, вспоминая родину, где в те времена под сенью православного государства Церковь справляла свои торжества с такой силой и славой.
Жена моя мало посещала католические церкви. Они ей не нравились. Но маленький сын повсюду бывал со мной и сам просился идти в церковь, видимо, вынося из нее сильные мистические впечатления. Он, конечно, более меня поддавался очарованию католического обряда, потому что не имел еще никакого понятия о каком-либо другом. В русскую же церковь, как сказано, я долго не ходил по предвзятому предубеждению и в первый раз познакомился с нею благодаря семейству Эшен.
Не могу не помянуть добрым словом эту милую, оригинальную семью, давшую, не зная того, немало толчков начавшейся во мне эволюции, которая вела меня одновременно к Богу и православной родине. Не помню, кто доставил мне у них урок русской словесности для их младшей, 15-летней дочери. Сама m-me Эшен была русская, из хорошей аристократической семьи Чебышовых. Еще маленькой ее отдали во французский пансион в Париже, где она и выросла, каким-то чудом не обращенная в католичество.
Полуофранцуженная, она, однако, всей душой тянулась к родине, к России. Уже в пансионе она влюбилась в m-r Эшена, замечательного в нем красавца, и вышла за него замуж. Тут, казалось бы, должны были окончательно прерваться нравственные связи ее с Россией, но у нее вышло наоборот. Перед опасностью безвозвратно слиться с чужой страной русское чувство вспыхнуло в ней целым пожаром, и она с женским упорством начала переламывать свою жизнь. Она даже мужа выучила по-русски, а когда у них пошли дети, она выписала из России для них няню, чтобы их с колыбели окружал звук родной речи, мотивы русской песни, фантастические узоры русской сказки. Когда дети подросли (их было две девочки), она стала ежегодно возить их в Россию. «Уж мне Бог судил выйти замуж за француза, — говорила она мне при муже, — так я хочу, чтобы хоть дети мои повыходили замуж за русских». А сам Эшен сидел тут же и добродушно улыбался... И m-me Эшен таки добилась своего. Она потом, уже после меня, перетащила мужа совсем в Россию, и ее маленькие барышни действительно вышли замуж за русских.
Я очень быстро подружился с этой милой семьей. Сама m-me Эшен, когда-то, очевидно, красавица, была замечательно симпатична, барышни тоже умненькие, хорошенькие, даже и муж видимо хороший человек. Моими уроками она была очень довольна, как и я своей ученицей. А что я был эмигрантом, m-me Эшен знала, но не обращала на это никакого внимания и с высоты своей патриотической самоуверенности, очевидно, не могла и представить себе, чтобы я мог оказать какое-нибудь вредное влияние. Да и действительно, барышни были насквозь пропитаны духом матери. Часто m-me Эшен оставляла меня завтракать, и тут у нас происходили оживленные беседы.
Патриотка она была отчаянная. При ней нельзя было и слова сказать против России, а уж особенно против Царя. Я как-то вскользь заметил, что о способностях нового Государя, Императора Александра III, приходилось иногда слышать скептические отзывы. Она внушительно ответила, что русские ничего подобного не говорят. «У нас, у русских, правило: относиться к Царю с благоговением, какой бы он ни был, способный или неспособный». Так она мне сразу указала, чтобы я у нее Царя не смел касаться. «Для настоящих русских, как Чебышовы, Царь и Россия — неразделимы». Она очень гордилась своим родом и сообщила, что в нашей истории Чебышовы явились еще со времен осады Козельска.
Догадываясь, что Чебышовы наверное должны быть из татар, я с улыбкой спросил, где же были ее предки при осаде Козельска: внутри городских стен или снаружи? «Да, — отвечала она, не смущаясь, — они, к сожалению, штурмовали Козельск, но это ничего не значит: мы с тех пор так и остались в России...»
Разумеется, Эшены в Париже жили обычной русской церковной жизнью. Они бывали в церкви, и мне приходилось часто слышать, какая была служба, как справлялось то или иное торжество, как были наряжены те или иные дамы и т. п. Эти разговоры постепенно примиряли меня с посольской церковью, да и совестно было сознаться, что я в ней никогда не был. Я решился взглянуть, что такое за церковь, благо Эшены жили недалеко от нее и го пути на урок легко было зайти к обедне. Таким-то образом я наконец попал на rue Daru. Церковь в противность ожиданию произвела на меня самое приятное впечатление. Храм в русском стиле, окруженный садом и домами причта, напоминал обычный церковный погост. Внутри было, пожалуй, даже чересчур чисто, красиво и роскошно. Да и сами богомольцы на подбор состояли из людей видимо зажиточных. Вообще, церковь имела весьма аристократический вид. Но служба шла чинно, хор пел прекрасно, и в общей сложности я впервые после многих лет почувствовал себя на родине. Это был вполне уголок России. Ничего подобного я не ожидал.
Придя домой, я сообщил жене о сделанном мной открытии России в самых недрах Парижа. Она обрадовалась: «Как же мы этого до сих пор не знали? Непременно нужно отправиться». Но это легче было сказать, чем сделать. Начали соображать дорогу: даль ужасная, времени потребуется прямо целый день. Туда и обратно — часа три да там часа полтора. И какого времени: самого такого, каше нужно на домашнее хозяйство. Утром нужно было побывать на рынке и в лавках, потом идет разная стряпня или подготовка к ней. Да еще приходила к нам часов, помнится, в одиннадцать-двенадцать, femme de menage для разной уборки, чистки, вообще помогать в хозяйстве. Я распоряжался своим временем более свободно. Конечно, были дни, когда мне, как корреспонденту, непременно нужно было быть в палате депутатов или в каком-нибудь другом месте или идти на какие-нибудь совещания с моим издателем, вообще бывали неотложные дела. Но было немало дней, которыми я распоряжался свободно. Положение жены было хуже: домашнее хозяйство сильнее связывает руки... Таким образом, у нас несколько раз поднимались разговоры о русской церкви, но поездка туда каждый раз откладывалась, и уж не знаю, чем бы это кончилось, если бы не мысль о сыне, начинавшая меня все более беспокоить.
Как я говорил, он очень любил ходить в католические церкви, и сначала я был доволен этим, но потом стал задумываться. А что, если он у меня выйдет совсем римо-католиком? Он был четырех-пяти лет, в возрасте самых тонких впечатлений, которые врезываются у ребенка на всю жизнь. Что, если он в конце концов настолько свыкнется с католическим обрядом, что он ему станет совсем родным? Это меня пугало. Моя религиозная эволюция шла по линии православия, и я хотел, чтобы сын мой вышел тоже православным, тем более что мечта о возвращении в Россию, как ни казалась она невозможной, втихомолку все чаще посещала меня. Я не говорил об этом никому, даже жене, но сам часто размышлял, нельзя ли как-нибудь преодолеть препятствия, закрывавшие нам дорогу в Россию. И потому-то видимая привязанность мальчика к католическому богослужению меня начала все более тревожить. А помочь тут могло только одно — влияние русского храма... если только еще не поздно, если только католические впечатления не пустили в душу ребенка таких корней, что уже и ничем не вырвешь. Я вспоминал, что, кроме хождения в католические храмы, наш мальчик еще в Ле-Ренси познакомился с общиной bonnes sceurs, монашек, с которыми случилось иметь дело жене. Ей понадобилось отыскать для одной русской девушки дешевую практику французского языка, и она для этого поместила ее пансионеркой в местную общину bonnes sceurs. У этих монашек вся обстановка жизни оказалась самая привлекательная. Комнатки чистенькие, сами сестры добрые, ласковые, веселые... А в то же время неутомимые пропагандистки. Эту барышню, которую к ним поместила жена, они буквально с первого же дня стали обращать в католичество, нисколько не смущаясь ее пренебрежением к какой бы то ни было религии. Вот я и размышлял, что до сих пор все впечатления от католицизма, доходившие до нашего Саши, были на подбор привлекательные, затягивающие. Изо всего этого вытекал один вывод: что нам нужно как можно скорее побывать на rue Daru.
И мы наконец собрались и двинулись на «богомолье», как жена окрестила нашу поездку. День, помню, был светлый, веселый, погода превосходная, и сами мы радовались, и путь был интересный. Конечно, на пересадках скучно ждать очереди, но французская толпа умеет развлекаться при всех обстоятельствах; ее бойкая, оживленная болтовня сокращает время ожидания. Зато уж как сядешь в вагон, так со всех сторон открываются виды один интереснее другого. Я, как лучше знающий Париж, рассказывал Кате и Саше достопримечательности мест, попадавшихся по дороге, а многое они и сами знали. Тут между прочим приходилось проезжать мимо громадного здания (не помню, как оно называлось), где происходили разные выставки. О нем одном можно было проговорить целые часы. Мы тут были однажды всей семьей на замечательной рыболовной выставке, а я был также на конских состязаниях и на китайской выставке. О громадности здания можно судить по тому, что в нем происходили конские состязания. Потом это же место состязаний было наполнено водой и превращено в огромный, глубокий пруд, на котором свободно плавали рыбачьи суда...
Так в разговорах незаметно доехали мы до парка Монсо, откуда на rue Daru приходилось идти пешком. Забыл название этого проулочка, упиравшегося прямо в русскую церковь на rue Daru.
На углу этого переулочка оказалась булочная, которую моментально заметила моя жена. Француз-хозяин надумал открыть здесь торговлю русским хлебом: калачами, плюшками, разными кренделями и т. п.; уже по этому можно судить, что в церковь ходило много русских, покупавших отечественные хлебные изделия. Я, правду сказать, не обратил на булочную никакого внимания, когда первый раз ходил на rue Daru, но жена сразу заинтересовалась вывеской. «Надо, — сказала она, — взглянуть, что там такое». Зашли — и, можно сказать, пришли в восторг. Это была для нас первая русская встреча. Невозможно выразить, как радует на чужбине всякий пустяк, напоминающий о родине. «Смотри, Саша, вот какие печенья делают у нас в России...» У мальчика глаза разбежались. Он уже заранее приготовился встретить что-нибудь интересное, русское, а тут вдобавок оно имело такой вкусный, заманчивый вид... Но мы торопились к другому. «Зайдем на обратном пути, а теперь — в церковь», которая уже с половины переулка предстала перед нами во всей своей красе.
Нужно сказать, что церковь эта действительно очень хорошенькая, во вкусе русского деревянного стиля, с остроконечными крышами, увенчанными крохотными золочеными куполами и большими крестами. В ней нечего искать архитектурного гения, но она вполне прилична, и главное — напоминает Россию, вызывает какое-то умиление в сердце, стосковавшемся по родине. С этим чувством мы подходили к ней, и все нас радовало. Входим в ворота — и радуемся: совершенно русские ворота! Подымаемся на паперть — опять превосходно, совершенно как в России. А уж внутри — прямо сердце радуется. И вдобавок опять чисто русская встреча. Не успели мы войти в церковь, как к жене подошли две простенько одетые пожилые женщины. Волосы на голове у обеих были повязаны повойниками, на плечах шали: наружность чисто народная. Они стали ласкать Сашу, который был действительно очень милый ребенок, заговорили с женой, расспрашивали, кто мы, давно ли за границей. От них так и веяло Россией. Ничего подобного мы не ожидали встретить за границей.
Я сказал уже, что парижская русская церковь имела очень аристократический вид, но от этого она не становилась хуже. По внутренней красоте наш маленький храм мог поспорить с любой парижской церковью, не архитектурными, конечно, линиями, а по своему убранству. Общий характер церкви совершенно противоположен католическому. В ней не было ничего строгого, сурового, повелительного, а всюду только свет, ласка и радость. Обилие окон даст свободный вход лучам яркого солнца. Иконостас сияет позолотой и образами. Красоту иконостаса вообще можно понять только тогда, когда долго его не видел. Конечно, прекрасны и открытые алтари католиков, но ничто не может сравниться с иконостасом, особенно когда он средней высоты. Громадная плоская стена многоярусного иконостаса, какие любят делать в России, как ее ни украшай, все же утомляет глаз, нагоняет несколько унылое ощущение. Она уж чересчур отделяет молящегося от места таинственного явления Христа во храме. Но когда иконостас средней высоты, весь одинаково видимый и оставляющий сверху свободный проход молитве, возносящейся к алтарю, тогда ничего нет красивее его. В русской парижской церкви он был именно таков. Живопись его и по стенам светлая, радостная, и притом очень недурная. Две картины по стенам церкви, близ алтаря, — создания кисти Боголюбова {152} — замечательны были даже истинным художеством. Одна, на правой стороне, изображала проповедь Спасителя на озере, а другая — я позабыл что Стенной живописи и икон в храме было вообще изобилие, и вся она — такая же светлая и изящная. Все сияло, кончая большими посеребренными подсвечниками. Все ступеньки были покрыты красивыми ковриками, а пол храма сплошь затянут красно-розовым ковром густого, яркого цвета. Везде, куда ни взгляни, все раскрашено, нигде нет пустого, забытого места и в то же время ничего аляповатого, все изящно, чисто, и все облито ярким светом солнца. Храм как будто говорил посетителю: «Все у меня освещено, мне нечего скрывать в полутьме, у меня все хорошо — можете сами посмотреть».
Я скажу, что для изгнанника, ищущего Бога и родину, эта церковь давала именно то, что нужно, — ласку и привет. Это была освященная храмина, в которой любящий Отец праздновал возвращение блудного сына, ни в чем его не укоряя, а только радуясь и стараясь его утешить. Были в церкви и шероховатости, а именно священник и дьякон с остриженными волосами; дьякон даже и пришел в каком-то пиджаке, Меня коробило это малодушие нашего заграничного духовенства. Священники греческие и румынские свободно ходили по улице в рясах и с длинными волосами, и французы даже внимания на них не обращали, а наши немедленно торопятся преобразиться в мирян. Но эти мимолетные впечатления немедленно исчезли, когда началась служба, стройная и чинная. Хор пел очень хорошо. Он, как я скоро узнал, состоял почти исключительно из французских певчих, но они хорошо знали свои роли, а нерусский акцент совершенно исчезал в пении. Одним словом, все было хорошо.
Я посматривал на Катю, на Сашу. Она видимо была довольна — а он? За него-то я именно и опасался... Он напоминал мне своим видом первое посещение им католической церкви в Ле-Ренси: то же углубленное внимание к происходящему вокруг. Он следил за выходами дьякона и священника из алтаря, прислушивался к хору, к молитвам, в которых для него должно было быть так много хоть отрывочно понятного. Он часто крестился, как я его учил... Но я не мог слишком присматривать, стараясь, чтобы он не заметил моих наблюдений и оставался ничем не отвлеченным от самого себя.
Вот наконец отошла служба. Публика двинулась понемногу расходиться. Тут я уже мог свободно обратиться к нему и взял за руку, поворачивая его к выходу: «Ну что же, Саша, можем уходить» — а сам боюсь, вдруг он скажет, что у католиков лучше, или снисходительно похвалит какие-нибудь мелочи. Но оказалось совсем иное, прямо потрясшее меня.
«Папа, — сказал он, и тут только я, нагнувшись к нему, увидел, что он весь пунцовый, горит как в жару. — Папа, не будем больше ходить во французскую церковь. Будем ходить сюда».
Ах ты, мой милый мальчик! Я не знаю, что со мной сделалось от радости. Эта минута осталась мне навеки памятной, она и сейчас жива во мне. Слава Тебе, Господи! Православная молитва победила, русская церковь вызвала у моего мальчика добровольное присоединение к православию!
Веселые вышли мы со службы, но только порядочно усталые. «Пойдем посидим в садике», — сказала жена. Пошли, нашли себе скамеечку, уселись. Сад продолжал поддерживать иллюзию, будто мы попали в Россию. Во французских садах все чисто, аккуратно, правильные клумбы, вычищенные дорожки. Здесь — все запущено, кусты разрослись, как им вздумалось, не подрезаны, не подстрижены. На дорожках, не чищенных, видимо, по целой неделе, кое-где пробивалась травка, на траве меж деревьев не клумбы, а какие-то полузаросшие пучки цветов. Не страшно, если даже и потопчешь что-нибудь. На другой скамейке мы заметили одну из женщин, подходивших к нам в церкви. Катя всмотрелась и встрепенулась: «Смотри, смотри, ну право совсем точка». Она в России называла «точками» разных церковных приживалок, богаделок и тому подобных существ, обыкновенно присосеживающихся к духовенству, когда оно ходит по домам с крестом или на молебен. Скромная, съежившаяся «точка» стоит всегда в хвосте духовенства и молчаливо протягивает руку, когда хозяева начинают оделять батюшку, псаломщика, трапезника, просвирню и прочих крупных и мелких служителей алтаря.
Жена встала, перешла на скамейку к «точке» и пустилась с ней в длинную беседу. Мне наконец даже надоело. Я кликнул:
— Катя, домой пора...
— Сейчас, сейчас.
Приходит, улыбаясь, и говорит:
— А ведь представь, действительно оказалась точка.
Потом ока еще не раз разговаривала с нею. Эта женщина была в услужении у каких-то важных господ и приехала вместе с ними в Париж. Здесь они ее отпустили и уже не взяли с собой обратно в Россию. Так она и приютилась после того около церкви, кое-чем помогая в ее чистке и уборке, питаясь чем Бог пошлет, а впрочем, не жалуясь на судьбу, смиренная и покорная выпавшей ей доле.
На пути к трамваю мы, конечно, зашли в русскую булочную и накупили несколько мешочков плюшек и прочих разных разностей. С удовольствием мы начали ими закусывать, но никому, кажется, русские хлебные изделия не понравились так, как Саше. Уписывая за обе щеки пышную сайку, он только похваливал и восхищался, как хорошо все русское.
Веселые возвращались мы домой, обмениваясь впечатлениями от русского уголка Парижа. Высказывал свои ощущения и Саша. Он был в восторге от всего, но особенно почему-то поразили его выходы дьякона и молитвы ектиньи. Молитва дьякона, чтение Евангелия, каждение — все это как будто подчеркивало для мальчика все моменты богослужения, которое глубоко запечатлелось в душе его.
Разумеется, это первое богомолье не осталось у нас последним. Нас и самих потянуло в церковь, да и Сашину просьбу нельзя бы не исполнить. С тех пор он уже ни разу не был больше в католическом храме, да и я перестал в них ходить. Незачем было искать у чужих людей духовного подаяния, когда найден был свой источник неистощимой пищи. Мы не могли бывать на ru Daru слишком часто, но пользовались всяким благоприятным случаем повторять наши богомолья, с которых возвращались каждый раз со светлой душой и с мешочками, полными русских печений.
Посещение булочной сделалось у нас навсегда одним из пунктов программы богомолья, а в самой церкви наш Саша насмотрелся самых разнообразных служб, перед которыми у него померкли все католические воспоминания.
Наша парижская церковь была очень богата средствами вследствие множества богатых русских семей в Париже. Убранство ее приспособлялось к богослужению с роскошью, какую не часто увидишь и в России. Помню, как поразила нас внешность храма Великим постом. Эта светлая, радостная церковь вдруг вся преобразилась. Она окуталась трауром. Образа, затянутые крепом, полы, покрытые черным сукном, черные облачения духовенства сразу переносили нас в область покаянной молитвы. Жена, бывшая потом в церкви без меня, с одним Сашей, на выносе плащаницы, рассказывала о роскошном ее убранстве. Цветы не только покрывали плащаницу, но были насыпаны благоухающим ковром по всему полу. Жена и Саша подобрали себе тогда на память несколько цветочков...
Много лет прошло со времени этих наших богомолий, но не забудутся они никем из нас и до конца дней. Спасибо же тебе, маленькая, уютная церковь на ru Daru, перед которой я так долго, по неведению, погрешал в своих мыслях.
Ночной Париж
— Не хотите ли побродить ночью по городу? — сказал мне младший Р. — Мне хочется развлечь брата. Он страшно затосковал.
Старший брат действительно находился совсем в меланхолии по случаю очень сложных и неприятных «сердечных» дел.
Шляться по ночному Парижу без солидной компании сопряжено с некоторым риском. Я же еще ни разу не видал ночных притонов города и согласился очень охотно. Они прихватили и еще кого-то из своих приятелей. Может быть, это был «юнак» серб Павел Маринкович.
Есть (по крайней мере, было тогда) два ночных Парижа. Один по преимуществу сосредоточивается на Монмартре — и это Париж безобидный. В то время когда другие части города уже погружаются в сон, здесь все сверкает освещением, гремит колесами экипажей, шумит человеческими голосами. Множество магазинов открыто. Рестораны наполнены, пожалуй, все. Кое-где светятся окна и двери газетных редакций, в верхних этажах которых в важных случаях являются световые транспаранты с последними известиями. В таких случаях около собираются кучки народа или даже толпа. На улицах народа не очень много, но он очень шумлив, потому что среди прохожих множество знакомых между собою. Это публика совершенно специальная: журналисты, актеры, художники, кокотки и разного рода кутилы. Журналисты имеют свои излюбленные рестораны, куда забегают из редакций с корректурами и где составляют свои репортажи. Обычно в этом случае приходится повидать сотоварищей по ремеслу, проверить свои сведения, повыпытать, что можно, у других и в обмен поделиться с ними своей дневной добычей. К этому необходимому для всех «сословию» осведомителей, постоянно бегающих то в редакции, то обратно в свои рестораны, присоединяются актеры, возвращающиеся из театров, и всюду шляющиеся художники. Простые гуляки, разумеется, рады вертеться всюду, где шумно и весело.
Тут, помнится, был где-то и «Chat Noire» («Черная кошка»), некоторое время высоко знаменитый ночной ресторан.
Мы не заходили в эту ночь в «Chat Noire», но заодно скажу о нем несколько слов.
В Париже всюду и всегда заманивают публику какими-нибудь новыми выдумками. В то время таким «последним словом» явился ресторан «Chat Noire».
Это была затея артистическая, причудливая и немножко декадентская. При входе посетителя встречал швейцар, одетый в форму академика. В той же форме щеголяла вся прислуга. Разумеется, ресторан в смысле кухни, мебели и т. д. был, можно сказать, первоклассный, но его обстановка была наполнена сценами из популярной французской сказки о черной кошке. Тут были и чучела черной кошки, а все стены расписаны эпизодами из сказки. Всюду так и смотрели со стен стаи кошек.
Когда я уселся за столиком, из соседней комнаты раздались гармонические звуки своеобразной музыки. Комната была занята какой-то специальной компанией, так что войти туда не полагалось, но сквозь открытые двери было видно, что там делалось. Мужчины и женщины в изящных костюмах расселись в кружок на полу в непринужденных позах. Некоторые мужчины были без сюртуков, в одних жилетах, как обычно делается во Франции на каких-ни-будь загородных пикниках. Комната была слабо освещена, и разговоры велись вполголоса. Несколько человек, а может быть, и все играли на мандолинах, составляя очень мелодический концерт. Тут же на полу стояло перед некоторыми разное угощение. Такое полу-молчаливое занятие музыкой продолжалось довольно долго. Потом некоторые мужчины и дамы встали и начали танцевать, проскальзывая ловко между теми, которые продолжали сидеть на полу. Не знаю, чем кончилось это времяпрепровождение. Надоело сидеть, и я ушел.
В «Chat Noire» постоянно оказывались какие-нибудь такие эксцентричности или вообще новинки. В то время там появился Каран д’Аш — псевдоним одного русского француза, фамилию которого я забыл. Он был артист по вырезыванию из бумаги разных фигурок и сцен, которые давали на экране теневые изображения. Он так же искусно делал разные изображения несколькими штрихами карандаша. Отсюда и его псевдоним — Каран д’Аш. Некоторое время он был очень популярен среди богатого и артистического слоя, жаждущего изящных причуд. Таков был один ночной Париж, если и не всегда беззаботный, то веселый и жизнерадостный.
Другой ночной Париж совсем иной. Он ютится в окрестностях центральных рынков, беден, грязен, печален, даже когда веселится, и страшен для «посторонних». Он состоит из элементов всех степеней бесприютности и преступности. Этот Париж вливает самые свирепые волны в революционные бури и находится под вечным надзором полиции. Для удобства этого надзора кабаки, где ютится эта публика, разрешается держать открытыми всю ночь.
В эти печальные места, давшие Эмилю Золя его «Западню», и отправилась наша компания. Сюда и нужно ходить, когда на душе тоска, тянущая слиться с тоской общечеловеческой.
Здешняя публика вовсе не тоскует непременно. Она и разгульно кутит, она и развлекается, и сговаривается на разное воровство и грабежи, и делится плодами своей «работы». Но чем бы она ни занималась, на ней лежит печать отверженности, затоптанности в «социальную тину», кто бы ни был виновен в этом погружении человека «на дно» общественной жизни.
Мы вошли в грязную комнату, где за стойкой стоял хозяин заведения, с подозрительным лицом и такой же грязный, как его харчевня. Тут же вертелись два-три его garson’а. Они по нашим костюмам и физиономиям тотчас же поняли, что мы из другого мира и пришли только полюбопытствовать. Мы спросили, нельзя ли чего выпить, и перед нами тотчас раскрылась дверь во «внутренние апартаменты». Это были свободные подземелья, коридорами расходившиеся в разные стороны.
Если в самой первой комнате было очень скудное освещение, то в подземном коридоре свет едва брезжил. Подземелье было довольно высокое и широкое. Человек пять, даже шесть могли бы пройти здесь рядом. Освещение же шло от слабых рожков газа, находившихся на стенах свода, в большом друг от друга расстоянии. Здесь было положительно жутко.
Гарсон некоторое время шел впереди и пригласил нас в комнату с правой стороны коридора. Она также имела дверь, которую он потом закрыл. Гарсон спросил, что нам принести. Мы заказали вина.
Комната представляла такое же сводчатое подземелье, немножко посветлее коридора. Мебель состояла из грубых деревянных столов и табуретов. Помещение было не очень уж тесное, шагов по двенадцать в длину и ширину. За другим столом у стены сидел, склонив голову на руки, довольно обшарпанный субъект. Он взглянул на нас; лицо было печально, но не имело ничего отталкивающего. Мы вполголоса обменивались впечатлениями от этого логовища, как-то стесняясь громко выражать тягостное чувство, производимое всей грязной, зловещей обстановкой. По французскому обычаю, мы, входя, мимоходом сказали этому господину: «Bonjour, monsieur». Он ответил, и, следовательно, мы как бы познакомились.
Пока мы ждали своего вина, сосед обратился к нам:
— Что, господа, пришли взглянуть на здешние трущобы? Вы, кажется, иностранцы.
Мы ответили, что действительно иностранцы.
— Да, господа, не роскошно здесь и не весело. А ведь не сразу попадает сюда человек. Видел и он лучшее, а потом приходится спуститься. C'est la vie.
В это время принесли вино. Старший Р. любезно предложил ему выпить стаканчик. Он подсел, а гарсон побежал за стаканом. Мы попробовали выпить этого вина, но буквально не было возможности. Я бывал и едал в обыкновенных харчевнях, пил в них и «синее» вино — конечно, первой степени гадость. Но все же его можно было пить хотя бы морщась. А то, что дали нам теперь, было нечто выше сил человеческих. Наш компаньон, однако, пил. Наши же стаканы так и стояли без дальнейшего употребления. Между тем совестно было сказать, что это какая-то гнусная отрава: это бы обидело нашего собеседника, который пил свой стакан.
Но, к сожалению, он оказался скорее какой-то молчальник. Нас он стеснял, а сам оказался совсем неразговорчив. Видно, это был человек несчастный, но порядочный и не без чувства собственного достоинства, не хотел раскрывать своего горя, потому что это было бы выпрашиванием помощи. Оба Р. были люди не из бедных и в другом месте, вероятно, сами бы ему что-нибудь предложили. Но здесь прямо страшно было обнаружить деньги в портмоне. Из-за дверей порой доносились грубые, пьяные голоса, и в этом каменном мешке, казалось, можно задушить человека так, что и не услышит никто. Правда, нас было четверо, но все-таки...
Все это становилось скучно.
— Ну что ж, господа, пора уходить!
Мы позвали гарсона, расплатились, оставив невыпитым вино, и вздохнули свободно, когда снова очутились на улице, за пределами этой каменной берлоги.
— Нет ли, господа, чего-нибудь поинтереснее?
Старший Р. предложил кафешантан, где собираются те же ночные элементы. Не помню теперь, где он помещался, но пришлось идти далеко по улицам почти безлюдным. Зато в кафешантане — целая толпа. Большая грязноватая зала, довольно скудно освещенная, была сплошь набита мужчинами и женщинами, угощавшимися за множеством столов и столиков. Сильно прокуренный воздух жужжал голосами. Присели и мы, спросили себе «боки» — пива, которое, во всяком случае, можно было пить, и начали наблюдать окружающую толпу.
Здесь было гораздо уютнее, чем в мрачных притонах, только что нами оставленных. Публика была очень пестра. Кругом виднелось множество потертых костюмов, иногда совсем оборванных, но были и весьма приличные, так что наша компания не обращала на себя никакого внимания. Дамы вообще также не блистали костюмами, но и между ними кое-где виднелись нарядные особы. В общем, все было оживленно, кое-где слышался смех. Словом, можно было отдохнуть.
Время от времени на эстраду выходили певцы и певицы и развлекали публику песнями. Все это были отбросы кафешантанных артистов, особенно певицы — с крикливыми голосами, бравшие больше бравурностью арий. Но вот явился один персонаж, особенно привлекший мое внимание.
Этот уже немолодой человек в очень обшарпанном платье видел, конечно, лучшие дни, прежде чем спустился до отбросов кафешантанов. У него когда-то был голос, теперь совсем надтреснутый, было и умение владеть им и осталось до сих пор артистическое чувство. Песня, им спетая, меня прямо захватила и содержанием, и выражением, захватила, видимо, и публику.
Он пел о любви бедняков, таких, как он, таких, каких было много среди слушателей, про любовь выброшенных из жизни, но сохранивших в себе чувство более чистое, нежели у роскошествующих богачей...
У меня навеки осталась в памяти эта ария. Она начиналась грустно, задумчивыми нотами. Видно было, что автор, может быть сам певец, хорошо узнал на себе жизнь в мансарде, где холодно, когда плохая погода, и удушливо жарко, когда начинает припекать солнце. Но ария заканчивалась какими-то торжествующими нотами... несмотря на тяжесть жизни. Она пела победу человеческого чувства над бедностью и бесприютностью и производила неизгладимое впечатление. Этот обшарпанный певец был большой художник, и, слушая его, я невольно думал: какие обстоятельства, какие несчастья истрепали его и сбросили сюда, на нижние этажи социальной жизни, в бедные приюты униженных и отверженных? А впрочем — надо и им иметь своих певцов, способных немного утешить страдающую душу.
Время, однако, подходило уже к утру, и, порядком усталые от бессонной ночи, мы двинулись домой.
Над темным городом висело небо, уже алеющее на востоке. Воздух был свеж. Наш путь шел на Halles Centrales — центральные рынки. Улицы были совершенно пустынны, и только время от времени издалека слышалось громыхание колес крестьянских телег. Они уже тянулись к рынкам, совершенно как на представлении «Чрева Парижа» Золя. Огромные ломовые лошади медленно тянули эти тяжелые возы с колесами, способными выдержать, кажется, огромную пушку, и в беззвучном ночном городе грохот этих колес был слышен за целую версту. На пути мы увидели еще светящийся ресторан: значит, тоже из специальных, не запирающийся до самого утра. Мы заинтересовались зайти.
Интересного, однако, ничего не нашли. Ресторан был довольно приличен, с обычными парижскими столами под мрамор. На одном из них растянулся какой-то представитель бесприютной публики и крепко спал на своем каменном ложе. Никто его не прогонял. Мы немножко отдохнули и пошли к Halles Centrales, уже начинавшим оживляться.
Крестьянские возы кое-где сгружали свою клажу. Dames des halles, рыночные торговки, дюжие и смелые, кое-где на тротуарах начали готовить завтрак для ранних потребителей. У них кипели огромные котлы цилиндрической формы, а около на переносных железных очагах шипели жареная картошка, мясо и рыба. Вкусный запах жареного разносился в воздухе.
— Э, художники, поосторожнее, — покрикивали время от времени на нас dames des halles, когда мы, проходя, рисковали задеть их кухни...
Солнце брызнуло первыми лучами, когда мы сворачивали домой через Pont Neuf на Сене.
Революционная Франция
Я употребляю выражение «революционная Франция» в смысле самом общем и широком, так как во время моего наблюдения Франции — то есть за 1882–1888 годы — там не было одного ясно определившегося революционного течения, которое стремилось бы ниспровергнуть целиком существующий строй, но было несколько течений, весьма между собой различных, которые могли принимать и иногда принимали революционный характер. Иногда они имели даже только антиправительственный смысл, не затрагивая самого строя, тогда как другие силы, по существу революционные, находились в состоянии подготовки и брожения, угрожая в будущем строю, но не создавая руководителям государства непосредственной опасности. Я вспоминаю обо всех них в общей картине, в какой они интересовали тогда и саму Францию.
Напомню, что к этому времени французский строй уже определился победой политической демократии. Национальное собрание имело тенденции монархические, которых реализацию завещало президенту республики маршалу Мак-Магону. Но его очень обдуманные и последовательные старания были разрушены графом Шамбором, соглашавшимся на все уступки, кроме белого знамени — символа Бурбонов. Что вышло бы без этого упорства его — это, конечно, неизвестно... Сколько бы времени он удержался?
Но за неудачей попытки реставрации процесс укрепления республики пошел быстро. В 1875 году была принята конституция, правда, очень плохая, но республиканская. В январе 1879 года Мак-Магон ушел в отставку. В 1880 году были амнистированы коммунары в успокоение рабочим. Два крупнейших государственных человека тогдашней Франции, Тьер и Гамбетта, осторожно, но умело вели дело демократизации и достигли цели.
Однако республика, хотя утвердившаяся, не могла еще считаться безусловно прочной. Народные силы оставались раздвоенными. На выборах 1885 года было подано 4,5 миллиона голосов республиканских и 3,5 миллиона консервативных, то есть более или менее монархических. Республику, быть может, сильнее всего поддержала старинная непопулярность Орлеанов и падение престижа бонапартистов в воспоминаниях прусского разгрома.
Гамбетта умер в 1882 году — год моего первого посещения Франции. Мое знакомство с ней относится к президентствам Греви и Карно.
В это время непосредственно революционные силы, то есть социалисты, и в частности социалистический пролетариат, уже вполне оправились от разгрома Парижской Коммуны. В среде социалистов уже наметились все партии или направления будущего. Рабочее движение иногда проявлялось в грозных забастовках. Вся эта среда была проникнута верой в близкое наступление революции, но не делала никаких попыток в этом направлении. Нужно сказать, что рабочая среда, при всей ненависти к буржуазии, была сама сильно пропитана буржуазным духом.
Я приехал за границу прежде всего в Женеву и там познакомился с Николаем Васильевичем Жуковским, старым эмигрантом герценовских времен. Это был человек очень умный, наблюдательный и хорошо знал Францию, и в частности рабочую среду. «Пойдем, — сказал он однажды, — я вам покажу типичную рабочую семью, не в том смысле типичную, чтобы рабочие все так жили, а в том, как они устраиваются, когда имеют возможность».
Действительно, это была семья процветающая. Она состояла из мужа и жены. Детей, конечно, не было. Они редко бывают в среде французского пролетариата. Муж и жена оба были хорошие работники, получали хорошие заработки и без места никогда не оставались. Я был совершенно поражен видом их жилища. Это была крохотная квартирка из двух, помнится, комнат да сзади какой-то закоулок, вероятно кухонька. Не видел задних помещений, но парадная представляла прехорошенькую конфетную коробочку. Чистота повсюду необычайная, нигде ни соринки, ни пылинки. Мебель очень прилична, отчасти мягка. Там и сям разбросаны разные украшения и безделушки. На видном месте дубовый шкаф с очень хорошим зеркалом. Все это в прекрасном состоянии, нет ничего потертого или исцарапанного. Муж и жена видимо гордились своей обстановкой. Но я испытал скорее некоторое грустное чувство. Ведь оба они были люди рабочие, проводили по своим фабрикам значительную часть дня, возвращались домой усталые и испачканные. Какое напряжение буржуазной жажды внешнего комфорта нужно, чтобы при этом так старательно заботиться об уборке своей коробочки, чистя и вытирая ее не раз в день, стесняя себя даже в пользовании ею, не позволяя себе растянуться на кушетке, не забывая немедленно почистить обувь и переменить рабочий костюм. Конечно, в действительности, а не в мечтах так могут жить немногие. Рабочие квартиры, которые мне пришлось видеть в Париже, были и бедны, и грязны. Но буржуазный дух все-таки очень пропитывал рабочую среду, и этим, вероятно, обусловливается нравственное влияние буржуазных элементов на рабочих. Тот же Жуковский обращал мое внимание на тот факт, что вожаки рабочего движения все из буржуазии. «Социальное творчество, — говорил он, — совершается не рабочими, а той же буржуазией, против которой они борются. Это очень опасное для рабочих обстоятельство». Не знаю, что на это сказать. Я слишком недостаточно знаком с французской рабочей средой. Во всяком случае, в Парижской Коммуне в числе правящих были и настоящие рабочие, как, например, Варлен, расстрелянный при усмирении, или Камелина, при мне избранный в палату депутатов.
В отношении же самосознания настоящего пролетария-социалиста мне, и очень неприятно, бросалось в глаза не какое-нибудь преклонение перед буржуа, а, наоборот, преднамеренные высокомерие и грубость. Я, носивший хотя и весьма не блестящий, но все же буржуазный костюм, скоро даже потерял охоту заговаривать с рабочими в блузах. Спросишь дорогу — он полуотвернется и с особым пренебрежением процедит: «Я вас не понимаю». Одному я едва успел сказать: «Мсье, не подскажете...» — как он резко и грубо прервал меня: «Я не знаю Парижа!» Конечно, это не поголовно, но достаточно часто, чтобы пропало желание первому начинать разговор. Сколько помню, любезными оказывались постоянно или ремесленники, или те, которые знали, что я эмигрант.
Настроение массы рабочих в общем было весьма революционное. Это, конечно, зависело и от их действительно тяжелого, а главное — необеспеченного положения. Сколько раз мне приходилось встречать безработных. Сидит где-нибудь в парке на скамейке, греется на солнышке. Думаешь, что гуляет. Подсядешь, и вдруг сам заговорит: «Ну сколько же еще ходить без работы!» — и расскажет, чтобы облегчить душу, как он целые дни шляется в розысках работы. В этих случаях рабочему приходится, понятно, проедать сбережения из судосберегательной кассы, которые все имеют. В Париже (как и везде — конечно, в меньшей мере) всегда есть так называемая chomage normale (плановая безработица), в известные сезоны на разные виды рабочих. Каждый заранее знает, что в таком-то месяце у него будет chomage, и припасает на это время сбережения в период оживленной работы. Но при мне был и острый период стихийной безработицы вследствие условий международного рынка. Это было тяжелое время. Рассказывали, что рабочие иногда падали на улице полумертвые от голода.
— Что же делают в таких случаях? — спросил я.
— А его отнесут в аптеку, там дадут чего-нибудь возбуждающего силы...
— И только?
— Нет, публика на улице обыкновенно делает какую-нибудь складчину для него.
Республика в то время еще не дошла до заботы о рабочем и в этом отношении была гораздо ниже империи. Помню, один очень пожилой рабочий, совсем не социалист, горько жаловался мне на полное безучастие республики к рабочему классу. «Увидите, Франция плохо кончит», — повторял он.
Рабочие были недовольны и настроены очень революционно. Я не хочу сказать, чтобы средний уровень их жизни был низок. Напротив. Но у французского рабочего и потребности очень развиты. Я много бывал по разным «горготкам» и рабочим ресторанам. Из какой бы дряни ни готовилась пища, но она вкусна и разнообразна. Утром, идя на работу, рабочий выпивает огромную чашку, скорее супник, кофе со сливками с большим количеством белого хлеба. За обедом у него три блюда, считая десерт, по большей части какой-нибудь сыр, и он выпивает целую бутылку вина. Положим, вино дрянь, поддельное, так называемое «синее». Но кое-где кормят очень хорошо. На площадке бульвара Сен-Мишель я, при деньгах, заходил в ресторан, в котором обычно собирались извозчики. Там провизия была прекрасная, свежая, большие порции.
Конечно, извозчики — очень привилегированный слой, с высокими заработками. Но рабочий, со своими развитыми потребностями, вообще имеет меньше, чем желает, часто ничего не имеет, часто совсем голодает; будущее же, с потерей трудоспособности, смотрит на него мрачно. И он проникается революционным настроением, даже если он не социалист.
Что касается социалистов — они были принципиальные революционеры. И в то время не было мысли о попытке социального переворота в близком будущем. У интеллигентных социалистов по-чему-то была уверенность, что сначала должны очутиться у власти крайние радикалы, которые своей деятельностью подготовят почву для выступления социалистов. «Это не наши люди», — говорили они, когда происходили перемены кабинетов и президентов. Но социалисты готовились, силы организовывались и упражнялись то на выборах, то в разных демонстрациях, то на стачках.
Из демонстраций обычная — ежегодная — происходила на кладбище Пер-Лашез у так называемой «Стены федератов», около которой зарыты там же перебитые коммунары. Кладбище в этом месте спускается под горку и упирается внизу в довольно высокую стену — кладбищенскую ограду. В эту долинку коммунаров загоняли толпой и расстреливали сверху из митральез, а потом зарывали в обшей могиле. В мое время над этой общей могилой уже был поставлен ряд памятников, сложенных из камней разрушенного Тюильрийского дворца. Как известно, при взятии Парижа «версальцами» Тюильрийский дворец в числе разных других зданий был сожжен коммунарекими «петролейщиками» и «петролейшииами». Правительство пожалело денег на восстановление наиболее разрушенного корпуса, снесло его совсем и камень распродало. Разные почитатели памяти Коммуны скупили этот камень и употребили его на устройство могильных памятников разрушителям Тюильри. Сюда-то, к могиле федератов, ежегодно сходились социалисты разных направлений в торжественных демонстрациях с красными знаменами и около «Стены федератов» произносили речи, посвященные их памяти.
При мне однажды на таком торжестве произошло кровавое столкновение с полицией. По закону социалистам не воспрещалось ни проходить демонстративно по улицам, ни скопляться огромной толпой перед воротами кладбища, так как был усвоен обычай, чтобы отдельные процессии проходили на кладбище не отдельно, но сразу, когда уже все прибудут к его воротам. Но на улицах закон воспрещал недозволенные эмблемы — красное и черное знамена. Поэтому их несли свернутыми и имели право развернуть, только вступив на территорию кладбища. На этот раз толпа очень долго задержалась у ворот в ожидании запоздавших процессий. Соскучившись стоять в бездействии, некоторые группы начали развертывать знамена на древках. Около толпы неподвижно стоял отряд полиции. Увидавши развернувшееся красное знамя, начальник отряда тотчас послал городового отнять дерзкое знамя. Но толпа тесно сомкнулась и не допускала полицейских даже дойти до развертывающихся красных и черных флагов. Минута стала критической, так как если бы огромная толпа дошла, разгорячась, до открытой схватки, то она легко могла смять малочисленный наряд полиции, могла дойти даже до избиения ненавистных «vaches», как рабочие почему-то прозвали полицейских. Тогда начальник отряда приказал: сабли наголо и атаковать толпу. Полицейские ринулись, рубя направо и налево. Демонстранты побежали через ворота на кладбище, а полиция гналась за ними, отнимая знамена и рубя своими саблями. В результате оказались десятки раненых, были, говорят, и умершие от ран.
Социалистические и родственные им депутаты подняли в палате шум по поводу этого избиения, но министр внутренних дел заявил, что полиция действовала совершенно правильно, и палата поддержала его: толпа обязана исполнять требования полиции, и если не слушается, то полиция должна ее принудить силой.
Воспоминание о Коммуне было для социалистических рабочих священным. В действительности время Коммуны — недолгие 72 дня ее господства — было полно тяжелых бедствий для всех, в том числе и для самих рабочих. Но это была попытка осуществить диктатуру пролетариата, она дала социалисту-рабочему минуту господства. За это она осталась святыней для социалистов и предметом ненависти для всего несоциалистического населения Франции. В мое время оба эти чувства жили во всей жгучести.
Помню, как-то в теплый летний вечер я наткнулся на небольшую толпу рабочих на фортификациях, где любит гулять небогатое население Парижа. Эти сотни две народа окружали молодого человека, а он пел песню о павших коммунарах, перевозимых на каторгу, по-видимому, на корабле «Фортуна». Вероятно, песня и была сложена ими. Напев был тоскливый и протяжный, но слова дышали мщением. Оскорбляйте нас, гласила песня, пока мы ваши побежденные пленники, но придет день отмщения, когда вы сами очутитесь в положении затравленного зверя.
Толпа слушала в сосредоточенном молчании, говорившем красноречивее всяких криков. Но какова бы ни была жажда отплаты за поражение Коммуны, за жестокие расправы с ее защитниками — социалисты сохраняли в общем легальное положение, ограничивались выработкой идей, пропагандой, организацией. Только одни анархисты в полном смысле бушевали. Не вхожу в обсуждение вопроса, насколько их можно называть социалистами. Сами они себя считали социалистами, даже единственными истинными социалистами, которые не жертвуют свободой личности и свободой группы личностей, лишь бы уничтожить капитализм. Своих противников они с насмешкой называли не социалистами-революционерами, а социалистами-реакционерами. Сами же они были, по их мнению, действительно и социалистами, и революционерами. С их идеями согласовывалась и деятельность по пропаганде примером протеста, бунта, разрушения в меру сил каждого, не дожидаясь, пока как-то и кем-то будут собраны силы для социального переворота. Социальный переворот должен совершаться непрерывно, всегда, при всех случаях.
Анархизм был тогда учением, захватывавшим очень многих. К нему, конечно, примкнула масса людей воспаленных, даже ненормальных, и в Париже их часто с насмешкой называли партией уродов. За анархистов выдавали себя нередко и профессионалы воровства и грабежа. Но было немало и идейных анархистов, а принцип свободы, лежавший в основе этой доктрины, чарующе привлекал многие умы. С другой стороны, их действия еще чаще возбуждали общественное негодование и даже отвращение.
Когда я приехал за границу, в Лионе только что было совершено одно из таких дел. Анархист Сивокт (не помню, как пишется его фамилия по-французски) с товарищами бросили бомбу в окно одного первоклассного кафе на том основании, что в нем собираются буржуа. В газете «Revolte» («Мятежник»), редактируемой Крапоткиным, помещались рецепты для домашнего изготовления взрывчатых веществ, то есть давались вспомогательные указания для таких деяний. В 1883 году он был за это присужден к тюремному заключению и просидел в тюрьме года три, после чего был амнистирован.
Из идейных анархистов известны Элизе Реклю, автор знаменитого землеописания и друг Крапоткина. Элизе Реклю не знал лично. С Эли Реклю приходилось видеться. Это был очень кроткий и безобидный идеалист, сторонник безграничной свободы. Ему представлялось, что успехи науки создадут такое увеличение способов производства продукции, что каждый человек будет в состоянии добывать себе все потребное. Так, например, питательные растения, вроде пшеницы, можно будет разводить в цветочных горшках, с такими урожаями, что это даст достаточно для продовольствия человека. Движущая сила может быть непосредственно развиваема морскими приливами, земным электричеством и т. п., так что, соединив с общим приводом свою маленькую машину (вроде швейной), человек самостоятельно может приготовлять потребное для себя. Все это доведет до крайнего минимума необходимость общественной организации, а стало быть, и дисциплины, даст наибольшую возможность независимости и свободы для личности.
В мое время Эли Реклю довольствовался такими платоническими мечтами и политикой не занимался. Но раньше он участвовал в Парижской Коммуне и, как ученый, принял на себя заведование Национальной библиотекой. На его беду, фанатики Коммуны при взятии Парижа «версальцами» подожгли и Национальную библиотеку — варварство, неслыханное в истории со времен легендарного сожжения Александрийской библиотеки. По усмирении Коммуны Эли Реклю — хотя, конечно, совершенно не причастный к этому преступлению против науки и культуры — был навсегда лишен права посещать Национальную библиотеку наравне с лицами, уличенными в краже книг из нее. Это позорное наказание крайне подрывало для него и возможность ученой работы. Когда я его знавал, он работал у известного книгоиздателя Гасиетта по составлению Географического словаря.
Из идейных руководителей анархизма я знал, конечно, хорошо Крапоткина, с которым виделся после его амнистии. Из русских эмигрантов анархистом был также Чайковский (Николай Васильевич), но он в это время жил в Америке, а потом в Англии, где я его и видел. В местную политику он тогда не мешался.
Что касается массы французских анархистов, их выступления носили по большей части характер простых скандалов. Тактика их во время разных уличных демонстраций социалистов обычно такая. Группа анархистов старается расположиться так, чтобы быть окруженной другими социалистическими процессиями и чтобы к ней полиция не могла добраться иначе как потревожив остальные группы. Когда вся огромная процессия двигается в путь, анархисты развертывают свои черные знамена. Полиция, разумеется, немедленно требует знамена свернуть. Анархисты не повинуются. Полиция старается пробраться к ним, тревожа все группы, и когда наконец добирается, анархисты сопротивляются. Остальные группы социалистов расстраиваются, не могут продолжать шествие. Анархисты очень довольны: произошел «инцидент», скандал, драка — все, что требуется.
Еще более они скандалили на разных конференциях, предвыборных объяснениях кандидатов с избирателями и т. п. К какой партии принадлежит оратор — для анархистов безразлично, так как они отрицают одинаково все их программы. И вот какой-нибудь анархист пробирается поближе к оратору и, улучив удобную минуту, наносит ему удар чем попало. Например, щипцами от камина. Происходит скандал, публика бросается на возмутителя спокойствия, начинается драка, анархиста колотят не на живот, а на смерть и торжественно выбрасывают за двери, а то и за окошко. Но он вполне доволен собой. Он произвел «протест», совершил акт «пропаганды действием».
Однажды я присутствовал при таком происшествии на собрании Лиги патриотов. Эта лига, основанная Деруледом, {153} имела целью подготовлять Францию к реваншу над Германией. Лигисты состояли почти исключительно из людей молодых, здоровых, они были членами гимнастических обществ, обучались и военному делу. Развивая в себе физическую силу, ловкость и мужество, лигисты занимались и патриотической пропагандой, устраивали собрания, манифестации и т. п.
В данном случае огромное собрание было назначено в цирке; не помню его названия, но помещение огромное, на пять тысяч человек. Это был амфитеатр, на верхнем этаже окаймленный окнами, весь же президиум собрания и трибуна ораторов помещались внизу, на арене. Публика, по большей части из лигистов, наполнила цирк битком, так что невозможно было пройти. Заполонили даже входные коридоры, и у меня мелькнула даже мысль: что тут выйдет с нами в случае, например, пожара? Начались речи, и вдруг видим и слышим: сверху, около трибуны, раздались дикие крики и произошло побоище. Оказалось, что анархисты подготовили здесь свое крупное выступление. Они расселись всюду между публикой, а внизу собрались целой кучей около трибун. Выступление началось с того, что они подняли шум и бросились на трибуны, желая исколотить ораторов и президиум. Но лигисты предусмотрительно окружили трибуны надежной стражей, так что свалка кончилась в несколько минут. Анархистов отбили и схватили. В этот момент началось выступление в амфитеатре. Анархисты, рассевшиеся между публикой, преимущественно на верхних скамьях амфитеатра, запаслись, оказывается, целыми грудами мелких бумажных клочков и стали дружно сыпать их на газовые лампы. Очевидно, они рассчитывали произвести панику возможностью пожара и видом этого фейерверка горящих бумажек, сыпавшихся сверху. На этот раз дело их не вышло. Лигисты, дисциплинированные и по большей части молодец к молодцу, немедленно по всем скамьям начали ловить анархистов. Минут десять в густой толпе шла потасовка. Затеи по мере изловления анархистов шло выдворение их. Это производилось самым упрощенным способом. Так как до дверей невозможно было добраться, то лигисты передавали анархистов снизу, с арены и со скамей амфитеатра, на следующие, высшие скамьи. Их там, как кули товара, подхватывали и передавали дальше вверх, пока они не достигали самой верхней скамьи. Отсюда их прямо выбрасывали в окна. Не знаю высоты окон над землей, но она, конечно, достаточна была, чтобы при падении сломать себе шею.
После такого очищения цирка от враждебных элементов заседание продолжалось обычным порядком, но дело оказалось еще не вполне законченным. После одной горячей патриотической речи весь цирк задрожал от криков публики: «Vive la Republique Francaise!» — как вдруг на средней скамье амфитеатра во весь рост поднялась статная фигура, и громко и отчетливо раздалось: «Vive la Republique Universalle!» («Да здравствует всемирная республика!»)
Он не закричал эту анархическую формулу, а громким, отчетливым голосом проскандировал ее, так что она была слышна по всему амфитеатру лучше всяких криков. Тысячи глаз устремились на смельчака. Это был рослый, красивый человек, довольно молодой, с умным, интеллигентным лицом. Вызывающе оглянув пять тысяч враждебных ему лиц, он спокойно опустился на место. Признаюсь, он был очень эффектен в своем спокойном мужестве. Никто его не тронул. Да и он больше не вступал в прения.
Совершенно противоположную группу составляли бланкисты, иначе называемые якобинцами. Они были немногочисленны и не делали никаких явных выступлений, а жили замкнутым тайным обществом, готовясь к действию в благоприятный момент. Их основная идея состояла в захвате власти и партийной диктатуре, с помощью которой должен быть проведен демократически-социальный переворот. Сами они не замышляли в настоящее время такого захвата власти, уверенные, что революция наступит очень скоро, и своей задачей ставили подготовку организации, которая могла бы направить революцию в целях партии. О многочисленности членов они не заботились, напротив, находили, что при ней всегда попадает много людей неподходящих, а между тем чем больше членов в организации, тем труднее сохранить в тайне ее планы и действия. Говорят, у них было всего около пятисот человек, которых они зато старались тщательно вырабатывать, имея общим принципом строгие централизацию и дисциплину.
Я не знаю подробностей их подготовительной работы, знаю только, что у них заранее составлялись планы в отношении захвата необходимых учреждений, проводились курсы баррикадной войны, обучались военной технике и способам воздействия на народ. По их убеждению, революционные движения — стихийны и представляют огромные резервуары взволнованной страсти и чувства при очень незначительной степени регулирующего сознания. Поэтому небольшая, но строго организованная сознательная сила, систематически направляемая к известным целям, оказывает огромное воздействие и делается душой революции. Такую-то будущую душу они и вырабатывали.
Между прочими упражнениями они практиковали своих членов в искусстве управлять на улицах толпами народа. Для этого выбирался день какого-нибудь возбуждения народа. Организация заранее составляла план того, куда нужно будет сосредоточить толпы, и высылала для этого свои небольшие отряды. Предводитель каждого отряда расставлял его группками по два-три человека в толпу, и они должны были следить за его условными знаками, показывающими, что требуется делать. Для этого он, например, прикладывал руку к правой или левой стороне шляпы и т. д. Когда давался приказ завернуть толпу, положим, направо, рассеянные среди народа бланкисты начинали нажимать на соседей в указанном направлении. Толпа, по уверениям бланкистов, настолько безвольна, что таким простым нажиманием сотня человек, рассеянных там и сям, может повернуть куда требуется толпу в десять тысяч человек. Если народ почему-либо упорствует поворачивать налево, тогда как его требуется двинуть направо, то бланкисты усиливают свое давление. Они берутся под руки, человека по два, причем затягивают песню или размахивают шляпами, чтобы обратить на себя внимание ближайших частей толпы и возбудить в них подражательное движение туда же, куда идут они. В крайнем случае они начинают громко рассказывать друг другу какую-нибудь выдуманную историю, по смыслу которой нужно идти именно налево: «Гражданин, а ведь там сосредоточен сильный отряд конницы жандармов». — «Вот как! Значит, нужно свернуть, обойти их». С помощью таких и подобных способов можно, по уверению бланкистов, безошибочно направить движение толпы туда, куда назначил генеральный штаб организации и где народ сам по себе даже и не думал собираться, например к такому-то вокзалу, или на Елисейские Поля (ко дворцу президента), или к палате депутатов и т. п. Но для этого нужно, чтобы народ не подозревал присутствия направляющей его силы и думал, что это он сам идет, по собственному желанию.
Я однажды сам видел эти «маневры» бланкистов, это практическое обучение в условиях действия революционного времени. Но о общей сложности маневры ставили и очень сложные задания — скажем, привести народ в такое место, где на него начинаются уже явные воздействия ораторов или заранее заготовленных групп, чтобы, например, штурмовать тюрьму или полицейский участок и т. п.
В остальных социалистических партиях или группах, все более принимавших социал-демократический характер, в мое время шла больше выработка программ. К действию внешнему еще не переходили. Из отдельных деятелей мне пришлось сталкиваться немного с Малоном (Бенуа) {154} и особенно с Лафаргом. {155} Малон, бывший коммунар, тогда издававший «La Revue Socialiste», производил очень симпатичное впечатление человека искреннего и вдумчивого. Лафарг, женатый на дочери Карла Маркса, был и по взглядам чистый, последовательный марксист, каких тогда во Франции было очень мало. Но ничего интересного ни о них, ни о других тогдашних вожаках социализма не могу сказать. Особенно выдающихся людей между ними не было. Жорес {156} только начал выдвигаться. Милльеран, если его можно назвать выдающимся, тогда совсем еще не был социалистом. Этот ученик Клемансо, {157} еще очень молодой, принадлежал к радикалам и заявил себя по преимуществу как талантливый адвокат.
Два действительно крупных движения, которые мне пришлось наблюдать, не имели социалистического характера, но могли, при известных условиях, кончиться настоящими революциями. Это было низвержение Греви {158} с президентства и движение буланжистское. К обоим и примыкало много чисто революционных элементов.
Греви, республиканец и радикал, избранный при всеобщих симпатиях и еще недавно вторично выбранный президентом, не ожидал, конечно, такого печального конца своей политической карьеры. Его погубило общее раздражение против все более возрастающих злоупотреблений политических сфер, министров и партийных деятелей. Они постоянно были связаны с промышленными и биржевыми гешефтами, покровительствовали им, правительственные меры и даже военные предприятия диктовались гешефтмахерскими интересами. Греви по меньшей мере не мешал этому, но установившаяся репутация честности поддерживала его, пока не разразился громкий скандал его зятя, Вильсона. Кроме того, и в личном характере и жизни Греви было кое-что, возбуждавшее много недовольства. Он был типичный буржуа, любил простую, спокойную жизнь, тяготился всяким парадом, а французы любят, чтобы их представитель был блестящ. Президент, помимо жалованья, получает значительную сумму (помнится, миллиона два) специально на представительство. Сюда входят приемы, рауты, поездки. Президент обязательно имеет приемные вечера, на которые может явиться всякий француз, имеющий возможность облечься во фрак с белой манишкой. Президент встречает гостей, пожимает руку, говорит два-три любезных слова, предоставляет им угощение. Эти вечера при своей пышной обстановке стоят недешево. Греви не любил этой светской суеты и был скуп. Он сократил представительство до последней возможности, а суммы, на него отпущенные, клал себе в карман, как будто часть своего жалованья. Это производило очень невыгодное для него настроение в публике, которая любит бывать на торжествах, любит и хорошее угощение. Греви стал казаться смешным, маленьким буржуа, а это в представителе республики составляет унижение для всей нации.
И вдруг разражается скандал с его зятем. Мало-помалу обнаруживается, что Вильсон производит систематическую торговлю орденами, за деньги раздает «Почетный легион» чуть не первому встречному — фабриканту ваксы и т. п. В сущности, это обвинение в отношении Вильсона не было по суду доказано, но его связи с генералом Каффарелем, производившим торговлю орденами, его связи с сомнительными финансовыми предприятиями — все это вконец его скомпрометировало, а еще больше — Греви. Вильсон, простой депутат (правда, один из лучших знатоков бюджета), сам по себе не мог бы привлечь особенного внимания. Но он зять президента, темные дела Вильсона, думали все, не могли бы проходить без попустительства или участия Греви. Общественное негодование обрушилось на Греви, а в массах народа — на правительство и депутатов вообще. «Все они такие, все мошенники. Все, что делается ими во Франции, — делается для набивания их карманов, а народ доводится до нужды и нищеты». Ропот и негодующие крики нарастали в рабочих предместьях с каждым днем. Революционеры раздували огонь, и движение направлялось уже не против относительно ничтожного Вильсона и даже не против одного Греви, а против правительства, буржуазных партий и против всего установленного строя — республики. Того гляди, могла разразиться настоящая революция... Толпы собирались там и сям все гуще. Все это перепугало политический мир и породило мысль пожертвовать Греви, чтобы спасти все остальное. Выдающиеся деятели палаты депутатов ездили к нему, объясняя положение и упрашивая его подать в отставку. Но он упорно отказывался, потому что, подавая в отставку, он этим признавал себя виновным. Греви этого ни в каком случае не хотел. Слухи об этом ходили по городу, негодование росло, движение обострялось. Толпы уже направлялись с грозным видом к Palais Bourbon и к Елисейским Полям, где проживает президент, и полиция разгоняла их только с крайним напряжением сил.
Я был корреспондентом «Санкт-петербургских ведомостей». В то время излюбленным местом журналистов было одно кафе на Монмартре. Сюда мы заходили и днем, а уж особенно вечером, обменивались добытыми сведениями, писали тут же свои корреспонденции, а парижские журналисты — статьи, которые относили в редакции, брали там корректуры и возвращались в кафе править их. На Монмартре было тогда много газет. Зайдя днем в кафе, я узнал сенсационную новость, что толпы народа пробиваются куда-то на улицах и переулках между Мадлен и Тюильрийским садом. Прибывшие оттуда журналисты рассказывали, что идет порядочная свалка с полицейскими отрядами. Я немедленно отправился туда осмотреть, что делается, так как очевидно было, что толпы пробиваются или на площадь Согласия, то есть к палате депутатов, или на Елисейские Поля, то есть к Греви. Нужно сказать, что присутствовать на таких крупных драках толпы с полицией — весьма тяжелая обязанность для корреспондента. Для осмотра большого пространства нужно переходить с места на место, сквозь толпу и сквозь полицию, причем можно пострадать от обеих воюющих сторон. Нередко невозможно выбраться из толпы, и ее густой поток увлекает совсем не туда, куда хочешь, а при своих атаках полиция, понятно, бьет не разбирая, кто под руку попадет. Прибыв на место, мне посчастливилось сначала влезть на верх трамвайного вагона, откуда было хорошо видно большое пространство, но движение трамвая было прекращено, и нас прогнали из вагона. Пришлось вмешаться в толпу, стараясь держаться все-таки ее тыловых частей. Общая картина столкновения скоро вполне уяснилась.
Народ наступал широким фронтом по всем улицам и переулкам, здесь, около Сент-Оноре, довольно перепутанным. Полиция также повсюду преграждала дорогу. Положение обеих сторон было сначала пассивно, и между ними всюду оставалась полоска пустого пространства, которую не переходили ни с той, ни с другой стороны. Только время от времени небольшие авангардные группы, человек по двести, из самой свежей молодежи, с громкими криками пытались быстрым натиском форсировать нейтральную полосу, но навстречу им тотчас бросались отряды полиции, и при первом же столкновении эти маленькие толпы моментально пускались наутек. Полиция била кастетами жестоко. Большие же толпы стояли неподвижно, все более скопляясь и как бы высматривая наиболее слабое место для прорыва. В действиях толпы уже чувствовалось нечто сознательное, какая-то направляющая рука.
Наконец полиция, видимо, почувствовала, что дальнейшее пассивное преграждение пути становится опасным. Если бы народ, выбрав место для удара, бросился густой толпой, то сравнительно малочисленная полиция была бы, конечно, смята и прорвана. И вот она решила перейти в наступление. Слева от нас, кажется по улице Сент-Оноре, внезапно послышались крики, и густая толпа народа сразу бросилась назад, но уже все более разрываясь на две части. Через несколько мгновений, как бы вклиниваясь в толпу, за ней показалась атакующая колонна полиции.
Для рассеяния толпы полиция строится в Париже треугольной колонной, «свиньей», как выражались у нас в древности, и передним острым клином прямо врезывается в народ, колотя направо и налево кастетами, если дело не дошло до необходимости сабель. Тактика предводителей толпы и полиции в этом случае противоположна. Толпа, если необходимо отступить, старается отбежать всей массой, чтобы не разбиться на части. Полиция имеет задачей, наоборот, именно размельчить толпу и разогнать ее мелкими частями во все стороны. Преследуя далее эти группы, полиция уже покидает клинообразный строй, гонится просто линией, а потом и мелкими группами, так что в конце концов бывшая густая толпа совершенно распыляется и народ врассыпную разбегается куда глаза глядят. Эта тактика была пущена в ход и теперь. Всюду показались клинообразные отряды, всюду разрезывая толпы и не допуская им отступать в виде масс, которые бы могли снова перейти в наступление. Народ разбегался, пришлось и мне, понятно, удирать, выбирая наиболее безопасные места. При первой возможности я вскочил в ресторан.
В этот день толпы всюду были рассеяны. Но это не могло никого успокоить. Назавтра же движение могло возобновиться в удесятеренных размерах, с более обдуманными и опасными планами. Могли подняться и с оружием. Министры и депутаты всячески давили на Греви, чтобы вырвать у него отставку, а он упорно отказывался. Между тем дня через два общие опасения оправдались в очень страшном виде.
Рано утром я отправился в палату депутатов, обещая семье возвратиться к завтраку, так как рассчитывал найти в Palais Bourbon обычную канитель: полное законодательное бездействие и тщетные посылки к Греви убеждений избавить отечество от своего президентства. В палату я вошел вполне свободно, на улицах и по набережной самое обычное движение. В палате уже было множество депутатов, толпа журналистов не столько в ложах, где делать было нечего, а больше в ресторане для журналистов, на верхнем этаже. Так прошло несколько времени, как вдруг распространился слух, что огромные толпы народа со всех сторон окружают Palais Bourbon. Некоторые журналисты поднялись на башенку дворца и подтвердили известие. Движение масс народа было, очевидно, подготовлено очень искусно, людьми очень осведомленными. Толпы нахлынули так неожиданно и быстро, что обманули все предосторожности полиции и обволокли все громадное здание буквально со всех сторон. Palais Bourbon очень велик, и его задние стороны обыкновенно почти никому не известны. Публика видит здания, но не имеет ни малейшего понятия о том, что они принадлежат Palais Bourbon. Между тем толпа охватила густыми массами все, совершенно отрезая дворец от остального Парижа. Она была не вдали, а вплотную подходила к самым тротуарам здания. В случае чего народ мог штурмовать прямо окна, двери и разные ворота во дворах зданий. Между тем защитников палаты депутатов для такой огромной линии совершенно не было. Как всегда, в кордегардии находился небольшой военный отряд. Как всегда, находилось некоторое количество полиции, но совершенно недостаточное. А настроение толпы было раздраженное и угрожающее... Были даже случаи насилий над лицами, которых ошибкой принимали за депутатов. Некоторые из наших коллег-журналистов пытались выйти и принуждены были возвращаться назад, так как народ принимал их за депутатов.
Во дворце царствовали уныние и смущение. У парадных дверей, в прихожей выстроились жалкие военные силы представителей Франции. Я видел этих молодцов-солдат, с ружьем к ноге, с примкнутыми штыкаии. Молчаливые, сосредоточенные, они имели вид решительности. Нет сомнения, они бы до последнего издыхания защищали депутатов. Но тяжко стрелять и колоть своих. И за кого! За депутатов и министров, которых они в душе, конечно, так же ругали, как и толпа... В это же время полиция изощрялась в способах провести свои силы в осажденный Palais Bourbon. Открыто этого нельзя было сделать, и городовых вводили поодиночке, по возможности более тайными и незаметными входами. Кончилось тем, что успели собрать таким образом достаточное количество полиции для того, чтобы вывести ее изо всех дверей и ворот и оцепить здание по тротуарам. Постепенно возрастающая сила позволила потом понемногу, не раздражая толпу, шаг за шагом оттеснить ее от непосредственного соприкосновения с дворцом, и опасность безнаказанного штурма была устранена.
В это время палата была занята своим делом. Грозное движение народа и прямая личная опасность, страх ежеминутно увидеть вооруженную революцию — все это вдохновило депутатов на безотложные решительные меры. Палата объявила себя en perman — постановила не расходиться и, известив об этом Греви, просила немедленно уведомить ее, что он намерен предпринять по случаю президентского кризиса. Кабинет в свою очередь заявил ему о своем выходе в отставку, если эти меры не будут немедленно приняты. Греви, таким образом, официально гнали в шею, причем ясно было, что теперь палата сбрасывает разъяренные толпы народа с себя на его Елисейский дворец.
Приходилось покориться судьбе. Он прислал заявление об отставке.
Как гора свалилась с плеч у всех. Palais Bourbon повеселел.
Вся эта история длилась целый день, и только к вечеру удалось мне попасть домой. Проходя, я видел снова, как полиция разгоняла народ, потому что возбуждение далеко не вполне улеглось. Впрочем, толпы совсем поредели, и полиция действовала уже безбоязненно. Она просто гнала публику, бесцеремонно угощая иногда здоровыми подзатыльниками тех, кто уходил слишком лениво.
Теперь оставалось избрать нового президента, и на этом вопросе снова разгорались жгучие страсти. С точки зрения охраны республики наиболее вероятным кандидатом казался Жюль Ферри. {159} В это время уже разгорался буланжизм. Имя генерала Буланже {160} уже гремело по Франции, а около него сплачивались не только те, которые были недовольны данными формами республики и злоупотреблениями ее деятелей, но и враги республики вообще, разного рода монархисты. Генералу Буланже, тогда состоявшему военным министром, необходимо было противопоставить человека крупного, умного и энергичного. В этом отношении никого выше Ферри не было, а как республиканец он стоял выше всяких сомнений. Но он потерял всякую популярность в массах народа. Его не терпели как сторонника колониальной политики, которая требовала дорогостоящих военных экспедиций и была связана с множеством спекуляций. Одна мысль о том, что Ферри, творец колониальной политики, станет президентом республики, приводила в ярость огромные массы населения. Сторонники монархии также никого не боялись сильнее, чем Ферри. Поменять Греви на Ферри — это было бы слишком глупо. И вот вокруг Ферри разгораются страсти, на минуту умиротворенные падением Греви.
Конгресс, то есть соединенное собрание палаты депутатов и сената, съехался для избрания президента 3 декабря 1887 гола в Версаль. Тихий и безлюдный городок оживился. Прибыло много парижан, среди которых мелькали очень мрачные и подозрительные фигуры. Сильно опасались, что Ферри сделается жертвой простого убийства. Но следует сказать, что он держал себя очень мужественно и проходил среди этих скоплений народа с полным хладнокровием. Опасались, что из Парижа могут двинуться на Версаль целые революционные толпы. Вообще, настроение на конгрессе было очень тревожное. Но партия Ферри была так сильна, что на первом голосовании за него было подано все-таки 213 голосов, хотя 303 голоса тут же было подано за Карно. {161} Если бы выборы производились свободно, не под давлением страха революции, то президентом стал бы, конечно, Ферри. Но на перерыве заседаний, в горячих совещаниях членов конгресса, взяло верх убеждение, что выбирать приходится только Карно, главным образом как человека доказанной честности и чуждого финансовых и промышленных спекуляций. На втором голосовании он и получил громадное большинство голосов.
Итак, «вильсоновщина» была ликвидирована. Возвратившись из Версаля в Париж, я сам в тот же час заметил, насколько умиротворилась городская атмосфера. Но собственно буланжистское движение не было ни ликвидировано, ни умиротворено.
Что такое представлял буланжизм, который и теперь кажется большинству явлением странным, как бы абсурдным? Я не знаю, каковы стали французы в настоящее время, после долгих десятилетий республиканского режима, но в те времена они совсем не были республиканцами, и в этом разгадка буланжизма, как в его эффектном развитии, так и в падении. Французы — говорю о том, каковы они были тогда, — народ свободолюбивый, полный сознания прав человека и гражданина, но они любят единоличную власть, верят только в нее, считают ее лучшей охраной той свободы и прав, которыми так сильно дорожат. Это не значит, чтобы они были монархистами, так как у них чрезвычайно слабо чувство легитимности. Но они любят власть единоличную, сильную, блестящую, энергичную, а лучшим символом ее является генерал. Это народное чувство и окружило ореолом генерала Буланже, единственного человека, из которого фантазия могла создать себе героя, достойного представителя народного идеала. Это была только фантазия, и, когда она распалась, буланжизм пал. Но пока она жила — «le brave general» сделался каким-то идолом огромных масс. Около него орудовали, конечно, и монархисты, но за него было немало и социалистов, за него были, коротко сказать, все враги парламентарного всевластия, то есть основного принципа Третьей республики.
Генерал Буланже имел все внешние качества и условия для приобретения популярности, но не имел никаких крупных политических способностей. Многие его называли ограниченным человеком. Мои личные впечатления вполне это подтвердили. Я его видел, то есть беседовал с ним, только раз, но этого было достаточно. Он говорил величайшие банальности и пустейшие фразы с видом до глупости глубокомысленным. Сама наружность его при разговоре личном, в кабинете, выражала полную посредственность ума и чувства. Лицо, добродушное, с очень крупными чертами, было, пожалуй, довольно красиво, но крайне неинтеллигентное. Я вышел от него с полным убеждением, что такой человек, конечно, не способен ни к какой крупной политической роли.
Но эта посредственность лица, конечно, исчезала при параде. Буланже был высокого роста, плотен, строен. На коне, в мундире, в шляпе с плюмажем, особенно при разных регалиях, он был чрезвычайно эффектен. Он выдавался крупным, ярким пятном на линии войск, заметный, легко отличимый. Военная привычка командовать придавала его лицу повелительное выражение, совершенно исчезавшее в обстановке гражданской и домашней. Лично он был храбрый офицер, умело распоряжавшийся в небольших операциях. В крупных он никогда не бывал. Свою военную среду он знал и любил, умел хорошо обращаться с солдатами. Его любили в армии. Он был силен, вынослив и, став министром, имел всего сорок восемь лет от роду. При близком знании характера французского солдата, каким был и сам, Буланже имел достаточно ума для того, чтобы понять умное и глупое в военных уставах, и все, сделанное им в этом отношении, было целесообразно. Реорганизация войск республики была произведена сначала в виде рабского подражания прусскому уставу. Буланже произвел ряд изменений. Так, например, он сильно увеличил дистанцию, с которой подвигающиеся перебежками войска бросаются в атаку. Немец боится рисковать под пулями, а пылкий француз с увлечением перебегает дистанцию, приводящую наступающего немца в смущение. Да и все реформы Буланже, более сложные и крупные, были умны и удачны. Надо только сказать, что они задуманы и совершены рядом талантливых штабных, особенно генералом Мирибелем, {162} который официально стоял на втором плане иерархии только потому, что был убежденным орлеанистом, тогда как другие генералы оставались бонапартистами. Между тем Буланже считался республиканцем. В действительности он не имел никаких ясных политических убеждений. Что касается реформ, его заслуга состоит в том, что он не помешал работе Мирибеля. Слава же досталась вся генералу Буланже, даже в армии, не говоря уже о Франции.
Моментом, когда Франция окончательно почувствовала в Буланже своего героя, было дело Шнебеле. Шнебеле, эльзасец ролом, был пограничным французским чиновником и под прикрытием этого — ловким военным шпионом. Выследив эту роль его, пруссаки много раз старались захватить его, но Шнебеле оставался неуловим и ускользал из их рук как угорь. Наскучивши этой бесплодной игрой, пруссаки захватили его на французской территории и перетащили к себе. Таков был инцидент, в котором проявились и наглость Пруссии, и ее глубокое презрение к побежденной Франции. Но Буланже при отсутствии ясных политических убеждений был глубокий патриот и, не имея понятия о дипломатии, был французский солдат, полный чувства чести. При первом же известии о случае со Шнебеле он, не дожидаясь никаких разрешений Совета министров, моментально двинул на границу все небольшие военные силы, какие имел под рукой. Я жил тогда в городке Ле-Ренси и видел проезжавшие французские батальоны, видел отношение населения к этому выступлению. Все понимали, что это угроза войны страшной Пруссии, все были серьезны и озабоченны, но у всех виделась решимость на грозное испытание, которого требовала затронутая честь Франции. Дело обошлось благополучно. Смелый самовольный поступок военного министра придал силу дипломатическому протесту Франции, и Пруссия уступила. Шнебеле был освобожден.
Буланже сразу вырос в народные герои. Франция, со скрежетом зубов привыкшая унижаться перед пруссаками, впервые почувствовала себя снова самостоятельной. Это была как бы победа над грозным соседом. И все это сделал «le brave general Boulanger».
Армия тоже радостно всколыхнулась. Пруссакам не только сбили спесь, но это сделали не правительственные штафирки, а свой брат военный, даже не считаясь с ними. Давно бы пора так действовать. Молодец Буланже.
В правительственных сферах, разумеется, чрезмерная независимость военного министра могла, наоборот, возбуждать только подозрительность. Буланже, быть может, плохо сознавал, что делает, но он и вообще в своих заботах об армии держал себя скорее как какой-то представитель армии перед правительством, чем министр, во имя правительства и по его указаниям управляющий военными силами. Он давил на правительство во имя интересов армии, очень мало заботясь об интересах правительства. Он был более солдат, чем правительственный деятель.
Но это-то и давало ему популярность. В нем почувствовали человека неправительственной среды, не ее духа, человека, способного произвести какую-то перемену режима самой конституцией 1875 года, какой-то переворот. Буланже восхищались, устраивали ему овации, толковали о нем всюду. И чем сильнее разрастались эти манифестации при полном равнодушии к другим министрам или даже при ненависти к ним народа, тем враждебнее к Буланже становилось правительство. Буланже силой обстоятельств обособлялся в какую-то внеправительственную силу. Этим, конечно, воспользовались антиправительственные силы, и Буланже начали подбивать на совершение переворота. Для него самого становилось ясно, что перед ним развертываются два пути: или он совершит переворот, устранив существующих владык Франции, или его самого затрут, устранят, выбросят из широкой деятельности.
Буланже колебался и ни в какую сторону не поворачивал решительно. Он был человек весьма средний. Политических идеалов не имел. Большого личного честолюбия у него тоже не было. Зачем производить переворот, что делать с этим переворотом — он не знал. С другой стороны, он пугался такого риска. Храбрый на войне, он не имел гражданского мужества ни на великое дело, ни на преступную авантюру, колебался и шел по воле стихии, хотя не отстранял лиц, убеждавших его захватить диктатуру при помощи армии, вступил в сношения с Орлеанами, помогал и сочинению «легенды Буланже». Он стал ездить на вороном коне, объявил своим любимым цветком красную гвоздику. Вороной конь и красная гвоздика стали его эмблемой. Ленточки цвета красной гвоздики миллионами украшали и дамские шляпки, и бутоньерки, и все, что только можно перевязывать ленточками. Об этой гвоздике сочинили даже целую романтическую историю, связанную с какой-то девушкой, влюбленной будто бы в Буланже, тогда еще молодого офицера: французы очень любят такие сентиментальности. Портреты Буланже распространяли, вероятно, тоже миллионами. Разные листочки и стишки воспевали его военный гений и за неимением прошлых подвигов — будущее торжество его над Германией. Эти песенки сочинял известный кафешантанный композитор Полюс, и они по кафешантанам же и распевались в Париже; если чья-нибудь слава дошла до кафешантанов — это признак великой популярности.
И хотя Буланже не предпринимал ничего зловредного, кроме иногда парадирования на улицах в ландо, запряженном вороными конями, разукрашенными пунцовыми лентами (красная гвоздика), последний кабинет президентства Греви (Рувье) решил не затягивать опасности: он не пригласил Буланже в свой состав. «Le brave general» утратил министерский портфель.
Это был решительный момент. Приверженцы Буланже настоятельно убеждали его ответить на отставку разгоном палаты и провозглашением cвоей диктатуры. Шансы на успех по-видимому были: правительство Греви, через семь месяцев скандально павшее, не пользовалось ни искрой уважения и любви — популярность Буланже стояла в своем зените. Военные советовали ему объявить диктатуру. Париж кричал «Vive Boulanger!», и толпы народа производили манифестации в честь его. Но Буланже не решался.
Помню характеристический вид Парижа в день, когда Военное собрание на avenue de l'Opera дало в честь отставленного министра торжественный обед. Там Буланже превозносили до небес, говорились зажигательные речи. По улицам всюду толпы народа с криками «Vive Boulanger!». Клемансо выходил лично посмотреть физиономию города и вынес самые печальные впечатления. Правительство приняло особые меры для охраны порядка и — чего я не видел даже в очень опасные минуты — расставило по улицам эшелоны войск. Но плохая бы была от них поддержка, думалось мне. На одной улице я видел сильный отряд конной республиканской гвардии среди множества манифестировавшей публики: ничего не может быть дружественнее отношений, установившихся здесь между гвардейцами и толпой.
Весьма вероятно, что быстрый и решительный удар в этот момент сделал бы Буланже диктатором. Но у него не хватило смелости. Он покорно удалился из Военного министерства и затем отправился на назначенное ему место службы — в захолустную Овернь, в Клермон. Это сильно подорвало его популярность: колебания и недостаток смелости не протают герою.
А между тем он не только не отказался от политической роли, а, напротив, тут-то и вступил на путь заговорщика, начал условливаться о восстановлении на престол Орлеанского принца, выговаривать себе командование армией после переворота и т. д. Все это было очень неумно. Вопрос не в том, как совершить переворот, это легко или возможно популярному военному министру, но, выпустив из рук военную силу — какими же путями ниспровергнуть правительство?
Конечно, Франция не сразу покинула своего «le brave general», свою мечту о герое. Агитация в его пользу шла усиленно при помощи огромных средств, отпускаемых на это герцогиней д’Иссез. По улицам там и сям бродили нанятые толпы, которые орали песни, прославлявшие Буланже...
Продавцы этих песен, точнее, раздаватели их публике на улицах всегда распевали их сами, научая таким образом и мотиву песенки. Их рассылали по всей Франции. Основана была газета специально буланжистская. Образовался особый Комитет национального протеста в защиту Буланже. Повсюду шли манифестации в его пользу. Правительство подвергло Буланже трехдневному аресту, придравшись к пустякам, но этот укол булавки только усилил манифестации, и правительство решилось нанести решительный удар: в марте 1888 года Буланже был исключен из службы. Это отрывало его от последнего корпуса, которым он еще командовал, но развязывало руки и окончательно толкало на путь политиканства.
У Буланже и его единомышленников выработан был такой план действий. Генерал являлся кандидатом на все освобождающиеся места в палате депутатов и в случае успеха приобретал вид как бы всенародного избранника. Делаясь депутатом, он пользуется этим только для обличения правительства и требования пересмотра конституции. Программа Буланже сводилась, таким образом, к единственному пункту: пересмотру конституции, в сущности, легальному. Это, вероятно, и успокаивало генерала: он не являлся ни бунтовщиком, ни узурпатором, по крайней мере в данный момент. Однако ясно было, что если бы выборы в трех десятках округов дали Буланже вид некоторого всенародного избранника, а палата депутатов все-таки не исполнила бы его требования — то совершенно неизбежным становились какие-то насильственные действия. Робкого генерала, вероятно, успокаивала мысль, что это будет еще не скоро. Удивительно лишь то, как он не понимал, что правительство не может допустить такой продолжительной агитации, в корне расшатывающей установленный политический строй. Вначале план ревизионистов исполнялся очень удачно. Неостывшая популярность Буланже и огромные суммы, отпускаемые герцогиней д’Иссез на выборную агитацию, привели к тому, что генерал был избираем всюду, где ставил свою кандидатуру, то есть, сколько помнится, в шести департаментах. В качестве депутата он явился в палату, и я присутствовал на бурно-шумном и скандальном заседании, где он сделал свое заявление.
Речь генерала была превосходна. Она составлена не им самим, а, помнится, его единомышленником и товарищем Диллоном. Но речь эту я прочел лишь в газетах, так как в зале заседаний нельзя было расслышать ни слова, а общий ее план передал нам один осведомленный репортер еще до открытия заседания.
Palais Bourbon представлял вид чрезвычайный. Все ложи всех ярусов набиты до предела. В ложах журналистов такая же теснота. Палата в сборе до последнего человека. Вот наступает торжественный момент. Генерал Буланже восходит на трибуну.
Здесь, в гражданской обстановке и костюме, он совершенно не имеет величественного вида, как бывало в строю. Даже как будто сутуловат. А впрочем, крупная фигура его хорошо выдается, и держит он себя непринужденно. Появление его встречается палатой шумными, негодующими криками. Собственно говоря, правые скамьи и центр просто молчат, но все левые группы орут во всю глотку. Буланже с тетрадкой в руках стоит, посматривает туда-сюда и ждет, когда смолкнет этот рев. Наконец смолкают, и он начинает читать речь. Французы народ красноречивый, речь должно произносить устно, даже с видом экспромта. Конечно, можно иметь заметки, справки, которые приходится взглянуть на листке, но речь — всегда устная. Буланже, в полное отличие от парламентского красноречия, начал читать свою тетрадку, даже без особенной выразительности. Впрочем, не успел он прочесть и нескольких строк, как рев возобновился, и мало того, что рев, — депутаты стучали ногами, колотили из всей силы линейками в пюпитры, по всей палате стоял грохот, смешанный с какими-то нечленораздельными криками... Буланже остановился, подождал, пока стихли, стал снова читать, но с первого же его слова возобновляется дикий шум. Так повторялось раз пять.
Наконец Буланже махнул рукой и стал читать свою тетрадку видимо, даже тихим голосом и спешно, а депутаты, то есть, повторяю, левая половина амфитеатра, продолжали орать, топотать, лупить чем попало в пюпитры. Это продолжалось все время, пока Буланже читал. Зрелище, нужно сознаться, получилось отвратительное. Левые группы своим кабацким скандалом хотели выразить, что они не желают слушать Буланже, который, однако, был депутат и не только имел право, но и обязан был говорить. В публике все симпатии были очевидно на его стороне, и из лож кричали на левых депутатов: «Сборище негодяев!» и тому подобные ругательства. Но разумеется, и эти крики могли слышать лишь ближайшие соседи.
Наконец Буланже кончил и передал тетрадку секретарю, а сам удалился из палаты. Депутаты тоже стихли. Публика начала расходиться. В Palais Bourbon больше нечего было делать.
Речь Буланже состояла в следующем. Заявив, что он удостоен избрания, он говорил, что рад бы послужить избирателям, но этому неодолимо препятствуют некоторые обстоятельства. Затем следовало объяснение этих обстоятельств, то есть жесточайшая, умная, едкая критика конституции, правительства, депутатов, всех партийных дрязг, злоупотреблений, общей стачки против всяких улучшений, необходимых для блага Франции. Эта организованная сплоченность злонамеренности делает для честного человека безусловно невозможной деятельность в такой среде, почему он, Буланже, считает, к прискорбию, немыслимой свою работу и слагает с себя депутатские полномочия.
В тот же день телеграфы и телефоны разнесли эту речь по всей Франции.
Так началась борьба не на жизнь, а на смерть. Она длилась еще год и вносила в страну страшную агитацию, подрывая правительство и подымая популярность Буланже. Но в сущности, борьба эта была довольно безнадежная, потому что материальных способов низвергнуть правительство у ревизионистов не было. А сторонники правительства тоже, конечно, принялись за контрагитацию, организовали манифестацию против Буланже с криками «Позор Буланже!», обвиняли его в двуличии, в служении Орлеанам и т. п. На выборах в департаменте Сены генерал даже впервые потерпел поражение. Но правительство находило его все-таки слишком опасным и предало его Верховному суду.
Это был второй решительный момент в истории Буланже. Если бы он предстал перед судом, то, конечно, его могли засадить в тюрьму за оскорбление правительства, могли бы сочинить и государственную измену, но все это было бы явно произвольно и беззаконно. Под влиянием общественного негодования суд мог бы даже оправдать Буланже, да он и в тюрьме мог бы остаться победителем. Совершенно невероятной была бы смертная казнь. Но Буланже и в этот решительный момент дрогнул перед риском и в апреле 1889 года эмигрировал в Брюссель, нанеся этим страшный удар своей репутации национального героя.
Буланжизм быстро пошел на убыль, а в сентябре 1891 года сам Буланже застрелился на могиле г-жи Боннемень, которую давно любил, которая, говорят, и убедила его эмигрировать, а затем скоро сама скончалась. Буланже оставил письмо, в котором объясняет, что не может ее пережить. Конец для человека пятидесяти четырех лет, взявшегося было за спасение Франции, — смешной и жалкий, еще раз показавший, как мал был этот претендент на великие дела.
Но вся история буланжизма обнаружила несравненно более важный исторический факт: что как ни мало удовлетворял Францию ее строй, но элементов для революции в ней в те годы не было. Строй был слаб, недовольство против него кипело всюду, в самых противоположных слоях. Но ни в одном из них не было силы создать что-либо прочное на место этого строя. И он держался, как сказочная избушка, которая стоит потому, что не знает, на какую сторону ей упасть. Франция была не страной революции, но страной оппортунизма, как это, очевидно, правильно понял крупнейший из ее государственных людей той эпохи — Гамбетта, по личному темпераменту более склонный к революционному перевороту.
Верующая Франция
Мои наблюдения Франции относятся к очень давнему времени (1882–1887 годы), и с тех пор, конечно, многое в ней изменилось. Но в то время Францию трудно было назвать не только атеистической, но даже антикатолической. Огромная сила католической Церкви и значительное число верующих сказывались повсюду. В 1882 году я с семьей проживал в Савойе, в селении Морне, близ Аннемаса, и скоро увидел, что без местных католических учреждений во многих отношениях нельзя было ступить и шагу. Так, например, медицинская помощь вся была в руках церковных учреждений. Там была прекрасно поставленная община сестер милосердия, в которой были и прекрасная аптека, и амбулатория, и лазарет. Они обслуживали население очень хорошо, и помимо этой общины никто не получал медицинской помощи. Точно гак же огромна была роль Церкви и в школьном деле.
Но Савойя — страна отсталая. Однако скоро под Парижем и в Париже я с удивлением увидел в населении множество верующих католиков — как в верхних, интеллигентных слоях, так и в массе народа. Достаточно было походить по парижским церквам, чтобы заметить это. Куда ни заходил я, везде находил огромное количество молящихся, иногда даже до тесноты. В Notre Dame de Paris я был во внебогослужебное время. Этот храм открыт и в течение дня вообще. И я видел молящихся в часовенках, занимающих боковые части церкви. Но лучше всего было наблюдать в своем приходе, на avenue du Maine, в церкви Saint Pierre, куда я заходил очень часто.
Наш дом находился в каких-нибудь двухстах шагах от церкви, и окна квартиры — приблизительно на высоте колокольни. После первого же ночлега утром на меня повеяло чем-то русским: заслышался благовест, конечно, не наш, но все-таки благовест. Притом колокол в церкви был большой, с хорошим звуком. Скоро он меня заманил пойти посмотреть храм. Наша русская церковь была от нас очень далеко, на rue Daru, ехать и идти туда составляло целое путешествие, и я любил заходить в католические церкви. Конечно, с «раскольниками» молиться не полагается, но я вспоминал слова Филарета Черниговского, что перегородки, сделанные нами между исповеданиями, вряд ли доходят до неба.
Церковь оказалась посвященной святому Петру. Это было огромное готическое здание, довольно некрасивое снаружи, с высокой остроконечной колокольней. Внутри — высокое пустое пространство, стрельчато сводящееся длинной острой линией вверху. Сознаюсь, не по сердцу мне эта готика. В ней, конечно, выражается стремление кверху, к небесам, но она как-то холоднее, не согрета задушевностью. Храмы все обставлены контрфорсами, как будто не могут держаться и грозят падением. Сверху из-под крыши всюду высовываются какие-то длинные безобразные чудовища. Я спрашивал, зачем вокруг храма делается эта гадость. Мне объясняли, что это адские силы, бегущие от храма Божия. Уж не знаю, только это некрасиво и напоминает тех чудовищ, которые в церкви Хомы Брута (у Гоголя в «Вие») позастряли в окнах, торопясь удрать из храма после пения петухов. Да и внутри храма католического какая-то пустота. Бесчисленные украшения православных церквей, множество образов и стенная живопись производят впечатление, что здесь на каждой квадратной сажени живет и действует мысль о Боге, о святых, о церковной жизни с Божеством. У католиков даже при образцовой архитектуре все же чувствуется пустота. Только алтарь в своем роде хорош и привлекает мысль и чувство к Богу. Наш же Saint Pierre вдобавок был довольно некрасивой архитектуры — вроде огромного сарая. Вся его середина была, конечно, уставлена скамейками вроде школьных парт, с нижней стороны которых у каждого места приделана особая ступенька, для того чтобы становиться на колени. При входе в церковь и вдоль обеих стен, справа и слева, — широкие пустые пространства, где могли находиться молящиеся стоя. Тут же тянулось два ряда чугунных трисвещных газовых фонарей для освещения храма. Справа, близ алтаря, наискось к молящимся, — очень высокая кафедра. На хорах — орган. Впрочем, к нам в чрезвычайных случаях приглашался и хор певчих из оперы. Впереди, в глубине церкви, на высокой эстраде, виднелся очень высокий, конечно, открытый алтарь.
В этом храме я часто бывал и на простых службах, и на торжественных, конечно, стоя сзади и не забираясь на скамейки. Народа всегда было много, в торжественных случаях он заполонял все скамейки, и некоторое количество молящихся даже стояло вокруг меня. Молитва происходила в величайшем порядке. Никакого шума, никаких разговоров. Между двумя рядами скамеек стоит какой-то распорядитель, вроде швейцара, весь в галунах и, кажется, даже в шляпе с плюмажем, а в руках его огромная булава. Ею он дает команду богомольцам: стукнет — и все подымаются с мест, стукнет на другой манер — становятся на колени. Все взоры обращались к алтарю, который в этом огромном, пустом пространстве и сам по себе не может не привлекать к себе внимания.
Он светится огнями — свечи, лампады. Около него духовенство в своих ярких, раззолоченных одеяниях. Там же видны группы мальчиков в цветных стихарях. Там, у алтаря, движутся, светятся, оттуда среди всеобщей тишины разносятся по храму слова молитвы. Здесь мне пришлось слышать и проповедь.
Особенно раз она на меня произвела сильное впечатление. Дело происходило перед каким-то праздником, на котором должен был совершаться крестный ход. В церкви нашей шла торжественная служба с оперным хором, и на произнесение слова был приглашен какой-то знаменитый проповедник. Говорил он действительно прекрасно, не только по искусству чисто ораторскому, но и по самому содержанию речи. В это время французская республика уже воспретила оказательство религии в публичных местах. Даже на похоронной процессии нельзя было петь молитв или служить литии. Священник ехал за гробом в закрытой карете и там, не видимый никому, потихоньку читал свой требник. Только на самом кладбище он получал право публично молиться. Крестные ходы на улицах были воспрещены и могли совершаться только домашним образом, то есть внутри храма или во дворе, если при церкви был двор. Проповедник, приглашенный к нам, упомянув о предстоящем крестном ходе, очертил яркую картину этого торжества, как оно происходило прежде. «Увы, — воскликнул он, — мы теперь уже не можем увидеть ничего подобного, а как хорошо и величественно должно было быть это зрелище. Но что делать! Мы не можем восхвалить Бога так, как делали отцы наши. Постараемся сделать это так, как разрешает закон, сделаем что можем». Нельзя не сказать, что при этом сопоставлении слушателя охватывало глубокое негодование против религиозной нетерпимости республики, имеющей своим лозунгом «свободу».
Я видел этот крестный ход в нашем Saint Pierre’е. У церкви был сносный двор, но на некотором пространстве около колокольни он суживался в тесный проход, чуть не в аршин шириной, отделяясь от улицы железной решеткой. Тут можно было проходить гуськом только по одному человеку. Конечно, крестный ход терял даже подобие какой-нибудь величественности.
Но в это же время в Notre Dame de Paris происходил крестный ход внутри храма, по разным его переходам, и я читал тогда в газетах, что в нем участвовало семь тысяч человек. Это значит, что в крестном ходе был полный комплект людей, так как, судя по глазомеру, в Notre Dame едва ли может поместиться более 7000 человек.
Другой приход, который мне приходилось близко наблюдать, — это в Ле-Ренси, небольшом хорошеньком городке или огромной деревне верстах в сорока от Парижа. Я прожил в Ле-Ренси тогда два года. Это бывшее имение Орлеанов, конфискованное при Наполеоне III и распроданное небольшими участками, чтобы навсегда оторвать эту местность от прежних связей с Орлеаном. И действительно, при мне это была местность в партийном смысле радикальная. Церковь — прежняя, выстроенная при Орлеанах, насколько могу судить, романского стиля, очень красивая и уютная, была набита народом, который не умещался на скамейках и стоя наполнял храм, так что получалось совершенно русское впечатление. А между тем местность не какая-нибудь реакционная, а радикальная.
Неподалеку от Ле-Ренси, верстах в десяти от него, мне пришлось видеть весьма любопытное богомолье. В тех местах и теперь находится довольно большой лес Бонди, остатки некогда громадного бондийского леса, знаменитого в легендах вроде наших брянских лесов. В этом лесу Бонди со стародавних времен находится часовня Божией Матери — Notre Dame des Anges. Когда-то лес был наполнен разбойниками, и в руки их однажды попался купец, который чудом Божией Матери, пославшей ему на помощь ангелов, был спасен от неизбежной смерти. Подробностей этого происшествия я не знаю, не помню, но благодарный купец поставил на месте своего спасения часовню Notre Dame des Anges. Эта часовня и служит поныне местом богомолья, так как изображение Божией Матери считается чудотворным. Богомолье это (в какое-то летнее время) продолжается дней, помнится, десять и привлекает к себе свыше 150 000 человек. И это в «атеистической» Франции, в нескольких десятках верст от Парижа.
Я узнал о богомолье случайно, от хозяйки дома нашего мадам Дюпрель, которая, проходя по двору, сказала, что только что возвратилась из Notre Dame des Anges. «Что же это такое?» Она объяснила. Эти Дюпрели были парижане. Сам муж имел в Париже колбасное заведение и, нажив капитал, купил в Ле-Ренси хороший дом. Оба, муж и жена, были вполне цивилизованные люди.
Конечно, я решил немедленно идти посмотреть, что за богомолье. Дорога все время шла лесом, и мне постоянно попадались группы мужчин, женщин и детей, идущих к Notre Dame des Anges или возвращающихся оттуда. Не было ни малейшей опасности сбиться с пути. Часа через два стал слышен вдали гул голосов, и передо мной раскрылась лесная поляна, где стояла часовня Notre Dame des Anges. Я вышел как раз к ней.
Сама по себе часовня небольшая и довольно скромная, но она была буквально вся в свечах... В ней шли без перерыва молебны, и толпа народа окружала ее. Другие толпы были рассеяны по кустам и на поляне, где происходила целая ярмарка. Множество балаганов расположились на поляне. В них продавались разные мелочи, относящиеся к богомолью: крестики, образки, разноцветные ленты, шнурки, бусы, четки, игрушки для подарков детям. Половина балаганов представляли походные кухни. Тут жарили, пекли и варили всякие веши для продовольствия богомольцам. Воздух был наполнен вкусным запахом кушаний и чадом горелого масла. Толпы народа отдыхали вокруг на траве, угощаясь этими блюдами. Другие покупали образки и игрушки. Кругом раздавалось жужжание сотен голосов, а издалека от часовни доносились звуки молитвенного пения.
Я невольно переносился воображением на далекую родину. Странно было представить себе, что это происходит в центре Франции, а не где-нибудь на русском богомолье у какой-либо чудотворной святыни.
К какому классу принадлежат те, которых я видел по церквам и на богомолье? Есть ли в них какой-нибудь процент настоящих пролетариев? На это я не могу ответить. Я знал только рабочих социалистов и революционеров, и они, конечно, полагаю, были неверующие. Но вообще рабочие большей частью происходят из крестьян, среди которых большинство верующих. Сохраняется ли что-нибудь из домашней веры в душах крестьянских детей, ставших рабочими? Как знать? Чтобы отвечать на это, нужно большое знание рабочей среды, которого у меня не было. Думаю, однако, что классовый состав верующих очень пестрый. Огромная доля буржуазии принадлежит к неверующим, но это не мешает другой части принадлежать к верующим То же самое может относиться и к рабочим. Впрочем, вообще на этот вопрос, конечно чрезвычайно важный, не могу ничего сказать. Факт лишь в том, что в мое время во Франции верующих было очень много.
Это проявлялось и в отдельных случаях жизни. Так, например, в несколько приличном обществе при свадьбах после гражданской записи у мэра всегда совершалось и церковное венчание. Точно так же время от времени на улицах постоянно попадались веселые и оживленные толпы девочек-подростков в белых платьях: это совершалось premier communion (первое причастие). Вера держалась всюду, и духовенство работало энергично.
Мне пришлось иметь знакомство с несколькими интеллигентами, принадлежащими к Церкви и исполняющими все ее обряды. Некоторых побудило стать в ряды католиков негодование против насильственных мер республики в отношении веры и Церкви. Таков был знаменитый в своем роде Копен Альбанселли, обличитель франкмасонства и еврейства. Он сам объяснял, что разорвал с масонами и перешел на сторону католиков в виде протеста против атеистических насилий. Но я не знал Копена Альбанселли, а зато случилось познакомиться с не менее знаменитым Дрюмоном, точно так же антимасоном и антисемитом. В то время он был еще почти молодой человек с умным, энергичным лицом, весьма развитый и воинствующего характера. Он мне рассказал, что был социалистом-революционером, но, когда республика начала преследования против веры, он увидел, что принципы республики лживы, и перешел к католикам, оставшись, впрочем, социалистом, но — христианским.
Я, конечно, не могу судить о личной религиозности Дрюмона. Со мной он говорил о вере и Церкви больше с социальной точки зрения, видя в них великую устроительную силу. Католическую же Церковь поддерживал со всей энергией, борясь особенно с франкмасонами и евреями как главными врагами католицизма. Он уверял меня, что сила католицизма во французском народе очень велика, и в то время надеялся, что народ выступит на защиту веры. Буржуазия, говорил он, слаба в борьбе, она ограничивается словесными протестами. Но крестьянин не таков — он пускает в дело кулак, и когда он выступит, то республике придется отказаться от притеснения Церкви. Все это оказалось впоследствии фантазиями, и крестьянин хотя не отказался от веры, но за нее не поднял бунта.
Столь же фантастичными были мечты Дрюмона и о будущем торжестве католической Церкви. Он говорил, что желает скорейшего наступления социальной революции. Когда она сметет существующий строй и придется устраивать что-либо новое, то власть перейдет в руки католической Церкви. «Мы, — говорил он, — представляем наилучше организованную силу Франции, силу, которую нельзя разрушить, и, когда все вокруг рухнет, мы сделаемся господами положения. Церковь все заберет в свои руки и возобновит цивилизаторскую миссию, как было в средние века». Не сомневаюсь в полной фантастичности таких ожиданий Дрюмона, но слова его характеризуют настроение известной части католиков того времени. А настроение это могло являться только потому, что они видели во Франции многочисленных верующих.
Дрюмон, впрочем, как был, так и остался политиканом. Но у меня были знакомые, верующие просто для себя, даже и говоря о своих верованиях только при случае. Таков был мой приятель Альбер Савин, прекрасный человек, о котором я долго и не знал, что он католик, исполняющий обряды. Политикой он не занимался безусловно, даже в выборах никогда не участвовал. Республику он презирал и отрицал, но даже и против нее активно не боролся, а мечтал о серьезной литературной деятельности, по изящной словесности был почти ученым, кое-что и написал, имел свое книгоиздательство и книжный магазин.
Точно так же я долго не знал, что молоденький поэт-декадент Поль Адан — католик. Это был совсем молодой, чистенький и франтоватый интеллигент, образованный, очень неглупый. Тогда декадентство только что зарождалось, и Поль Адан был из его пионеров. Стихи его были очень звучные, но, конечно, смысла в них очень часто нельзя было схватить, хотя Поль Адан очень усиленно старался мне объяснить теорию символизма звуков. Жил он очень бедно, вечно без гроша, и, будучи всегда с иголочки одет, далеко не всегда ел. Хорошенький и изящный, он не мог равнодушно видеть женщины, чтобы не начать ухаживать. И вот он оказался ревностным католиком. Однажды мы разговорились о наследственности, которой я придавал важное значение в социальном смысле. «Знаете, — возразил он, — эта наследственность не всегда существует, и даже в новых поколениях выражается прямая противоположность прежним. Что общего, например, у меня с отцом моим? Он честный буржуа, сумел нажить состояние, живет аккуратнейшим образом, отвергает всякую религию, обожествляет великие принципы 1789 года и республику. Я способен только спускать с рук всякий грош, какой в них попадется, живу, как сами видите, беспутно, дорожу поэзией, которая смешна моему отцу, а мне смешны его великие принципы, и республика возбуждает мое отвращение; наконец, я католик, хотя и социалист. В чем же выразилась у меня наследственность от отца?» Он действительно был христианином, и именно в католическом понимании христианства, со всей его дисциплиной, со всем его отрицанием свободы.
В таком же роде был его приятель, хотя много старше его, — Жеган Судан. Это был чрезвычайно талантливый писатель и предприимчивый, очень умный человек с большими знаниями. Я не знаю, на какие средства он жил, но иногда имел деньги и, как говорят, любил тогда кутнуть по всей тонкости парижского прожигания жизни. По потом это ему надоедало, и он исчезал куда-нибудь подальше, в неведомые страны. Ум его французски тонкий и наблюдательный, он хорошо знал жизнь и людей, со всем скептицизмом такого знания. Так вот, он оказался католиком, и притом, видимо, хорошо изучал верования, знал и догматы, и религиозную философию своей Церкви, и вообще религиозные точки зрения освещали для него его личное существование.
К политическому строю Франции он относился отрицательно. Как-то, возражая на его критику французского республиканского строя, я заметил: «Ну однако же надо иметь свободу». Он насмешливо скривил губы; «А что же вы хотите делать со свободой?» Я указал ряд случаев, когда мне для действия необходима свобода. Но находившийся тут же Поль Адан возразил: «Вы хотите сказать, что вам нужны известные права, гарантированные права. Это очевидно, но какое же отношение они имеют к свободе?»
На общую почву свободы по существу ее перевел разговор и Жеган Судан. По его рассуждению, нам со свободой нечего делать. Мы ее не можем направить на собственное благо, и нам для этого нужна вовсе не свобода, а, напротив, руководящая рука, которой бы мы подчинялись. Я пытался поставить спор на религиозную почву, так как реальность свободы, а следовательно, и ее необходимость составляют идеи существенно христианские. Но Жеган Судан остался неуязвим. «Вы, православные, еретики», — заявил он и указал на религиозную необходимость не свободы, а дисциплины. В отношении дисциплины французские католики, каких пришлось наблюдать, все одинаковы. Руководители их Церкви удивительно умеют внушить идею дисциплины, и католики не только подчиняются, но и желают подчиняться. Основные черты их, бросающиеся в глаза, — это дисциплина, твердость исповедания своей воли и прозелитизм.
В этом духе воспитывается само духовенство и дает мирянам пример. Это заметно по каждой мелочи. Несколько раз мне приходилось видеть семинаристов, целым отрядом, в несколько десятков человек, проходящих по улице. Эти дюжие молодые парни в своих длинных черных подрясниках привлекали к себе внимание всей публики, и внимание, конечно, неблагосклонное: они проходили сквозь строй насмешливых взглядов и замечаний. Но это их нимало не смущало, они шли спокойно и бесстрастно, как будто кругом их никого и не было. Еще более удивляло меня спокойствие босоногих монахов, не помню, францисканцев или бенедиктинцев. Их непокрытые головы и ноги, совершенно босые, кроме подошвы, вместе с какими-то коричневыми рясами составляли на парижской улице действительно странное зрелище. Публика их бесцеремонно оглядывает, слышатся иронические фразы. Но монах идет невозмутимый, покойный, не обнаруживая ни малейшего смущения. Это самообладание прямо поражало.
Проходя по Люксембургской аллее около обсерватории, я нередко встречал прогуливающегося монаха с молитвенником в руках, куда по большей части и были устремлены его взоры. Проходящая публика посматривала на него с нескрываемой насмешливостью. Ясно было, что на него смотрели как на лицемера, который воображает обмануть публику, будто бы он действительно читает свои молитвы. Но монах продолжат медленно шагать и смотреть на свой молитвенник. Ему полагается прочитать молитвы, он читает, и какое ему дело, что по этому поводу думает публика! Он не обращал на нее ни малейшего внимания, без всякого вызывающего вида, без смущения, совершенно как будто он прочитывал свои молитвы в саду своего монастыря.
Нигде католик не прятался, не стыдился быть самим собой, и словами, и костюмом, и исполнением обязанностей веры исповедовал эту веру. Это своего рода проповедь. Но и прямой прозелитизм глубоко внедрен в католике. Когда мы жили в Ле-Ренси, к нам приехала одна русская эмигрантка, m-lle Ландакурова, которой хотелось поступить в зубоврачебную школу, а для этого сначала выучиться свободно говорить по-французски. Денег у нее, конечно, было немного. Моя жена придумала поместить ее в пансион общины сестер милосердия, находившийся в нашем городке. Bonnes sceurs (монашки) были очень милы и приличны, в общине соблюдались величайшая чистота и порядок, а за комнаты, со столом, община брала чрезвычайно дешевую плату. M-lle Ландакурова и поселилась б этом пансионе, где в разговорах с болтливыми сестрами действительно очень скоро обучилась языку. Но эти милые bonnes sceurs чуть не с первого же дня стали обращать ее в католичество. M-lle Ландакурова тогда была совершенно неверующая, она не стесняясь хохотала по поводу миссионерства сестер. Но те не смущались и продолжали свое. Они выражали ей свою горесть по поводу того, что душа такой хорошей барышни должна будет пойти в ад, удивлялись, как она не может понять благ истинной веры, расхваливали особенно доброго святейшего отца. Однажды как-то римский папа прислал по какому-то случаю свое благословение и отпущение грехов верующим. Bonnes sceurs тотчас стали охать о том, что бедная m-lle Ландакурова не имеет участия в этой благодати и что милость святого отца не может на нее распространиться... Может быть, эта наивная искренность веры не осталась даже без некоторого влияния: хоть m-lle Ландакурова и не перешла в католицизм, но муж ее (она скоро вышла замуж) передавал мне года через три, что она сделалась очень религиозной, посещает церковь и так далее.
Без сомнения, те годы, к которым относятся мои воспоминания, были временем поднятия религиозного чувства во Франции, как это говорил тогда и наш соотечественник отец Мартынов, состоявший в ордене иезуитов. Но, во всяком случае, тогда католицизм казался силой очень могущественной. Не знаю, как дело обстоит теперь, но от некоторых лиц мне приходилось слышать, что и теперь верующих во Франции очень много и что католическая Церковь очень успешно борется против атеистической политики республики.
Приблизительно в 1906 году я рассказывал в семействе академика Клавдия Петровича Степанова свои воспоминания о силе католичества во Франции. Француженка, гувернантка детей Степановых, заметила мне: «Но, мсье, и сейчас то же самое. Послушайте, что пишет мне сестра». И она прочла обширные отрывки из письма сестры, сообщавшей разные новости, не помню, из Дижона или Лиона. Крупнейшим событием было посещение города каким-то архиепископом, и то, что описывалось в письме, превосходило все, что я сам видел во Франции. На торжественную встречу архиепископа собрались толпы народа, больше ста тысяч человек. Письмо подробно указывало площадь и улицы, занятые народом, и знающая свой родной город гувернантка пояснила мне, что толпой было занято все пространство, которое только возможно было занять. Народ покрывал собой даже крыши. Письмо далее описывало торжественные чествования архиепископа, превосходившие все, что можно было представить в те времена у нас.
Другой раз, примерно в 1910 году, мне рассказывал свои французские впечатления один совершенно безразличный к вере русский, проводивший свои летние каникулы в Сен-Мало и других пунктах по Ла-Маншу. Так как уже несколько лет во Франции принимались усиленные меры для недопущения духовенства к народному образованию, то я, естественно, поинтересовался, как переносит духовенство этот страшный удар его влиянию. «О, я сам этим интересовался и очень к этому присматривался, — отвечал мой собеседник. — И представьте себе — духовенство прекрасно ведет свои дела». — «Но каким же образом?» — «Приспособляется». И он мне подробно рассказал образчик из жизни школы, особенно близко наблюдавшейся им. Все дело, конечно, в том, что родители хотят религиозного воспитания детей и помогают духовенству во всем, что оно придумывает для обхода закона. Так, в одном городке священник устроил образовательные прогулки детей за город. Этот священник — молодой, веселый, умный, прекрасный педагог — идет с толпой детей в поля, в леса и действительно объясняет им многое о растениях, животных, явлениях природы, о разных попадающихся по пути сооружениях и т. п. Дети от него в полном восторге. Но разумеется, священник находит при этом случай говорить и о религии, а возвращаясь с прогулки, вся компания заходит для отдыха в церковь, и здесь уже происходит правильная катехизация. Дети довольны, родители довольны, преподавание религии совершается успешнее, чем при школьных уроках, а начальству не к чему придраться, тем более что неудобно чересчур возбуждать негодование родителей.
Разными способами, таким образом, вера, изгнанная из школы, доходит к детям вне ее. Конечно, Церкви для успеха в этом приходится все более повышать качественный уровень своего преподавательского персонала.
Повторяю, что мой собеседник был просто любознательный наблюдатель, лично нерелигиозный и менее всего способный симпатизировать римскому католицизму.
Думается мне поэтому, что католицизм если и потерпел во Франции сильные удары, то упорно защищается и почерпает для этого силы в том, что в самом населении имеются значительные массы верующих, восстающих против антирелигиозной политики правительства.
Последние годы парижской жизни (1887–1888)
I
В моей жизни не было эпохи более тяжелого и мучительного перелома, как жизнь в Ле-Ренси. Но это время, казалось бы такое мрачное, у меня и тогда согревалось каким-то внутренним светом, а теперь вспоминается в тихом, торжественном ореоле, полное поэзии.
Мы переехали в Ле-Ренси вдвойне невольно. Только что перенесли мы время ужасной болезни Саши, о которой и теперь вспоминаю с дрожью по телу. Когда-нибудь; если Бог даст, запишу и эти мучительные месяцы, в течение которых мы ежедневно ждали смерти Саши (он был болен менингитом), но смерть не приходила, не проходили и припадки болезни, эти ужасные боли головы, от которых несчастный кричал как в пытке, эти конвульсии; продолжалось мучительное лечение, падавшее на меня, никогда не сходившие мушки, которые я ежедневно сдирал, сдирал, при криках мальчика, со сжатыми зубами, ежедневно спрашивая себя: из-за чего я его мучаю? Все равно помрет! Но невозмутимый доктор, не подавая никакой надежды, повторял: «Мы обязаны все сделать, пока он жив...» Месяцы он провел с мушками (пять штук), месяцы днем и ночью лежал у него лед на голове, месяцы он питался клизмами, вечно принимал лекарства, которые приходилось заставлять принимать угрозами, криками: «Глотай непременно, силой воли!» И случалось силой вливать, разжимая челюсти мученика. Боже мой, сколько я вынес! Я бы десять раз согласился сам умереть!.. Но не нами выбирается крест... Проглотит, бедный, и вдруг — рвота. Опять кричишь: «Не смей, не смей!» — и это часто помогало. Это ужас — быть средневековым палачом маленького существа, которое любишь больше всего на свете. Но когда попадались часы, свободные от мучений, когда Саша чувствовал себя лучше — чего я только не делал, чтобы скрасить ему эти часы! Я выдумывал бесконечные сказки, игры, доступные больному, носил его, покупал игрушки. Я утешал себя: «Завтра помрет, пусть проведет счастливую минуту...»
Несчастная Катя тоже билась с больным, дежурила попеременно со мной, но, измученная сама, рыдала, затыкала уши, убегала при припадках. Это была пытка, ужас, которого и выразить не в состоянии.
И мы жили под этим дамокловым мечом еще долго. Случалось потом в течение года, что мальчик целый месяц хорош. Потом вдруг начинаются грозные признаки: косоглазие, страхи, рвота и так далее.
Это было испытание, которое равнялось только глубине пропасти, из которой оно должно было меня вытащить — или, лучше сказать, нас.
Наступали летние грозы, и близился праздник 14 июля, годовщина их республики. Саша был сравнительно хорош; лед с головы сняли, питание улучшилось, хотя остальной режим продолжался. Мальчик немного ходил. Доктор объявил, что его обязательно вывезти в деревню, что это единственный шанс воспользоваться улучшением хода болезни, приводившей его в недоумение. Мальчика раньше приговорил к смерти сам Жюль Симон — знаменитость, выше которой не было в Париже.
Доктор потом цитировал Сашу на лекции как случай необыкновенный, а мне (уже в Ле-Ренси) сказал раз: «Знаете ли, что вы должны считать себя необыкновенно счастливым: от таких болезней люди не выздоравливают». Итак, нужно было везти Сашу в деревню, притом же до 14 июля, так как шумный праздник с бесконечными ракетами (мы жили на avenue Reil, около самого парка Монсури, где дается великолепный фейерверк) — этот праздник был опасен для мальчика.
Одновременно с этим у меня произошла история с префектурой, о чем тоже скажу, если придется. Меня хотели застращать и заставить выехать из Франции, но благодаря заступничеству Клемансо дело кончилось тем, что министерство согласилось, чтобы я выехал только из Парижа на некоторое время, чтобы оно имело возможность «смотреть сквозь пальцы».
Все это было, по существу, нелепо, потому что я уже не занимался никакой политикой. Как бы то ни было, нужно было подчиниться, тем более что случайно это совпадало с предписанием доктора для Саши.
Ехать, но куда? Я выбрал Ле-Ренси. Во-первых, это местечко, находясь в часе езды от Парижа, в то же время принадлежит уже к департаменту Сены и Уазы — стало быть, удовлетворяло требованиям министерства. Во-вторых, мой издатель рекомендовал его как чудное, лесистое место. Это оказалось справедливо, и при осмотре Ле-Ренси очаровало нас с Катей своей деревенской роскошью. В-третьих, доктор одобрил выбор. В-четвертых, Ле-Ренси было до того даже неведомо эмигрантам, ни одной души их там не было, а путешествие туда было нелегко, потому что Восточный вокзал далеко от Латинского квартала. Мне же эмигранты тогда надоели, осточертели до отвращения, я жаждал быть один с чем-нибудь реальным: с лесом, буржуа, лошадьми и коровами — с чем угодно, только подальше от этих фраз и от этих людей, которые мне опротивели своей глупостью (как мне казалось).
Я также рад был поселиться в месте жительства моего издателя. Думал, что через него заведу знакомства с французами. Я же интересовался ими вообще, а в частности — ввиду необходимости жить французской литературной работой.
Мы наняли в Ле-Ренси отдельный флигель в доме мсье Депреля, на avenue Thiers, № 49. Двор Депреля был довольно обширен; в середине находилась площадка, скрытая под тенью двух гигантских вязов; этим вязам, имевшим в обхвате около девяти-десяти аршин каждый, обитатели считали более тысячи лет. Их ветви покрывали чуть не весь остальной сад, расположенный вокруг площадки. За садом шла вокруг полоса двора, вроде широкой дороги, а затем с трех сторон дома и заборы, с четвертой — улица. Все было чисто выметено, подрезано, высыпано песком, в саду масса цветов, особенно лилий и роз. все благоухало и красовалось. Мы были очарованы после нескольких лет городской гадости. Депрель дал и нам маленький кусочек земли для огорода, на пять небольших грядок. Вокруг дома Депреля во все стороны, по всем улицам тянулись роскошные дачи с вековыми садами. В двухстах шагах от нас особенно хороша была совершенно пустая поляна на легком косогоре, обрамленная роскошными великанами каштанами, а местами заросшая леском. Она подымалась в развалинах бывшего дворца Луи Филиппа, {163} теперь густо заросшего лесом, местами труднопроходимым. Под этим лесом вдоль улицы видны подземные галереи со сводами.
Налево из нашего двора шли такие же лесистые улицы, минут через десять приводившие в настоящий дикий лес, еще сохраняющийся на нескольких стах (около 600, кажется) десятинах пространства. Вообще, та часть Ле-Ренси, в которой мы поселились, построена на месте некогда страшных разбоями дремучих лесов Бонди; леса Бонди до сих пор служат темой страшных романов. Остатки этих лесов, когда-то тянувшихся на сотню верст, составили имение Луи Филиппа: ему принадлежало Ле-Ренси. Нынешняя школа есть не что иное, как его охотничий дом, прежде бывший среди леса. В Ле-Ренси и теперь еще охотятся парижане. По изгнании Луи Филиппа Наполеон III {164} для уничтожения его влияния приказал распродать его имение враздробь местным и пришлым жителям, которые, захватив клочки достояния бывшего короля, конечно, стали уже из интереса верными поддерживателями империи и ничего на свете не боялись так, как возвращения Орлеанов.
Так вот почему так дивно могуча зелень Ле-Ренси. Все эти великаны, затеняющие все дворы, прожили столетия вольной лесной жизнью, прежде чем попасть в узкие рамки каменных заборов благополучных буржуа или тружеников крестьян.
Другая часть Ле-Ренси, примыкающая к вокзалу, — старая, приличная и тоже зеленая, но имеет вполне городской вид — с магазинами, большими домами, железными большими рынками и тому подобным.
Собственно, нанятый нами флигель был довольно дрянной. Это было трехэтажное здание. Внизу — сараи. В следующем этаже крохотная квартира из трех комнат, в следующем (по той же лестнице) еще квартира, такая же дрянь из трех комнат.
Каждый этаж порознь был чересчур тесен; сверх того, немыслимо было подвергаться риску жить в такой тесноте с дрянными соседями, если бы кто-нибудь занял другой этаж. Поэтому мы наняли оба, хотя это было много для нас. В нижнем этаже лестница, тоже была наша, равно как и часть сарая. В обшей сложности образовалось у нас огромное владение старинного фасона, нескладное, неуклюжее, неудобное, но просторное. Катя заняла верх, я ночевал там же, а занимался внизу, в пустом этаже. Мебели у нас почти не было, и я чувствовал себя как-то и жутко, и отрадно в этой голой, фантастической пустоте и тиши, где подчас ухо не схватывало ни звука, кроме шелеста дерев. По улице нашей в час не проходило и одного человека, а повозки не слышалось целый день. Старый-пре-старый дом только сам как-то фантастически скрипел и издавал необъяснимый треск. «То были тени предков или мыши...» Особенно ночью подчас становилось суеверно страшно от этих таинственных звуков.
Мы сразу очутились в одиночестве, сначала относительном, а потом абсолютном; прислуги у нас сначала не было. Исполнять кое-какие необходимые услуги взялась старуха мадам Преста, эльзаска родом, служившая консьержкой у Депреля и жившая возле нас в бывшей оранжерее, теперь имевшей вид какого-то нелепого сарая, с огромными окнами, кое-где цветными стеклами, сырого, холодного. Старуха жила одна как перст, вечно в работе, больная, хилая, но добродушное, милое существо, полное покорности воле Божией. Она полюбила нас и Сашу. Сам Депрель и жена его, бывшие колбасники Парижа, круглые, здоровые, сытые, были вообще весьма милы, веселы, любезны; у них были детишки лет шести-семи, тоже здоровые и розовые. Разбогатев как-то случайно, Депрель вздумал пожить рантье и купил это прелестное местечко. Сами они занимали большой дом в глубине двора. Сверх того, были еще два флигеля: один в глубине сада, где жила семья рабочих, другой, незанятый, — на улицу. Наконец, с переулка глухой стеной позади нас еще две-три квартиры, тоже занятые рабочими семьями.
Парижские знакомые сначала навещали нас, хотя редко, потому что все-таки было далеко. Все-таки и в это время мы были по пять-шесть дней совершенно одни. Но посещения все сокращались, а к зиме и вовсе прекратились, конечно.
В деревне была, конечно, аптека, даже хорошая, и доктор Пьедаллю, весьма добросовестный, искусный и не ленивый. Само собой, мы все это разузнали раньше, чем переехать. Лед, который нам всякую минуту мог понадобиться для Саши, тоже можно было доставать. Наконец, доктор обещал нас изредка навещать, что и исполнил. Вообще, мы очень полюбили нашего доктора, умного, искусного врача и очень хорошего человека. Сашу спас только он — конечно, по воле Божией, но, во всяком случае, он сделал все, что должен и может сделать человек. Вечное спасибо ему!
Перебравшись в Ле-Ренси, мы чувствовали себя в бодром настроении переселенца, заброшенного в отдаленную пустыню. Начали устраивать свои апартаменты, просиживали дни в саду, под вязами, гуляли. Я расположил свой рабочий кабинет внизу и стал работать. Саша сразу стал чувствовать себя лучше. Он был хилым, измученным ребенком, припадки время от времени возобновлялись, да и в хорошее время он требовал ежеминутного ухода и надзора. Ни на секунду его не оставляли одного. Он особенно легко был подвержен припадкам страха — отчасти перед действительными предметами (собака, паук и так далее), отчасти совершенно фантастического (иногда в яркий день боялся быть в комнате даже на аршин от матери или меня, и его приходилось брать на руки и какими-нибудь рассказами отвлекать от галлюцинаций). Но все же он ходил, крепчал, цвет лица к нему возвращался, и он наслаждался новой обстановкой, не мог налюбоваться на эти могучие вязы, рвал цветы, наблюдал насекомых — жил в задумчивом, полутомном погружении в природу. Шалить он не мог, но, как старичок, жил в каком-то созерцании.
Мы не гуляли в это время далеко: он был слишком слаб. Но каштановая поляна была достаточно близка. Прелестное местечко. С улицы-шоссе на нее нужно было переходить через небольшой ров, по тропинкам. Далее, вся залитая солнцем, она картинно подымалась, вся на виду, обрамленная густой полосой тени от каштанов, а сама ярко-зеленая; на высоте виднелось несколько разбросанных черных можжевельниковых деревьев, в душистой тени которых мы любили отдыхать, а на заднем плане виднелась густая стена леса, покрывавшего развалины дворца. Туда уж приходилось взбираться по крутизне, по вьющимся тропинкам среди густой заросли.
Сколько благодетельных часов провел я на этой поляне, возле играющего ребенка, сам погруженный в душевный отдых одиночества или в свои думы... А думал я о многом... Во мне росло что-то новое, чего значения я сам еще не понимал, из чего не видел выводов, но что-то сильное, которого правду я ощущал с осязательностью, не допускавшей никаких сомнений.
Шура, мой Шура, — как многому он меня научил, без слов, без понятий, одним настроением, в которое он меня погружал своими страданиями, любовью, которая во мне к нему разгоралась, наконец, запросами своей маленькой, развивающейся души. Он меня привел к Богу. Тяжко было идти, но этот путь привел к такому свету, что и теперь не могу вспомнить тяжестей дороги, не умею изобразить того, чем мучился, невольно вспоминаю только светлое.
На нашей поляне росло много полевых цветов, иные местечки ее были бесплодны и сыроваты, здесь росло много хвощей, удивлявших Сашу своей кристаллической формой и жесткостью; были какие-то таинственные норки, в которых мы предполагали змей или мышей. Часто здесь паслось стадо коров, а иногда несколько ослов, чрезвычайно ручных, которые сами подбегали к прохожим в расчете на какую-нибудь подачку.
На одного осленка я иногда сажал Сашу, крепко держа его в руках. Мальчик был в страхе и восторге, хотя осел обыкновенно через десять—пятнадцать шагов выскальзывал из-под него и убегал. Хороша была поляна наша и ночью, при яркой луне, то прорезывающейся из-за каймы дерев, то скрывавшейся. Саша особенно удивлялся, что луна как будто следовала за нами; этот оптический обман в холмистой и лесистой местности был поразительно реален, так что я сам только рассуждением мог ему не поддаваться.
Катя душевно отдыхала в этой прекрасной местности, при виде оживающего мальчика. Часто она была спутницей наших прогулок, чаще — занималась своим хозяйством, для которого ей на первых порах пришлось обегать Ле-Ренси, все разузнать: где лучше мясо, коровы, где рынки и так далее. Она познакомилась с мадам Деп-рель, с мадам Преста, сидела у них, болтала с ними. Другом Саши скоро стал Стап, старая умнейшая собака Депреля, которая играла с детьми так умно и осторожно, как будто человек, никогда их не обижая и только убегая, если они ее уж слишком мучили. С детьми же Саша сходился туго, он не мог играть с ними по слабости и боязливости, да сначала и не знал по-французски. С детьми Депреля он сошелся лишь через несколько месяцев, хотя это были славные девчурки. Мы со своими соседями — огородниками, молочницей и тому подобными — скоро свели шапочное знакомство, но мой издатель скоро разорился и уехал, так что мы почти и не видались. Его дочь... тоже куда-то девалась.
Неподалеку от нас была церковь (католическая) на берегу бывшего королевского пруда, довольно большого и очень глубокого. Кругом по берегу высились тополя-гиганты, таких я не видал даже во Владикавказе. Церковный колокол, как ни жалок он у католиков, напоминал что-то родное, знакомое сердцу, и часто мы сидели у пруда, слушая этот звон и наблюдая рыболовов-любителей, которые терпеливо сидели с удочками вокруг пруда. Рыбы в нем было маловато, но лебеди, постоянно плававшие, очень скрашивали это и без того хорошенькое местечко.
В четверти часа ходу от нас начинался настоящий лес. Мы сначала в первое лето (мы прожили в Ле-Ренси более года: два лета и одну зиму) мало им пользовались, потому что и без того в Ле-Ренси была масса прелестных мест, притом же менее диких. Лес, совершенно запущенный, перевитый огромными кустами ежевики, в несколько саженей длиной, с массой ягод, был прекрасен, но казался чересчур дик для нас, отвыкших от глуши. Этот лес лишь на следующее лето стал местом моих ежедневных прогулок.
II
Как определить сущность моего тогдашнего настроения? У меня было два существенных течения. Во-первых, ясное сознание, что мои старые интересы, идеалы, а стаю быть, и вся жизнь вертелась около чего-то фантастического, выдуманного, вздорного. Моя личная практика заговорщика, мое мало-помалу увеличивающееся наглядное знакомство с действительностью французской политики, мое, наконец, теоретическое, тоже все накопляющееся знание социальных явлений — все меня убеждало, что наши идеалы, либеральные, радикальные, социалистические, есть величайшее умопомрачение, страшная ложь, и притом ложь глупая.
Не сразу я отверг все. Сначала я отбросил самое очевидно глупое, то есть такие нелепости, как терроризм, анархизм. Некоторое — недолгое — время я оставался на точке зрения какой-то революционной умеренности, то есть устанавливал себе практичные средства для умеренно нелепых целей. Очень недолго и некоторыми частичками души я был, так сказать, либералом. В это время я жестоко критиковал революционеров, насмехался над ними, возмущался их действиями, вообще очень правильно говорил, чего не должно делать. За время моего пребывания в Ле-Ренси ко мне сначала еще обращались с разными предложениями эмигранты и российские революционеры. Я их всех отстранял прямо или увиливал от них. Так, приехал ко мне X. (назову его так), заявляя, что никому уже не верит, кроме меня, и, имея 7000 рублей, которые желает посвятить «на дело», предлагает мне ими распорядиться. Я охотно его принимал, много с ним говорил, объяснял ему, что ни одно «дело», никуда не годится, от денег отказался и посоветовал ему ехать в Россию (он был легальный) и свои деньги употребить для разыскания денег на основание порядочной, честной, цензурной газеты. Его это крайне удивило. «Но что же писать под цензурой?» Я ему доказывал, что цензура никогда не в силах остановить выражения мысли, действительно нужной обществу, действительно вытекающей из данных условий. Другой раз приезжала какая-то барышня со всевозможными планами организации. Я говорил ей о военном заговоре. Она утверждала, что это невозможно, а возможен лишь террор. Я всеми силами убеждал ее, доказывая нелепость террора, но, кажется, не убедил. Когда Тонконогов (эмигрант) задумал возвратиться в Россию и спрашивал моего совета, подать ли прошение об этом, я его горячо поддержал. Я ему объяснял, что честные, порядочные люди вполне могут жить и действовать в России. Все это в глазах эмигрантов было ужасно. На их разные мелкие глупости: то о каком-нибудь съезде, то о разных спорах — с поляками или между своими фракциями — и тому подобное я отвечал критикой, язвительным смехом, отказами и так далее. Когда кто-нибудь из «нелегальных» собирался в Россию «действовать», я его разубеждал на все лады...
Осенью ко мне приезжала С. М. Гинсбург, своего рода знаменитость, опять с разными широкими предложениями, программами (между прочим, о газете, которая и вышла, хотя без меня). Ну уж с этой я говорил напрямки, потому что в это время уже дошел до полного отрицания этих глупостей, да и барышню было жаль, так как явно шла на гибель. Она, однако, осталась при своем, заметив с удивлением: «В сущности, он совершенный монархист». Расстались мы тем не менее дружно.
Это было, впрочем, несколько позднее. Но уже летом 1886 года я вступил в явный разрыв с «Народной волей», написал статью с резким отрицанием террора. Лавров и М. Н. Ошанина пришли в ужас, равно как и Русанов, и отказались ее печатать.
Вообще, отрицал я в революции почти все, даже иногда все. Но что же делать? Что есть положительного? Вот был вопрос тяжкий.
Мой тогдашний друг Павловский, связь моя с которым тоже злила революционеров, тоже все отрицал. Я его любил за это, за его большой ум, который гибко и ясно понимал глупость и ловил фразу на ее пустозвонстве. Но Павловский как-то и не нуждался в положительном. Наблюдать, приобретать независимое положение, развиваться, наслаждаться искусством, наукой — чем это не положительное? Его это и удовлетворяло. Но тут я уже с ним расходился. Мне невозможно было отрешиться от того, что жизнь имеет более глубокий смысл, а стало быть, есть и для отдельного человека иная роль, иная деятельность.
Где она? В чем? Я долго оставался социалистом, хотя и с прорехами. Но и социализм мой весьма трещал, и, вообще говоря, положительное у меня отсутствовало. Это было состояние до крайности мучительное Мое прошлое представлялось по малой мере нелепостью, зла в нем — бездна. Из-за чего?
Я всей душой жаждал реального, действительно существующего. Его искал в истории. Читал в это время я бездну, и моя мысль становилась все более решительной, самостоятельной. Реальное меня привлекало во всем. Я отдыхал душой, глядя на садовника, роющегося в грязи Это — нечто действительно существующее, а потому во много раз выше оно, нежели фантазия rue Saint-Jaques, 328, или Glaciere и avenue Reille и прочих домов умалишенных! Я уважал дерево, растущее перед моим домом, муравьев, которые копошились на нашем огороде: все это действительно существует и по-своему занято делом. Тем более искал я реального в своей личной жизни. Не много ясного тут было. Зачем я живу вообще? Как существо разумное, каким вечным задачам должен служить? Все это было под вопросом, сомнением, критикой и отрицанием. Тем, однако, жгуче подымались требования того немногого, что я чувствовал несомненно реальным. И что же? Все это немногое, последнее достояние, без которого меня бы уже ничто и с жизнью не связывало, — все это находилось разбитым, расстроенным, обессмысленным мною самим.
Родных я любил, отца и мать. Они мне вспоминались тяжко, мучительно даже тогда, когда я был в полном увлечении революциями. Как вспомнишь их постылую, одинокую жизнь — словно нож резанет по сердцу. Я гнал от себя мысль о них, но хорошо, пока было чем гнать. «Я пожертвовал родными великому делу. Я жертвую и всем, самим собой, всем на свете. Прочь же мысли». Ну хорошо, так было прежде. Но вот «великое дело» пошло к черту, его нет и не было, а была одна чепуха и нелепость. Из-за чего же я осудил на муку отца и мать? Мне вспомнился голос отца, тихий, просящий: «Мы уже старики, тяжело жить, друг мой, надо кому-нибудь заботиться о старости...» Я ведь чувствовал это, я не камень был, а я все же бросил их через месяц, тайком, обманом, удрал, оскорбил и презрел просьбу старика.
Эти воспоминания резали, мучили. Я вступил в переписку с Новороссийском. Мне ответили, правда мать, отец иногда приписывал две строки, в которых только благословлял. Итак, он прощал, прощал, но и только. В радостных и любящих строках матери не было молчаливого упрека отца. Но все же сердце ныло. Конечно, я разбил их жизнь и ничем не могу этого поправить. Как бы угадывая это, мать писала, сколько счастья им, старикам, доставляют наши девочки, Вера и Надя...
Это, конечно, утешало меня, но зато сами Вера и Надя — что с ними будет? Старики умрут, и потом? Я, конечно, не имел личногочувства к детям, которых едва помнил грудными младенцами. Но долг-то разве не ясен? Все прочее — задачи общественные и так далее, — все это проблематично, но уж ясно, зоологически ясно, что отец нужен для детей и без отца дети пропадают. За что же я народил на свет этих девочек, которых забросил как щенят? И, думая об этом, я начинал любить этих сирот своих, вспоминал их все больше... Мать, кстати, и карточки их прислала, а также постоянно и много о них писала.
Если те дети даже становились мне родными с некоторым напряжением воображения, то около меня стояло существо, которое я любил уже прямо, непосредственно, которого вынянчил и за которого боролся со смертью вот уже несколько месяцев. Этот злополучный, хилый, больной Саша — куда я его вогнал? Что я для него сделал и что готовлю? Чему я его буду учить, к чему готовить, в какую жизнь вводить?
Мне вспоминались несчастные эмигрантские дети, растущие какими-то зверьками. И о своем вспоминал. Малютка едва лепечет, а какая-нибудь дура К. или Д., самодовольно хихикая, спрашивает: «Шура, да скажи же, ты анархист или народоволец?» Ребенок, коверкая язык, лепечет: «ахист», «адось», и эти дубины в восхищении: «Ты „адось“, народоволец! Милочка!»
Стыдно, гнусно на душе становилось.
Бедный мальчишка! Он уже начинал понимать, что вот кругом нас французы. Он даже не понимает их. А мы — кто? Вон Максим плохо говорит по-русски и по-французски. Кто он? Немец. А мы? Мы русские. Что же такое русские? Где Россия? Что за страна? Извольте-ка объяснить! И почему мы, русские, здесь, во Франции? Плохая ли страна Россия? И вообще — в чем дело? Это просто безвыходные вопросы. Что скажу я о России? Я, который сознаю, что она в миллион раз выше Франции, могу ли я повернуть язык на хулу? Идем в Ле-Ренси к пруду, там церковь... «Что это?» — «Церковь». — «Что такое церковь? Зачем туда идут люди? Что там делают они? Почему слышен орган?»
Извольте объяснить!
Что же я даю, что дам сыну, которого люблю, которому желаю счастья, в котором, в конце концов, весь мой интерес к жизни?
Думаешь, конечно, и о Кате. Все же муж. Затащил ее в яму, откуда нет выхода. Но, допустим, это не так жгуче. Она все же взрослая, но сын, ребенок!
Все, в чем реально ощущаешь свой долг, что любишь, — все устроено не только глупо, но прямо разбито, расстроено, в полном безобразии.
Россия вспоминается тоже реально. Ведь как-никак я люблю ее. Хорошо в ней или худо, умна она или глупа — это вопросы темные, хотя все же и они скорее против меня. Вспоминается, что в России не худо живут, во всяком случае, не хуже Франции. История чарует своим колоссальным величием. Но оставим все это. Дело в том, что я люблю эту страну, этих людей! Я люблю и степь, и болота, и горы, люблю бородатого мужика, люблю базар, кучи арбузов, запах дегтя, баранки... Все это встает передо мной, и... ничего этого для меня не существует. Около меня этот противный француз, все это мне чужое, которое не мое. Из-за чего? Для чего? Мука!
И еще — самое главное — вспоминается русский храм, лампады, таинственное мерцание золотыми искрами иконостаса, молитвенное пение, эти длинные толпы со свечами, торжественный или задумчивый колокол. О Боже мой, как это вспоминалось, вспоминалось особенно потому, что на душе вставало что-то странное, мистическое, чьего имени я не знал.
Это была вторая половина того, что оказывалось во мне существующим.
Я искал реального в мире.
Я почуял Бога в себе или около себя.
Строго говоря, я не был вполне безбожником никогда. Я только не верил в Бога, я имел материалистическое миросозерцание. Но я как-то боялся воевать с Богом, меня от этого что-то удерживало. Один раз во всю жизнь я написал: «Мы не верим больше в руку Божию», и эта фраза меня смущала и вспоминалась мне как ложь и как нечто нехорошее.
И это потому, что не имел теории Бога и имел теорию без Бога, но в то же время давно уже ощутил нечто таинственное, чего не понимал и не мог, однако, отрицать.
Еще в России, в 1879–1881 годах, я, переживая жизнь заговорщика, почувствовал, что мы все и все окружающее, воображая делать все по-своему, действуем, однако, словно пешки, двигаемые чьей-то рукой, ввиду достижения цели не нашей, а какой-то нам неизвестной. Меня удивляло присутствие какой-то руки не только в общем холе нашей политики, но прямо в судьбе моей и моих товарищей. Эта неизвестная рука действовала так властно, что я испытывал суеверный страх и отчасти обиду: «Что же я за дурак такой, что буду действовать в чьих-то, неизвестных мне целях. Я думал, будто работаю на такое-то дело, а выходит, что я работаю на совсем иное. Что за чепуха!» Поразила меня и смерть покойного Государя, которая была совершенно против всяких расчетов и, судя по-человечески, не должна была случиться. Об этом всем я когда-нибудь напишу особо. Пока довольно сказать, что я уже давно не мог отрешиться от ощущения какой-то всесильной руки, нами двигающей буквально безапелляционно. Я рассудком считал это суеверием, но в чувстве не мог отделаться от впечатления.
Когда болезнь Саши подвергла меня настоящим пыткам, я, с одной стороны, почувствовал в себе прилив бороться до крайности, с другой — у меня явилось нечто вроде молитвы. Я не молился общепринятыми знаками, но я обращался к кому-то в душе, в сердце. К кому? Я не знал, и даже знал, что не к кому, а все-таки обращался... Я молил кого-то о пощаде, я кому-то давал обеты. Я иногда говорил в себе: Господи, если Ты есть, помоги... Я Тебе обещаю то-то и то-то, если Ты есть. Что обещал я? Я обещал все вещи более морального характера: исправиться в разных пороках... Увы, не по силам оказалось, но не в том дело. Факт в том, что душа моя молилась. Это составляло большой перелом во мне, который могла вызвать только невыносимая мука, какую причиняла мне болезнь Саши.
Раньше, еще незадолго, я думал иначе, преисполненный сознания своего человеческого величия. Когда мне было тяжко, я чувствовал позыв молиться, но сдерживал себя сурово и гордо: «Нет, если Ты есть, Господи, то не думай, чтобы я стал молиться из-под палки. Когда мне хорошо, я не думаю о Боге, я не верю в Него. Не подлость ли, не малодушие ли обращаться к Нему, когда мне плохо?» Так я рассуждал приблизительно.
Впрочем, странно. Я хранил тщательно образок святого Митрофана, никуда без него не выезжал и часто даже не выходил. Вечно носил в кармане и чувствовал себя спокойным. Когда же со мной не было моего талисмана, я ждал беды. Этот образок, благословение матери, был мною брошен в 1873 году, и через месяц я поплатился за это тюрьмой 1873–1878 годов. Однако образок не пропал. Он как-то непонятно очутился у брата, мать его там разыскала и мне привезла в санкт-петербургскую в тюрьму, в 1877 году. Месяца через два я был выпущен и с тех пор никогда не решался его оставить. Все бросал, но не его.
Итак, чувство суеверное или, правильнее, мистическое у меня было. Но Богу я все-таки не молился. Болезнь Саши меня сломала. Гордость исчезла, и я молился сам не знаю кому — тому, кто есть, если он есть. Я почувствовал себя таким слабым, что уже не боялся унижения и молился: «Если ты есть, помилуй, помоги».
Поправление Саши наполняло меня чем-то вроде благодарности неизвестно кому, хотя и страх не исчезал, потому что Саша каждую секунду мог свалиться. Он жил именно «под Богом». Собственно, я не помню, чтобы я благодарил эту таинственную силу, но, признаться, ее не переставал ощущать. Помимо Саши, помимо всего прочего, я, как сказано выше, вообще чувствовал себя в разгроме, окончательно растерялся в своих понятиях. Работал и думал я много. Когда настали дожди, а потом зима, я вел жизнь пустынника. У себя внизу, во втором, пустом, этаже, я шагал по голым комнатам один-одинехонек. Сверху слышался иногда стук шагов Кати или Саши, но по целым долгим часам я оставался один. Случалось, работал. Часто случалось — просто думал, ломал голову. Что правда? Как жить? Что делать? Вместе с образком святого Митрофана я вывез и хранил также маленькое Евангелие, подарок сестры Маши. «Не знаю ничего лучше этой книги и дарю ее на память моему дорогому другу» — такую на ней надпись она сделала. Евангелие я всегда время от времени читывал и умел даже привести подходящую цитату. В Ле-Ренси меня особенно к нему потянуло, и вот я попал в какую-то фантастическую, сверхъестественную, сумасшедшую, как иногда сам называл, полосу. Я буквально вел разговоры с кем-то по своему Евангелию.
Теперь, когда я уверовал в Бога разумом, когда и сердцем стал способен хоть иногда вполне искренне сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию», когда я и в церковь хожу, и Богу молюсь, и исполняю все обязанности православного, насколько, конечно, хватает душонки дрянненькой, — теперь уже этого не бывает. Напрасно бы я стал просить у Бога ответа. Не бывает его. Да и ни к чему. Обязанности мои Господь мне показал в учении Церкви, в книгах отцов. О чем спрашивать непосредственно? Стоит подумать, вспомнить — и ответ без того ясен. А если не хочешь, не в силах исполнить — что же, сам виноват. Спрашивать все-таки не о чем. Да притом на это есть духовник. Итак, я не жалуюсь и не удивляюсь. Дело понятное. Но я только отмечаю факт. Теперь этого не бывает, но тогда дело шло просто поразительно.
Лежу я на своей кровати, один, все тихо, только ветер воет в окнах да дождь шелестит со всех сторон. Лежу и думаю, думаю. Обо всем: и что правда, и что мне делать, и что есть. Ведь и это вопрос хотя не возвышенный, но очень жгучий. Голова мутится. Беру Евангелие, развертываю, глядь — прямо ответ на мысль. Но ответ неудобный. Думаешь: «Да как же, ведь вот какие возражения против этого». Откроешь — снова ответ, и так дальше. Ну, иной раз прямо-таки разговор, долгий, серьезный. Я от себя говорю, Евангелие — от себя. Я ничего вначале не понимал, сам находил, что чудачество, но обаяние этого таинственного разговора было слишком сильно, и я не мог от него отстать. Ответы были так удачны, систематичны, что я был увлечен разговором, словно с каким-нибудь мудрым, опытным человеком.
И вера вливалась в меня с каждым днем, вера беспорядочная, неясная, вера неизвестно во что. Веру ясную, догматическую мне неоткуда было взять, и я еще о ней мало думал. Но стал припоминать молитвы и не молился формально, но начал иногда распевать свои молитвы, пробуждая в себе воспоминания церковных мотивов. Помнится мне, при этой ревизии оказалось, что я даже иных мест Символа веры не мог вспомнить... А молитвенника не было.
Мои таинственные беседы с Евангелием большею частью касались чисто высших вопросов миросозерцания. Что правда? В чем обязанность моя? Но случалось, искал я утешения и совета в тяжком угнетении своим безвыходным материальным положением. И вот в одну такую минуту нервного мистического состояния, попадается мне ответ: «...и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона» (Деян. 7, 10) и так далее. Этот ответ мне упорно попадался много раз, в разные дни. Он меня поразил этой настойчивостью.
Надо сказать, что в это время я настолько не думал о России, то есть мысль о возвращении мне даже в голову не приходила, и тем более я даже и представить себе не мог получить прощение Государя. Много невероятностей я мечтал за неимением действительности, но уж никак не эти. Даже обратив внимание на приведенный стих, после его упорного повторения я все же ни на секунду сначала и долго не применял его к России, а подумал, что речь идет о каком-нибудь выдающемся заграничном правителе или политическом деятеле. Сначала я думал: «Не Клемансо ли?» Он ко мне относился действительно весьма благосклонно и тогда был близок к власти. Потом часто думал, что это в переносном смысле, и при столкновении с каким-либо выдающимся лицом думал: «Не мой ли это царь египетский?»
Но впоследствии, когда мой хаос мыслей начал улегаться и я действительно пришел к известной «мудрости», то есть не только отрицательно, но и положительно отрекся от старых нелепых идеалов, стал христианином, понял цели жизни личной, а потому и социальной. — тогда уже, месяцев через семь, я действительно подумал: «Да не Государь ли это? Не на Россию ли мне Бог указывает?» И это указание Евангелия было первым ободрением мне обратиться к Государю. Без этого я бы никогда не поверил в возможность прощения и мысль моя в эту сторону не направилась бы.
Меня потянуло в церковь. Нашей, православной, не было, конечно. В русскую парижскую я раньше, само собой, не заглядывал, да и теперь не считал ее для себя. Во-первых, чтобы побывать в ней, нужно бы употребить целый день, во-вторых, я ее боялся. Церковь посольская. Я как-то боялся и стеснялся пойти туда, мне она представлялась чем-то официальным. Сверх того, в сущности, тогда я и не ощущал сердцем различия и шел в церковь не как верующий, а как неверующий, шел с духовной пустотой, алчущей заполнения, но не знающей, какого искать содержания. Была в Ле-Ренси и протестантская кирха, но этот полусарай-полушкола никогда меня не прельщал, в протестантской церкви я не чувствовал Бога. Иное дело — католическая. Тут было что-то понятное сердцу. Я стал туда частенько заходить, молиться не молился, а так что-то такое в себя впитывал. Орган — не хор, грубо, однако все же звучал молитвой, и толпа кругом как-то молилась... Брал я с собой и Сашу. Немного насилуя себя, с запинанием языка и с конфузливостью я стал отвечать ему о Боге, говорил ему и о Христе. Французские дети называли его enfant Jesus или le petit Jesus (младенец Иисус). Саша стал говорить «Иисусик». На Новый год мы выставили в камин башмак Саши, чтобы посмотреть, не положит ли и нам le petit Jesus, «Иисусик», какого-нибудь подарка... Признаться, тяжек был этот Новый год (1887-й), я должен был урывать сантимы у пищи, чтобы накупить Саше грошовых игрушек и сластей полный башмак. Дорого достались мне эти 70–80 сантимов! Но восторг Саши был полный. «Иисусик» и его не забыл. Само собой, Саша знал, что мы наложили башмак, но уж так нравится таинственность детям. О Христе я часто ему говорил, больше всего, что Он добрый, что Он любит детей, что Он исполняет то, что просят дети. Говорили и о Боге вообще. Говорили даже и о черте... Я как будто сам анализировал себе все это, говоря об этом Саше. Я заставлял молчать .свои сомнения. «У меня сумбур на душе, пусть его не будет хоть у ребенка...»
Раз, помню, зашли мы с Сашей на кладбище. Стройными рядами тянулись чистeнькиe могилы, в цветах, с крестами, словно ряд алтарей. Религиозная тишина царила в городе мертвых. Саша был удивлен: «Что это такое?» Я ему объяснил и что такое мертвые, и немного — где их души... Религиозное чувство замечательно охватывало и привлекало мальчика, который, больной, хилый, был в то время замечательно хорош душой, с какой-то особенной тонкостью духовного восприятия. Я учился верить в духовное начало, наблюдая этого милого ребенка, и сам от него больше получил, кажется, нежели дал ему.
По мере того как у меня росло религиозное чувство, я становился все смелее в отношении своем ко всевозможным общественным вопросам. Я не боялся ценить их, чувствуя, что от них не безусловно завишу. По мере этого я не боялся сознавать, что в России хорошо все, что вспоминалось с отрадой. И я начал мальчику говорить тоже о России. О Царе я сначала ничего не говорил, кроме того, что он есть. Но я говорил о родных, о сестрах, о дедушке и бабушке, о русской природе, о величине России. Мальчик очень всем интересовался. «Но почему мы не в России?» Я объяснял это, что, мол, дела, нужно... К счастью, мальчику и не требовалось подробных объяснений. Но Россию он все больше узнавал и привык мало-помалу себе представлять чем-то прекрасным, светлым, желанным.
То обстоятельство, что мальчик оставался некрещеным, тяготило меня камнем. Я ему этого не говорил, конечно. К счастью, на его глазах французские дети, гораздо старше его, совершали свое первое причастие.
Это у них делается торжественно. Особенно девочки — в их белых платьицах, с цветами, с торжественным видом — бросаются в глаза. Ну я и замечал мальчику: «Вот подрастешь, тогда пойдешь на первое причастие».
III
Зиму 1886/87 года мы провели сурово и одиноко. Наша квартира, старая, щелистая, с жалкими рамами, с дрянными каминами, была очень холодна. Зима же случилась редкая по морозам. Снег лежал глубокой пеленой, краны бассейнов приходилось оттаивать горячей водой, чтобы потекла вода. Пруды замерзли. У нас в комнате было около пяти градусов по Цельсию. От холода иногда казалось, вот-вот замерзнешь. Но благодаря Богу мы даже не болели, а Саша все больше поправлялся.
Заработки у меня были жалкие. Французская работа давала гроши. Русская тоже негусто. С эмигрантами я тоже не знался, так что от них «позаимствовать» не приходилось, разве редко. И. Я. (Павловский) немало мне передавал, но с гримасами, так что я решался просить только уже в последней крайности, с мужеством отчаяния. Жили мы нищенски. Летом мне оказал огромную помощь нежданно-негаданно Плоештянин, [48] лично мне даже незнакомый. Это благодаря Родовичам. Но зима была тяжка. Я был так углублен в себя, что ничего бы не замечал, но жена и ребенок напоминали. [49]
Однако той зимы я никогда не забуду. Ей я обязан всем, во мне она произвела полный переворот, и весну я встретил новым человеком.
Это новое рождение, однако, недешево мне стоило, да, сверх того, явясь в мир с новым взглядом, я в то же время увидел себя в таком безотрадном положении, что ужас брал. Я был в полном противоречии со своей действительностью. Я был в сознании своем христианином, а в действительности фактически отлучен от Церкви и своих обязанностей христианина не выполнял.
Я был горячим русским и от России отлучен. Я был монархистом, и... что имел на совести?
Мне приходилось переделать всю свою жизнь, сверху донизу, а это значило фактически — принять новое отношение к эмигрантской среде. Это отчасти явилось и неизбежно, отчасти составляло обязанность. Нужно же было загладить свое прошлое. Наконец, некоторых я таки и любил. Не мог я не попытаться их переделать. Но как за это взяться? Как, наконец, в странном и нелепом положении моем устроить себе жизнь, сколько-нибудь сообразную со своими убеждениями? Из ломки внутренней я попал в лабиринт практической трудности.
Все это меня до того истощило и измучило, что к весне я совсем заболел. Доктор (Филибилью), не зная, что во мне происходит, однако понял, что у меня дело в чем-то психическом. «Вы чем-то заняты. Вам не следует углубляться в себя. Это, наконец, опасно. У вас весь организм расстроен, очевидно, от этого». Он дал мне предписание ежедневно гулять в лесу, прописал лекарства, побольше движения, развлечения, особенно игру на бильярде, а главное — ни о чем не думать! Легко сказать! Но я был так расстроен, так чувствовал рассыпание организма, биение сердца, головные боли, бессонницу, полное бездействие кишок и тому подобное, что принялся за лечение усердно.
С тех пор мы с Сашей каждое утро, только вставши, отправлялись гулять, большей частью в лес. Гуляли с час и больше, потом возвращались домой и пили молоко или кофе. Нам обоим полюбились эти прогулки. В свободное время мы отправлялись и с Катей в тот же лес, который исколесили и узнали, как свой двор. Стали заходить далеко в соседние деревни. Между прочим, в верстах десяти от нас в лесу находилась знаменитая часовня Божьей Матери.
В давние времена, когда эти леса славились разбоями, на этом месте Божья Матерь чудом спасла одного благочестивого путника, попавшего в руки разбойников. В благодарность он построил эту часовню, куда (не помню, какого числа) с давних пор совершаются богомолья. Поныне в этот день к Божьей Матери сходится более 100 000 человек. Ходили, конечно, и мы, даже не раз. Катя, кажется, ездила, потому что туда и конка ходит, то есть на три четверти дороги, а дальше дорога идет уже лесом. Часовня Божьей Матери вся горела огнями, а вокруг был целый стан балаганов, где богомольцы ели и пили, и целый рынок. Впрочем, молитвенного элемента замечалось маловато. Все имело вид больше праздника, только, конечно, без каруселей. В лавочках продавались кресты и иконы, но еще больше игрушек, пряников и тому подобного. Однако около часовни толпа постоянно стояла и слушала молебны. Наши Депрели, конечно, тоже ходили на богомолье, как ходили и в церковь. Впрочем, мадам Депрель, улыбаясь, заметила, что к часовне Божьей Матери некоторые ходят на богомолье, а некоторые — просто для прогулки.
Это продолжительное пешеходство по лесам и полям, иногда по целым дням, меня сильно поправило, особенно в связи с тем, что я и внутренне становился спокойнее. Лично для себя я уже установился, порвал с прошлым. В отношении эмигрантов тоже принял твердую линию: не выступая еще с громогласной, публичной антиреволюционной пропагандой, я всем, с кем сталкивался, говорил свои мнения, критиковал их, присматриваясь, на кого можно будет опереться, чтобы образовать, как мне тогда мечталось, группу, то есть среду, людей антиреволюционных. В то время я о возвращении в Россию не думал, так как это представлялось явной невозможностью, а думал просто основаться во Франции, зарабатывать себе хлеб литературной работой, а вместе с тем проповедовать свои новые идеи. Все это рисовало мне положение нелегкое, но за невозможностью другого я на нем останавливался, а всякое принятое решение успокаивает.
Я был в это время с внешней стороны далеко не одинок. Помимо французов, которых у меня было много знакомых, большею частью неблизких, в мире более или менее социалистическом у меня оставались такие друзья, как Родовичи (румыны). Старший Родович, неглупый и весьма симпатичный, сам казался в тех же сомнениях, какие были раньше у меня, и охотно слушал мои рассуждения. Мы, казалось, во многом сходились, и я бывал у Родовичей как дома. Между прочим, благодаря ему я получил из Румынии, от друзей его, солидную сумму — тысячи полторы франков в виде неопределенного займа, что и дало мне возможность перебраться на осень в Париж, расплатившись со всякими долгами. Через Родовичей я познакомился и с сербами, из которых Павел Маринкович до конца остался на моей стороне. Из русских моими друзьями оставались Серебряков с прилегающими к нему ничтожностями вроде его жены и Симоновских (то есть Коганов), также Бах и кое-кто около него крутившийся (в том числе Ландезен, впоследствии так странно разоблачившийся в деле Лаврениуса).
На моей же стороне казался и Н. С. Русанов; было много и мелочи, вроде Александрова, Ромма и так далее, потом целая куча молодежи, не эмигрантов, которые продолжали тянуться ко мне, хотя старые эмигранты, «столпы» революции, старались уже их ко мне не пускать. Из этой молодежи нашим другом стала особенно Федосья Васильевна Вандакурова.
IV
Тут, накануне моего разрыва с поголовно всем эмигрантским миром, уместно сказать о его состоянии в то время.
Собственно, в Париже эмиграция ничего политического не делала, хотя в ней уже появились зародыши того, что кончилось «лаврениусовским процессом». Вообще, люди поумнее, поопытнее, даже просто попорядочнее перевелись или бездействовали Копошилась же ужаснейшая дрянь, среди которой трудно было даже быть уверенным, кто там просто революционный идиот, а кто ловкий полицейский агент. «Очаг» же революции, хотя и глупой, но искренней, в то время находился, собственно, в Швейцарии. А Париж представлял некоторую Лхассу, где торжественно бездействовали разные «знаменитости» с «далай-ламой» Лавровым во главе. Знаменитостями считались остатки старых народовольцев, хотя иные из них в действительности были в свое время последней спицей в колеснице.
Главнейшим центром этой знаменитости был, конечно, Петр Лаврович Лавров. За смертью Маркса он был даже самым старым и известным социалистом Европы, тем более что он, по своему эклектизму и постоянному заигрыванию со всеми фракциями, мало-мальски получавшими успех, был известен всем народностям и всем партиям. Его знали англичане, немцы, французы, поляки; его признавали своим или союзником все революционеры, будь то социал-демократы, террористы, даже отчасти анархисты и даже резкие радикалы.
Собственно, знаменитость Лаврова была не из очень завидных. В свое время все наиболее выдающиеся представители всех наиболее типичных движений относились к нему пренебрежительно. Чернышевский над ним смеялся, и Лавров, вообще мстительная натура, никогда этого не мог забыть и сохранял к Чернышевскому трусливое недоброжелательство. Ткачев и Бакунин одинаково отрицательно относились к Лаврову. С бакунинцами у него в Цюрихе когда-то выходили целые скандалы. Ткачевцы (якобинцы) писали против него стихи и рисовали карикатуры. Некоторые строфы так пристали к Лаврову, что сохранялись и втихомолку произносились еще в мое время:
Лавр и мирт, говорят, Сочетал квас и спирт...Он действительно постоянно сочетал квас и спирт. Это была его основная черта. К. Маркс сказал о нем: «Лавров слишком много читал, чтобы что-нибудь знать». Н. Соколов (автор «Отщепенцев»), революционер яростный и последовательный, говорил: «Можно быть чем угодно: дураком, подлецом, даже шпионом, но быть Лавровым — это недопустимо».
Мы, то есть наша компания, когда мы еще держали Лаврова около себя для украшения, как «знаменитость», между собой, хохоча, рассказывали пророческую черту из детских лет Петра Лаврова. Он, по его словам, получил очень изнеженное воспитание, и, между прочим, в деревне летом лакей каждый день носил для него на берег реки ванну, в которой купал молодого барчука в воде, зачерпнутой из реки. Это, острили мы, было прологом всей последующей жизни знаменитого человека. К какой бы реке жизни он ни подходил, ом всегда лишь купался около нее в ванне, не решаясь погрузиться в живые волны.
Лавров в революцию попал совершенно некстати. По натуре он не был революционер, напротив, человек нерешительный, легко робеющий, не имеющий ни страсти, ни глазомера. Его способность сбиваться в грудные минуты доходила до смешного.
Уже будучи «знаменитостью», он должен был стать во главе депутации, снаряженной эмигрантами к Гамбетте для протеста против угрожавшей тогда выдачи Гартмана (автора покушения, то есть жалкой декорации знаменитого покушения на взрыв царского поезда). Понятно, все остальные — мальчишки (между ними были Цакни и Павловский), нельзя было выставить вперед никого, кроме Лаврова, да Лавров и сам бы оскорбился, если бы не ему поручили речь. Приходят. Гамбетта приказал принять. Отрекомендовавши свои звания представителей эмиграции, Лавров начал заранее написанную и заученную речь (к экспромтам он не был способен). Но речь Гамбетте не понравилась. В ней через пять-шесть слов стояло выражение, что чести Франции угрожает намерение правительства выдать Гартмана. Как только Лавров произнес слова «честь Франции», Гамбетта с живостью прервал его: «Потрудитесь сказать, что вам угодно». Перерыв смутил Лаврова так, что депутации стало просто стыдно. Оратор, помолчав секунду, не нашел ничего другого, кроме того, чтобы начать речь сначала, в тех же самых выражениях, и через несколько секунд опять дошел до роковых слов «честь Франции». Но тут уж Гамбетта рассердился: «Оставьте это, мсье! Честь Франции находится в хороших руках, и вы можете о ней не беспокоиться!» Скандал вышел полный. Не выяснив ничего, депутация удалилась.
Эта способность теряться, эта робость проявлялась в Лаврове постоянно. Никогда в жизни он не был в опасных положениях, где бы требовались некоторая храбрость и самообладание, кроме разве переезда через границу во время бегства из России. В сущности, это совершенный пустяк. Я считаю себя скорее боязливым, чем храбрым, но я, разыскиваемый по всей России, рискуя головой, переезжал через границу сам, и это так просто, что, право, ничуть не страшнее переезда из Москвы к Троице-Сергию. Да и кто не переезжал границу! Лаврова же как ребенка вез такой опытный, ловкий, беззаветно храбрый весельчак и авантюрист, как Герман Лопатин, при котором, кажется, всякий трус мог бы развеселиться и позабыть опасность, особенно такую пустую. Но Лавров трусил ужасно и доставил Лопатину массу хлопот и забот.
Не революционер по характеру, Лавров не был революционером и по уму. Он, собственно, человек очень неглупый, с огромной памятью и с массой знания, чрезвычайно разностороннего. Но ум у него несмелый, неоригинальный, ум компилятора, ум довольно гибкий, но неглубокий. Он был бы очень хорошим профессором, он способен разработать какую-либо частность, но перед целым он всегда теряется и, не смея, не умея создать себе дороги, идет сразу по всем дорогам, какие только знает, а знает он их десятки. Поэтому-то, может быть, знания его, чрезвычайно обширные, всегда довольно поверхностны, а часто даже поразительно поверхностны. Он знает названия книг, предисловия, но сколько важных книг его библиотеки, десятки лет лежавших под пылью, я первый принужден был разрезать. Это факт. Не менее удивительно, что, называя себя марксистом, он до меня и Н. С. Русанова не знал главных основ научного социализма, и мы его прямо первые обучили, в чем дело, — мы, оба противники научного социализма. Это факт, которому трудно поверить, а между тем это безусловная правда.
Широта сведений и робость ума отчасти предохраняли Лаврова от всего, что было оригинально односторонне в революционных фракциях. Зная более или менее массу мнений, не умея выбрать, не смея безусловно отринуть ни одного, он ни к одному безусловно и не приставал. Безусловно верил он только в то, что было общепризнанно в целом «передовом» миросозерцании: это материализм, социализм, не входя в подробности, демократизм, революция. В более молодые годы, с закалкой культурного человека, он еще был смелее в отношении всех революционных учений, более явно невежественных. Но потом он окончательно растерялся. Он привык видеть, что мнения, казавшиеся ему нелепыми, принимались, распространялись, производили фактическое громкое действие (как, например, терроризм), оставляли по себе особых революционных «знаменитостей». Поэтому он, наконец, окончательно не мог разбирать, что умно и что глупо. Его миросозерцание стало таково, что стремилось совместить всё, все плюсы и минусы, коль скоро данное мнение признавало революцию, социализм и материализм. Он все принимал, ничего не отрицал вполне и ко всему делал оговорки. Эта черта приняла широчайшие размеры, так что Лавров наконец решительно перестал распознавать, что глупо, что умно, кто глуп, кто способен, в ком есть искра знания, а в ком полное невежество. Самую нелепую чепуху какого-нибудь шарлатана или дурака революции он слушал столь же внимательно, как речь умного. Кругом его были люди вообще еле-еле образованные. Но Лавров совершенно серьезно говаривал мне или кому другому: «Знаете, такой-то пишет исследование о декабристах». Это «исследование», при даже полной способности писавшего, могло быть только ничтожной компиляцией, конечно, уже хотя бы по отсутствию в Париже материалов. Но Лавров не понимал различия. Он о статьях всех окружавших нас оболтусов выражался не иначе как «труд». «Вот такой-то (Френкель или Коган) пишет труд по истории русского революционного движения или по политической экономии». — «Полноте, Петр Лаврович, ну что такая дубина может написать?» — «Нет, отчего же, вот посмотрим». Это доходило до того, что ему случалось беседовать с формальными сумасшедшими, вроде Григорьева, и он вполне внимательно их слушал и обсуждал.
Особенным авторитетом являлись для Лаврова действующие революционеры из России. Кто бы ни приехал, выбежавши из ссылки или так, «с воли», — он перед всеми таял, любезничал, все у него были хороши и умны. За его долгую эмигрантскую жизнь перед ним прошли целые ряды и слои этих «действующих». Приходили, искали его, старались залучить к себе как «имя», как «ученого», как украшение и — сначала каждая спица это думала — как силу, таланта. Лавров рад, любезен, одобряет, поправляет, спорит и всегда идет на компромисс. Начинают «действовать». Лавров пишет статьи, у него на квартире происходят совещания, устанавливаются планы, «действующие» уезжают на «действие». Сначала все идет, ведется шифрованная переписка, всякие надежды, успехи. Кончается, конечно, разгромом. Все погибают или отстают. Уцелевшие, узнавши Лаврова, перестают его уважать, относятся с насмешечкой. Но вот является новый слой «действующих» — и опять к Лаврову; опять этот же прием, вся история проделывается буквально с начала до конца. Потом опять и опять сменяются фракции, «партии» — и все вертится около Лаврова, стоящего незыблемо и всем служащего декорацией. Так выросла его знаменитость.
У других, более определенных, этого не могло быть. Но Лавров мог пригодиться всякому, и всякий годился для него.
Странная это знаменитость была. Буквально все, уже имевшие с ним дело, узнавшие его, между собой в грош его не ставили. Ни его теории, ни его практические мнения не привлекали их внимания. «А, что он понимает! Мало ли что он городит!» Все старались просто ухаживать за ним, чтобы уговорить или заставить его правдами-неправдами «приложить руку», гласно стать якобы с ними. Для этого уж чего не делали: и ходили к нему скучать в тоске его «четвергов», и устраивали ему обеды (он очень чувствителен к хорошему столу), и обманывали его. Особенно хорошо умела обходить его М. Н. Полонская (то есть Ошанина). Все от него хотели имени и страшно боялись личности, боялись, как бы он в самом деле не написал или не сделал своего, которое непременно будет некстати. И в сущности, Лавров понимал это отношение и шел на компромисс. Зато внешняя роль всегда предоставлялась ему.
Так относились к нему все уже знавшие его, даже любивший его искренне Г. Лопатин. Но, кроме этих знавших, в Париже всегда была кучка молодежи — студентов (особенно студенток) и разного рода новых эмигрантов, — и эти все искренне тянулись к Лаврову, ждали от него учения, наставления и окружали его искренним уважением до тех пор, пока его не узнавали. Вечная история была у студентов: походит-походит к Лаврову и тоже потеряет уважение, в грош не ставит. Но в это время набирались новые, еще не искушенные опытом, так что Лавров оставался вечно «окружен». Наконец, около него всегда была куча людей из интереса. Такие паразиты, как Гальперин (Каминский) или Ашкенази (Мишель Делин), приходили к нему за сведениями для своих статей во французские журналы. Все питавшиеся корреспонденциями в русские газеты ходили к Лаврову за темами, потому что он следил за заграничной жизнью и литературой. Ходили к нему и за деньгами, потому что у Лаврова они всегда водились и давал он их очень легко и охотно. Кто только не бывал ему должен! К этому нужно добавить, что сам Лавров лично жил очень скромно и на себя мало тратил. Единственно, на что он тратил, это книги. Одет был скромно. Будучи весьма лаком, он обычно ел совершенно скромно и жалел на это тратить. Но помогал своим охотно, легко и с полной деликатностью. Только своим. Чужих он не признавал и ни за что бы не дал гроша медного.
Жил Лавров исключительно собственными средствами. У него были друзья более или менее солидного положения в России, которые его не оставляли никогда. Они ему доставляли и работу, даже просто обманывали его: заказывали работу, платили прекрасные деньги, а работу прятали в ящик, может быть, и сжигали. А очень многое и печаталось. Как бы то ни было, Лавров не знал, что такое нужда. Раз вследствие какой-то тревоги в России он был крайне обеспокоен вопросом о своем существовании и мне, как товарищу, рассказывал, что обеспечен всего на два месяца. Это было для него уже плохо. А у него оставался целый капитал в библиотеке, которая застрахована была на 10 000 франков. Ну а мы все, грешные, с женами и детьми, не имея вещей и на 100 франков, считали себя уже обеспеченными, если знали, что будем есть через неделю. Так что вообще Лавров среди общего нищенства эмигрантов занимал положение, можно сказать, блестящее.
Жил Лавров спокон веков на улице Сен-Жак, 328. Даже когда его выслали в Лондон (после Гартмана), он оставил квартиру эту за собой. На узкой, шумной улице, типичной старой парижской, вечно гремевшей гигантскими колесами телег, обрамленной высочайшими домами, с бесконечными мясными, бакалейными лавками и тому подобным — все больше для рабочего люда, — вы, идя с бульвара Пор-Рояль, встречали слева ворота № 328. Из глубины двора направо дверь и лестница, узкая, старопарижская. Поднимаетесь на второй (по-русски — третий) этаж. Там его квартира. Она состояла из двух небольших комнат, передней и кухни, которая служила складом для книг, потому что Лавров дома ничего не готовил. Комнаты, сами по себе крохотные, были загромождены мебелью и особенно книгами, которые покрывали все стены от пола до потолка в обеих комнатах, но все-таки не умещались и заваливали еще несколько шкафов и этажерок, переходили на кухню и еще ее покрывали всю. От книг у него, что называется, не было живого места. И книги почти все на подбор: прекрасные, лучшее, что выходило по-русски, французски, немецки и английски, по всевозможным отраслям знания, отчасти и беллетристика. Книги эти большей частью даром доставлялись друзьями, но масса и покупалась. Книги Лавров любил, он ими только и жил, только среди них он был доволен и счастлив. И однако он их раздавал так же легко, как деньги, и масса книг у него пропадала, потому что он редко записывал выданные. Отказать в книге (своему) было против его правил, хотя давал с болью в сердце; иногда, не желая дать, прятал, скрывал, но отказать не мог. А большею частью сам даже советовал взять то или то. Библиографические его знания были громадны. Часто он не знал хорошо книги, даже не читал ее, но всегда мог указать заглавие, приблизительно содержание и репутацию книги. Его советы в этом отношении были весьма ценны.
Он жил аккуратно, правильно, как машина. Весь день был распределен по часам. Вставал в шесть часов и садился работать. Работал всегда утром. Затем приходила femme de menage (жена консьержа) и начинала уборку, а Лавров завтракал, потому что с величайшей точностью в этот же час ему приносили завтрак из cremerie (молочной), завтрак легкий, который он съедал с жадностью.
По окончании работы наступали часы приема посетителей, которых было множество каждый день. Затем шел обедать в кухмистерскую, куда-нибудь поблизости. Вечер был посвящен занятиям легким: чтению журналов, перелистыванию книг и так далее. Тут он опять принимал гостей. Ложился спать не позже двенадцати. Гак изо дня в день, из года в год. В четверг вечером он принимал гостей уже специально, парадно, на вечер. Весь этот круг жизни разнообразился лишь тем, что Лавров иногда был приглашаем на обед каким-нибудь из своих почитателей или на какой-нибудь партийный бал и тому подобное. Иногда выпадало время, что он читал какие-нибудь лекции. Все это происходило в Латинском квартале. Лавров из него почти никогда не удалялся, на дачу не выезжал и даже загородных прогулок не любил.
Случалось раз в год, что приглашали его куда-нибудь в Венсенский лес, но и это не иначе как с тенденцией. Природу Лавров не любил и даже не понимал и откровенно в этом признавался. «Неужто вы не любите природу?» Он смеется: «Нет, отчего же! Она мне не мешает ни в чем». Неподвижный и домосед, он считал великим путешествием, если приходилось (раза два в год) отправиться работать в Национальную библиотеку на улицу Ришелье. К этому он готовился недели две, прежде чем решиться на подвиг.
Вообще, он был сугубо кабинетный, книжный человек. Собственно, наглядно, не из книг, он знал очень мало. Он знал прекрасно систематику растений, но когда мой Саша сорвал однажды мак и, показывая ему, спросил, что это за цветок, то Лавров не знал. Живя двадцать лет в Париже, он раз при мне с наивным и совершенно нескрываемым удивлением сказал: «Однако что я сегодня заметил: какое множество каштанов в Париже». Парижские каштаны! Это краса города, роскошно затеняющие улицы в пятидесяти саженях от дома Лаврова! И он их заметил только теперь! Такое редкое отсутствие наблюдательности Лавров даже не стыдился обнаруживать, он не понимал, что это дурно. Так точно он не имел впечатлений и от людей. Житейские и политические отношения он знал в общих формулах, по книгам, но не в конкрете, не по наблюдению. В связи с этим, может быть, он не имел ни личных привязанностей, ни антипатий. Было много людей, которых он ненавидел, но, собственно, потому, что они когда-нибудь его задели, оскорбили и тому подобное. Он был до крайности самолюбив и тщеславен и обиду помнил десятилетия. Он это, впрочем, признавал открыто, как нечто должное: «Я никогда ничего не забываю, и не следует никогда ничего забывать». Так, он не любил Чернышевского, Н. Соколова, и много их было. Баха он возненавидел за то, что вопреки желанию Лаврова он взялся за реформу заброшенной и погибающей библиотеки (эмигрантской). Лавров сказал: «Ни за что», а Бах с Кo все-таки сделали. Это было оскорбление незабываемое. Таких антипатий у него было много. Не любил он, например, Федершера за какую-то прежнюю непочтительность и тому подобное. Лестью и ухаживанием, напротив, всякий к нему мог подделаться и найти его защиту, поддержку, симпатии. Но симпатии и антипатии Лаврова только на этом и вертелись. Любить или не любить человека за го, что он умен, честен, силен или глуп, подл и дрянен, он совершенно не умел. И без сомнения, никаких этих качеств просто не замечал в конкретном человеке.
Единственное исключение представлял Герман Лопатин, которого Лавров любил сердечно, любил, хотя Лопатин позволял себе и подшучивать над ним. Лопатину все прощалось. Надо сказать, что Герман Лопатин был действительно очень симпатичная личность. Чрезвычайно талантливый, красавец, храбрец и авантюрист в душе, способный на миллион вещей, балагур и рассказчик, который умел и статью написать, и устроить побег из тюрьмы, много читал и бегал за бабами, — человек на все руки, и притом с сердцем весьма нежным и с чисто дворянским чувством благородства. Его недостаток составляло только вообще легкомыслие, преобладание фантазии и вкуса к блестящему, фейерверочному. В глазах серьезного политического деятеля это был огромный недостаток, не допускавший никакого серьезного, прочного построения. И Лопатин действительно за свою долгую радикальную жизнь ни в одном серьезном деле не имел участия. Он сам сознавал эту свою слабую сторону и отчасти мучился ею, но природа остается природой. В последний момент деятельности Лопатина в Петербурге его очень испугались и считали весьма опасным. Это ошибка. Конечно, Герман Лопатин мог много накуролесить, мог устроить и какое-нибудь покушение, но он обязательно должен был быстро попасться и все свои дела провалить. Как и случилось.
Другим же личным недостатком Лопатина было безбожное вранье. Он врал и хвастал, как охотник, — неудержимо и просто постыдно, врал так, что даже не мог обмануть. Это было нечто болезненное. Замечательно, что сын его маленький унаследовал это неудержимое хвастовство. Едва достигнув лет восьми, он уже говорил маленьким товарищам: «Ты знаешь, все дети, когда родятся — вот такие (показывает руками четверть аршина), а я, когда родился, был вот какой (раздвигает руки насколько хватает, на целый аршин)». Это факт. Вероятно, у Лопатина это безобразное хвастовство уже было в породе.
Но за исключением вранья, от которого он не в силах был удержаться, Герман Александрович был замечательно милый и привлекательный человек, честный, храбрый, великодушный, которого трудно было не любить. Его знакомство с Лавровым началось с того, что Лопатин вывез его из ссылки за границу, и Лавров привязался к нему всей душой, даже отчасти благоговел перед ним. Он воображал себе Лопатина идеалом всякой силы и не мог допустить, например, чтобы была тюрьма, из которой Лопатин не мог бы убежать, и тому подобное. Все, что Лопатин скажет в отношении чисто практическом, для Лаврова было авторитетом, который он принимал безусловно.
Это проявление человеческого чувства меня отчасти мирило с Лавровым, показывая, что и он человек. И тут для беспристрастного отношения к Лаврову не могу не сказать того, что много и часто наблюдал в заговорщицкой жизни. Я сам пережил несколько серий товарищей, несколько, стало быть, слоев личных привязанностей. Это очень тяжко для сердца. Были чайковцы — и совместная жизнь, давая возможность рассмотреть людей, невольно порождает привязанность к ним. Знаешь и недостатки, но научаешься их понимать, а стало быть, отчасти прощать, узнаешь и достоинства. И в результате получается сердечное чувство. Но едва оно установилось — налетает шквал. Твои друзья разнесены в пыль. Кто умер, кто в Сибири, кто отошел в другой, враждебный лагерь. Является новая серия товарищей, которых сначала не знал и принял по деловым соображениям. Таковы были у меня, даже сначала отчасти презираемые, землевольцы. Но пожил вместе — и сжился, понял, узнал, простил, полюбил. И что же? Опять переворот, опять все разлетелось. Настает новая серия — народовольцы, а там — опять переворот. И какой!
Пусть подумает, кто хочет: легко ли, когда человек, которого вчера любил, нынче оказывается на виселице или в Шлиссельбурге? Ведь это мука из мук. Не лучше ли бы вовсе не любить? И так мало-помалу начинаешь бояться привязанностей, стараешься не сходиться лично, стараешься, чтобы сердца не было, а было бы одно только дело, расчет. Вот какая история! И конечно, все это одинаково приложимо и к Лаврову. Конечно, при другой жизни он бы не засушил так своего сердца. А то ведь никакого сердца не хватит на эту вечную смену привязанностей. Итак, это необходимо принять во внимание, подводя итоги Лаврову.
Как бы то ни было, он вышел таким, каким вышел. Говорят, он когда-то любил жену. Дочь его, Мария Петровна Негрескул, однажды проездом навещала его, и Лавров о ней хотя думал немного, но не забывал совсем. А засим он жил вечно в толпе, но всегда одиноко сердечно, сам с собой, и не тяготился этим. Мне сначала было жаль его, но, наблюдая, я убедился, что ему и не нужно этих привязанностей, — он их не искал, не дорожил ими, когда они оказывались возможными, не дорожил и не замечал даже, если кто-нибудь любил его. Лишь бы был человек почтителен, льстив, ухаживал за ним, а там — как знаешь. Любишь, не любишь — все равно, да и что за интерес? Лавров жил вообще счастливо, то есть был доволен жизнью своей. Он огорчался исключительно только тогда, когда случалось ему испытывать какое-нибудь оскорбление, то есть проявление к нему непочтительности. Тут он огорчался до того, что даже заболевал, лежал в постели и мог даже умереть от удара, так что в этих случаях его приверженцы трепещут. Но никакая гибель каких бы то ни было дел, людей, разгромы не поражали его — он все это принимал легко и спокойно.
Если при этом оставались люди — хотя бы глупые и ничтожнейшие или первые встречные девчонки-студентки, — которые около него вертелись, ухаживали за ним, спрашивали его советов и так далее, Лавров сиял, цвел здоровьем и весельем. А эти люди, вечно сменяясь, постоянно были около него.
По наружности это высокий, плотный, весьма сановитый и представительный старик, весь седой, с белой окладистой бородой и длинными волосами. У него сохранились деланная светская любезность, приветливое обхождение, хорошие манеры русского барина. Первое впечатление он вообще производил очень благоприятное, но не было людей (кроме Лопатина и дурачка Л. М.), [50] которые бы сохранили к нему любовь и уважение после несколько продолжительного и близкого знакомства.
Не говорю о его либеральных друзьях — те его поддерживали по чувству долга, да и потому, что его видели раз в несколько лет. Притом же в нем, для смотрящих издали, казалось симпатичным верное держание знамени, верность делу. В этом отношении Лавров, конечно, безупречен, хотя его верность, верность такого характера, легко сохраняется. Не говоря уже о том, что он лично не страдал, не выносил испытаний, не приносил делу тяжких жертв, он никогда не истощался, не надрывался, а потому не на чем ему было истрепаться.
Ткачев не перенес краха своего дела и сошел с ума. Соколов спился с круга. Герцен погрузился в унылое разочарование. Крапоткин отстал от русских. Все они верили в живое, конкретное дело и потому вместе с ним страдали, росли, истощались. У Лаврова дело не живое, не действительно существующее, а книжная, отвлеченная формула, которая, конечно, остается одна и та же, как бы ни шел действительный мир. Такое дело не могло одушевлять, не могло особенно радовать, не могло и приводить в уныние, потому что в жизни его не было — оно не росло, не падало, не подвергалось опасности, как не подвергается опасности математическая формула при обвале здания. Здание рухнуло. Для живого человека это ужасно. Что толку в формуле, когда вокруг вас развалины? Лаврова же собственно здание не интересует, и он о нем, о его красоте или безобразии, удобствах или недостатках, даже понятия не имеет. Его интересует только его мысль, его формула, а она вечно цела у него. Более живой человек спросит себя: да верна ли формула? Если жизнь не такова, то ведь формула — вздор, фантазия. Такие вопросы не могли приходить в голову Лаврову. Его ум не был достаточно силен для того, а наблюдательности совсем не существовало. Раз навсегда запомнил известные общие положения передового миросозерцания, сообразно с ними подвел себе теорию и затеи застыл с ней, вечно ею любуясь, не умея и не желая интересоваться чем-нибудь, кроме нее. Само собой, при таком складе ума, при таком деле можно прожить тысячу лет, сохраняя верность знамени.
Есть общее правило такое: человек, сознательно (то есть продумав все известные ему факты) пристав к известной идее, не изменит этой идее в тюрьме. Он может пасть, сдаться, покориться, но убеждений в глубине сердца не может изменить. Я видел десятки примеров этого. Сам я был в тюрьме и много думал о том, прав ли я. Усердно, тщательно рассуждал я, и всякий раз мои рассуждения кончались одним и тем же неизбежным выводом: да, прав, да, другого вывода не может быть. И это правда, при данных фактах не может быть другого вывода. Но стоит выйти на волю, посмотреть на людей, жизнь, получить новые впечатления, и вывод, в тюрьме столь незыблемый, быстро как бы сам собой падает.
Человек, не наблюдающий фактов по неспособности или нежеланию, находится тоже в своего рода духовной тюрьме, и стойкость убеждений, имеющая этот источник, не имеет ничего общего со стойкостью проницательного чутья, не способного отказаться от истины, столь живо им осязаемой.
Крайности сходятся!
V
Другая «знаменитость», конечно, не имевшая европейской известности Лаврова, но составлявшая очень чтимый центр в русском эмигрантском и вообще революционном мире, это была так называемая Марина Никаноровна Полонская. Психологически это тип весьма интересный, и я как-нибудь постараюсь к ней возвратиться. Но в данный момент, то есть в 1886—1887 годах, она активной роли в революционных движениях не принимала. Весьма умная, она глубоко презирала ничтожный сброд, вертевшийся около нее и Лаврова. Когда мы еще не разошлись, она часто говорила: «Стыдно подумать, какими дураками окружены мы». Из этих окружающих один умел прельстить ее своим умом, которому, конечно, помогла красота. Это был Ельяш Рубинович. Лет на десять моложе Марины Никаноровны, красавец в хорошем еврейском типе, высокий, плотный, очень сильный и, несомненно, очень умен. Личность для меня более нежели проблематичная.
Рубинович (которого она, вообще не терпевшая евреев, для иллюзии называла Рубановичем) года с полтора был у нее на побегушках, молчаливым завсегдатаем и другом, которого она втирала в революционный мир. Потом он стал ее господином.
Непосредственно радикальными делами Марина Никаноровна не занималась; ей было противно серьезно участвовать в явной бестолочи мальчишеских словоупражнений. Но от убеждений старых она ни на волос не отказалась, а потому, отчасти от скуки, чтобы не быть одной, отчасти по принципу, поддерживала «священный огонь». Попросту говоря, она сохраняла живые сношения с эмигрантским миром, была своим человеком у Лаврова, сохраняла права хозяйки на Женевскую вольную типографию, принимала у себя как приезжих из России, так и эмигрантов, имела нечто вроде «салона» (ее мечта, жалкое осуществление которой ее самое смешило), где скрещивались все радикальные новости, сплетни, толки, споры. Здесь умному наблюдателю стоило только сидеть и слушать, чтобы знать досконально все замыслы, все дела, различия, фракции, союзы и раздоры эмиграции, отчасти же и русских революционеров.
Лавров, который, во-первых, был все-таки человеком в этом стаде Френкелей и Ко, конечно, оставался ее другом. Сам он ее очень ценил — по-старому, за ум, за практичность, наконец, и за знаменитость. Поэтому дома Лаврова и Марины Никаноровны оставались теснейше связаны, и старик едва ли имел от нее тайны, даже и не ему принадлежащие, хотя натурально сообщал их с заклятиями, под строжайшим секретом.
Около Марины Никаноровны и Лаврова одинаково (sic) стоял Тарасов [51] — pour le designer d'un nom. [52] Он имел репутацию умного и, сверх того, за неимением лучшего все же «старого» народовольца. О нем тоже пока не распространяюсь. Как литературная сила, он был предметом исканий всяких «новых» деятелей, но и только.
С Лавровым был в дурных отношениях, но с Мариной Никаноровной в близких Бах, Алексей Николаевич, как он назывался, хотя не знаю, его ли это имя.
По внешности это был своего рода знаменитость, но в чистой отставке. Он даже салонов никаких не держал, а просто себе жил, отказавшись от всякой деятельности. Личность также весьма курьезная, достойная внимания психолога и политического деятеля.
Собственно, Бах, родом еврей, но крещеный, говоривший по-русски великолепно, без тени акцента, был знаменитостью по той причине, что он с давних времен занимался революциями, и именно в качестве народовольца. Когда народовольцы исполнительного комитета вышли все в тираж, Бах, особенно во времена лопатинского исполнительного комитета, стал своего рода персоной. Что такое он был тогда в действительности, не знаю, но по разгроме Лопатина остался столпом и опорой разбитых, водворителем между ними порядка, спасителем разбитого войска. Так, по крайней мере, считалось и казалось. Я этого ничего лично не наблюдал и знаю по слухам. Во всяком случае, он и еще Иванов (Сергей Андреевич) с Яцевичем остались столпами, и все приехали за границу искать связей и помощи «старых» эмигрантов. Тут я их только и узнал.
Яцевич был совершенно глуп. Бездарность полнейшая, довольно пожилой, лет тридцати, и крайне самодовольный, хотя добродушный и по-своему честный. Иванов — весьма недалекий, но премилый, храбрый, веселый, прямая и открытая натура, прекрасный товарищ. Оба они обладали едва-едва средним образованием и развитостью наших интеллигентов.
Совершенно иного сорта человек Бах. Он был, во-первых, весьма образован, то есть далеко-далеко за средний уровень, знал несколько языков, очень много читал, вообще прямо-таки редко у нас образованный человек. Вместе с тем он был очень умен и развит. Его ум не отличался оригинальностью, но в известных пределах был весьма остер и тонок. Вообще, изо всей эмиграции, изо всех, кого только я ни видал за последние годы из России, это был единственный вполне умный человек, и рядом с ним по уму можно бы поставить только Марину Никаноровну и Лопатина. Но Бах был знающее обоих их и, сверх того, имел большой здравый смысл, ум практический.
Он приехал больной (чахоткой), очень злой, раздражительный. Вообще он был едок, желчен. Но — замечательно — весьма любил детей и с Сашей нянчился с нежностью даже. А это — примета. Сразу по приезде Бах начал ругать меня, что я им не помогаю, что они в России заброшены и тому подобное. Я ему объяснил, что это меня не касается, что я давно подал в отставку, никому из них не мешаю делать что угодно и никому не обещался помогать. Тогда он меня оставил в покое и со своей стороны разъяснил, что приехал в отставку же. Все ему надоело, все болваны, все в разгроме, а больше всего — «надоело лгать». «Буду жить, по крайней мере, никого не стану морочить». Эти «надоело лгать», «хочу жить без радикального вранья» составляли некоторое время его любимые фразы, как будто неудержимый, наболевший крик.
Так он и стал жить. Долго он жил на моей шее, у меня на квартире, потом скитался у того, у другого, наконец поселился с Ландезеном. За все время он действительно радикальными делами не занимался и даже не хотел дать Иванову адресов разных нужных тому лиц в России. Иванов называл это подлостью, но Бах мне объяснил, что «ведь провалит он их, я никого не хочу губить, не дам адресов, пусть сам ищет».
Так он и жил «в чистой отставке», но с эмигрантами познакомился, везде бывал, много бедствовал, пока не сошелся с Ландезеном.
Ландезен, то есть Геккельман, приехал в Париж и, подобно прочим, явился на поклон всем знаменитостям. Но его встретили худо. Дегаев его поместил категорически в списке полицейских агентов Судейкина, с ведома которого, по словам Дегаева, Геккельман устроил тайную типографию в Дерпте. Теперь же типография была обнаружена, товарищи Геккельмана арестованы, а сам он якобы бежал.
Дело было не то что подозрительно, а явно и ясно как день. Я и Бах, узнавши от Лаврова о приезде Геккельмана, переговорили с ним, заявив, что он, несомненно, шпион. Геккельман клялся и божился, что нет. Это был тоже жид, весьма красивый, с лицом бульварного гуляки, с резким жидовским акцентом, но франт и щеголь, с замашками богатого человека.
Я остался при убеждении, что Геккельман — агент. Но в конце концов, не занимаясь делами, я не имел никакой надобности особенно расследовать, тем более что Геккельман, который принял фамилию Ландезен, заявил, что если уж на него взведена такая клевета, то он покидает всякую политику, знать ничего не хочет и будет учиться во Франции. Ну, думаю, и черт с тобою, учись. Однако Бах заметил, что, на его взгляд, Геккельман искренен и что он, Бах, считает лучшим не разрывать с ним знакомства, чтобы окончательно уяснить себе Ландезена. Это уяснение через несколько месяцев кончилось тем, что Бах поселился с ним на одной квартире. Ландезен жил богато, учился, по словам Баха, усердно и был невиннейшим и даже простодушным мальчиком.
Деньги у него от отца-богача, который рад, дескать, поддержать сына, взявшегося за учение и бросившего конспирацию. Деньги Ландезен давал охотно направо и налево. Бах ввел его к Марине Никаноровне (и другим) и к Лаврову. Марина Никаноровна, вечно в нужде, всегда хваталась за мало-мальски богатеньких, с кого можно было что-нибудь сорвать. Ландезен скоро стал у нес своим, и вообще подозрения были безусловно отброшены.
Собственно, я и не думал о Ландезене. Шпионами я не интересовался; сверх того, я ясно видел, как подозрительны другие лица, столь близкие к «знаменитостям». Если бы Ландезен и был шпионом, то он бы ничего не прибавил к тем лицам. Но рекомендация Баха, жившего с ним, меня достаточно уверяла в личной добропорядочности Ландезена и в том, что он ничего общего с полицией не имеет. Самого Баха я тогда нимало не подозревал. Между прочим, он скоро сообщил, что получил выгодную работу у Ефрона. Тем лучше. Он попросил меня, чтобы я позволил ему привезти Ландезена в Ренси. Побывали, был и я у них. Ландезен мне понравился. Он имел вид самого банального студента французского типа, добродушного, веселого, не особенно развитого, но, пожалуй, неглупого. Относительно радикальности я с ним не говорил, а больше о французских делах да о его занятиях. Впоследствии, когда мне приходилось разорвать с эмигрантами, я по желанию Ландезена изложил ему свои взгляды на глупость революции; он мне поддакивал и предложил денег на издание моей брошюры.
Теперь я вижу, что он преловкий паренек. Мне, конечно, безразлично было и есть, но все же он надул меня. Я кончил подозрениями против Баха, но в Ландезене совершенно уверился, что он просто бурш и довольно милый, а с полицией ничего общего не имеет. Ловок. Меня в этом отношении никто, кажется, не обманывал за последние годы моей заговорщицкой жизни. Правда, тогда я уже не вникал и не интересовался. Но все-таки... молодец парень!
Что касается Баха, он мне очень нравился умом своим, а также, без. сомнения, подкупал тем, что выражал совершенно мои идеи, хотя и отставал от моего отрицания радикализма. И я даже теперь скажу, что он, конечно, не врал или не вполне врал. Я, конечно, не знаю, справедливы ли мои подозрения, явившиеся уже много позднее, но если даже да, если он был агент, то я уверен, что агент по убеждению, и в этом отношении это тип весьма любопытный. Прежде он был, несомненно, революционер. Но жизнь заговорщика так сходна с жизнью полицейского агента, та и другая составляют такую непрерывную цель нарушений нравственных правил во имя «службы», что с переменой убеждений род службы тоже легко может перемениться. Недаром же революционеры первые создали во Франции настоящий усовершенствованный тип тайной полиции.
Совершенно иной тип — так называемый Бланк (Э. А. Серебряков). Бывший лейтенант русского флота, он втянулся в революцию под влиянием известного Суханова и — через него — Желябова.
Лично ничего особенного не успел совершить. Но он состоял членом офицерского кружка «Народной воли», который строил всевозможные ужасные замыслы. После казни Суханова кружок остался некоторое время существующим, но затем разрушен. Кое-кто отстал заблаговременно, кое-кто попался (Штромберг — казнен). Серебряков имел удачу, узнавши заблаговременно о готовящемся ему аресте, убежать за границу.
Это был настоящий морской офицер. Нигилистического в нем, в сущности, ничего не было, кроме общего «передового» миросозерцания, которое, однако, не успело еще разрушить в нем даже понятия о святости присяги. Вопрос о том, что он изменил присяге, его весьма занимал. Конечно, он себя оправдывал; он и других убеждал, что во имя интересов России военный обязан изменить присяге Государю. Но уже присутствие в нем этого вопроса характерно. Для настоящего нигилиста что такое присяга? Станет ли он думать о таком «вздоре», станет ли себя «успокаивать»? Русский патриотизм у него также оставался очень жив. Попавши потом на службу к Баттенбергу в Болгарию, получивши даже орден в сербо-болгарской войне, он всегда говорил, что в случае войны с Россией выйдет в отставку. В случае европейской войны он даже хотел просить Государя принять его снова на службу. Все это, конечно, очень хорошо, но я только хочу сказать, что у него не было нигилистической закоренелости. Не пройдя печальной школы нелегальной жизни, он вообще тяготился веем, что входит в кровь настоящего заговорщика-нигилиста: все эти интриги, подвохи, вранье, хватание денег где попало и вообще всякая бессовестность ему были противны. Он сохранял открытость и честность офицера и в новой компании казался чем-то до наивности свежим и чистым. Ума среднего, образования самого заурядного, он, однако, имел положительный талант писателя, только писать не о чем было. Прибежав в Париж, он сначала очень бедствовал, потом уехал в Болгарию, предварительно «женившись», то есть сойдясь с еврейкой Катей Тетельман (добродушная дурочка, вполне, впрочем, обрадикаленная). По отречении Баттенберга снова приехал в Париж, живя на старые сбережения.
Со мной он был весьма дружен. Он во многом понимал мою новую работу мысли, а главное — только меня одного считал вполне порядочным человеком. Я был вполне уверен, что он останется со мной. К несчастью, больной чахоткой, он уехал лечиться в Швейцарию и был там во время моего разрыва с эмигрантами. Вообще бесхарактерный и болезненно увлекающийся, он поддался влиянию тех, кто был около.
Сестра Кати Тетельман Дора была столь же «вышедши замуж» (а впрочем, может быть, они и венчались в синагоге) за Иуду Когана, принявшего название Евгения Симоновского. Это тип в своем роде, ужасная дрянь и ничтожность.
В данный момент Симоновский вместе с Турским издавал в Швейцарии газету «Свобода». Глупее этой газеты еще не бывало за границей, но так как она давала деньги (пожертвованные), то Турскому с Симоновским ничего больше и не требовалось. Эмигранты покрупнее сторонились этой компании, хотя, кажется, кончили тем, что и их признали. Симоновского этого иные тоже называли шпионом, но я этого не думаю: едва ли ему это нужно было. Во всяком случае, через свою Дору, а затем Каро и Эспера он проникал в мир эмигрантов, куда бы его самого по себе не пустили по случаю его позорного поведения в Одессе. Коган был гимназистом в Одессе, когда туда явилась проповедовать революцию «знаменитая» Вера Фигнер. Фигнер сама по себе была очень милая и до мозга костей убежденная террористка. Увлекала она людей много, больше своей искренностью и красотой. Но, собственно, она ровно ничего не смыслила в людях, в голове ее был большой сумбур, и, как заговорщица, она хороша была только в руках умных людей (как А. Михайлов или Желябов). «Старые» деятели терроризма пришли бы в ужас от одной мысли, что Фигнер руководит делами.
Так вот, Коган на каком-то собрании произнес речь, которая восхитила Веру Фигнер, и она провозгласила его будущим великим человеком. Он был просто глуповат, хотя весьма красив и, как всякий еврей, все же достаточно умел быть шарлатаном. Превознесенный Верой Фигнер, он некоторое время первенствовал на сходках мальчишек, ею собранных. Затем наступил, конечно, поголовный арест деятелей, и вся эта дрянь, навербованная Фигнер, перетрусила, начала выдавать друг друга. Позорнее всех вел себя Коган, так что за чистосердечным раскаянием выпущен даже на поруки. Тогда он удрал за границу и, очутившись в безопасности, немедленно написал в Одессу прокурору крайне дерзкое письмо, полное выражения возвышенных революционных чувств. Говорят, оно очень позабавило прокурора: «Вишь, мерзавец, какой храбрый стал...» Так вот каков был герой и нынешний [53] издатель «Свободы».
Около меня он холуйствовал все время, буквально как лакей, так что противно было, и, между прочим, написал в честь мою стихотворение в «Общем деле»:
Нет, он не Герцен, он другой, Еще неведомый избранник... —и так далее, называя меня учителем и тому подобное. Это было так мерзко, что меня, а также М. Н. Полонскую просто тошнило.
Его компаньон Турский, когда-то действовавший с Ткачевым, личность тоже прегадкая. Его подозревали в шпионстве, и, во всяком случае, он был жулик. Во время турецкой войны он брал от английского правительства субсидию для возбуждения революционного движения в России. В 1885 году он (хотя я с ним никогда не хотел познакомиться) предлагал мне свое посредство для получения таковой же субсидии из Англии. Я, конечно, послал его к черту.
Из остальных русских: Лаврениус (И. С. Русанов) с семьей, Берг (Орлов), Александров. Студенты вообще и «студенты из России». Еврейское рабочее общество.
Поляки: Мендельсон, Янковская и К° (см. далее «Дополнение»).
Швейцарские эмигранты: Плеханов с К°. Slavia Verein. Народовольцы нового отпрыска (см. далее «Дополнение»).
NB. 1. Последний номер «Вестника „Народной воли“» составлял летом 1886 года (непомещение моей статьи), а вышел 15 декабря 1886 года. (Канальская штука Лаврова с якобы моим заявлением.)
2. Осенью 1887 года написано предисловие ко второму изданию «La Russie politique et sociale». Появилось в феврале 1888 года.
3. Брошюра [54] начата в марте 1888 года, окончена в мае 1888 года, выпущена в августе 1888 года.
4. Прошение Государю? (До 17 окт.). [55]
5. Высочайшее повеление, дающее мне амнистию, состоялось 10 ноября 1888 года.
Дополнение
Мендельсон, Янковская и К°.
Поляков разных фракций при мне за границей было много. Из них более всех деятельны были люди «Пролетариата», издававшие «Пшедсвет» и «Валка клясс». [56]
В этой компании особенно выдавались Мендельсон, Янковская, Дембский, Иодко и незадолго до того отравившийся Дикштейн. [57] А основателем ее нужно, в сущности, считать Варыньского (кажется, Людвига).
Варыньский для чистокровного поляка был очень славный малый, весьма неглупый, хотя легкомысленный, храбрый и в своем роде, опять хе по-польски, энергический. О нем скажу как-нибудь. В это время он был давно арестован в Варшаве. Но любопытно, собственно, вот что. Весь этот «Пролетариат», собственно говоря, вышел из Петербурга, под русским влиянием. Давным-давно, в середине 70-х годов, в Петербурге был огромный польский патриотический кружок. Его деятелей я не знал. Они держались вдалеке от русских и крайне несочувственно относились к тем из поляков, которые якшались с русскими, хотя бы и не отрываясь от своих.
А отрываться вполне они никогда не отрывались. Тем не менее и тогда бывали поляки, которые в Петербурге сходились с русскими радикалами (студентами), а через них и с революционерами. Они неизбежно немного «москалились», то есть проникались немножко космополитизмом и очень много социализмом. Некоторые из них считали разумным войти в союз, то есть в совместное действие, против «общего врага», каким являлось, конечно, прежде всего наше правительство. Большим деятелем этого сближения был в 1878 году Венцковский, почти одинокий тогда и притом скоро высланный в Сибирь. Однако же первые попытки не остались без некоторых результатов, и благодаря им вышла первая подпольная петербургская газета «Начало».
С тех пор как между русскими явились идеи террористические, в рядах русских революционеров стало попадаться все больше поляков. Думаю, это происходило оттого, что они, вообще бунтливые, просто увлекались, хотя, может быть, конечно, что и сами столпы польского патриотизма стали снисходительнее. Кто их знает! Как бы то ни было, в числе убийц Государя был Гриневицкий. Поляки упорно называли его Грюневецкий и причисляли к своим. Он сам, однако, называл себя литвином, а не поляком; по-русски говорил прекрасно, как и по-польски, и был вполне русский народник. Официально его, конечно, нужно считать поляком, потому что по вероисповеданию он был католик. Тем не менее Гриневицкий был поляк сильно «помоскаленный», и большая часть его студенческих друзей, с которыми он мечтал о поселениях «в народе», были кровные русские или «помоскаленные» поляки. Позднее, в 80-х годах, из такой же русифицированной среды выступает Варыньский, так же как и Куницкий и Дембский. Все они русского радикального воспитания, все сложились под русским влиянием, имели массу русских друзей, превосходно, без всякого признака акцента, говорили по-русски. Над Дембским его друзья смеялись, будто бы он разучился по-польски; на это он с самодовольной улыбкой отвечал: «Да, я таки совсем омоскалился». Конечно, этого не следует преувеличивать. Та же самая компания Мендельсона, которая при мне так шутила с Дембским и которая на словах отрицала всякую чисто польскую в себе тенденцию, а в отношении «Народной воли» не только признавала безусловное единство, но даже вступила к ней в якобы отчасти подчиненное отношение, почти как «местная» группа, — эта самая компания держала камень за пазухой. Они были поляки прежде всего, и я в этом неоднократно убеждался.
Я в свое революционное время пользовался репутацией «дипломата». Не знаю, насколько это было заслуженно (теперь, когда я христианин, — сохрани меня Господь от такого качества). Но, во всяком случае, мне действительно приходилось побуждать людей (право, сам не знаю чем и как — своего искусства я никогда не понимал) к разным конфиденциям, иногда для них крайне опасным. Так вот, приходилось кой-что узнавать и об этих господах поляках. В 1881 году один X, хитрейший хохол, задумал основать тайный центр всех тайных обществ, чтобы руководить ими неведомо для них. Этот план вполне разделял и Варыньский. В триумвират предложили вступить и мне, на чем и осеклись. Но Варыньский, который должен был войти, тут обнаружил, какова искренность поляков в отношении русских. Но это еще ничего. Позднее, когда «Пролетариат» вступил в формальный договор с русской «Народной волей», произошло следующее. Была в России одна ярая народоволка, кто — боюсь ошибиться, но кажется, это была та самая Гинсбург, которая была потом повешена. В то время я уже отстранился от революции, хорошо помню личность, но она носила выдуманную фамилию, и хотя мне открылась, но я не запомнил, не интересовался. Во всяком случае, она была родом из Керчи и жидовка. Это была особа весьма неглупая, страстной энергии, тип, способный много сделать. Я ее разубеждал в ее стремлениях, доказывал их тщетность, но совершенно без успеха. Когда она начинала говорить о революции, о том, будто бы в России жить невозможно, ее ноздри характерно раздувались, словно у горячей лошади. Все мои убеждения отскакивали от нее как горох от стены. Дело кончилось тем, что она перестала говорить со мной о «делах», и се «дел» я даже не захотел слушать. Но лично она мне понравилась, и я ей. Она продолжала посещать меня в Ле-Ренси и говорила иногда о вещах весьма интимных. Она сошлась «деловым» образом с Лавровым, водилась и с компанией Мендельсона. Так вот она мне рассказывала, что Мендельсон с товарищами настойчиво уговаривают ее оставить русских и войти в их компанию: «Ведь вы нерусская, как вы с ними связываетесь?» Эти изменнические факты ее крайне возмутили. Дело в том, что она, хотя родом и еврейка, была вполне русская по желаниям; она, конечно, не имела русских исторических инстинктов, но была вполне человеком русской революционной интеллигенции. Своего еврейства она в грош не ставила. Так вот она мне и рассказала свое огорчение: «Вот каковы поляки! Вот как нам, русским, можно верить их искренности».
Итак, повторяю, поляк всегда поляк. Как ни «москалились» Дембские с Куницкими, все же они остались поляками. Тем не менее несомненно идейное влияние русских.
«Пролетариат» родился под влиянием не чисто польских революционных традиций, не прямого западного социализма, но под влиянием «помоскаленных» петербургских поляков. Но засим он не был полным сколком русских революционных тенденций. Он усвоил себе традиционный польский якобинизм повстания 1863 года и гораздо полнее русских принял соседние немецкие социал-демократические идеи, спрятавшиеся в самих названиях: «Пролетариат» и «Валка клясс».
В 1887 году «Пролетариат» фактически был, безусловно, самостоятелен. Договор, заключенный при Куницком и Лопатине, в 1884 году, остался пустым звуком, потому что никакой «Народной воли» с гибелью Лопатина уже не было, кроме мальчишеских кружков, цену которым поляки прекрасно понимали. Формально договор, кажется, не разрывали, да и с кем было его разрывать. С «русскими товарищами» какого бы то ни было сорта, если только они были бунтовщики (а не плехановцы), пролетариатцы любезничали. Но фактически, и даже открыто заявляя это, они составляли вполне самостоятельное польское социалистическое общество. С русскими они сходились только как единомышленники, и больше ничего.
Какова была их внутренняя организация — Господь их ведает. По их идеям, она должна была быть централистическая, авторитарная. Думаю, однако, что у них никогда не было силы и последовательности, с которой развил свою централизацию русский исполнительный комитет, который не на словах лишь, а на деле, в действительности требовал слепого повиновения и держал свои подчиненные кружки в безусловном подчинении, причем они оставались в действительном неведении его планов и начинаний. Насколько мог я замечать, у «Пролетариата» ничего подобного в действительности не было. Его люди действовали весьма самостоятельно, в сущности, кто как хотел. Уж конечно в русском исполнительном комитете (старом, конечно) невозможно было, чтобы человек, да еще из-за женщины, позволил себе самоубийство, как сделал у поляков Дикштейн. Да и в делах что-то не заметно у них было особого принуждения.
Сверх того, и вообще центр «Пролетариата», как я уверен, не имел никакой обязательной власти над кружками, находившимися в Польше. У них даже сношения были плохи, и парижские «товарищи» часто долго не знали, что делается в Польше. Тамошние кружки находились с заграничным центром просто в некотором взаимодействии. За границей хранились «архивы», издавались газеты и журнал, заграница имела «представительство» — вот и все. Эта разница определялась и самими условиями. Русский исполнительный комитет воображал в два-три года довести монархию до «капитуляции», он пустился «на штурм». Поляки же ничуть не воображали уже подымать восстания, да без русских считали его даже невозможным. Они только подготовлялись к нему. Поэтому строгая подчиненность и дисциплина им были нужны лишь как принцип, на будущее время, а не как условие текущей борьбы. Как бы то ни было, действительной власти над польскими кружками парижско-швейцарский центр не имел. Не мог он их заставить что-нибудь сделать, не мог и удержать. Так я полагаю.
Но зато этот «центр» артистически играл в представительство. В этом отношении поляки весьма отличались от русских. Во-первых, старая «Народная воля» вообще пренебрегала Европой и европейским мнением. В России она тоже шарлатанила, но Европу не трогала, на помощь к себе не звала.
Поляки весьма заботились, напротив, о том, чтобы Европа знала об их существовании и относилась к ним сочувственно. Они тщательно и систематически «представляли» перед Европой свою «партию», даже тогда, когда находились в полном разобщении со своей «партией» и считали ее истребленной в Польше. Это им ничуть не мешало. Видимость необходима и полезна, аппарансы должны поддерживаться. Комитет Мендельсона никогда не забывал «сноситься» с европейскими социалистическими партиями, поднести свой венок на гроб умершего французского или иного «товарища» и тому подобное. Являлись они и на сходки, и на балы, давали и свои вечера, именно как «польские социалисты» или «Пролетариат». Что бы ни делалось «в крае» — «для Европы» они должны были существовать.
Это представительство брало у «Пролетариата» немного времени и им самим доставляло очевидное удовольствие.
Миссию представительства особенно охотно и удачно исполняли Янковская и Мендельсон.
Мария Янковская была старинная польская революционерка. Богатый муж, которого она бросила, давал ей хорошие средства до последнего времени, то есть пока был жив. Янковская была из русской Польши, но не знаю, действовала ли она в России. Знаю, что она была замешана в социалистической пропаганде в Пруссии, была арестована, сидела в тюрьме, которой осталась очень недовольна. «Даже в России никогда не позволяют себе быть такими грубыми, как пруссаки», — говорила она мне. Покончив с Пруссией (куда не смела уже возвратиться), она застряла в Париже. Ничего она, в сущности, не делала, только «украшала» собою партию. Жила она почти роскошно, наряжалась, кокетничала, училась. Она была весьма хорошенькая, почти красавица и с весьма нежным сердцем. На моей памяти у нее сначала был какой-то англичанин, который с партией не имел ничего общего. Потом она этого англичанина бросила и сошлась с Мендельсоном, давно по ней вздыхавшим. Эта перемена чувств совпала с переменой денежных обстоятельств. Когда муж умер, то родные перестали ей давать деньги, она осталась без ничего и тут оказалась разделяющей страсть Мендельсона, очень денежного. В последние годы моего знакомства Янковская уже очевидно белилась и румянилась, но была все же весьма пикантна. Говорили, что она умна, — не знаю, не замечал ничего особенного. Между прочим, она с большим акцентом и ошибками говорила по-русски.
Не думаю, чтобы она имела действительное значение для «партии», кроме приема французов, вроде Жакляра, и вообще «представительства». Да и сама она думала больше о нарядах и всяких житейских сластях, которыми даже на легкий взгляд весьма умела пользоваться.
Мендельсон — сын банкира, но не берлинского, а варшавского. Об этом «немецком социалисте» (он тоже действовал сначала в Германии) Бисмарк сострил, что «он ни по национальности, ни по профессии не имеет ничего общего с немецким пролетариатом». Однако Мендельсон — уроженец Царства Польского и сначала воспитывался в Варшаве. Попавшись в Пруссии, он был приговорен к изгнанию и вывезен на русскую границу. Но жандармы, его везшие, были подкуплены и не только не передали его русским властям (чего, впрочем, не обязаны были делать), но и не наблюдали за тем, чтобы он остался в России. Вопреки обязанности они привезли его к границе, оставили его там, а сами быстро удалились. Мендельсон же столь же быстро переступил на прусскую территорию, сел на железную дорогу и удрал во Францию, где и поселился.
Отец давал ему большие средства, и «Мендель» жил припеваючи.
Это был парень белый, краснощекий, сочный, почти толстяк, с румяными, чувственными губами, с живыми и искрящимися глазами. Усы носил а-ля Бисмарк, бороду брил, ходил щеголем. Вообще он имел вид viveur’а [58] и весельчака, да и был большой весельчак, впрочем, умный, развитый. Он много читал, учился, знал несколько языков, лучше всего немецкий, хуже всего русский, на котором говорил шибко и смело, не смущаясь ежеминутными ошибками. Хотя родом из русской Полыни, он не имел ничего русского, а совсем напоминал немецкого студента. Русскую литературу и журналистику знал весьма плохо. Часто я себя спрашивал: «Зачем он социалист? Что ему в социализме?» Вероятно, первоначально это была случайность, отчасти немецкая мода, особенно для жида. Евреи все склонны к социализму, да и правы, потому что это доктрина, при которой евреи будут господами мира. Но конечно, не из-за этого же этот сочный и так радостно живущий богач стал социалистом. Просто линия такая вышла. Уж раз попался и выслан — это оставалось ему своего рода карьерой, в которой он, ничего не теряя, весьма преуспевал. Он был как по еврейской бойкости, так и по деньгам настоящим центром, первым лицом в «Пролетариате». Собственно говоря, личность довольно противная, едва ли знавшая сердечные убеждения, от которых люди мучаются и за которые гибнут. Он просто играл роль, которая давала ему общественное положение, и хотя, конечно, был убежденный социалист, но умом, слегка, «для порядку».
Куницкий, тогда уже не существовавший, был мальчик, любовавшийся своей заговорщицкой ролью, но искренне веривший и не колеблющийся отдать голову за убеждения — как оно и вышло.
Иодко тоже мальчик, и честный, но без темперамента. Он был книжник, теоретик, ничего не знавший в жизни и веривший в социализм по книжкам. Его прославляли как «звезду» учености, пророчили учено-социалистическую будущность. Вероятно, это все пустяки. Конечно, засохнет в партийности. Фактически он ничего не делал, кроме того, что писал, что «старшие» указывали.
Цельнее всех был Дембский, очень похожий на русского. Весьма добродушный, храбрый хладнокровным мужеством, он имел то «мужицкое» сердце, при котором человек, не дрогнувши, зарежет «кого нужно». К резне он имел и большой вкус. Он оживлялся, вспоминая, как это мило и аккуратно было устроено в 1863 году у жонда народового, как, например, идет «жандарм-вешатель» в костюме рабочего, наставит сзади долото в голову «осужденного», хватит молотком — и готово. «Казненный» падает без крика, а «жандарм» не торопясь идет себе далее, так спокойно, что никто ничего даже не замечает.
Такие картины приводили Дембского в своего рода умиление. Но в сношениях со своими он был предобродушное существо. И при этом ни бахвальства, ни тщеславия, ни желания играть роль. Простая натура, в существе хорошая, но недоразвитая и дурно направленная. Этаких я много знавал между русскими. Самые, в сущности, опасные люди, без которых «организаторы» и фразеры, вроде Мендельсона, были бы вполне безвредными пустословами. К сожалению, Мендельсоны имеют всегда к своим услугам Дембских.
VI
Лето 1887 года было для меня вообще временем душевного отдыха — по крайней мере, частью мои вопросы были порешены, а борьба за них еще не начиналась. В это время почти не виделся с Лавровым, Полонской и вообще со «столпами» революции. Они были осведомлены о моих ересях и старались не пускать ко мне молодежь, но громкого спора старались не подымать. Они думали, что, разорвавши внутренне с революцией, я, как многочисленные другие — Эльсницы и так далее, — скандала подымать не стану, а заживу просто в «бездействии», так что другого вреда, кроме потери моей личной силы, для них не будет. Поэтому они меня встречали с кислой любезностью, не говоря ни о чем слишком жгучем, но отношений старались не рвать. Я тем более старался их не рвать, пока не увижу, кого могу из них оторвать, и вообще составлю себе план действий. О плане же этом некоторое время особенно не думал, уверенный, что найду его, а пока был слишком уставший и просто отдыхал душой. Тем не менее столкновения с эмигрантами не могли иногда не возникать, хотя и мелкие.
Еще зимой, кажется, приехали в Париж из России две барышни. Одна бледная, болезненная, уже по худосочию склонная к мрачности, которую так удобно выставлять перед собой гражданской скорбью. Забыл ее имя. Ее товарка — Федосья Васильевна Вандакурова, здоровенная, краснощекая сибирячка, кажется, из Барнаула. Это была пресимпатичная девушка. Кровь с молоком, роскошная, но не простая корова, а с душой и сердцем. Ее способность увлекаться до последней степени напряжения — и это при уме и при горячем искании правды — приятно изумляли тем, что очевидно не были ни деланными, ни притворными, ни результатом больных, истощенных нервов. И мне, и жене она очень понравилась. С женой она сошлась совсем по-дружески. У меня, очевидно, искала «света». В голове у нее, конечно, царствовал полный сумбур русского радикализма.
Приехали обе грязные, обшарпанные, в каких-то старых, безобразных платьях, но не по бедности. Отец Вандакуровой, занимавшийся делами по золотым приискам, был почти богат, далеко выше простой состоятельности. Товарка была бедная, жила отчасти на счет Вандакуровой, отчасти на какую-то «стипендию» Сибирякова. Вандакурова явилась неряхой по принципу и, так сказать, из уважения ко мне. Она потом, впоследствии, хохоча, рассказала, что боялась вообще явиться, а особенно «барышней». Ну-с, прекрасно. Приняли мы их (а их уже старались не пустить ко мне, но только ясно не говорили, а так, подвохами: что он (я) не любит, дескать, публики, очень суров, занят и тому подобное).
История Вандакуровой оказалась такова. Провинциальная барышня тянулась к «свету», поехала из Барнаула в Санкт-Петербург учиться. Ведь есть же родители настолько глупые, что отпускают без призора в другую часть света. А между тем отец ее, говорят, умен и очень любит дочь. Мать тоже. В Петербурге Вандакурова куда-то на какие-то курсы поступила и даже прекрасно шла, но, конечно, главное было не в ученье, а в «свете», то есть в сходках молодежи, разговорах на радикальные темы и в искании «деятельности». В то время в Петербурге еще проживал Ядринцев, который соединял около себя сибиряков. Он им внушал, что они, сибиряки, — сами по себе, не русские, а имеют особое отечество, которому обязаны служить. При всем своем радикализме Ядринцев старался не пускать своих сибиряков на русские радикальные дела. Вся его забота была обособить сибиряков, сплотить их, внушить им «сибирский патриотизм». На «сибирских» вечерах Ядринцев явно выражал гнев и не хотел даже разговаривать с теми сибиряками, которые проявляли холодность к «сибирскому отечеству» и выражали интерес к общерусским делам.
Вандакурова сначала увлеклась ядринцевскими глупостями, но не надолго. Ее прямая натура не могла удовлетвориться этими сочиненными интересами, и она все более стала сходиться с революционным слоем студенчества.
Неглупая, пылкая, энергичная, она уже стала выдвигаться в знаменитости своего муравейника и неуклонно стремилась к пути, который в конце концов приводит к каторге либо виселице. К счастью для нее, случилась добролюбовская история.
Для «пробуждения» молодежи возникла мысль чествовать память Добролюбова:
Милый друг, я умираю, Потому что был я честен, Но за то родному краю Вечно буду я известен... —и так далее. Вандакурова приняла в демонстрации самое горячее и выдающееся участие. Она была в числе зачинщиков. Она же и вела себя храбрее других во время разделки. Уже пошли на кладбище. Погода была дождливая, сверху дождь, снизу грязь. Полиция сначала не опомнилась, но потом быстро стянула силы и, не преграждая пути толпе, заставила ее идти лишь определенным путем, по улицам менее людным. На кладбище, само собой, говорились речи. Все были очень довольны собой. Вандакурова, рассказывая это, все восхищалась: «Ах, какое чудное чувство наполняло душу, как-то свободно дышалось, сознавалось что-то широкое». Электричество толпы! Но на обратном пути густые цепи казаков преградили все пути, кроме Лиговки. Демонстранты хотели пройтись по людным улицам, но их не пустили. При всякой попытке куда-нибудь свернуть оказывались неизбежные казаки. Несколько раз повторялось это. Толпа надвигалась густо на неподвижную линию казаков, но за несколько шагов казаки вдруг по команде смыкались, брали наперевес пики и готовились броситься. Толпа моментально отступала. Так ее гнали по Лиговке. У Николаевского вокзала вдруг послышалась команда, казаки засуетились, и толпа была со всех сторон окружена. Что такое? Сердца забились: какая-то разделка! какая-то опасность! Кто струсил, кто обрадовался. А между тем толпа стояла. С ней ничего не делали и никуда не пускали. На вопросы из толпы полиция отвечала, что господин градоначальник сейчас приедет и тогда все разъяснится. Грессер сшутил с молодежью злую шутку. Он их продержал в грязи под дождем часа два. Затем приехал и объявил, что все могут расходиться по домам: панихида кончена, больше шляться некуда и незачем. Прозябшее большинство, мокрое, охрипшее, с зубной болью, поторопилось воспользоваться роспуском. Кое-кто, в том числе Вандакурова, вздумали было шуметь против такого обращения, и Вандакурова лично перебросилась с Грессером несколькими взаимными грубостями. Ничего из этого не вышло, все разошлись. А засим — некоторые особенно рьяные через день, кажется, были арестованы и высланы административным порядком, в том числе натурально и Вандакурова. Она подлежала высылке в Барнаул. Но, побывавши там, воспользовалась какой-то неряшливостью наших административных сношений и получила паспорт на прожитие в Казани. Здесь опять училась, но после петербургских демонстраций жизнь казалась уже пресной. Она попросила заграничный паспорт, получила его и уехала в Париж искать «света».
Родители отпустили, и даже охотно, радуясь, что она будто бы взялась за ум. Наивные люди!
Грессер, узнав о выдаче заграничного паспорта административной ссыльной без его ведома, был крайне, конечно, недоволен. Он протестовал, и легальное положение Вандакуровой за границей стало очень двусмысленным. Возвратиться в Россию значило для нее отправиться в ссылку, где она по закону должна была находиться.
Мы обласкали Вандакурову. Мои «расхолаживающие» речи казались ей необыкновенными. Лавров с К° старались ее оторвать от Ренси, но дело в том, что Вандакурова решилась действительно поступить в учебное заведение, а языка не знала. У нас в Ле-Ренси был очень хороший монастырь, то есть пансион, содержимый монахинями. По дешевизне содержания (120 франков с учением) это было вне конкуренции, и мы уговорили обеих товарок туда поместиться. Другой скоро показалось скучно в строгих правилах монастыря, и к языку она не оказывала способностей. Но Вандакурова быстро изучала язык, сошлась с bonnes sceurs и пробыла в монастыре месяца три.
Это поддержало необходимость ее сношений с нами: забегать отдохнуть, поболтать, а между прочим посоветоваться. Были такие случаи. Раз приходит она с поездки в Париж, взволнованная и недоумевающая. «Как мне быть?» Оказалось, что какие-то студенты через нее обратились к Лаврову с вопросом, можно ли начинать студенческие волнения. «Протест», «демонстрация», «шевеление» молодежи, рассуждали они, необходимы. Но правительство настроено крайне «реакционно» и готово ответить на волнения закрытием университетов. Закрытие же университетов, не считая гибели молодежи, всем остальным перерывает образование, держит их в невежестве. Как же быть? Они просили совета у ученого представителя революции.
Ответ Лаврова, собственноручно изложенный для отсылки в Россию, Вандакурова показала мне... Меня он взорвал своей революционной тупостью. Лавров советовал бунтовать, не беда, если молодежь ссылается: без жертв прогресса не бывает. Не беда, если и вовсе уничтожат «два-три университета», ибо в них уже нет науки. «Лучших профессоров» изгнали (действительно, незадолго до того прогнали Максима Ковалевского и еще кого-то). Молодежь в них не просвещается, а затупляется, для просвещения ей лучше обратиться к свободным учителям науки (то есть вроде него)...
Это позорное письмо меня ужасно рассердило. Старая скотина, которая не понимает, что наука не в одних либеральных друзьях его, вроде М. К.. [59] «Два-три университета»... Подумаешь, что у нас их сотни! Вандакурова и сама, впрочем, была удивлена диким отношением «ученого» к науке и, сжегши его письмо, ответила своим друзьям только от себя, советуя учиться и дорожить университетами.
Само собой, такие случаи, хотя намеком, доходили до Лаврова и все больше его против меня вооружали.
Позднее, когда и мы, и Вандакурова перебрались в Париж, она нас было вдруг бросила. Все реже, все холоднее — и вовсе исчезла. Однако не надолго. Вот она снова явилась и объявила, что окончательно разрывает с революциями. Компания Лаврова, Полонской и так далее затащила ее к себе, вооружила против меня, усиленно притягивала к своему делу. В виде последней реакции Вандакурова сошлась с ними, стала к ним ходить на все собрания, на их болтовню. Но уже она была «испорчена». Месяца через полтора они ей окончательно внушили отвращение, и она сразу бросила все старое. Действительно бросила и даже в пику им, на соблазн своим приятелям-студентам, стала жить «барышней»: изящно одеваться, наняла хорошенькую комнату, поступила в зубоврачебную школу и работала как вол, объявила матери о своем разрыве с радикализмом, прося у нее прощения за прошлое, и так далее. Я посоветовал ей подумать о своей легализации, и она — о ужас! — отправилась в консульство. Карцев [60] ее принял любезно. Она расчувствовалась, с жаром рассказала ему свои приключения, объявила, что она бы не пришла, если бы сама искренне не изменилась, и просила похлопотать о ней.
Карцев ей действительно все устроил, и она получила полное отпущение грехов.
VII
К осени 1887 года (8 октября нового стиля, суббота) мы перебрались в Париж, на avenue du Maine, 204.
Много мы тут пережили трудных минут. Но тогда же я еще говорил Кате: «Смотри, может быть, еще об этом времени будем с завистью вспоминать». И точно, хорошее время было! Хорошо, как иллюзия, как надежда на то, что при осуществлении часто не стоит медного гроша. Мы, собственно, сначала ни на что не надеялись и никаких планов не имели. Но мы зажили просто, по-обыкновенному, по-человечески. Всякие радикальности остались за плечами. О борьбе с радикалами еще не думалось, то есть не виделось средств. Но я стал независим. Катя это одобряла. Она вообще слишком мать, чтобы быть революционеркой. Революционеры, кроме немногих, ей давно опротивели как люди, особенно Лавров, Полонская и тому подобные. Открытого разрыва все еще не было. Лавров даже сделал мне визит на новоселье. Раз как-то зашла и Полонская. Но вообще сношения у нас сначала почти прекратились, а засим и безусловно.
Мы об этих людях больше не думали. Я готовился добывать себе хлеб самостоятельно. Мы с Катей готовились жить новой жизнью, то есть той, какой живут все обыкновенные люди. Помимо этого, я в душе думал, что, так или иначе, я успею основать некоторую новую группу или направление, которое покинет всякие революции и станет некоторой культурной силой. Как и что — этого я еще не видел, но ясно чувствовал, что это возможно, верил, что это будет. Мне твердо казалось, что я имею некоторую миссию... Увы! Мечты, мечты, где ваша сладость? Жизнь оказалась сильнее мечтаний. Но тогда я даже так и думал: недаром же мне предназначено было пройти эту безумную революционную школу, недаром дано было столько понять. Я тогда видел, что я понимаю больше, чем все, кого я знал и читал. Это, в сущности, правда. Я и теперь скажу, что мне никакой миссии не положено, но понимание дано. Тяжкий удар, который, может быть, имеет одну цель: меня, столь привязанного к миру, образумить и показать, насколько он безнадежен и бесплоден.
Тогда я думал: не может быть, чтобы это понимание жизни, так ужасно мне обошедшееся, не имело целью какой-либо внешней миссии. И я верил, что обстоятельства мне укажут деятельность.
В ожидании нужно было жить по своим убеждениям, то есть исполняя обычные обязанности отца семьи и работника. В отношении работы мне везло сравнительно с моей неловкостью. Я вообще всегда был добросовестный работник, но никогда не имел пройдошества, которое важнее всего для получения работы. Мне легко делать работу, но добывать ее страшно трудно. Но мой тогдашний друг Павловский имел ловкость на сто человек. Мне, собственно, должно быть ему благодарным. Насчет денег он был весьма кремне-ват. Но советы давал умные и от души. Как бы то ни было, у меня работа попадалась. Во-первых, я был корреспондентом «Санкт-петербургских ведомостей», затем сотрудничал в паскуднейшем «La Revue Franco-Russe», затем имел работу у Ашетте (по составлению балканского отдела географического словаря), имел маленький доход и от Савина... Одним словом, все время я кое-как, хотя и с трудом, перебивался. Эта работа, поставившая меня в соприкосновение с массой лиц, живых, настоящих политиков, журналистов, артистов, деловых людей и так далее, давала мне особенное наслаждение проверкой всех моих взглядов и выводов. Великое дело реальная жизнь! Что такое какой-нибудь Жеган Судан? Бульвардье, карьерист и, в конце концов, жулик. А сколько ума, сколько человеческого показал он мне, может быть, сам того не зная. Политику я понял тогда раз навсегда, после полутора лет профессионального наблюдения палаты. Вообще — спасибо этому времени. Много я узнал, хотя и не для того, чтобы приложить свои знания на пользу другим, но для того, чтобы понять премудрость Екклесиаста и убедиться, что все, кроме жизни духовной, есть суета и томление духа. Да помилует меня Господь! Нет для меня духовной жизни. Но зато смирился я перед Господом и жду Его милосердия — не по заслуге, а только по сокрушению своему.
VIII
Мы выбрали avenue du Maine в квартале Монруж, потому что эта местность чужда русским радикалам. Уж не знаю почему. Это квартал чистенький, с новыми широкими авеню, с прекрасными путями сообщения, улицы тенисто обсажены деревьями, воздух чистый, множество лавок и магазинов, необходимых для небогатых буржуа. По мне, это лучшее место Парижа, после, конечно, недоступных кварталов Монсо и Елисейских Полей. Но русские сюда до нас не показывались. Они облюбовали грязные, вонючие переулки Глясьери и бульвара Пор-Рояль, в лучшем случае селясь на пустынном бульваре Араго. Почему? Может быть, именно потому, что тут слишком чисто и прилично, слишком буржуазно. Но мы были в полном восторге от своего места. Наша квартира, чистенькая, четыре комнаты на четвертом этаже, выходила одной стороной на avenue du Maine, из окон вблизи за деревьями не видно было улицы, но направо, в двухстах шагах, виднелась высокая колокольня церкви Saint Pierre, налево — площадь Малого Монружа, где находились и мэрия, и школа, и хорошенький сквер, и огромный крытый рынок, все это тоже в двухстах шагах от нас. Задние окна выходили на громадный двор, каких я и не видывал в Париже, а за двором из окон открывалась широчайшая перспектива: виднелся не только конец города, но далеко за городом, до фортов и лесов, на бесконечном горизонте широта и красота, океан воздуха и света. Квартира нам очень понравилась и была недорога — 600 франков, платимых, конечно, по «термам» (по кварталам года). Но лучше всего был двор. Он и определил наш выбор. Саше было необходимо гулянье. Наш же двор, лишь частью занятый домами по avenue du Maine, дальше тянулся огромной пустынной полосой, совершенно дикой, правда, отчасти заваленной камнями от постройки, но также заросшей огромным бурьяном и травой. Весь он находился перед нашими окнами; не выходя из квартиры, можно было наблюдать за ребенком, хотя только наблюдать: крикнуть, позвать было нельзя — далеко. Но мы придумали вывешивать в окне сигналы, если нужно было позвать. Во всяком случае, этот двор нас решительно соблазнил и действительно пригодился.
Доктор одобрил наше переселение. «Мальчик оправился, — сказал он, — стал сильнее, ему теперь нужны впечатления внешние, лучше быть в городе». Саша действительно переехал в Париж, после деревни, с восторгом. Его тут все интересовало. Перебрались мы кое-как, на скорую руку устроились и заснули в самом счастливом настроении. Все было хорошо, все было близко, под руками что нужно: лавочки, рынок, даже в доме были лавочки. Заснули и наутро проснулись от странного, родного звука, нам обоим вдруг напомнившего далекую, дорогую землю. Это звонил Saint Pierre. Конечно, жалкий звон в сравнении с русским, но для Франции это был хороший колокол, и звук шел замечательно сильно к нам в окна. Долго мы не могли свыкнуться с этим звуком и каждый раз слушали его с особенным чувством. Он таки пророчески звучал для нас, хотя о России мы тогда не воображали даже.
Квартал с окрестностями был мне совсем незнаком, и мы с Сашей в свободное время долго осматривали его. Это была огромная сеть старинных улиц и переулков, иногда роскошно типичных образчиков старой Франции; но на этом основном фоне Наполеон (Наполеон III) и республика пробили несколько новейших, широчайших, светлых улиц, площадей, скверов. Неподалеку от нас была и граница Парижа — зеленые, роскошные фортификации, за ними полоса огородов, полей и дальше деревни. Масса зелени. Походить было где. Посетили мы, конечно, и наш милый Saint Pierre на углу avenue d'Orleans. Это была огромная, старинная, сухая постройка, неправильная, как все французские церкви, с высокой колокольней. Внутри простор и полумрак, важный, таинственный и тоже неласковый. Вообще, ничто не сравнится с православным храмом по его любящей теплоте. Но все же скажу: я как-то чувствовал в католической церкви присутствие Бога. Ничто мне там не нравится особенно. Голы стены, некрасивы, невыразительны статуи, неуместны скамьи, неприятна пассивная дисциплина молящихся, по звону колокольчика и стуку булавы подымающихся и садящихся. Не нравится мне даже и орган, что-то говорящий, да не договаривающий. Не нравится и театральное пение, непохожее на молитву. Сколько сот раз бывал я в католических церквах и привык к ним и, кажется, отвык совсем было от православного обряда — а нет, не говорит католическая церковь сердцу так много, как православная. Впрочем, мне и Мартынов это высказывал. Он благодарил католицизм, давший ему религию, и порицал православие, при котором оставался полубезбожником. «Напрасно говорят, будто бы католицизм привлекает внешностью. Ведь эта внешность у православных, пожалуй, гораздо лучше». И правда. Лучше, без всякого даже сравнения. Помню, когда я первый раз после многих лет пошел в русскую церковь на rue Daru. Я давно туда тянулся. Когда проходил мимо и видел сквозь переулок эти золотые маковки, этот знакомый абрис — так и хотелось зайти. Но я боялся и стыдился. Я — отверженец, я — враг своего народа... Как я пойду сюда, в посольскую церковь?! Мне все казалось, что меня там узнают. Вдруг скажут: «Зачем здесь ты? Твое ли место?» Я долго не мог преодолеть этого чувства и пошел не скоро.
Но вот однажды, уже летом 1888 года, я таки поборол себя или, может быть, правильнее, меня побороло это желание, взял Сашу, и мы отправились... Путь от нас, с Монружа до Монсо, — это целое путешествие. Прибыли мы наконец. Боже, как у меня билось сердце! Саша тоже был как-то поражен этой особой архитектурой. В Париже наша церковь прехорошенькая, маленькая, но прелесть. Поднялись мы по ступеням паперти, входим... Все пусто, только два-три человека работают, расстилая ковры. Оказалось, что верхняя церковь приготовляется к какому-то празднику, кажется к Успению. Я спрашиваю по-французски, будет ли служба. Но человек, оказавшийся причетником, ласково по-русски ответил:
— Да она уже идет.
— Где?
— В нижней церкви. Тут вот мы готовимся...
Он живо и любезно начал объяснять, как пройти...
— Да позвольте, тут ближе, я вас проведу через алтарь...
Мы прошли через алтарь, вышли и, завернув по тротуару, спустились в подземную церковь. Не могу выразить, что я почувствовал в этой ночи, освещенной множеством теплящихся свечей и лампад. Образа искрились своей позолотой. Дьякон читал ектенью. Когда раздалось пение молитвы, мне стало страшно — я думал, что у меня разорвется сердце. Скажу прямо: с детства я не плакал, и не умею плакать, и презираю плач, и не верю плачу... Но у меня тут спазмы охватили горло, мне хотелось упасть и рыдать от горя и счастья, от стыда за свое блуждание, от восторга видеть себя в церкви; я не знаю отчего, но я даже подумал на секунду: «Господи, если у меня лопнет сердце, что же будет с мальчиком?»
Саша у меня до тех пор вырос на католической церкви и полюбил ее, хотя, конечно, знал, что мы и католики — разное дело. Я именно боялся, что мальчик слишком втянется в католичество и не поймет нашей церкви. И вот мы выходим с этой первой службы. Я сам был слишком полон, а Сашу боялся спросить, понравилось ли ему. Молчу. Страшно, вдруг скажет: «Ничего, недурно»? Но он с двух шагов, как только почувствовал, что можно разговаривать, окликнул меня:
— Папа, папуся.
Смотрю, весь красный, глаза горят.
— Что, Сашурка?
— Папа, мы больше не будем ходить в католическую церковь... Тут лучше, у нас гораздо лучше. Папа, мы сюда будем ходить, правда?
Благодарю Бога за эту минуту. Я был в полном смысле счастлив. Итак, я моего мальчика не погубил. Я чего не нагрешил, я себя загубил, но мальчика своего привел к правде. Эти слова меня утешили до счастья. И мы действительно с тех пор не ходили к католикам. Саша даже стал иронизировать немножко над ними.
Но я забежал несколько вперед. Итак, хотя католическая церковь и далеко не наша, но я все же туда ходил, тем более что тогда еще не знал, что это не одобряется нашей Церковью. Впрочем, в конце концов, я в их молитве, строго говоря, не участвовал, а только присутствовал при ней, так что не думаю, чтобы это было грешно. Если молился, то сам по себе.
В это время я сблизился с Павлом Маринковичем.
Мой большой приятель старший Родович познакомил меня со своим братом, у которого я перезнакомился с кучей студентов румын и отчасти сербов. Между ними был молодой Свилакошич, маленький, миленький и, в сущности, дрянноватый, хотя весьма неглупый. Этот Свилакошич стал ко мне захаживать и познакомил меня с Павлом Маринковичем.
Маринкович жил в пансионе Мирманов на rue Brezin, 13, возле нас. Rue Brezin идет с нашего рынка на avenue d'Orleans. Это бойкий торговый переулок, на котором нельзя было бы предположить такого двора, как в глубине №13, нанятого Мирманами. Пройдя переднюю часть двора, уставленную домами, вымощенную плитами, безусловно городскую, на задворках неожиданно находишь довольно старый трехэтажный особняк, окруженный пустым пространством. Оно заборами разбито на садик и несколько дворов. Тут и помещался пансион Мирманов, с которыми мы тоже скоро познакомились и даже сошлись. Семья, как и весь уголок, была весьма милая и даже своеобразная.
Сам мсье Мирман был уже старик, в старинном вкусе. Худой, нервный, с длинными волосами, живой и умный, он принадлежал к поколению 48-го года. Он был революционер и социалист, но не из нынешних, практичных, материальных и шарлатанистых. Мсье Мирман был идеалист, в житейских делах ничего не смыслил, но мечтал о возрождении рода человеческого прежде всего на почве нравственного совершенства. У него была какая-то смутная религия какого-то неизвестного бога, хотя «положительные» религии он, конечно, отрицал. Жизнь его была бурная. Он принимал участие в революции 1848 года и даже был известен, но не запачкал себя ни в каких репрессиях, напротив, рисковал собой, спасая, случалось, и врагов; это, помнится, было во время Коммуны. Он был членом какого-то некогда сильного клуба, члены которого к нашему времени уже все почти перемерли, хотя оставшиеся два-три человека, в том числе Мирман, продолжали в назначенное, освященное традицией, время собираться на свои заседания. Кроме возрождения человеческого рода, Мирман был страстно предан географии, которую изучал, как Реклю, с какими-то широчайшими идеями. Его кабинет и чердак были завалены всевозможными географическими сочинениями. Он и сам что-то писал по этой части или делал доклады, во всяком случае, был известен парижскому ученому миру. Особенно интересовался он Средней Азией и даже составил карту Средней Азии, которая осталась неизданной, но, говорят, представляла единственный в мире экземпляр по основательности и подробности. По случаю своего интереса к Средней Азии он познакомился и с Россией, политикой которой в Средней Азии восторгался до энтузиазма. Нельзя было при нем затронуть Россию какой-нибудь критикой. Он немедленно выступал на защиту и доказывал, что роль России в Средней Азии великая, прогрессивная, неподражаемая.
Что бы ел, во что бы одевался этот превосходный человек без своей жены — трудно сказать. Материальное для него существовало лишь в идеальном виде. Он удивлялся, почему это люди так жадны и хотят непременно все себе присвоить. Он любил хорошие вещи, но довольствовался тем, что ходил по большим бульварам, восхищаясь красотой зданий, богатством выставок. Это его вполне удовлетворяло. «Мне кажется, — говорил он, — что это все мое. Ведь это наше, французское. Мы это сделали. Не понимаю, зачем мне покупать. Мне приятно видеть, каких огромных цен все это стоит, но покупать — это выходит вроде того, что купить у самого себя».
Единственный предмет, изменявший его мнение о безразличности покупки, — это книги. Книг он накупал массу, и все дорогие издания. Это приходилось делать нередко тайком от мадам Мирман, и муж ее даже обманывал, о чем он сам, смеясь, рассказывал. Купит что-нибудь и спрячет, старается, чтобы жена не увидела. Но вдруг как-нибудь она замечает, и тогда мсье Мирман уверяет ее, что это он получил даром от автора или от какого-нибудь ученого общества. Но обман, случалось, обнаруживался, и уже тогда мсье Мирману оставалось только приносить повинную голову.
Мадам Мирман, здоровая, крепкая француженка, для своих лет все еще красивая, представляла полную противоположность мужу, которого, впрочем, добродушно любила и понимала. Она допускала, что можно витать за облаками, но нужно же кому-нибудь заботиться о земном! Практичная, энергичная, настойчивая, она забрала мужа в руки и сумела его утилизировать в земных целях. Она настояла на устройстве у них школы для детей и пансиона для квартирантов. Хозяйничала, конечно, мадам, но муж оказался тоже полезен. Он был хороший учитель, не только по знаниям (очень обширным), но даже имел педагогический такт и выдержку. Так, однажды он заметил Кате: «Вы, вероятно, думаете, мадам, что я не люблю вашего Сашу? Напротив, я охотно бы играл с ним. Но это — система, принцип. Учитель не должен фамильярничать с учеником. Ученик должен чувствовать, что перед ним некоторая высшая сила, которая не равна ему, на которую он должен смотреть с почтением». Учил он хорошо, тем более что это служило целям возрождения рода человеческого. Несмотря на то что в двух шагах от Мирманов находилась даровая правительственная школа, у них училось 50–60 детей, частью у них и живших. Для пансиона Мирман тоже был полезен — не работой какой-нибудь, а самим фактом своего существования. Присутствие этого высокоразвитого и симпатичного человека придавало какой-то особый букет интеллигентности их дому. Это были не банальные «меблированные комнаты со столом», а какое-то общежитие развитых людей. У Мирманов жили исключительно студенты или иностранцы, явившиеся посмотреть западную цивилизацию. Их столовая была салоном, в котором вечно шла беседа — если не просто остроумная, то о всевозможных вопросах политики, науки, общественных дел всего мира. Их коллекция иностранцев была самая разнообразная. Тут бывали русские, сербы, румыны, грузины, даже японцы — все, кто угодно.
Для пансиона такого характера мсье Мирман был прекрасен, что и поняла практичная мадам.
Не помню, сколько было у них собственных детей. Был сын, молодой человек и в то время яростный буланжист. Была дочь, m-lle Jeanne, уже немолоденькая, лет двадцати четырех, но изящная и хорошенькая, казавшаяся моложе своих лет. Она имела большой талант к живописи и порядочно зарабатывала в иллюстрированных изданиях, а картины ее бывали в Салоне, уж не знаю только, покупались ли. Во всяком случае, допускались в Салон. Бедная барышня была влюблена в моего Поля (Павла Маринковича), и у них, очевидно, были объяснения — если не вполне открытые, то, во всяком случае, установившие между ними ту опасную «дружбу», которая так легко должна заканчиваться браком... Мадам Мирман, без сомнения, не могла не замечать этой дружеской интимности. Но, в конце концов, Поль тогда был завидным женихом. Молодец, бойкий, умный, он был сын министра, который хотя и остался за штатом, но все же в качестве государственного советника и имел все шансы снова всплыть. Отец Маринкович был милановец, но в то время Милан еще твердо сидел и его падения не предвиделось.
Сам Павел мне сразу понравился. Он чуть не с пятнадцати лет радикальничал и участвовал в разных демонстрациях. Хохоча, он рассказывал мне, как с толпой демонстрантов кричал перед дворцом: «Долой грабителей!» В числе этих «грабителей» был и его отец, честнейший человек и на ту пору министр. Отец увидел его в толпе и, улыбаясь, погрозил ему пальцем... Отец, вообще, кажется, деспотичный по сильному характеру, на сына не старался влиять насильственно. Он ждал, чтобы тот перебесился, и надеялся на его здравый смысл, со своей стороны давая только наставления своего государственного опыта. Эти расчеты не были обмануты. Поль, искренний и чуткий, скоро начал схватывать какую-то фальшь в «передовых» идеях, а к отцу проникся уважением почти до преклонения. По окончании курса чего-то в Белграде отец отправил Павла в Париж, самый центр революции, и Поль, сначала всюду совавшийся и хорошо познакомившийся со всеми партиями, ко времени знакомства со мной уже был полон насмешливого скептицизма в отношении «крайних»... Преклонялся он еще перед Гамбеттой, это большая храбрость мысли в 1887 году. Со мной он потому и захотел познакомиться, что услыхал о каких-то моих «ересях». Сошлись мы быстро, и под моим влиянием он становился все более независимым от всяких модных теорий. Скоро мы были тесными друзьями, и он вечно толокся у нас, играя с Сашей или болтая со мной и Катей.
Через Поля мы познакомились с Мирманами и несколько месяцев спустя стали посылать Сашу в их школу. Он там был на правах подготовляющегося, сидел в классе, играл с детьми, немного учился и был всеобщим любимцем. Он вообще выравнивался в славного, добродушного и симпатичного ребенка. В школе с m-lle Jeanne, с Полем он шибко выучился по-французски, но с нами продолжал говорить по-русски, так что не было момента, когда бы он говорил по-французски лучше, чем по-русски. Но читать по-русски мы его не учили, а по-французски в школе он выучился. Писать же цифры он выучился отлично и очень оригинально.
Долго он обнаруживал замечательную неспособность к счету. До 20–30 он умел считать, но дальше не понимал, несмотря на объяснения. Писать же цифры умел всего до 9, а 10 уже не понимал. Я не насиловал его понимания, вообще боясь за его больную голову, но в глубине души приходил в отчаяние за эту огромную неспособность, которая как бы подтверждала мои опасения о возможности влияния пережитого менингита на его голову. Но он вдруг выучился сам следующим образом.
Мы с ним делали прогулки огромные, по нескольку часов. К Новому году я ему купил за 5–6 франков крепкую деревянную лошадку на прочных колесах, достаточно большую, чтобы он мог сидеть на ней верхом. Он был в восторге от подарка, который оказался весьма полезен. Мы брали на прогулку эту лошадку. При сплошных парижских асфальтах она могла проезжать целые версты. Когда Саша уставал, он садился на лошадку, а я ее вез за веревочку. Впрочем, мы и без лошадки ходили очень далеко — за город и по городу. Улицы длинные, дома в Париже высокие, но узкие, большей частью в четыре-пять окон, а часто и в два-три. Поэтому номера домов многочисленны и доходят до многих сотен. Как-то на Сашу напала охота спрашивать меня, какие номера домов, мимо которых мы проходили, и он этим так увлекся, что на прогулках даже надоедал мне. Не обращает внимания ни на что, кроме номеров, и каждую минуту спрашивает: «А это как?» — «Ну шестнадцать». — «А это?» — «Семнадцать». — «А это?» — «Восемнадцать» — и так далее, до десятков и сотен. Не помню, сколько времени это продолжалось. С перерывами — с месяц, конечно. Потом в один прекрасный день он меня удивил. Вдруг смотрит на случайный номер дома и говорит: «Ты мне не говори, я сам узнаю» — и назвал номер совершенно верно; потом другой, третий, вразбивку, и все верно, а сам радуется, по своему обыкновению, закрывает лицо руками и говорит: «Я теперь все номера понял, все цифры». И действительно, оказалось, что он может считать до бесконечности, только спрашивая названия «миллиона», «биллиона» и так далее, а писать — по порядку, если не бесконечно, то очень много, больше тысячи, но только по порядку. Когда он сделал это великое открытие, оно его так увлекло, что он стал буквально «засчитываться». Вместо игры начинает вдруг считать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее, до сотен, тысяч, до полной усталости, так что приходилось прибегать к запрещению, и строгому, чтобы остановить, наконец, этот бесконечный счет...
Русский иезуит
Мне не раз приходило в голову воспользоваться пребыванием в Париже и повидать отца Мартынова (в миру Иван Михайлович), pere Martinoff. {165} Бывший русский радикал, рожденный кружком Герцена, скомпрометированный политически, он эмигрировал за границу, и тут с ним произошел странный переворот. Он принял католичество и вступил в орден иезуитов. С этих пор прошло уже тогда лет двадцать, но reverend pere Martinoff (преподобный отец Мартынов) был жив и усердно работал для римско-католической пропаганды. Меня интриговало: что может психологически представлять человек с такой странной биографией? Но казалось неловко ни с того ни с сего явиться к нему, да я и не знал, где его искать, может быть, он живет скрытно, потому что орден иезуитов был запрещен французской республикой...
Однажды в книжной лавке Альбера Савина на rue Drouot я разговаривал со служащими о том о сем и как-то случайно упомянул о Мартынове. Издатель Альбер Савин, мой приятель, был католиком — catholique pratiquant, то есть церковный, соблюдающий обряды и таинства. Он поэтому хорошо знал католический мир Парижа.
— Вы интересуетесь соотечественником? — спросил Савин.
— Не то что соотечественником, а такой оригинальной личностью. С удовольствием повидал бы его.
— Так отчего же вы не сходите? Он охотно принимает русских.
Я стал расспрашивать. Оказалось, что он живет на rue Bonoparte, в иезуитском монастыре.
— Но ведь, — говорю, — орден иезуитов изгнан из Франции.
— Да, конечно. Но дом считается принадлежащим графу X (забыл имя), а отцы иезуиты проживают как частные лица у него на квартирах. Так это поставлено официально вследствие декрета об изгнании.
Вот что значит глубоко провести в законе принцип прав человека и гражданина! Оказывается, что грозный декрет остался фактически почти обессилен. Он мог уничтожить только «публичное свидетельство» ордена.
Я расспросил, в какое время, по соображениям Савина, можно быть принятым у отца Мартынова, и очень скоро отправился на rue Bonoparte.
Огромный дом монастыря имел только один вход, по крайней мере заметный, скорее ворота, чем дверь. Массивные ворота были заперты. Я позвонил. Скоро привратник приотворил дверь, спросил, что нужно. Я объяснил, что желаю видеть reverend pere Martinoff.
«Я пойду спрошу, может ли он вас принять. Позвольте вашу карточку».
Он ушел, заперев ворота, и оставил меня на улице. Ждать пришлось довольно долго. Может быть, понадобилось спрашивать не одного Мартынова, а и настоятеля. Наконец ворота растворились: «Пожалуйте».
Меня повели к отцу Мартынову какими-то переходами, которые мне показались бесконечно длинными, с поворотами направо и налево. Под конец пошли широким, светлым коридором, стена которого была сплошь уставлена сверху донизу книгами. Это была громадная библиотека, и мне думалось, проходя эти книжные сокровища: «Вот как отцы иезуиты дают своим людям работать. Нет, должно быть, никаких пособий, которых бы тут не находилось». Но впереди меня ждало удивление еще посильнее. Мы дошли наконец до какой-то комнаты. Дверь отворилась: «Reverend pere здесь. Можете войти».
Я вошел в огромную комнату, скорее залу, очень светлую, наполненную книгами. Все стены до потолка уставлены полками с книгами. Даже и посредине залы местами возвышались книжные шкафы и полки. Там и сям расставлены были столы. За одним из них сидел Мартынов, который встал и пошел ко мне навстречу. Кроме него, в зале никого не было.
Мы представились друг другу. Отец Мартынов был почтенный старец с умным и спокойным лицом. Двигался он быстро, и в течение разговора раза два легко взбирался по лесенкам, чтобы достать нужную книгу, вообще был совершенно бодр. Говорил также голосом свежим и скорее громким, особенно когда увлекался.
Разговор завязался, конечно, очень легки. Ею интересовала Россия, меня — религиозное положение Франции. Во избежание недоразумений я сразу оговорился, что я православный, хотя и не особенно горячий, и религиозным положением интересуюсь больше с общественной точки зрения. Мне хотелось предотвратить попытки окатоличивать меня. Он махнул рукой: «О, это совершенно все равно. Это дело личное». Говорили мы, конечно, по-русски, и он превосходно владел родным языком, даже не примешивал французских выражений.
Я скоро увидел, что он и всю жизнь русскую знал прекрасно, в том числе все тонкости литературных и общественных направлений. Я сначала воображал сообщить ему некоторые новости, но оказалось, что он их знает лучше меня и даже читал литературные произведения, мне еще не известные. Вообще, этот человек, двадцать лет не видавший родины, мог показаться только что приехавшим из Петербурга. Некоторые книги, мне еще не известные, он показывал мне, снимая их с полок.
Не говорю уже о его специальности. Он в это время работал над историей Кирилла и Мефодия, доказывая, что Византия совершенно напрасно присваивает себе славу просвещения славян, так как оба знаменитых миссионера принадлежали к римской Церкви и действовали по ее указаниям. Конечно, я старался уклониться от этого вопроса, так как меня занимали совершенно другие.
Очень осторожно я коснулся факта его перехода в католицизм и присоединения к иезуитскому ордену. Но он как будто даже рад был высказаться и пошел в своих объяснениях гораздо дальше, чем я мог ожидать. Говорил он сначала с досадой, как будто заподозрив в моих словах скрытый упрек, а затем уже продолжал совершенно спокойно, прочувствованным тоном. Но в первый момент он как бы сорвался: «Да, как же, удивляются многие, что человек мог присоединиться к ордену. Ведь иезуиты такие злодеи, безнравственные, цель оправдывает средства! Да ведь все это говорят люди ничего не знающие, об иезуитах не имеющие понятия. Ведь все это вздор и клевета. Иезуиты — очень хорошие люди и делают доброе дело, и ничего безнравственного нет у них». Впрочем, он не вошел ни в какие подробности о действительной жизни своего ордена, хотя я старался его привлечь к этой теме. Я заговорил о том, что читаю теперь книгу Кретино-Жоли «Жизнь святого Игнатия» (Лойолы), и спросил его мнения об этом сочинении, считающемся капитальным. Но и это не помогло. Мартынов ответил о книге с разными оговорками, а об авторе даже с некоторой снисходительной улыбкой, в таких словах, которые, если их резко выразить, означали бы, что Кретино-Жоли глуп.
Об иезуитах он все-таки не стал распространяться, а заговорил о православии и римском католицизме, не касаясь никаких догматов, а обрисовывая только саму жизнь верой.
«Что такое я был в России, во что веровал? Меня посылали в церковь, я исполнял разные обряды, но все это было чисто формально. Никакого живого чувства не было. Сравнивая католицизм и православие, нужно говорить не об обряде. Православный обряд, пожалуй, даже лучше, более трогателен, чем римско-католический. Но у нас в России не живут религией. Перебирая, что у меня тогда было на душе, я не нахожу ничего религиозного. О Боге я и понятия не имел, не было и мысли о какой-либо религиозной жизни. Нельзя даже сказать, чтобы, покидая православие, я от чего-нибудь отказался: не от чего бы и отказываться. Так я попал за границу — и тут, слава Богу, встретился с иезуитами. Вы вот браните иезуитов. А я им всем обязан. Они мне открыли Бога, дали веру, я им обязан всей своей духовной жизнью. И поверьте, что у вас только оклеветывают иезуитов. Они хорошие люди. Ничего они не делают из тех гадостей, в которых их обвиняют».
Отец Мартынов говорил это тихо, задушевно, с оттенком грусти. Я не расспрашивал его, какими же путями иезуиты дали ему веру. Мне казалось, что он об этих интимностях не хочет распространяться. Да, в общем, я кое-что и без него знал.
Сила римского католицизма — в деятельном характере веры и в постоянном руководстве совести. В православии такое руководство отдельной личности дает почти исключительно так называемое старчество. Беседа со старцем это не то что таинство исповеди, дающее отпущение грехов, — это есть средство получить руководство для своей совести. Старцу открывают всю свою душу и выслушивают его оценки ее движений, его советы по поводу них, его иногда категорические приказания не делать чего-либо или делать. Обычный приходский священник такой роли не играет. Он является «духовником» только при таинстве исповеди. У римо-католиков каждый настоятель прихода является более или менее старцем. Он не только орган отпущения грехов, он — «directeur de conscience» (духовный наставник). В свою очередь, и духовенство также иерархически дисциплинированно и получает руководство свыше. Это непосредственное воздействие, конечно, чрезвычайно усиливает римско-католическую дисциплину. А она направляет и каждого в отдельности, и всех вместе на разную крупную и мелкую деятельность, которая в общем состоит в том, чтобы поддерживать Вселенскую Церковь. Конечно, сознание того, что он не пассивный член Церкви, а более или менее активный, что его существование имеет для нее значение, — это сознание придает как бы смысл религиозной жизни. В этом отношении огромное значение имеет то, что называется светской властью римского папы. Эту идею понимают у нас не совсем правильно. Суть дела не в том, что папа имеет светскую власть над другими, а в том, что он не есть подданный какого бы то ни было государства, независим от какой бы то ни было светской власти. И вот этот ни от кого не зависимый первосвященник является высшим главой всех национальных церквей; понятно, что, подчиняясь ему, они становятся менее зависимы от своих государственных властей. А эта независимость папы введена в принцип, поставлена в связи с престолом апостола Петра, с наместничеством у Самого Христа.
О власти и положении папы, тогда уже, конечно, лишенного даже Рима, мы говорили и с отцом Мартыновым. Папа, предавший отлучению и короля итальянского, и всех причастных отнятию у него Рима, находился в положении «ватиканского пленника», собственно говоря — добровольного. Никто ему не мешал выходить в Рим и куда угодно. Но он не хотел ступить ногой на анафематствованную землю и не выходил из принадлежащего ему оазиса — Ватикана с собором Святого Петра. Этот крохотный клочок земли все еще принадлежал ему, как государю. Сюда не имела доступа юрисдикция итальянского королевства. Здесь папа был монарх и имел даже свое псевдовойско — «папскую гвардию». Никто его по итальянскому закону не мог здесь тронуть. Но разумеется, эта независимость была крайне непрочна. Итальянскому правительству стоило только объявить войну Ватиканскому государству — и не нужно было даже орудийных выстрелов, достаточно было роты солдат, чтобы захватить папу. Я спрашивал отца Мартынова, не выгоднее ли было бы для святейшего отца принять гостеприимство какого-либо другого государства? В то время ему предлагала это Бразилия, где еще была Империя. Да нашлись бы и другие страны. Но отец Мартынов живо протестовал: «Нет, вы просто не знаете этого вопроса. Римский папа должен иметь резиденцию в Риме. Этого нельзя изменить». Конечно, как ни микроскопичен Ватикан, папа был здесь все-таки у себя, в своем собственном государстве. Во всяком другом государстве он жил бы на чужой земле. Да сверх того, он был римский епископ, он был преемник апостола Петра и, покидая римский престол, становился бы беглецом, эмигрантом. Отец Мартынов умалчивал об этом, но у него, конечно, была мысль, как и у каждого: где такая страна, в которой бы не было восстания против веры и Церкви и где, следовательно, материальная независимость папы могла бы быть прочно гарантирована? Давно ли Франция с оружием в руках защищала римские владения папы — а теперь она стала изгонять иезуитов, захватывать храмы, была накануне лаицизации школ и т. д.
Когда я обратил внимание отца Мартынова на то обстоятельство, что римский католицизм, умеющий, как он говорил, дать человеку Бога и религиозную жизнь, все-таки не мог удержать власти над народами, мой собеседник сохранил свой ясный и спокойный вид. Он заметил, что Церковь во многих отношениях стала даже гораздо сильнее. Я и о Париже не должен судить только по тем массам людей, которые восстают против веры, Бога и Церкви. В этом гигантском центре есть все: есть множество людей испорченных, но есть множество и очень хороших, верующих и помогающих Церкви. Сами преследования имели много благих последствий. Нечего греха таить, во времена покровительства, при Наполеоне, духовенство очень распустилось и опустилось. В его рядах завелось много людей, искавших только легкой, удобной жизни, не имевших ни горячей веры, ни желания жить для нее. Гонения все это уже изменили. Выдвигаются и подбираются люди горячие, убежденные, крепко стоящие каждый на своем посту, дисциплина везде поднялась, и это повышенное действие Церкви отзывается таким же подъемом духа в массе верующих.
Нужно сказать, что все это я и сам несколько замечал. Гонения против римско-католической Церкви привлекали к ней и тех, которые прежде были противниками ее.
Католики даже переоценивали свои силы, а Дрюмон выражал мне уверенность, что в случае социальной революции власть в конце концов достанется Церкви.
Отец Мартынов не выражал таких сангвинических надежд и довольствовался спокойным сознанием того, что его Церковь живет, и действует, и получает успехи, когда этого заслуживает. Я уходил от него, невольно поддаваясь его настроению, и мне казалось, что он действительно нашел на чужбине крепкую религиозную жизнь, которой не умела ему дать родная земля.
Встреча с В. С. Соловьевым
Я не пишу собственно воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве, так как настоящего знакомства с ним не имел. Но раз мне пришлось столкнуться с ним, в 1889 году, и тот разговор, который мы имели, осветил для меня его личность, хотя и не сразу, настолько ярко, что отметить это, кажется, может быть небезлюбопытным.
Несмотря на уже громкую известность, В. С. Соловьев как философ меня тогда мало занимал, и его произведения я знал очень поверхностно. Но меня он интересовал и возбуждал во мне антипатию своей горячей защитой римского католицизма. Как раз в 1889 году вышла его книга «La Russie et l'Eglise Universelle» («Россия и Вселенская Церковь»), которую мне очень хотелось с этой точки зрения прочитать. Но она была запрещена цензурой, и я как-то при встрече с В. Ф. Орловым жаловался на это досадное обстоятельство. А Орлов был знаком с Соловьевым и даже вообще очень его хвалил.
— Да он тебе даст книгу. Попроси у него.
— Неловко. Я ведь, пожалуй, буду писать против него.
— Ничего не значит, он даст.
Я попросил Орлова разузнать, одолжит ли Соловьев мне свою книгу, и через несколько дней он принес ответ, что Владимир Сергеевич просит меня зайти и взять книгу. Проще было бы передать ее через Орлова, но Соловьев, очевидно, хотел создать повод для знакомства. Мне со своей стороны, конечно, тоже было интересно лично повидать эту тогдашнюю знаменитость. Орлов вызвался проводить меня и представить друг другу.
Не помню, где тогда жил Соловьев, но довольно большая комната, в которой он нас принял, имела вид изящного кабинета. Красиво, удобно, хорошая мебель. Сам хозяин годился бы и для гораздо более роскошной и артистической обстановки. Он был интеллигентно-изящен и красив. Высокий, худой и довольно стройный, Владимир Сергеевич сразу поражал своей физиономией. Ничего более своеобразного нельзя себе представить. В каждой черте ее так и светилась одухотворенная красота мысли. Это лицо не было весело и, наоборот, как будто несло тяжесть серьезных дум, но было ласково. Особенное своеобразие и таинственность придавали ему глаза. Они были глубоко запрятаны во впадинах, занавешенных густыми, длинными бровями, и выглядывали оттуда как будто со дна каких-то норок. Таких странных глаз, вероятно, не было ни у кого на свете, и они делали все выражение лица загадочным и мистическим. Эти глаза, впрочем, годились бы скорее какому-нибудь магу, чем пророку, они и пугали, и привлекали, и придавали худому, проникнутому думой лицу характер чего-то «нездешнего».
Владимир Сергеевич встретил меня очень радушно, сказал, что охотно даст книгу, что очень рад познакомиться, и у нас быстро завязался оживленный разговор. Хозяин даже предложил стакан вина, которое было очень хорошо, но которого мне нельзя было пить. Орлов вступался в разговор только слегка, видимо, желая предоставить нам получше между собою ознакомиться, а скоро и совсем ушел. Таким образом, я провел с Соловьевым добрых часа два совсем с глазу на глаз в самой разнообразной беседе.
Она мимоходом коснулась множества предметов, хотя у нас была одна основная тема, по поводу которой я и пришел, — то есть об истинной Церкви. Но к ней нельзя было приступить, пока я не прочел «La Russie et l'Eglise Universelle». Поэтому пришлось по преимуществу вращаться в круге ближайших к ней вопросов — об отношении человека к Богу и о смысле личной и мировой жизни. Воспроизвести подробно этот разговор тридцать лет спустя, разумеется, невозможно, но воспоминания о том, что высказывал Соловьев и даже о чем он умалчивал, весьма помогли потом разобраться в его сложной личности.
Говорил он очень хорошо и умно. Но меня неприятно поразила его несокрушаемая уверенность, что он во всем прав. Ни разу он не принял ни единого моего мнения, если оно расходилось с его мнением, даже в отношении того, что я, вне сомнения, знал лучше него, как в экономике и социальных вопросах. В нем не было заметно какого-нибудь высокомерия, не заметно было, чтобы он считал себя выше собеседника, — ничуть! Но прав — всегда он. И он упорнейше отстаивал свое мнение, иногда очень сильно, а за неимением лучшего — чуть не игрой слов. Невольно напрашивалось слово «софист». Но этого мало. Когда речь подходила к заключению, которого он не мог отвергнуть и которого видимо не желал принять, он, как мне казалось, ловко увиливал от вопроса, искусно переводил речь на другое и топил в новой теме то, о чем говорили раньше, вследствие чего оно так и оставалось недоговоренным. Я и с досадой, и с грустью смотрел на эти, как мне казалось, «фокусы» адвоката.
Так, например, мне хотелось подготовить почву для сравнения духа римско-католического и восточного православия. У нас, естественно, зашла речь об отношениях Бога к человеку и обратно, и системой вопросов мне удалось привести Соловьева к согласию с тем, что основу этих отношений составляет любовь. Достигнув этого, я рассчитывал доказать, что эту основу на Востоке поняли глубже, чем в Риме. Что же делает Соловьев? Он вдруг заговорил об элементах любви и распространился очень интересно о различии их, так что иные мыслители считают существо любви стремлением к обладанию любимым предметом, а другие сводят ее к стремлению подчиниться ему. С какой же точки зрения мы должны подойти к религиозной любви? Я об этих тонкостях тогда совсем не думал. Теперь я бы сумел ему сказать, что основу любви составляет стремление к единению; что касается обладания и подчинения — это только формы стремления к единению, зависящие от свойств единящихся субъектов. Это бы нас быстро возвратило к прямому предмету разговора. Но тогда он меня совершенно сбил с толку своей диверсией, а сам, наговоривши очень много, точно так же не подумал сделать никаких выводов, и в результате получилось только то, что сравнение Запада и Востока кануло в воду. Речь пошла о чем-то другом. Этот способ уклоняться от нежелательных вопросов во мне возбудил крайне неблагоприятное для Соловьева чувство, и его стратегемы были тем неприятнее, что производились с видом искренности и прямодушия. «Софист, у иезуитов научился фокусам», — думалось мне, и я даже высказывал такое мнение о нем.
Так вот теперь я должен сказать, что в этом я ошибался. Разгадка Соловьева не в том, чтобы он был иезуит и софист. Его вид искренности и прямодушия не был обманчивой внешностью.
По мере того как я лучше знакомился с произведениями Соловьева и сам он сильнее выявлял себя в слове и в жизни, мое мнение о нем изменялось. Последним же ключом, открывшим мне его душу, было просто стихотворение, как будто небрежно брошенное, но о котором он сам сказал, что в нем отмечено «самое значительное, что было в его жизни». И я в конце концов понял, что В. С. Соловьев по глубочайшему существу своему не ученый, а мистик. В своем самосознании он был не просто философ или общественный деятель. Он был пророк с высшей провиденциальной миссией. Уже в детстве явилась ему какая-то Божественная Сила (может быть, «София-Премудрость», занявшая видное место в его философии). Что это за Личность — он не открыл. «Подруга вечная, тебя не назову я», — сказал он. Но эта Божественная Сила отвлекла ребенка от юношеских увлечений, помогала ему в философских трудах, в египетской пустыне, в мистическом созерцании, показала единение всего мирового бытия, всего, что было, есть и будет. Она определила всю его жизнь, и не от своего ума он говорил, а был пророк, орудие Высшей Силы.
Ему свыше дана была миссия открыть людям близящиеся их судьбы и для подготовки этих судеб объединить в высшем синтезе всю разъединенную работу человечества. Для этого истина открывалась Соловьеву по мере надобности, и то, что назревало в его мысли, было всегда истинно, потому что создавалось не ошибающимся человеческим умом, а внушалось свыше. Когда от него требовали доказательств справедливости его слов, он доказывал всеми способами, какие почерпал внутри себя, и эти доказательства тоже были не его, а внушались свыше. Если даже они по внешности казались софистическими, то Соловьев их не считал такими. Если он не мог ответить прямо на вопрос, то это значило лишь то, что ответ ему еще не открыт. Как солнце в малой капле воды, это пророческое настроение Соловьева отражалось в нашем относительно незначащем разговоре.
Почему он свернул по вопросу о любви на вопрос об обладании и подчинении? Почему не сделал никаких из этого выводов? Значит, чувствовал, что нельзя подойти без этого к вопросу о любви, а выводы не были еще открыты. Может быть, у него при этом шевелились идеи гностиков и каббалистов, но не было уверенности, что можно стать на их точку зрения. Раскрыть же свое пророческое инкогнито, сказать прямо: «не открыто» — ему возбраняла та же Высшая Сила. Он сказал мне то, что было на душе, и не стал говорить о том, чего еще не было.
Вся разгадка его состоит в том, что он в своем самосознании был пророком. Даже и самоуверенность его, конечно, истекала из веры в реальность своей божественной миссии, то есть из веры в истину Божественного внушения.
С таким взглядом на Соловьева я вспоминаю теперь совсем иначе различные подробности нашего разговора.
Понимание и ощущение у него мистически сливались, и в этом сложном самосознании ему была предназначена миссия христианского синтеза всего человеческого искания истины. Такая миссия ставила его выше вероисповедного догматизма. Он не был исключительно ни православным, ни римским католиком, ни протестантом: христианская истина у всех них. Но истина открывается даже вне их, вдохновением и благодатью Бога. Бог дает даже неверующим практическую благодать для выполнения предначертаний Промысла. Истины нет только там, где восстает антихрист — человеко-бог, становящийся на место Богочеловека. Синтез всей благодатной человеческой работы для того и нужен, чтобы все истинно человеческое отделилось от антихристовского для приближающегося Царствия Божия, которое Соловьев, конечно, понимал хилиастически, в смысле земного царствия Христа, и, без сомнения, не представлял в ясных формах. Но он собирал силы человечества для этого Царствия Божьего, и в этом, по его самосознанию, был весь смысл его жизни.
В нашем разговоре поэтому большое место занял вопрос о «грехе» и «спасении», и в этом отношении Соловьев, как и во многих других случаях, явно обнаруживал наклонность ко взглядам еретическим, нецерковным. Не знаю, верил ли он в вечность загробных мучений, но к спасению относился очень оптимистически. Тут мы тогда сильно расходились. Для меня свободная наклонность человека ко греху представлялась очень грозной. Соловьева же, по-видимому, успокаивала мысль, что к спасению ведет Промысл Божий. Не знаю только, как совместить с этим оптимизмом его страх перед антихристом.
Вопрос же об антихристе озабочивал его уже и тогда. На эту тему наш разговор перешел очень скоро. Соловьев особенно искал, откуда может зародиться антихрист. Я указывал, что порождать его могут сами социальные условия, в которых все сильнее развивается решимость людей устраиваться без Бога, помимо Его указаний, а самостоятельно, по мысли и желанию самого человека. Но Соловьев отвергал это. Он был довольно поверхностно знаком с вопросами экономическо-социальными и не сознавал силы экономических отношений. Возможности социального переворота он, мне кажется, совсем не представлял, считая, что социальные условия жизни пребудут незыблемыми до конца веков. Поэтому он и не допускал развития идеи антихриста из этого источника.
Он развивал ту мысль, что даже и в социализме вырастает значение общества, коллективности, а противоположение Христу, то есть антихрист, может явиться только в личности. Поэтому антихрист зарождается там, где является идея человекобога, естественно упраздняющего Богочеловека. На эту тему он тогда, в 1890 году, писал отчасти и в «Русском обозрении» («Китай и Европа»). Китая он очень боялся. Идею человекобога, говорил он, выдвигает буддизм, ставший национальным верованием Китая. И потому-то Соловьев боялся Дальнего Востока каким-то мистическим страхом. Конечно, дело не в том, чтобы антихрист оказался по племени китайцем или японцем, а в том, что его породят дальневосточные, буддийские влияния. Эти идеи, впоследствии выраженные в «Трех разговорах» («Краткая повесть о пришествии антихриста»), владели Соловьевым уже в 1889–1890 годах.
На антихристе мы с ним и расстались. Надо было когда-нибудь уходить. Он дал мне свою книгу, и мы простились с обещаниями снова потолковать, когда я ее прочту.
Однако этому намерению не суждено было исполниться. Когда я прочитал «La Russie et l'Eglise Universelle», она меня буквально взбесила. Я обратил очень мало внимания на ее философскую часть, но то, что он говорит о Восточной Церкви, и в частности о русской, меня глубоко оскорбило. Это даже не критика, а какой-то памфлет. Я и теперь скажу, что Соловьев не соблюл в отношении русской Церкви даже самой минимальной справедливости. Тогда же я был возмущен до последней степени, особенно в соединении с впечатлениями о Соловьеве как софисте и человеке обыезуитившемся. В результате я отослал ему книгу с посыльным, при записке, в которой резко и даже невежливо заявил, что не считаю нужным после такой книги вести никаких дальнейших разговоров.
Соловьев моментально ответил краткой запиской, в которой выразил, что не теряет надежды поговорить со мной, когда я получше разберусь в вопросе, — что-то в этом роде. Разумеется, это меня еще более разозлило, потому что смахивало на дерзость. Однако Соловьев как будто оставлял какой-то мостик для нового свидания. В постскриптуме он сообщал мне, что кто-то забыл у него зонтик, и если это мой, то я могу зайти и получить его. Но я никакого зонтика не оставлял у него.
Что касается Соловьева, он в отношении меня, кажется, сохранил благодушие. В разговоре с Орловым о нашей беседе он заметил только (но поводу вопроса о спасении): «Тихомиров имеет такой вид, как будто уже до половины туловища провалился в адские будни». Эта шутка попадала в цель очень метко, потому что я тогда действительно не имел и тени его оптимизма в отношении спасения.
Теперь, вспоминая нашу встречу, не могу не пожалеть, что не сохранил большего спокойствия. Следовало бы все-таки пойти и потолковать еще. Тогда я, конечно, понял бы его личность гораздо раньше и не хранил бы в сердце несправедливой антипатии к этому «пророку», который если и ошибался в представлении своей земной миссии, то во всяком случае был человеком искренним и добросовестным. Пророком я его, конечно, не признаю, хотя его предощущения конца веков очень характеристичны и произвели на умы впечатление некоторого memento mori. Но его синтезирующую работу, предпринятую под влиянием этого предощущения, я не нахожу удачной и полагаю, что по такому всеобъемлющему плану она даже и по существу неправильна. Задаваясь этим всеобъемлющим синтезом, В. С. Соловьев достиг лишь того, что подчинился влияниям платонизма, гнозиса, каббалы и индуизма. Но говорить об этом не место в кратком воспоминании о мимолетной встрече, и я ограничиваюсь отметкой лишь того, как мне представляется самосознание покойного мистика-философа.
Бродячий проповедник
Кто теперь знает что-нибудь о Владимире Федоровиче Орлове? Даже среди хороших знатоков истории русской интеллигенции вряд ли один из сотни слыхал о нем. А между тем в 80-х и 90-х годах прошлого века это был один из известнейших и популярнейших людей, и, конечно, многие, о нем никогда не слыхавшие, носят в душе кое-какие отпрыски семян, которые этот неутомимый бродячий проповедник разбрасывал направо и налево, благовременно и безвременно. Но он ничего (или почти ничего) не писал, он не создал никакой программы, не организовал никакого кружка, и вот через двадцать лет по смерти потомство не имеет никакого представления об этой своеобразной личности, не знает даже о самом существовании его на свете. А между тем он оказывал на окружающих большое влияние.
Люди, оставляющие по себе след в умах и чувствах своего народа, представляют два типа: одни создают формулу, программу, систему, другие образуют вокруг себя душевное настроение. Первых, оставляющих после себя некоторое документальное наследство, естественно, помнят лучше и дольше, чем созидателей душевных настроений или, точнее, состояний.
Владимир Федорович Орлов принадлежал к типу созидателей душевных состояний. Он глубоко влиял при непосредственном соприкосновении, а по смерти становится неощутим до полного забвения о нем.
Я его знавал хорошо и много лет, но биографии его никогда не знал сносно. Не знаю даже, где и когда он родился. Умер же 18 марта 1898 года, уже седовласым старцем, отцом взрослых детей. Родом он был сын сельского священника какой-то центральной великорусской губернии. Отца своего он считал выдающейся личностью. Его хорошо характеризует смерть его, о которой мне пришлось слышать от самого Владимира Федоровича.
Отец был типом великорусского домовладыки, устроителя всей окружающей среды, но дух времени оказался сильнее его, и он не мог уберечь сына от «нигилизма». Сын не только не захотел идти по стопам отца — в духовное звание, но сделался отрицателем и революционером. Вряд ли он и сам мог бы сказать, утратил ли безусловно веру в Бога, но в обычном церковном смысле отошел от веры. В политическом отношении он с юности стал революционером.
Между прочим, он был личным другом знаменитого Сергея Геннадьевича Нечаева и действовал вместе с ним. Кстати заметить, Орлов впоследствии говорил мне как факт, что Нечаев был человеком, верующим в Бога. В том кружке, из которого Нечаев выращивал центр будущей организации (Прыжова, Кузнецова и другие), Орлов не состоял и к убийству Иванова никакого касательства не имел. Его трудненько было бы засадить в члены безответно дисциплинированного кружка, который Нечаев думал сплотить коллективным убийством Иванова, обвиненного им якобы шпионом. Но лично с Нечаевым Орлов был, вероятно, ближе, чем члены этого кружка, да у. содействовал его революционным делам, может быть, посильнее их.
Таким образом, он погрузился в революционные дела и от дома совсем отбился, хотя жил все-таки при семье. Отец смотрел на все это с полнейшим порицанием, старался «образумить» сына, но не прогонял его от себя. Однако у них, конечно, явилось некоторое внутреннее отчуждение, и отец даже не называл его иначе как по фамилии: «Где Орлов? Приехал ли Орлов?» Это значило: Владимир... А Владимир действительно постоянно пропадал в революционных отлучках.
Однажды, возвращаясь из такой отлучки в родное село, он застал там нечто необычное. Была уже глубокая ночь, но во всех избах светились огни, а на церковной колокольне раздавался протяженный звон. По улицам со всех сторон крестьяне направлялись к дому священника. «Что у нас тут делается?» — спросил Орлов. Ему объяснили, что батюшка собирается помирать и сзывает всех на последнее прощание. Старик не был болен, но почувствовал себя слабым и даже лежал на кровати. Владимир Орлов побежал домой. Там у дверей и в передних комнатах толпился народ, но к батюшке пускали по очереди, по его зову. Не пустили к отцу и Владимира Федоровича. Оказалось, умирающий принимал по очереди: сначала тех, с которыми были дела по хозяйству — церковному, домашнему или по какой-либо особой надобности. Старик передал старосте и причту распоряжения по церковному имуществу и работам, своим родным — по домашнему и сельскому хозяйству, затем стал вызывать крестьян, у которых были к нему дела духовные или хозяйственные. Потом спросил: «А где Орлов?» Позвали Владимира Федоровича. Старик сделал ему последние наставления, просил размыслить о своих ратных убеждениях, увещевал пуще всего не позабыть Бога и жить честным человеком. Затем он благословил его и стал прощаться со всеми домашними, наставляя всех, утешая и благословляя. Наконец потянулась длинная вереница прихожан. Все прощались с умирающим, принимая от него последнее благословение.
Когда все было окончено, старик приобщился — и умер тихо, просто, поистине «отошел» в иную жизнь. У Владимира осталось навсегда глубокое впечатление от этой «безболезненной, непостыдной, мирной» кончины.
Разумеется, Орлов не отстал от своих революционных взглядов еще очень долго. Он, кажется, и судился по нечаевскому делу, во всяком случае, потерпел административные кары. Я не знаю хорошенько этого периода его жизни, познакомился с ним гораздо позднее, в 1889 году, после моего возвращения из-за границы. В это время в Москве находился по каким-то делам Виктор Васильевич Еропкин, недавно основавший коммунистическую общину около Береговой станицы в нынешней Черноморской губернии. Это был тоже достопримечательный человек, о котором стоит рассказать. Он мне предложил познакомиться с Орловым, которого имя я тогда впервые услыхал; интересуясь тогдашними русскими направлениями, охотно согласился на предложение Еропкина.
Мы отправились вместе к Орлову. Он был в Москве проездом и жил в меблированных комнатах в Домниковском переулке. В это время он уже был не нигилистом и не революционером, но горячим христианином-философом. По профессии своей он состоял сельским учителем в земской школе.
Пришли к нему. В комнате, довольно обширной, грязной, в полном беспорядке, при скудном керосинном освещении заседал Орлов с двумя-тремя приятелями и что-то ораторствовал. На столе стоял неизбежный самовар и какая-то дрянная закуска — колбаса, помнится. Несколько позднее появилась не менее неизбежная бутылка водки, Владимир Федорович весьма любил выпить. Нужно сказать вообще, что в 70-х и 80-х годах, да и в 90-х, пили страшно много. Впоследствии, в XX веке, привычка пить стала исчезать, явилось некоторое стремление к трезвости, сравнительно, конечно: так, начало считаться неприличным быть совершенно пьяным. В последние десятилетия XIX века, наоборот, как будто щеголяли кутежами и пьянством, Владимира Орлова я никогда не видал буквально пьяным, но «выпивши» он был очень часто, а просто «выпивал», можно сказать, постоянно: и за едой, и с друзьями, и при горячем разговоре, для возбуждения нервов, хотя не был даже и навеселе. Когда мы с Еропкиным присели к компании, разговор скоро принял характер отчасти религиозный, а скорее мистически-философский. Говорил больше всего Орлов, с чрезвычайным одушевлением, особенно после одной-двух рюмочек водки. Он говорил легко, красноречиво, увлекательно, действуя на слушателей чрезвычайной искренностью; видно было, что он переживал или переживает каждую выражаемую мысль, каждое произносимое слово. Это был редкий проповедник. Много убедительности словам прибавляла и его наружность.
Он был высокий, стройный человек с живыми серыми глазами, истинный тип великорусской красоты — «ярославской», с правильными чертами лица, роскошными, хотя уже седеющими кудрями и большой бородой. Лицо у него было очень умное, воодушевленное, вечно как бы вдохновленное. .С него хорошо бы писать апостола на проповеди. Понятно, что не всегда он проповедовал, но воодушевленно-серьезен оставался, можно сказать, всегда и смеялся чрезвычайно редко. Таким он стоит перед моими глазами, таким остался до самой смерти, когда уже был совсем седой, но с теми же прекрасными чертами лица, вдумчиво воодушевленными.
Не помню хорошо этого первого разговора Орлова, скоро вскочившего со стула и державшего речь стоя, сопровождая слова жестами, выходившими у него энергически-изящными. Смутно припоминаю одну часть разговора, в которой Орлов коснулся любви к женщине, разбирая в ней элемент духовный и элемент чувственный, с какой-то грустью отмечая силу последнего и способность его заглушать элемент чувства духовного. Но с точностью и полностью не могу восстановить в памяти мысли Орлова.
Примерно через год я встретил его второй раз — в Новороссийске, где он стал нередко меня навещать. В Черноморскую губернию он попал по особому случаю. Какой-то богач, кажется Сибиряков (а может быть, Хлудов, хотя вряд ли), основал где-то, может быть в Туапсе, широко задуманную школу с правами среднего учебного заведения и пригласил Орлова директором школы. Предложение было блестящее — Орлов жил постоянно в бедности, имея уже довольно большую семью: жену, Александру Гавриловну, и четверых детей. В школе Сибирякова директор получал несколько тысяч рублей, да и сама должность казалась совсем по склонностям и призванию Орлова. Новороссийск, довольно еще жалкий в то время, был все-таки «столицей» края, и Владимиру Федоровичу приходилось наезжать в город. Мы виделись с ним едва ли не каждый раз и довольно близко сошлись. Это было единственное время жизни Владимира Федоровича, когда его семья благоденствовала в материальном отношении. Сам он усердно занимался школой, но по своей активной и, прямо сказать, бродячей натуре скоро вызнал все Черноморское побережье гораздо лучше меня и рассказывал мне много интересного. Особенно увлекался он Ново-Афонским монастырем, в котором настоятельствовал отец Иероним.
Возник монастырь таким способом. На Старом Афоне в среде иноков русского Пантелеймоновского монастыря возникла мысль отправить колонию в Америку с миссионерскими целями. Но один из старцев (может быть, Иероним) сказал им: «Чего же вам ехать так далеко! У вас тут под боком Кавказ с дикой Абхазией, где нужно проповедовать христианство. Поезжайте туда». Афонцы не прочь были бы отправиться в Россию, но им не нравилось попасть под ведение русского Синода, при котором нельзя было ручаться сохранить свой афонский монастырский строй: можно было заранее предвидеть, что монастырь отдадут в настоятельство какому-нибудь кавказскому епископу. Однако придумали средство против такой опасности. Выговорили у правительства условие, что монастырь, как отделение Старого Афона, будет подчинен Константинопольскому Патриарху. Русское правительство дало согласие на такую экстерриториальность, и Новый Афон основался и быстро устроился. Во время русско-турецкой войны все Черноморское побережье сильно пострадало вследствие занятия турками Сухум-Кале и движения турецкой армии в направлении к Новороссийску. Но через десяток лет все пришло в порядок.
В обращении Абхазии к христианству Ново-Афонский монастырь имел огромное значение. Он основал школу сельских учителей из абхазцев, которые выходили из нее с самыми дружескими отношениями к монастырю и монахам. Как христиане они получали очень хорошую выработку и в этом отношении воздействовали на своих земляков, когда становились школьными учителями. Установился обычай, чтобы они не порывали связей о монастырем. Они съезжались на все монастырские праздники, привозя иногда и учеников или других земляков своих. Таким образом, Новый Афон действительно приобрел большое миссионерское значение.
Монастырь стал очень богатым, но привлекаемые им средства шли на разные сооружения: постройку храмов, проведение дорог, устройство порта и т. д. Иероним был великий хозяин и устроитель. В отношении жизни монахов обилие средств не отразилось никакой роскошью. Монахи остались, как были, строгими постниками, молитвенниками и тружениками. Пища монастырская так сурова, что наезжающие на богомолье лица «из господ» всегда на нее жалуются и иногда не в состоянии выносить, тем более что своей пищи не позволяется привозить. Помещение и все содержание богомольцам дают бесплатно, жертвовать же монастырю они могут что угодно, опуская деньги в вывешенные кружки. Обыкновенные богомольцы, из «простого» народа, не нахвалятся монастырем. Для них стол кажется вполне хорош. Службы же церковные на Новом Афоне продолжительные и истовые, по староафонскому уставу.
Впрочем, афонцы не принуждали богомольцев и приезжих молиться. В церковь ходили кто хочет и сколько хочет. Вообще, монахи проявляли к посторонним чрезвычайную терпимость.
Орлов рассказывал мне про одного интеллигента из «нигилистов», который надолго приютился на Новом Афоне. Монастырь ему понравился, но он не только не сделался верующим, но даже и монахам проповедовал безбожие. Они на это не обращали ни малейшего внимания и только слегка увещевали его. Бывало, сидит он на чистом воздухе у дверей и заговаривает с проходящими монахами. Какой-нибудь знакомый монах подойдет: «А ты все гостишь у нас. Здравствуй. Что же ты продолжаешь безумствовать? Все еще не покорился Господу Богу?» «Нигилист» начинает свою атеистическую проповедь, а монах только насмешливо улыбается: «Нехорошо, брат, нехорошо. Будешь каяться на Суде Божием, да поздно. В лености житие губишь и душу свою погубишь ни за что». Монахи смотрели на него с жалостью, как на охваченного каким-то безумием. Уж не знаю, обратился ли он на путь истинный, но монахов очень полюбил за их простоту веры и снисхождение к иномыслящим.
Таковы были в те времена новоафонские нравы.
Владимир Федорович и сам был немножко в том же роде, то есть чрезвычайно терпим к чужим мнениям. Но при этой терпимости, позволявшей ему лично и дружески сходиться с иномыслящими, он не мог и не хотел остаться безучастным к заблуждению и настойчиво старался вразумить того, кто, по его мнению, заблуждался. Он вызывал на разговоры, спорил, доказывал, убеждал, никогда не утомляясь препятствиями, а кажется, только воодушевляясь при встрече с ними.
И однако он скоро принужден был оставить свою школу именно из-за «нетерпимости». Но это было совсем иное дело. В школе он был не Владимир Федорович Орлов, а директор, начальник, власть, то есть именно то, чем он вовсе не умел быть. Школа по программе должна была давать между прочим религиозное воспитание. Ученикам преподавался Закон Божий, ученики должны были посещать церковную службу. Учителя должны были давать ученикам пример в этом. Директор обязан за всем этим следить. Так значится по правилам. Но опытный, практический начальник знает, что правила соблюдаются в различных степенях, глядя по обстоятельствам. Будучи по природе лаже очень нетерпимым, он фактически допускает разные поблажки во избежание худшего. Все это для Владимира Федоровича было китайской грамотой. Лично он для всех допускал полную свободу. Но как директор, как начальник, он умел только требовать соблюдения правил: такова, думалось ему, его обязанность. И фактически он оказался придирчив и вошел в постоянные столкновения с учителями на этой почве, на которой они совершенно не желали соблюдать правила. Они были неверующие, и для них было тяжело уже то, что они не могли прямо подрывать религиозное чувство учеников. А Орлов требовал, чтобы учителя ходили в церковь с учениками. Мало того, он требовал, чтобы учителя в церкви не разговаривали, стояли прилично, не прислоняясь к степам, и т. п. Практический директор, даже найдя нужным сделать по какому-нибудь такому поводу замечание учителю, конечно, сделал бы это как-нибудь незаметно, с осторожностью. У Владимира Федоровича, наоборот, выходили неудовольствия с учителями. Против него начались жалобы, протесты. Учредитель школы стал требовать от Орлова уступок. Он же никаких уступок не пожелал делать и кончил тем, что отказался от директорства. Это произошло, когда я уже был в Москве.
Отказавшись от недолговременного своего начальствования и от благосостояния директорского, Орлов очутился в Москве в своем привычном положении нищеты и полной неопределенности существования. Но здесь он возвратился и к тому привычному состоянию, когда вокруг него виднеются сотни и тысячи людей, ищущих смысла жизни, ищущих правды. Может быть, никогда их не было такое множество. 80-е и 90-е годы расславлены как время тоскливое и пришибленное унынием. Но это оценка людей партийных, людей той «радикальной» (впоследствии «кадетской») партии, которая почувствовала себя разбитой в начале 80-х годов и пришла в уныние, окрашивая в мрачный свет все окружающее. В действительности это окружающее не было ни унылым, ни пришибленным, ни тоскливым. Напротив, в нем кипела работа мысли и чувства. В нем происходила «переоценка ценностей», как скоро стали выражаться, и это делалось не с унынием, не от нечего делать, а горячо и страстно, с убеждением в первостепенной важности этой работы. Тут выступили на сверку и старые точки зрения, и новые, явились сознательно и такие точки зрения, которые прежде совсем отсутствовали. Выступили на свою защиту и исторические основы русской жизни, но, с другой стороны, только в эту же эпоху Россия получила возможность серьезно познакомиться с социалистическими доктринами и европейским рабочим движением. В эту же эпоху к нам широко проникли идеи позитивизма, а рядом с ними начали заявляться и мистические идеи Западной Европы. У нас выдвинулись и собственные мыслители, как граф Л. Н. Толстой на одном конце и К. Н. Леонтьев на другом. Масса же интеллигенции была переполнена спорами и толками искателей правды. Это оживление мысли стало стихать лишь к самому концу XIX века, когда интеллигенция была снова охвачена чисто практическими программами перемен строя жизни.
Владимир Орлов попал с Кавказа в Москву в самый разгар этого оживления мысли и с головой погрузился в него.
Жил он в страшной бедности. Сначала у него еще оставались кавказские сбережения, сохраненные его женой. Этой Александре Гавриловне нельзя было не удивляться. Мужа она, конечно, любила, да его и нельзя было не любить как человека. Но как «кормилец» семьи он был ужасен. Добывать хлеб он не умел и прямо не любил. Материальные заботы тяготили его и возбуждали отвращение в нем. Он был вечно погружен в мысли о вопросах религиозно-философских, вечно ходил по людям и по кружкам. А нужно было чем-нибудь кормиться самому и кормить семью. Он был настолько отрешен от жизни, что, ничего не давая жене на хозяйство, приходил домой и спрашивал есть. Иногда приводил и знакомых, спрашивая у Александры Гавриловны какое-нибудь угощение для них. Бедной женщине приходилось хоть плакать. Она сама мыла и белье, и полы, и топила печи, и стряпала, и обшивала мужа и детей. Это была жизнь тяжкого труженичества, и Александра Гавриловна год за годом переносила ее молчаливо и кротко, даже не упрекая мужа. Я иногда бывал у них, где-то, помнится, на Плющихе. Квартира находилась во дворе, в ветхом деревянном доме, на первом этаже — сырая, холодная, грязная. Мебель дрянная, в самом умеренном количестве. Все было пусто, неприютно, нищенски бедно. А Владимир Федорович если и застанешь его мрачным, то при первых же словах разговора воодушевляется и с просиявшим лицом начинает ораторствовать о вечных вопросах добра, правды, высшей жизни.
Как кормилась его злополучная семья — это непостижимо. Работы он почти никогда не имел, да и выбор работы у него был не обширен, потому что он годился только в учителя. Замечательно, что для других он умел приискивать места и действовал в этом отношении энергично и настойчиво, умея заставить дать место нуждающемуся. Для себя же ничего не умел устроить, кроме разве одного: брать в долг. В этом отношении он был кругом в долгу, брал у всех, и, конечно, это только называлось «брать в долг»: потому что он никогда не мог возвратить взятого. Бывали такие случаи: присылает сына с запиской, что за него нужно немедленно уплатить в гимназию, потому что истекли все отсрочки. Что делать? И у самого было негусто, а пришлось послать что-то 35 рублей. Дети у него все воспитывались в учебных заведениях; благодаря обширнейшим знакомствам Орлова дочери учились на казенный счет. В этом отношении знакомства пригождались и в материальном отношении.
Случались у него со знакомыми и самые курьезные приключения. Раз как-то зазвал к себе несколько человек на обед. Александра Гавриловна пришла в ужас: в доме ничего не было не то что для гостей, а и для себя. Пришлось сказать Владимиру Федоровичу, что он с ума сходит. Но он не смутился. Он объявил гостям, что кормить их нечем, и предложил им собрать между собой деньги для покупки чего-нибудь. Гости раскошелились и вручили Орлову деньги, а он сбегал в лавочку и накупил разной колбасы, хлеба и т. п., а также, конечно, и водки, и пир начался. Сначала все шло очень весело и хорошо, но потом дело дошло до совершенно необычайного конца. Все подвыпили, и в спорах гости начали защищать какие-то особенно раздражающие Орлова мнения. Он разгорячился, все более и более волновался и наконец объявил гостям, что таких людей он не может потерпеть в собственном жилище. Таким образом, он их разогнал с пирушки, учиненной на их же складчину.
Нужно сказать, что друзья Орлова много раз старались добыть ему какое-нибудь место, но из этого каким-то образом никогда ничего не выходило. Его самого мучило сознание, что он оставляет семью в самом тяжком положении, и он пытался искать работу. Однажды пришло ему на мысль пойти в псаломщики. По образованию в семинарии он мог бы сделаться и священником, но об этом не хотел и думать, считая себя совершенно недостойным такого святого звания. Место же псаломщика самое подходящее, скромное. Службу он знал, богослужение любил. Он открыл свою мысль одному приятелю, хорошо знавшему Победоносцева. Приятель этот обратился к всесильному обер-прокурору, обрисовал ему таланты Орлова, его религиозность, его огромное влияние на окружающих, его чистоту сердечную. Все это вызвало сочувствие Победоносцева, и он сказал, что наведет справки о подходящем для Орлова месте.
Но в этот самый момент с Владимиром Федоровичем произошел казус. Он шел по улице с каким-то «искателем истины», и у них зашел горячий разговор о бытии Божием. Приятель его выражал мнение, что в этом отношении можно быть только скептиком. Все доказательства Орлова отскакивали как мяч от скептицизма приятеля, который повторял, что нельзя верить в существование того, что не свидетельствуется чувствами нашими. Владимир Федорович наконец рассердился и, став в величественную позу на тротуаре, крикнул, ударяя себя в грудь: «Так ты хочешь увидеть Бога! Ну вот тебе — смотри: вот тебе Бог! Он здесь...» И он показывал на себя. Эта уличная сцена привлекла внимание прохожих. Орлова знали очень многие, и вот распространился слух, что он называет себя Богом. Собственно, слова Орлова не имели такого смысла. Он хотел только сказать, что Бог пребывает в человеке. Но молва так распространилась, что рекомендовавший Орлова сам принужден был известить Победоносцева о происшествии, стараясь снять с Александра Федоровича подозрение в каком-нибудь сектантстве. Но Победоносцев пришел в ужас: «Да я такого человека и близко не подпущу к церкви!.. Все равно, что бы он ни думал, выходка недопустимая для причетника».
Так и сорвалось это уже совсем было налаженное место.
Много раз старались доставить Орлову литературную работу. Но он, так легко и хорошо говоривший, совсем не умел писать. Я помню только один случай, когда он принес статью для «Русского обозрения»: «На вот, отдай в редакцию. Только скажи, чтобы гонорара мне не выдавали на руки. Жена просит, говорит, что я пропью. Да и вправду пропью. Пусть ей выдадут». Так и поступили. Он надписал над статьей просьбу выдать гонорар его жене.
Последняя попытка друзей устроить Орлова произошла года за три до его смерти, и по этому поводу я имел с ним очень любопытный разговор. Покойный Николай Андреевич Зверев {166} через посредство каких-то своих приятелей добыл Орлову место в управлении одной железной дороги. Место это было штатное, чисто канцелярское, вполне по силам и знаниям Владимира Федоровича, и он был очень доволен, что имеет наконец жалованье, обеспечивающее его семью. Я, как и все друзья его, конечно, радовался, что он наконец обеспечен. Так прошло некоторое время. Орлова я не видал и не беспокоился о нем, как вдруг однажды услыхал, что он отказался от места и снова находится между небом и землей. Поразило это меня. Что за причина? Но искать его и расспрашивать было некогда, тем более что я был совсем ослаблен болезнью.
Однажды раздается у меня звонок — и является сам Владимир Федорович в сопровождении какого-то подозрительного субъекта (не помню его фамилии и никогда его больше не видел). Не понравился мне его спутник: вся видимость какого-то жулика или пропойцы, по разговору явно неразвитый человек с неудачными попытками на интеллигентность, с противным ухаживанием за мной и пренебрежительной насмешливостью к Орлову. Я был крайне недоволен, зачем Орлов притащил ко мне этого человечка. А Владимир Федорович через несколько минут объявил:
— Ну вот я к тебе пришел. Нужно поговорить очень серьезно. Только прежде всего вели дать водки.
Я ответил, что ничего у меня нет: ни водки, ни пива, ни вина. Я давно ничего не пью, мне строжайше запрещено врачами. Чаю могу заказать.
— Чай — это пустое. Коли нет водки, пошли в лавочку.
Если бы Орлов был один, я бы так и сделал. Но угощать у себя его противного спутника я решительно не хотел. Сказать этого прямо, разумеется, нельзя было, и я предложил Орлову лучше пойти в трактир.
— Сам я пить не стану, а тебя угощу.
На том и порешили. В трактире я им спросил закуску и графинчик, себе чаю, и началась беседа.
— Видишь ли, — объяснил Орлов, выпивая рюмку-другую, — объяснять нужно очень сложную штуку, так без рюмочки трудно. Нужно расшевелиться.
И действительно, объяснение вышло сложное. Это была целая исповедь, и странно было видеть, зачем при ней торчит его спутник, впрочем, занятый исключительно графинчиком и закуской и только насмешливо взглядывавший время от времени на волновавшегося Орлова.
А Владимир Федорович выкидывал передо мной свою душу. Он объяснял, как он мучился, видя бедственное положение семейства, как упрекал себя и старался добыть заработок для жизни жены и детей. Но на нем висел какой-то рок. Ничто не удается. Он увидел наконец, что ему не суждено жить как люди и на роду написано быть бесприютным бродягой. Это какой-то перст Божий, и он наконец покорился...
— Но ведь у тебя было очень хорошее место, и ты сам его бросил.
— Я про то и говорю... Ты, наверное, думаешь: лентяй Орлов, не хочет работать. А дело совсем не в том.
Он с подробностями рассказывал, как ходил на службу, работал усердно, служба ему даже нравилась. Но он стал замечать, что сослуживцы смотрят на него косо и неприязненно. Не сразу он мог понять причину, а дело оказалось очень просто. Он вторгся в чужую среду, по протекции занял хорошее место, на которое рассчитывали другие, ждавшие повышения. Он разрушил надежды и других, рассчитывавших, что тот, кто займет эту вакансию, очистит им свое место. И вот сколько зла наделала его работа, сколько она породила разочарований, ропота, жалоб на людей и на судьбу. Когда это уяснилось ему, он не мог оставаться. Если он не может делать добра, то по крайней мере не должен вносить в жизнь зла, горя для других, создавать дурные чувства.
— Понимаешь ли ты мою душу? Видишь ли, что из-за своей семьи не могу вредить семьям других людей, не могу распложать злых чувств в людях?
Выходит, что не судьба ему добывать средства простым, честным трудом, без обиды для других людей. И он покорился. Не дает Бог честной работы — значит, такова Его воля. Видно, Он берет на Себя заботу о семье, а самого его, Владимира Федоровича, оставляет в положении бродячего проповедника, без места, без средств, без прочного приюта. Теперь ему это стало ясно, и он решил жить так, как ему суждено.
— Самое главное в нашей жизни — то, чтобы от нас не распложались злые чувства, а рождались чувства добрые и светлые. Не можешь создавать добро — так по крайней мере не создавай зла. А о семье позаботится Сам Бог, если не дает способов заботиться ему.
Все это он выкладывал передо мной с подробностями и отступлениями, с видом глубокого убеждения и с какой-то грустной покорностью. Нужно, между прочим, заметить, что о семье Орлова по смерти его Бог действительно позаботился лучше, чем мог бы сделать он сам. Все дети устроились в жизни очень хорошо.
Что касается отца семейства, то он так и остался бродячим проповедником. Насколько он был, можно-сказать, жалок в сфере своей материальной жизни, насколько он в этом отношении даже сам конфузился и смущался, сознавая, как плохо исполняет обязанности отца семейства, настолько же он был пророчески вдохновен и уверен в области своей вечной проповеди. Он напоминал ветхозаветных пророков, которых семьи, конечно, получали не более попечений о себе, чем у Владимира Федоровича. Но по манере проповеди он походил скорее на Сократа. Он не читал лекций, не говорил на собраниях и постоянно обращался к отдельным личностям, и не по какой-нибудь программе, не в какой-нибудь обдуманной системе, а по случайным поводам в личной жизни человека или по случайному обороту разговора. При этом он не спорил непременно, не убеждал, а собеседовал. Он как бы переживал для самого себя ту или иную мысль и настроение и в это переживание втягивал своего собеседника не преднамеренно, а влиянием того процесса, который происходил в душе самого Орлова. Разумеется, при этом возникали и споры, но они являлись последствием собеседования, а не преднамеренным диспутом. Этого рода разговоры происходили у него ежедневно по всем местам, где он только встречался со знакомыми, и часто и с незнакомыми, и так он постепенно обрастал бесконечным множеством знакомых и приятелей.
Однажды он встретился у какого-то знакомого с Н. А. Зверевым, который в то время был, кажется, еще только профессором университета. До этой встречи они были совершенно незнакомы. Поздним вечером они вместе вышли, так как им некоторое время было идти по пути. По дороге заговорили о каком-то предмете этики, а Н. А. Зверев тоже был большой философ. Заспорили, и Орлов, вместо того чтобы свернуть к себе, дошел до самой квартиры Зверева, а вопрос был все-таки не исчерпан. Зверев предложил Орлову зайти к нему, и там они продолжали свое собеседование всю ночь, чуть не до утра. Зверев оставил Орлова ночевать у себя. На следующий день они все никак не могли расстаться и перебирали вместе множество вопросов духовно-философской жизни. Между тем семья Владимира Федоровича встревожилась и стала его разыскивать по всему городу, пока наконец не отыскала его у Зверева в тех же горячих прениях. Домой он попал только на третий день. С той поры Орлов и Зверев сразу стали друзьями и приятелями.
Таких друзей у Орлова было множество — всех степеней общественного положения, знаний и даже, пожалуй, развитости и убеждений, потому что он дружил иногда и с людьми совершенно антипатичных для него мнений. Очень близок он был с графом Л. Н. Толстым, у которого бывал и в Ясной Поляне, и в Москве. Толстой тоже посещал его. Разумеется, об очень многом они могли только спорить, хотя ни тот, ни другой не пытались переубедить друг друга.
Не знаю, как в сердце своем Толстой относился к Орлову, — вероятно, все же ценил его, если вел такое близкое знакомство. Что касается Орлова, то его отношение к Толстому было двойственное. Разумеется, он не одобрял религиозных взглядов яснополянского учителя. Но это бы еще не беда: взгляды искренние — Орлов допускал и терпел их. Но он находил Толстого страшно гордым и — что еще хуже — бессердечным, не имеющим жалости. Этого уже он не мог простить. А о том, что Толстой мало жалеет людей, он мне передавал несколько случаев. Так, он не мог забыть одного еврея, приехавшего в Ясную Поляну учиться мудрости, а также и обрабатывать землю. Еврей этот — забыл его фамилию — безгранично верил в Толстого и любил его. Натура эта была искренняя и сердечная. И вот он с семьей своей жил в Ясной Поляне и учился пахать. Жили они в страшной бедности, нечем было детей кормить, а у Толстого в доме жили роскошно, ели и пили вовсю. Сам еврей настолько любил учителя, что у него не возникало мысли упрекнуть Толстого за то, что он, видя его ежедневно, никогда и не подумал помочь ему. Но его жена, у которой дети плакали от голода, приходила в страшное негодование и совершенно разочаровалась в Толстом.
Другой раз нужно было похлопотать в Москве о ком-то, чтобы защитить его против полиции по поводу его «неблагонамеренности». Орлов насел на Толстого, убеждая его обратиться к своим влиятельным знакомым. Орлов в этих случаях умел пристать так, что не отстанешь: у него тут убеждения и самые жгучие упреки так и лились фонтаном. А для Толстого обращаться с просьбами, одолжаться был нож острый. Наконец Владимир Федорович победил. Толстой с ворчанием набросил на плечи свой тулуп (он одевался тогда по-крестьянски) и двинулся к какому-то графу или князю. Орлов пошел с ним, чтобы Толстой не сбежал но дороге, потому что ему страшно не хотелось идти.
И вот происходит сцена. Толстой звонит в парадную дверь, выходит швейцар, спрашивает мужика (Толстого): «Чего тебе нужно?» Того покоробило и передернуло. «Скажи барину, что Лев Николаевич Толстой желает его видеть». Швейцар с презрительным недоумением позвонил лакею и передал ему поручение этого странного человека. Барин, конечно, велел принять, и Толстой отправился наверх, но сановник не обнаружил желания исполнить его просьбу. Толстой, мрачный и злобный, возвратился к стоявшему на улице Орлову и категорически объявил, что никуда больше не пойдет. Гордости бездна, а жалости нет — таков был вывод Орлова. В этих отношениях он был очень чуток и требователен. Меня он также жестоко обличал в гордости. «У тебя сатанинская гордость», — говаривал он. В самом же нем гордости как-то совсем не замечалось. Уж не знаю, как он умудрился ее до такой степени истребить. А жалости у него было много, и он не только сочувствовал нужде и горю, но всегда старался помочь, выручить человека. Ничего не имеющий, прямо сказать — нищий, он успевал помогать множеству людей.
Один раз какому-то приятелю его было до зарезу нужно шесть или семь тысяч рублей. В числе приятелей Орлова был богач, но державшийся за свои деньги с цепкостью почти скупости. К нему-то и направился Владимир Федорович просить эту серьезную сумму. И что же? После отчаянного натиска он сумел-таки расшевелить сердце богача. С досадой, с обидой он выдал Орлову ордер в контору на получение этих денег. Дело это было такое невероятное, что в конторе не решились даже выдать и послали к хозяину специальный запрос: действительно ли он подписал ордер? Только после подтверждения деньги были выданы.
Таким приставанием к приятелям с требованиями разной помощи людям каждый другой, разумеется, отогнал бы от себя всех имущих и влиятельных друзей. Его бы не пускали и на порог во избежание неприятностей. Но у Орлова выходило иначе: его ругали, морщились на просьбы и все-таки продолжали не то что терпеть его, а дружить с ним.
Он умел подействовать на совесть, на лучшие чувства человека, так что им невольно дорожили, жалко было с ним рассориться, не хотелось потерять с ним какую-то дорогую часть самого себя. Потерять Орлова — это значило потерять и для себя утешение, часто нужное каждому человеку, остаться в душевной пустоте. И с ним продолжали дружить.
Иногда такое отношение к Орлову доходило до чего-то мистического. Был у него друг, знаменитый хирург, очень хороший и душевный человек, профессор Снегирев, {167} тоже Владимир Федорович.
Вот Орлов как-то стал замечать, что Снегирев постоянно зазывает его, когда приходится ездить на операции. «Мне с тобой нужно поговорить. Пожалуйста, приходи», — говорил он. Орлов приходил, но оказывалось, что говорить некогда. «Поедем со мной, потом потолкуем». Орлов ехал с ним, Снегирев усаживал его где-нибудь: «Подожди, пока кончу операцию». Но и после операции никакого серьезного разговора не было. Привезет его к себе домой, оставит обедать, болтает обо всем на свете, и все-таки оказывается — неизвестно, зачем позвал. Так повторилось несколько раз. Орлов стал наконец протестовать: «Что ты меня таскаешь зря? Говоришь, что есть дело, а никакого дела не оказывается». Снегирев пускался в разные отговорки и продолжал возить его с собой... Наконец однажды на требование Орлова отпустить его на свободу Снегирев сердито ответил: «И убирайся куда хочешь. Мне тебя больше не нужно, ты перестал действовать». Тут тайна объяснилась. Оказалось, что в присутствии Орлова у Снегирева необычайно удавались операции, поэтому он и старался иметь его при себе. Но потом Орлов «перестал действовать»... Он мне сам, смеясь, рассказывал эту историю как пример чудачества Снегирева, каких у профессора было действительно немало.
Орлов очень хорош был также с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, хотя в их отношениях не было заметно товарищеского отношения и они обращались на «вы». Через Орлова я именно и познакомился с Соловьевым, отчего мне и вспоминаются их отношения. Но перечислять знакомства Владимира Федоровича я не собираюсь, да и не могу, и вряд ли кто это может сделать. Он знал, как говорится, всю Москву, и дело не в том. Мне хотелось бы обрисовать характер его вечной проповеди и того влияния, которое он оказывал на окружающую среду.
Он искал и других втягивал в искание высшей духовной человеческой жизни. У него не было программы какой-нибудь деятельности. Его тянуло к тому, чтобы пребывать душой в этой высшей духовной жизни. Это, пожалуй, то же самое, чему учат пустынники-аскеты, но в формах современной интеллигентной умственной жизни. Надо добраться до того, что такое дух человеческий, и на пути к этому стоит ряд вопросов психологических, этических, религиозных, философских. В них требуется разобраться, чтобы решить, в чем истинная жизнь и правда ее. В разбирании этого и вращалась проповедь Орлова, его вечное «собеседование» с собой и окружающими. Основной вопрос был для него совершенно ясен: истинная жизнь давалась христианством. Но к этому вопросу приводило множество других, вторичных, вытекавших и из области науки, и из личной психики каждого человека. То или иное их решение отражалось и на основном вопросе. Орлов считал себя христианином, но и Толстой находил себя истинным христианином. Кто же прав? Высшая духовная жизнь кажется вечной. Значит ли это, что она связана с загробной? Связана ли высшая духовная жизнь со Христом или вообще с Богом? Может ли она быть у материалиста, и если нет, то как же может исчезнуть в человеке его главное, основное свойство? Такие вопросы многочисленны и разнообразны и возникают у людей в связи с их личной психической жизнью, их чувствами и стремлениями. Вследствие этого постоянно оказывается, что человек, казалось бы, уже вполне решивший для себя вопрос об истинной человеческой жизни, при столкновении с другим человеком неожиданно для себя встречает какие-то новые вопросы и новые ответы, вызывающие на проверку прежних решений. Вот это-то и была сфера, в которой всю жизнь вращался Орлов, воспринимая от людей новые импульсы и передавая свои, пережитые, подведенные к итогам.
Завлекательная сила Орлова, его притягательность объяснялись тем, что он по чуткости и искренности искания уже собрал в себе множество оттенков решения вопроса жизни и открывал их собеседнику. Притом же у него все эти решения являлись не в виде сухого рассуждения, а такими, какими отлились в нем, — живыми, страстными, частичками самой души его. Завлекая этим собеседника, Орлов, по той же чуткости искания, всегда интересовался узнать, нет ли у собеседника чего-нибудь такого, чего он до сих пор не заметил. Поэтому беседа и принимала такой оживленный вид, с неоскудевающим интересом для обеих сторон. Очень редко случалось, чтобы Владимир Федорович совсем махнул рукой на собеседника.
Однажды он толковал в маленькой компании, где подобрались большие поклонники науки и отрицатели религии. Они рисовали светлую будущность человечества при развитии науки, все более овладевающей силами природы. К чему задаваться вопросами о Боге, о будущей жизни? Орлов стал говорить, что к этим вопросам приводит мысль о судьбах личности человека. «Вот как бы ни было счастливо человечество, а мы все, я и вы, — умрем, и они все умрут».
Ему отвечали, что благодаря науке и улучшению условий жизни средняя продолжительность жизни постепенно возрастает.
«Пусть так, но в конце концов все умирают...»
Собеседник несколько затруднился, но заметил, что это еще не известно. Развитие науки так безгранично, что могут быть найдены способы останавливать дряхление организма, а при этом возможно, что люди и совсем не будут умирать... Это уже начало раздражать Орлова. Разве можно серьезно приводить такие аргументы? Это значит просто отлынивать от вопроса. Но собеседнику так понравилась его догадка, что он стал твердо на эту почву: возможно, даже вероятно, что наука в конце концов уничтожит смерть.
«Ну хорошо, — говорил Орлов, — пусть она уничтожит смерть. Тогда те, которые станут бессмертны, могут не думать о смерти. Но ведь для нас, для тебя, для меня, — смерть остается. Мы умрем. Как же нам не думать, что с нами будет после смерти?»
Собеседник еще более затруднился, но, подумав, заметил, что успехи науки могут пойти и дальше. Она может указать способы воскрешать умерших. [61]
Тут Орлов окончательно потерял терпение: «Ну я тебе одно скажу. Когда вы вздумаете в будущем воскрешать меня, то сначала спросите меня, захочу ли я второй раз жить с такими дураками».
Вообще, его более всего огорчало, когда встречалась нечувствительность людей к духовным запросам. «Ведь вот как выгнила душа», — сокрушенно замечал он и употреблял все усилия, чтобы напряжением своего духовного чувства воскресить, затронуть хоть маленькие остатки этого внутреннего ощущения в «выгнившей» душе.
Но когда человек просто не мог справиться с дурным побуждением или потянулся на искание высокой жизни ошибочным, несвойственным ему путем — это для Орлова не представлялось чем-нибудь особенно огорчительным: все это может быть исправлено. Помню один такой случай с неким Хованским. До своей встречи с Орловым он, как сам рассказывал, вел жизнь недостойную, чуждую порывов к чему-нибудь высокому. Орлов воскресил его, и Хованский вспоминал его с благоговением. Но пробудившееся стремление к высокой человеческой жизни приняло у него такие формы, каких, вероятно, не ожидал учитель. Он задумал именно идти в монахи.
Орлов любил и уважал монашеский идеал, но созерцательный мистицизм был не в натуре его, и монашества он не проповедовал. Идея иночества возникла у Хованского самостоятельно, выплыла, вероятно, из переживаний дедов и прадедов. Но когда он высказал свое желание Орлову, тот не противоречил и даже оказал содействие, а именно дал ему рекомендательное письмо к тогдашнему ректору Московской Духовной академии архимандриту Антонию (Храповицкому). Не знаю, как он познакомился с архимандритом.
Антоний никогда не откладывал дела в долгий ящик и немедленно отправил Хованского к настоятелю Гефсиманского скита. В пределах ведения Троице-Сергиевой лавры Гефсиманский скит занимал тогда первое, после пустыни Параклита, место по строгости монашеской жизни. Настоятель, поговоривши с Хованским, сказал ему, чтобы он обдумал свое намерение в течение, не помню, двух недель или месяца и потом приходил к нему. За это подготовительное время Хованский заходил ко мне и беседовал о своем предстоящем житии.
Он был очень самоуглублен и не без страха думал о таком полном перевороте жизни, прося навещать его, когда случится быть у Троицы, и поддержать при надобности добрым словом. Но цели себе он ставил высокие, чересчур высокие, можно даже сказать, горделивые. Всякий монах, говорил он, должен избрать себе пример какого-либо святого для подражания, и он избирает себе Василия Великого... Меня это изумило, и я возразил, что он избирает такого святого, которому труднее всего подражать, так как у него были от природы необычайные способности, и сделавшие его великим учителем Церкви. Как же можно этому подражать? Но Хованский стоял на своем. Василий Великий — самый почитаемый им святой, и он решил поставить его образцом для себя. Он не представлял себе, какое фиаско ждет эти высокие замыслы. По истечении срока размышления он отправился в Гефсиманский скит и был принят в число послушников, а через три дня тайно сбежал из монастыря.
Мне и другие рассказывали об этом трагикомическом происшествии, и сам Хованский, который долго после того не показывался мне на глаза, вероятно, стыдясь за себя. Дело в том, что он, идя в монастырь, воображал сразу попасть в высокую, таинственную атмосферу великих духовных подвигов. Действительность оказалась более прозаична. Конечно, ему дали молитвенное правило, и все вокруг него ходили в положенное время на службы церковные. Но вместе с тем монахи находились остальное время на различных трудовых послушаниях. По времени года приходилось спешно заготовлять капусту, Хованского тоже засадили за рубку капусты. Это его совершенно разочаровало. Он впоследствии сам рассказывал: «Я ничего плохого не заметил в монахах, пища у них строгая, они молятся, все тихо и благопристойно... Но разве я сюда для того пришел, чтобы рубить капусту?» Эта злополучная капуста его оскорбляла. Подвиги Василия Великого — и рубка капусты! Тут на беднягу навалилось истинно какое-то бесовское наваждение, потому что трудовое послушание входит везде в состав аскетической дисциплины. Без всякого сомнения, и Василия Великого заставляли в монастыре если не рубить капусту, которой у греков нет, то солить маслины или сушить финики и т. п. Но на Хованского капуста навалилась каким-то кошмаром. Он не мог спать. Его всю ночь давили мысли: для чего он оставил мир? это ли духовная жизнь? Два дня и две ночи мучился и боролся он, а на третью ночь не выдержал: подготовил себе какую-то мирскую одежонку и стал ждать колокола к заутрене. В это время отворялись всегда монастырские ворота. Как только ударил колокол, он тотчас выскочил, пока монахи не стали выходить из келий, проскользнул в ворота и исчез, никому ни слова не сказав, бежал, как арестант из тюрьмы.
Так кончилось его подражание Василию Великому — смешно и постыдно. Но, насколько мне известно, Орлов отнесся очень спокойно к этому приключению своего ученика. Может быть, даже был доволен, что тот сразу был отброшен от исканий мечтательного величия. Да, вероятно, и для Хованского это был хороший урок. Я потом потерял его из виду, но пока приходилось о нем слышать — он жил хорошим, честным человеком, с душой, хранящей стремления к духовной жизни.
Для Орлова это было не то что главное, а все, чего он искал, что старался возбудить и поддержать повсюду, куда случайно или преднамеренно попадал. Повсюду он разбрасывал искорки духовной жизни, жизни высшим внутренним человеческого существа. И эти искорки, думаю, зажгли много человеческих душ и отразились последствиями, которых связь с деятельностью Орлова иногда нельзя даже и заметить.
Случается, что никакие доказательства, никакие нравственные воздействия по-видимому не оказали на человека никакого влияния. На вид он остался каким был, и сам это полагает. В действительности же, бессознательно для него самого, у него на душе осталось семечко чужого импульса или логического довода, и это семечко долго разбухает, неведомо для самого человека, пока пустит заметные ростки. Особенно важным моментом является тогда личный опыт, и личные переживания подрывают в душе человека то, что некогда препятствовало росту этого зернышка. Тут оно, долго лежавшее незаметно, вдруг пускает могучие ростки и побеги. Человек даже и сам не знает, откуда у него это явилось, думает, что он самостоятельно породил новую для него мысль или чувство. А в действительности они были вложены в его душу давным-давно другим человеком. Этих семян духовной жизни Орлов разбросал мириады по всем сердцам, с которыми соприкасался в своем бродячем проповедничестве. И кто может сказать, где и в чем проявился рост этих зернышек?
Легко сравнительно подметить влияния писателя, оставившего документальные свидетельства своей мысли и слова. Но взвесить последствия личных влияний почти невозможно. Они развиваются скрытно и проявляются иногда, может быть, через поколения, сходно с влияниями наследственности и всех переживаний, сложенных у людей в области подсознательного.
Для тех, кто знавал В. Ф. Орлова, не подлежит сомнению, что он разбросал много таких живучих влияний, как разбрасывают их в народе еще менее известные миру «странники», «убогие», «юродивые». Все эти влияния боролись против гораздо более могущественных течений времени. В истории русской интеллигенции они не могли одержать победы, но кто скажет, сколько из них залегло в области подсознательного, в которой незаметно лежат и разбухают до более благоприятных условий развития?
Бродячий проповедник сжигал свою жизнь вечным нервным возбуждением. Да, конечно, немало повредил себе и постоянной «рюмочкой» Он по природе был крепкого здоровья — мужчина крупный, рослый, румяный. Прожил же он, думаю, не более лет 55–56. Я не видел его перед смертью довольно долго и о самой кончине узнал почти через месяц от его жены. Перед смертью его, между прочим, посетил граф Л. Н. Толстой, и они о чем-то долго разговаривали. Никто из семьи не расслышал их беседы. Слышно было только, что умирающий настойчиво убеждал в чем-то Толстого, увещевал его что-то сделать, о чем-то подумать. Несколько раз доносились слова Владимира Федоровича: «Помни же, исполни это непременно...» Он и Толстому говорил «ты». А Лев Николаевич не спорил, не возражал, а только несколько раз успокоительно повторял: «Хорошо, хорошо, не забуду».
Скончался Владимир Федорович в 1898 году, 18 марта, в сознании, сохраняя способности и духовные интересы. Умер как жил: христианином и философом.
Еврей-священник. Отец Сергий Слепян.
Отец Слепян не был какой-нибудь знаменитостью, но представляет любопытный образчик тех хороших людей, которые выдвигались в 80–90-х годах XIX века на скромной работе по улучшению жизни народа.
Слепян был родом — а первоначально и верой — чистокровный еврей из западного края. У него не только была типичная наружность «литвака», но сохранялся всю жизнь еврейский акцент, как-то странно звучавший у священника. Да и в образе жизни он сохранял многие черты хорошего еврея. В молодости своей он эмигрировал в Англию, не по политическим причинам, а просто поехал искать счастья. Там он принял и христианскую веру в какой-то из местных сект, вероятно у пресвитериан. Потом его потянуло на родину, и, вероятно, по английским связям он прибыл в Петербург на довольно незначительное место в Новой бумагопрядильне на Обводном канале. Здесь он скоро принял Православие — может быть, для лучшего сближения с рабочими, может быть, и потому, что был верующим евреем, для которого переход в Православие составляет в религиозном отношении очень естественный шаг.
Что касается сближения с рабочими, то у него при этом не было никаких целей политической пропаганды. Он просто любил людей, и по преимуществу рабочих, с которыми сжился в Англии. Но в сравнении с Англией жизнь русских рабочих поражала его своей убогостью и приниженностью — не в смысле материальной бедности, а по отсутствию внутреннего содержания. Работа на фабрике, а затем пьянство — больше ничего и не было, никаких вопросов, никаких интересов; сама семейная жизнь, не освещенная никакой разумной заботой о детях, их развитии, их воспитании, ничего не давала ни уму, ни сердцу.
Слепян, вступая в сношения с рабочими, начал стараться поднять их внутренне, возбудить в них запросы человеческой жизни. Он стал иногда собирать их у себя, устраивать собеседования и чтения на темы нравственные и религиозные, увидел, как живо откликаются на них рабочие, как они сами стремятся осмыслить свою жизнь, увидел скоро, что нужно искать себе помощников.
Это время, то есть конец 80-х годов, было отмечено особенным духовным подъемом студентов Петербургской Духовной академии. Удивительно, как те или иные настроения охватывают страну — во всех слоях, во всех сторонах жизни, словно эпидемически, каким-то невидимым внутренним веянием. Иногда налетает эпидемия революционная, иногда — эпидемия национально-устроительная. В то время всюду пробивались устремления национального и духовного возрождения. В Духовной академии студенты стали неузнаваемы. Еще недавно они и не думали о внутреннем смысле своего существования, не думали даже, по-видимому, о вере, не посещали церкви, и жизнь их проходила между невнимательным слушанием лекций и усердными кутежами. И все это как-то быстро изменилось. Студенты стали горячо толковать о возрождении Церкви, о работе на восстановление патриаршества, начали с увлечением готовиться к своему служению по окончании курса. Академическая церковь наполнилась молящимися студентами, которые усердно помогали при богослужении. Между прочим, у них явилось стремление к проповеди и миссии. Они выступали проповедниками в различных церквах, пытались перенести христиански-просветительное воздействие и в рабочую среду Петербурга. И это не был какой-нибудь скоропреходящий порыв, но настроение, длившееся чуть не десяток лет. Петербургская академия заняла видное место в церковной жизни столицы.
Слепян познакомился со студентами и сошелся с ними. Его деятельность среди рабочих, естественно, возбудила их внимание, и они явились к нему на помощь. Сам же Слепян, в богословском отношении совершенно не подготовленный, решил пополнить этот пробел и поступил вольнослушателем в Духовную академию, ставши таким образом товарищем студентов, которые помогали ему в его деятельности среди рабочих, как и он помогал им в переносе проповеди в рабочую среду.
Местом личной деятельности Слепяна как была, так и осталась Новая бумагопрядильня, где помощь студентов дала ему возможность чрезвычайно расширить чтения для рабочих. Присутствие студентов Духовной академии давало Слепяну также известную защиту от подозрительности духовных властей. Деятельность Слепяна могла казаться странной, слишком не подходящей под «форму»: он, мирянин, вел дело, которое полагается вести священникам. Со стороны мирянина это имело вид чего-то сектантского. И действительно, вся проповедь Слепяна и его воздействие на рабочих были, по существу своему, священнические. Он возбуждал в рабочих религиозные стремления, призывал их к сознательной и деятельной религиозной жизни, внушал, что вся их жизнь — домашняя, семейная, товарищеская — должна быть соответственна их религиозным верованиям. Недостаточно слушать проповедь или ходить в храм, нужно жить по-христиански и эту христианскую жизнь распространять вокруг себя. Это составляло для рабочих целое откровение. Ничего подобного они раньше не слышали или не размышляли об этом, и, когда Слепян раскрыл им, что вера есть самое жизнь, рабочие действительно воодушевлялись и воскресали душой. Они бросали пьянство, начинали внимательно и с любовью относиться к женам и детям, отношения между товарищами становились дружелюбными, грубость и всякие ссоры искоренялись, и в общем вся жизнь этой огромной массы людей совершенно преображалась. Но не только личная деятельность их испытывала влияние живой веры, а также и коллективная. Так, например, у Слепяна и помогавших ему студентов явилась мысль устроить для рабочих общие разговены на Пасху. Само Воскресение Христово рабочие встречали вместе в храме — в обстановке, приличной празднику. Но, расходясь по квартирам, что они там находили? Множество из них жили в тесноте и грязи, часто вместе с людьми, которые и не думали ни о вере, ни о празднике или встречали его пьянством. Совместные разговены, напротив, дали бы возможность христианам и разговеться по-христиански. Эта мысль была осуществлена с величайшим одушевлением.
Слепян выхлопотал у управляющего фабрикой просторное помещение для торжества. Совместными усилиями рабочих и студентов оно было должным образом разукрашено. Собраны были припасы для разговен. В этом случае было сделано гораздо больше, чем могли бы устроить рабочие одними собственными средствами. Слепян и студенты обратились за помощью к знакомым людям общества, сочувствующим их деятельности, и получили множество припасов для пасхального стола. Когда рабочие сошлись из храма на разговены, праздник удался на славу. Обширная убранная зала, хорошо освещенная, со столами, покрытыми пасхальными яствами, тысячная толпа мужчин, женщин и детей, но мере сил разодетых, все радостные, христосуются между собой; по рассказам очевидцев, это была картина прямо захватывающая. Старые рабочие, вспоминая, сколько лет они встречали праздник самым неподобающим образом, прямо плакали от умиления и благодарили Бога, давшего им увидеть этот истинно Светлый Праздник.
Точно так же по почину Слепяна рабочие устроили на Новой бумагопрядильне свое общественное богослужение. Разумеется, без Слепяна ничего бы не вышло, но и рабочие со своей стороны много помогли этому.
Управляющий фабрикой охотно уступил помещение под молитвенную залу, род часовни. С того времени как рабочие попали под влияние Слепяна, жизнь фабрики совершенно преобразилась. Исчезли пьянство, буйство, драки, воровство. Все это, понятно, было очень приятно и выгодно для управляющего, и он старался ничем не препятствовать новому направлению рабочих. Но молитвенную залу, хотя это и была не церковь, нужно было прилично устроить. В работе, конечно, почти все было сделано самими фабричными. Они же сумели откуда-то — от себя, от знакомых — понабрать много образов. Но все-таки по отделке комнаты нужны были значительные средства, и Слепян умел их добыть. У него вполне сохранились еврейские практичность и коммерческая сообразительность. За время деятельности среди рабочих он по всему Петербургу развил много знакомств. Его уважали, ему верили и сочувствовали. Он легко привлек пожертвователей, и молитвенный дом Новой бумагопрядильни был готов очень скоро. Это еще более сплотило рабочих в их религиозной жизни, а также выдвинуло вопрос о том, чтобы Слепян принял духовное звание. Приглашение чужих священников на богослужения представляло много неудобств, хотя и приходилось к этому прибегать. Между тем Слепян казался как бы предназначенным в священники. Об этом в духовном ведомстве поговаривали уже давно. Его роль стала слишком крупна для простого мирянина. Рабочие не только любили Слепяна и почитали его, но он сделался вполне их пастырем. Они обращались к нему по веем своим запросам, душевным или житейским, искали у него помощи по всем своим нуждам. Его мнение, слово являлись непреложным авторитетом. Его считали чуть не святым. Фактически он был пастырем своего духовного стада, и странным казалось, почему же он оставался простым мирянином. «Ряску бы надо, ряску», — говорили в духовном ведомстве, и когда Слепян решился принять священство — его посвятили без всяких прекословий.
Итак, он сделался священником. Но у него не было храма, приспособленного к созданному им рабочему приходу, и он еще раньше стал думать об этом и начал приготовления к постройке особой церкви для Новой бумагопрядильни. Строил он ее на широкую ногу и благодаря своей способности привлекать пожертвования нашел все необходимые, очень значительные, средства. Рабочие ему в этом деятельно помогали. Денег они, конечно, не могли собрать много, но, говорят, оказали очень существенные услуги при постройке. Во всяком случае, они не остались чуждыми предприятию своего священника и могли сказать, что в построенном храме есть добрая капля и их меда.
Вскоре после своего поставления священником Слепян, уже отец Сергий, приезжал в Москву с богомольческой целью — поклониться тамошним святыням, и, без сомнения, приезжал в Троице-Сергиеву лавру. В Москве я и познакомился с ним. Он останавливался в скромных меблированных комнатах «Кремль», в центре города, но дешевых. Отец Слепян производил очень приятное впечатление простотой обращения и отсутствием всякого самомнения. Он много рассказывал о своих действиях среди рабочих, но все заслуги в успехах приписывал им. Их он видимо полюбил и хвалил чистоту их душ, их стремление к жизни верой, их искание святости. Он очень свободно и просто коснулся и их отношения к себе, приписывая их любовь к себе не своим заслугам, а их доброму, благодарному сердцу. «Они, — говорил он, — ценят малейшее доброе дело, которое им оказывают, и платят за него во сто раз большей привязанностью. Какой бы это был прекрасный народ, если бы с ним обращались по-человечески! Их душа проявляется уже в том, что они не любят думать о человеке дурно, а, напротив, склонны идеализировать всякого, у кого заметят хоть что-нибудь доброе. Вот хоть бы и я, — говорил отец Слепян, — ведь знаю себя: поистине — нищ есмь и окаянен... А они готовы мне приписывать чуть не святость». Вообще, видно было, что он любил своих рабочих уж по малой мере так же, как они его.
Отец Слепян был едва ли не первый священник, который устроил в Петербурге коллективные паломничества прихожан. Поблизости от Петербурга не много мест, привлекающих богомольцев. В те времена таким местом был Кронштадт (к отцу Иоанну). Но я не знаю, ездил ли туда отец Слепян со своими рабочими. Слыхал я только о Сергиевой пустыни.
В Сергиевой пустыни нет (по крайней мере, тогда не было) никаких особенных святынь, то есть ни мощей, ни чудотворных икон, привлекающих богомольцев в другие места. Но это был в то время монастырь очень благоустроенный, с прекрасно поставленной церковной службой. Об этом заботился сам всесильный тогда Победоносцев, иногда проживавший в Сергиевой пустыни на даче. Туда ходило или, точнее, ездило на богомолье довольно много зажиточных петербуржцев. Но пустынь так близко, что в нее нетрудно сходить обыденкой и пешком. Этим и воспользовался отец Слепян.
Вся толпа богомольцев отправлялась из Петербурга чуть свет с таким расчетом, чтобы попасть в пустынь к обедне. Шли они с пением молитв, иногда останавливаясь для краткого отдыха. Кое-кто из попутных деревень присоединялся к ним. По прибытии в пустынь слушали, конечно, литургию, а потом отдыхали, набираясь сил на обратный путь. Осматривать в пустыни нечего было, но некоторое угощение монахи давали богомольцам. Это угощение состояло из прекрасного черного хлеба, фунта по три на человека. Можно было брать у монахов и соль. А напиться можно было из колодца, очень хорошо устроенного, с металлическими кружками вокруг бассейна. Отдыхать же приходилось просто на траве, так как «странной» при монастыре не было. К позднему вечеру богомольцы могли уже возвратиться к себе в Петербург.
Отец Слепян священствовал в созданном им приходе довольно долго. По я потом перестал о нем слышать. Не помню хорошо и того, когда он умер; во всяком случае, он не дожил до революционных времен. Я не знаю также, как рабочие Новой бумагопрядильни относились к революционной пропаганде, которая так энергично велась в Петербурге во второй половине 90-х годов. Полагаю, что отец Слепян, хотя и прибыл из классической страны профессиональных союзов, не обращал внимания на коллективную экономическую деятельность рабочих. Да в те времена ему бы об этом не дали и пикнуть. Тогда ко всякой тени рабочей организации относились подозрительно; стачки и забастовки рассматривались как деяние преступное. Да весьма вероятно, что отец Слепян и не считал воздействие на экономическую жизнь входящим в круг обязанностей его как священника.
Но что осталось в рабочей среде из так усердно взращиваемых им семян нравственно-религиозной жизни? Или все они были расклеваны птицами на дальнейшем пути эволюции рабочего класса и заглохли в кустарниках экономических забот и попечений? Сохранилась ли какая-нибудь память об отце Слепяне в потомстве рабочих, так горячо его любивших? Во всяком случае, в свое время за свою жизнь он воскресил несколько тысяч душ, погрязавших в тине бессмысленного существования, и дал им жизнь светлую и счастливую. Что сделал каждый из них с полученным через отца Слепяна талантом — это уже дело их самих, а не его. Да и жизнь человеческая — явление очень сложное, и не все стороны ее дано решать одному и тому же деятелю.
Леонтьев К. Н.
Мое знакомство с Константином Николаевичем Леонтьевым относится к двум последним годам его жизни — к 1890-му и 1891-му. Сам я в это время был уже человеком вполне сложившимся, выработавшим все основы своего мировоззрения. Мы встретились как люди умственно равноправные, и то, что оказалось у нас сходным и родственным, было каждым выработано самостоятельно и различными путями. Благодаря меня за присылку брошюры «Социальные миражи современности», Леонтьев сам писал мне из Оптиной пустыни: «Приятно видеть, как другой человек и другим путем (выделено Леонтьевым) приходит почти к тому же, о чем сами давно думали» (7 августа 1891 года). Но мы приходили именно только к «почти» тому же. Разница все же была и осталась.
Ко времени личного знакомства мы уже знали друг друга заочно. Греческие его повести я читал давно. В 1889 же году Грингмут (Владимир Андреевич) {168} обратил мое внимание на «Восток, Россию и славянство» как в высшей степени замечательное произведение. Он прибавил, что почти во всем согласен с Леонтьевым. Но Катков (Михаил Никифорович) об этой же книге отозвался, что «Леонтьев дописался до чертиков». Грингмут же был и называл себя безусловным учеником Каткова. Думаю поэтому, что он не «почти во всем», а только кое в чем соглашался со взглядами Леонтьева. Как бы то ни было, конечно, и я не мог не признать «Восток, Россию и славянство» одним из замечательнейших произведений русского ума.
Со своей стороны Леонтьев отнесся с большим вниманием к нашумевшим тогда брошюрам моим, обрисовывавшим мое мировоззрение. Таким образом, когда Грингмут познакомил нас в 1890 году лично — мы встретились как будто давно знакомые.
Эта встреча произошла в Москве, Леонтьев жил тогда еще в Оптиной пустыни, где я никогда не бывал, но наезжал в Москву, помнится, три раза по разным делам. В то время на Страстном бульваре, близ Тверской, против самого монастыря была гостиница «Виктория», нероскошная, но пользовавшаяся репутацией очень приличной. В ней останавливались многие известные лица, как Ольга Алексеевна Новикова, Владимир Карлович Саблер {169} и другие. Тут же останавливался и Леонтьев.
В первый приезд он занимал большую комнату с отделениями во втором этаже. Во второй приезд я его застал уже в первом этаже: ему было трудно подыматься на второй. Вообще, все время нашего знакомства его здоровье постоянно ухудшалось, он становился все более хилым, несмотря на то что ему не было и 60 лет. [62]
Между прочими недомоганиями он серьезно страдал болезнью почек и приезжал в Москву отчасти для врачебного совета и производства анализов. «Многие раны грешнику», — повторял он.
После Оптиной пустыни он приезжал еще раз в Москву из Сергиева Посада и останавливался в гостинице «Париж» на Тверской. За все эти пребывания в Москве я бывал у него постоянно. Ездил к нему и в Сергиев Посад, где он жил в новой лаврской гостинице. В общей сложности за краткое время нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большею частию наедине, серьезно и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем.
Быть может, вследствие этих частых личных бесед у нас не было большой переписки, из которой у меня сохранилось всего шесть-семь писем. Два или три письма я отдал не то отцу Иосифу Фуделю, {170} не то А. А. Александрову, {171} когда у них затевалась какая-то публикация воспоминаний о Леонтьеве. Может быть, эти письма даже напечатаны, но, конечно, без моего имени, так как я просил безусловно не упоминать обо мне.
Когда я познакомился с Леонтьевым, он уже был физически не по летам хил, не мог много ходить, даже и в церкви обзаводился стулом, чтобы сидеть при богослужении. Тряска и шум железной дороги его чрезвычайно утомляли, и он в первое же свидание произнес целую обвинительную речь против этого способа передвижения. В современной жизни, говорил он, все соединяется для того, чтобы выводить человека из душевного равновесия, раздергивать ему нервы, не давать возможности ни глубоко наблюдать жизнь, ни спокойно обдумывать ее явления. Прежде, бывало, проедешь на лошадях несколько сот верст — так наберешься множества знаний и мыслей, видишь страну, ее природу, ее жизнь и обитателей, их обстановку. По железной дороге мчишься как угорелый, ничего не видя, кроме вагонов и вокзалов, одинаковых повсюду. Шум, гвалт, тряска. Свистки приводят голову в одурманенное состояние. В вагоне даже и с соседями трудно разговаривать: каждую минуту остановки, пассажиры входят и уходят, собирают и раскладывают вещи, суетятся, тормошат друг друга. И так пролетаешь сотни верст, ничего не видя, с оглушенной головой, раздраженными нервами и притупленной мыслью.
Физическая слабость Константина Николаевича нисколько, однако, не отражалась на его душевном состоянии. В этом отношении он казался моложе своих лет. Его мысль всегда оставалась ясной и светлой, ощущения — свежими и тонкими. Он всем интересовался, способен был увлекаться. Лицо его бросалось в глаза: худощавое, с тонкими чертами, оно было выразительно и подвижно. Голос оставался свеж и звучен, речь — остроумна, полна счастливо найденных выражений. Все у него было изящно, дышало аристократичностью, культурно выработанной породой. Рода его я, впрочем, не знаю. Фамилия матери его была Карабанова, и от Карабановых у него оставалось в Калужской губернии имение, в котором он некоторое время проживал. Совершенно не знаю обстановки его воспитания, но у него проявлялась какая-то прирожденная властность, стародворянская тонкость вкуса, а также и стародворянская распущенность. Вообще, он производил впечатление утонченно развитого русского барина. С этим связано и его какое-то физиологическое отвращение от всякого хамства.
Хуже хамства для него не было ничего на свете. А что такое хамство? Неразвитость умственная, неразвитость вкуса, неразвитость личности, отсутствие собственного достоинства и неуважение к чужому достоинству, отсутствие великодушия и истинного мужества, вообще ряд черт, противоположных понятиям «рыцарства» и «благородства».
Первое время моего знакомства с Леонтьевым на обычном фоне его пессимистического настроения часто проскальзывали полоски светлого оптимизма. Не очень-то веря этому, он все-таки поддавался иллюзорной надежде на национальное возрождение России. Такой самообман был в ту эпоху вполне естествен. Те, кто не переживал лично времени Александра III, не могут себе и представить резкой разницы его с эпохой Александра II. Это были как будто две различные страны. В эпоху Александра II весь прогресс, все благо в представлении русского общества неразрывно соединялись с разрушением исторических основ страны. При Александре III вспыхнуло национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в укреплении и развитии этих исторических основ. Остатки прежнего, антинационального, европейского, каким оно себя считало, были еще очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали перед новым, национальным. Эта «реакция» национального против европейско-революционного была так сильна, что даже пессимистический Леонтьев преувеличивал ее значение, и мы по этому предмету спорили с ним. Я говорил, что антинационально-революционное движение у нас непременно скоро возобновится. Леонтьев же полагал, что национальная «реакция» продолжится еще много времени и успеет развить большие силы для противодействия антинациональному. «Сколько времени, по вашему мнению, может длиться эта реакция?» — спрашивал он. Я отвечал: «Лет пять-шесть». Он только плечами вздернул: «Что вы! Уж по крайней мере лет двадцать пять». Мой глазомер оказался вернее, и вспышка прежнего антинационально-революционного настроения произошла у нас немедленно с началом нового царствования — Николая II. Леонтьеву, однако, этого уже не довелось увидеть, и он последние годы жизни провел в надежде, что в России в широком национальном масштабе может повториться тот же процесс возрождения, который он пережил в самом себе.
Ему казалось, что он замечает это и по своей личной судьбе. До тех пор не признаваемый, отрицаемый и более всего игнорируемый родной страной, он теперь почувствовал как будто некоторое признание. О нем там-сям заговорили, стали искать знакомства с ним. В сущности, таких людей было очень немного, но на Константина Николаевича, по сравнению с прежним, и это производило впечатление. В Москве у него тогда бывали Грингмут, Говоруха-Отрок, {172} цензор Залетов, некто Чуффрин, студент Погожей (Евгений Николаевич, писавший под псевдонимом Евгений Поселянин), {173} студент Духовной академии Попов (Иван Васильевич, впоследствии профессор); {174} бывали, конечно, Александров (Анатолий Александрович) и тогдашний редактор «Русского обозрения» князь Цертелев (Дмитрий Николаевич). {175} Бывал, конечно, я. Священник Фудель в это время находился в провинции. Думаю, что я перечислил чуть ли не всех его посетителей, и Константин Николаевич имел вид патриарха этого маленького круга националистов. Это его утешало и окрыляло надеждами; он начинал думать, что в России есть еще над чем работать, и планы работ начинали роиться в его голове. Вообще, ему дано было провести конец жизни в относительно светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой в своей родине, а первая ласточка той весны, которая изукрасит свежими цветами Россию, совсем было посеревшую в пыли своего псевдоевропеизма.
Аналогия между своими личными переживаниями и возможной эволюцией России легко могла представляться уму Леонтьева, потому что в пережитом им переломе было не появление чего-либо безусловно нового, а возрождение старого. Он был глубоко русский тип — как до своего перелома, так и в самом переломе и после него. Он в самом себе нес ту двойственность, которая раздирает современную русскую душу, совмещающую две совершенно противоположные основы жизни и эволюции. Их борьба и составила психологическую драму, пережитую Леонтьевым.
Душа его всегда хранила в подсознательной области старорусский тип строителей земли Русской. Воспитание сделало из него «интеллигента» новой России, отрицателя органических основ своей страны и потому глубокого «нигилиста». Нигилизм, косматый, неумытый, в нечищеных сапогах, — предел брезгливости тонко развитого, эстетического дворянства. Но сущность нигилизма порождалась самой же дворянской культурой, по мере того как высший образовательный класс отрешался от исторических основ, делаясь нечувствительным к их «категорическим императивам». Это совершалось под знаменем европейской культуры, но из чужой культуры можно брать в лучшем случае только плоды ее, а не те корни, которые порождают эти плоды. Отрешаясь от своих корней и не имея возможности прирасти к чужим, мы обрекались на господство отрицания над положительным творчеством. Такова и была участь исторической работы нашей интеллигенции.
Ее очень характерную черту составляет уничтожение веры в Бога, вследствие чего личность человека остается без всяких сдержек. Она может дерзать на все, чего захочет, на овладение чем хватает ее силы. Это основа нигилизма, как вульгарного, так и утонченного, ницшеанского, который дает разрешение на такое дерзание не каждому первому встречному, а натуре высшей, «сверхчеловеческой». У Леонтьева, с его дворянским презрением к мелкой сошке, с его утонченной мыслью и эстетизмом, и были черты ницшеанские. Когда у него не было Бога, он мог дерзать на все. Конечно, он не делал ничего относящегося к категории презираемого им хамства, но там, где его соблазняло эстетическое сластенство, у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Фенечкой, о которой он многим рассказывал.
Леонтьев по специальности был врачом, кончил курс в Москве и состоял сначала врачом на службе. В одном глухом угле хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Фенечка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но, на беду, у него зашевелилась эстетическая чувствительность, и он стал соблазнять Фенечку. «Эх, Фенечка, вы мне все предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно» (то есть ее саму). Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему. Леонтьев не подумал даже о том, что сначала это могло случиться просто из страха рассердить доктора и оставить мужа беспомощным. Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Фенечка умоляла взять ее с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался себя навсегда связывать. Не знаю, что сталось с бедной Фенечкой и узнал ли муж о поступке доктора, которого он горячо благодарил за заботливость. Но я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования порядочности. Он с этим ничуть не согласился. «Ведь я тогда не верил в Бога, — возразил он. — Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно. Почему я должен был лишать себя удовольствия? Да ведь и Фенечке было приятно, а муж ничего не знал».
Таким образом, по его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон. Бога нельзя не послушаться и по страху перед Ним, и по нравственному перед Ним преклонению. Если же Бога нет — можно делать что угодно. Нравственный «категорический императив» вытекает только из божественной сферы. Страшен только грех, а если нет Бога, то и грех не страшен. И грехов он совершал очень достаточно. Я не допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: «Бывало и похуже». Но он сам говорил об этом, как будто испытывая потребность исповеди и самообличения.
В таком состоянии неверия и усыпления нравственного «императива» находился он, когда в 1863 году перешел на службу в Министерство иностранных дел и начал исполнять должность консула в различных местах Турции. Здесь он оставался до 1873 года, и это десятилетие было эпохой его полного внутреннего перелома. Этот психологический процесс произошел далеко не случайно именно в Турции. Напротив, нигде Леонтьев не мог найти более благоприятных условий для пробуждения в своей душе старорусского человека, выработанного византизмом, но уже дремавшего под оболочкой новорусского европеизма. Только здесь он мог ощутить еще живые веяния того органически ему родного, которое в России было всюду густо заштукатурено и закрашено при перестройке жизни на европейский лад. В Адрианополе, где Леонтьев служил, в Константинополе, где он часто бывал, в Салониках, в Албании — он попал в атмосферу фанариотов, хранителей точек зрения древней Византии. Он увидел повсюду, даже на Кандии, жизнь, в которой православие свято оберегалось как палладиум национального самосохранения. Он познакомился с церковной иерархией, всецело проникнутой тем же византизмом. Даже в турецкой мусульманской среде весь быт строился на религиозной дисциплине. Религиозно-социальная жизнь, так сильно потускневшая в России, здесь охватывала Леонтьева во всей своей свежести и поэтической красоте. Для эстета эта красота имела огромное значение. Она приковывала чувство его к тому, на чем мысль без посредства чувства не остановилась бы так легко.
Леонтьев жил до тех пор без веры в Бога и на всей свободе побуждений своей автономной личности, не признающей над собою никакого владыки. Эта автономность, конечно, давала ему легкий доступ к наслаждению, но я полагаю, что она не давала ему счастья. Он делал все, что хотел, но ощущал свою жизнь пустой, без глубокого содержания, не связанную ничем, но зато и не связанную ни с чем великим в мире. Беспочвенная автономность вытекала у Константина Николаевича не из существа его души, а из интеллигентного воспитания, из внешней коры, которая облекала существо души. Существо же это — наследие органической национальной жизни — было, наоборот, проникнуто потребностью живого единения с тем, что составляет величайшую, основную силу бытия, и такого же единения с какой-либо великой социальной коллективностью. Пусть такое единение связывает свободу, но только оно одно дает полноту жизни, а потому и счастье. Здесь, в атмосфере византийских преданий, Леонтьев почуял родной голос, открывающий ему эту психологическую истину, родной потому, что это был тот самый голос, который говорил о благочестивых строителях старой Русской земли. От них была рождена душа Леонтьева и здесь, на почве древней Византии, ощутила свое истинное содержание, сознала себя. Не сразу это, конечно, совершилось. Но внутренний человек, пробуждаясь в Леонтьеве, начал пробиваться сквозь внешнюю кору, в которую был закутан воспитанием, рвал нити, связывающие его наносным европеизмом, срастался снова с древними корнями, от которых был оторван. Этот процесс завершился наконец переломом, возрождением в Леонтьеве его основного, органического типа и презрительным отбросом маски европеизированного типа. Константин Николаевич, конечно, и сам не мог бы сказать, с какого времени в нем стал пробуждаться внутренний человек, но ясно, что это не могло произойти сразу и что у него был более или менее долгий период, в течение которого назревала повелительная потребность прийти к Богу.
Внешне заметным, даже драматическим образом этот перелом проявился в 1870 году (а может быть, и в 1869-м). Леонтьев по делам службы, отчасти просто для удовольствия, приехал куда-то в довольно далекую от Константинополя дачную местность, прелестную в смысле природы, очень глухую в смысле культурном. Время было летнее, жаркое. Там и сям появлялась сильная холера. Расположившись в своей временной квартире, Константин Николаевич должен был принять как консул каких-то наших торговцев, жаловавшихся на взятки или притеснения турецких властей. Обязанность защищать торговцев вообще была для него неприятна. «Я, — говорил он, — по правде сказать, терпеть не могу этих купчишек. Сами мошенник на мошеннике, а туда же: не смей с него турок взять взятки». Но приходилось, конечно, исполнять долг службы. Побеседовал он с ними и отпустил. Торговцы же по случаю приезда консула поднесли ему в виде приветствия икону. Леонтьев даже не взглянул, какая икона, но в стене был гвоздь, и он приказал се тут повесить. Затем он отправился гулять, заходил в ресторан, возвратился домой усталый и разгоряченный от жары, разделся и с удовольствием улегся спать у открытого окошка, обвеваемый прохладным ветерком. Так он заснул. Проснулся он уже прямо от холода и тут же почувствовал конвульсии в животе. Начались понос и рвота — все признаки холеры. Что делать? В местечке не было ни врача, ни аптеки. Леонтьев приказал слуге отправить призывные телеграммы в Константинополь. Но это было почти бесполезно. Нетрудно было рассчитать, что он может умереть несколько раз, прежде чем кто-нибудь успеет прибыть на помощь. Его охватил страх, между тем припадки все усиливались. Он лежал, изнемогая, на диване, и взгляд его случайно упал на икону, повешенную на стене против него. Оказалось, что это была Божия Матерь. Он невольно ста! всматриваться. Она глядела на него грустно и строго. Ему между тем становилось все хуже. Смерть наводила на него ужас. Не хотелось умирать, страстно хотелось жить. Пристальный взгляд Божией Матери начал раздражать его. Ему казалось, что Она пророчит ему смерть, и он в припадке ярости крикнул иконе, потрясая кулаком: «Рано, матушка, рано! Ошиблась! Я бы мог еще много сделать в жизни!» Припадки гнева и холеры чередовались у него, и наконец его охватило чувство беспомощной покорности. Он начал молиться Божией Матери, умоляя Ее спасти его и обещая, что, если Она сохранит его в живых, он примет монашество. [63]
И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг вспомнил — точно кто-то шепнул ему, — что у него есть опиум. По случаю распространения холеры он обычно брал его с собой при поездках. Как он мог забыть это? Он бросился к чемодану и действительно нашел драгоценный пузырек. Леонтьев, как врач, хорошо знал дозировку и проглотил максимальную порцию опиума, неопасную для жизни. Лекарство быстро подействовало, он впал в забытье, крепко заснул и спал чуть не целые сутки. Проснулся он здоровый, холерические припадки исчезли. Прибывший со всей поспешностью врач оказался уже не нужен.
Так совершилось первое проявление перелома в душе Леонтьева. Но состояние его чувства и сознания оставалось смутно и хаотично. В Бога он все-таки не верил, а Божию Матерь сознавал как живое существо, полное благости. Он чувствовал к Ней глубокую благодарность, а в то же время и страх. Нарушить данное Ей обещание он считал совершенно невозможным, но и исполнение его, при более хладнокровном размышлении, оказывалось чем-то фантастическим. Нужно было оставить службу, разрушить все планы жизни — и все это при отсутствии веры в Бога. Об этих сложностях не с кем было даже посоветоваться, не возбуждая толков, что он просто сходит с ума.
Среди таких недоумений он решил поехать на Афон, где в русском Пантелеймоновском монастыре тогда славился отец Иероним, {176} как старец великой духовной мудрости. Нетрудно было придумать для поездки служебный предлог, и Леонтьев отправился на монашеский полуостров, «удел Божией Матери», во всем консульском величии. В то время консул на Ближнем Востоке представлял совсем не ту скромную величину, как в государствах Западной Европы. Это было лицо очень важное, с большими полномочиями и влиянием. Для произведения должного впечатления на восточные умы он окружался и пышным церемониалом. И теперь Константин Николаевич ехал к месту смиренного покаяния на превосходном коне, с эскортом вооруженных кавасов в живописных костюмах. По дороге его встречали колокольным звоном, а русский монастырь принял представителя России еще более торжественно. Настоятель со всей братией вышел к Святым воротам, приветствовал именитого посетителя соответственным словом, потом пригласил в церковь, потом следовало угощение. Наконец, нужно было и отдохнуть, но Леонтьев заявил, что ему необходимо переговорить с отцом Иеронимом, и желание его было немедленно исполнено.
И вот именитый посетитель, которого отец Иероним только что встречал с таким почетом, оставшись с мим наедине, бросается ему в ноги и умоляет немедленно постричь его в монашество. При этом он сознается, что в Бога не верит. Нервный и взволнованный вид Леонтьева еще более поразил отца Иеронима. Он старался его успокоить, начал объяснять, что невозможно так сразу постригаться, необходимо сначала устроить свои дела в миру, чтобы быть свободным, необходимо подготовиться, пройти послушание и так далее. Да и как же, не веря в Бога, идти в монахи? Много пришлось отцу Иерониму за несколько свиданий толковать с мудреным посетителем о Боге, вере и неверии, о монашестве и так далее. Хотя отсрочки крайне огорчали Константина Николаевича, но эти беседы осветили предстоящий ему путь жизни, и поездка на Афон оказалась плодотворной.
Препятствий для пострига оказалось и долго оставалось очень много. Не знаю, когда женился Константин Николаевич, но, во всяком случае, уже это составляло большое препятствие, тем более что брак этот явился тяжким крестом в жизни Леонтьева. Он был страстно влюблен в жену свою, которую описывал как редкую красавицу, но затем ее постигла неизлечимая душевная болезнь. Она тяжелым бременем лежала на его руках, на его попечении, покинуть ее было невозможно. Но и помимо больной жены трудно было махнуть рукой на свои литературно-публицистические работы, которые теперь, более чем когда-либо, являлись в его глазах служением людям и Церкви. Наконец, нужно было иметь средства к существованию. Среди всех этих усложнений исполнение пострижения постепенно затянулось у Леонтьева почти на двадцать лет и совершилось только в последний год его жизни.
Но подготовка к этому и работа над собой началась у него немедленно. Он вышел в отставку и прожил на Афоне целый год под руководством отца Иеронима. Это было в 1871/72 году. Отца Иеронима он любил и чтил как никого и ставил выше отца Амвросия Оптинского, {177} под руководством которого находился позднее. У меня сохранилось письмо Леонтьева, в котором он их сравнивает. Говоря о том, что для духовной жизни необходимы катехизатор (учитель теории) и старец (руководитель самой жизни в ее частностях), он поясняет:
«Для меня отец Иероним Афонский был и катехизатор, и старец (в 1871/72 году), но в Оптиной (с 74-го до 78-го года) дело слагалось иначе. Мне нужно еще тогда было кое-чему доучиваться, но после Иеронима отец Амвросий ничуть не удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные, элементарные, на меня мало действовали. У него, вследствие жизни среди мира, а не в афонском удалении, и паства была несравненно многолюднее, чем у Иеронима. [64]
Кроме того, он уже и в 1874 году был гораздо слабее Иеронима, и, наконец, у него видимо не было тех философских и богословских наклонностей, которые были в высшей степени сильны у Иеронима. Иероним сам находил удовольствие по целым часам спорить и рассуждать со мной о вере, монашестве, загробной жизни, о дьяволе и так далее. Он и о своей молодости и прошлой жизни охотно рассказывал мне. К тому же я невольно видел разницу в размерах дарований — не духовных, эти могли быть равны, а природных. У Иеронима были оба ума, и теоретический, и практический; он рассуждал замечательно и делал дело превосходно. И учил общему, и руководил частностями. В отце Амвросии я нашел только практический ум, только руководителя. К тому же, почти неожиданно обращенный незадолго до того Иеронимом к самому существенному — к „страху греха“, которого до 72-го года у меня уже с юности не было, влюбленный даже в него, [65] как женщина, всюду преследуемый его величественной, весьма суровой и обожаемой тенью, я беспрестанно и невольно сравнивал их, и (увы!) к невыгоде моего нового пастыря. Не к нравственной невыгоде! О нет! Они оба нравственно были очень высоки, оба жизнью святы. Скорее уж к эстетической, что ли, невыгоде. Отец Иероним никогда не смеялся, улыбался по два-три раза в год, никогда не шутил. Отец Амвросий всегда был весел, часто шутил, любил разные поговорки и рифмы в народном вкусе, и мне вначале это ужасно не нравилось. Отец Иероним способен был сказать о чувстве так: „Да! Что делать! У кого это чувство сильно, тот от него не отделается. Надо стараться дать ему только безгрешное направление“. Отец Амвросий ничего мне такого не говорил. Отец Иероним (самоучка из старооскольских купцов 20–30-х годов) читал с удовольствием Хомякова и Герцена и рассуждал со мною о них. Отец Амвросий давно уже почти ничего не читал. И если бы не Климент, {178} то не знаю, к чему бы привели меня поездки в Оптину». [66]
Эти объяснения Леонтьева достаточно показывают, какое значение в его развитии имело пребывание на Афоне и руководство отца Иеронима. Недаром его воспоминания об Афоне дышат таким светлым чувством. Впрочем, то же светлое чувство охватывало для него и всю жизнь Ближнего Востока, на котором он ощутил свою старорусскую, византийско-русскую душу, аскетически религиозную, социально дисциплинированную, проникнутую иерархичностью, а в бытовом отношении полную самобытной красотой. Параллельно с этим у него все более развивалось отрицание и отвращение в отношении современного европейского прогресса, демократического, элитарного и материалистического, в своей средней однородности подавляющего самостоятельность и высоту личности.
После пребывания на Афоне Леонтьев возвратился в Россию и, живя в своей калужской деревне, посещал недалекую Оптину пустынь в полумонашеском положении ученика отца Климента (Зедергольма) и отца Амвросия. Так прошло четыре года. Он достиг уже больших успехов в личной выработке. Он дошел до счастья веры в Бога. Но литература не могла ему давать достаточно средств, а срок прежней службы не давал права на пенсию. Леонтьев решил снова поступить на службу и несколько лет пробыл членом Московского цензурного комитета, пока не вышел (в 1887 году) вторично в отставку. Разумеется, все жгучие интересы жизни Леонтьева не имели уже ничего общего со службой, и в Московском цензурном комитете сохранилось только воспоминание о разных причудливых его выходках.
Так, например, в повести какого-то либерального беллетриста, отданной на рассмотрение Леонтьева, одно из действующих лиц в разговоре с другим выражало сентенциозное замечание: «И генералы берут взятки». Леонтьев подумал и вместо «генералы» поставил «либералы»: «И либералы берут взятки». Автор в ужасе прибегает к нему и начинает горячее объяснение.
— Что же такого нецензурного находите вы в этой фразе, и разве не случается, чтобы генералы брали взятки? Ведь у меня речь идет вовсе не о либералах, а о генералах.
— А я, — отвечает цензор, — не могу разрешить таких нареканий на столь высокие чины.
Автор, и совершенно справедливо, начинает доказывать, что фраза в такой переделке делается совершенно бессмысленной, потому что никакого либерала в повести нет. Леонтьев стоит на своем. Сторговались наконец на том, что совсем выбросили злополучную фразу: не осталось ни генерала, ни либерала.
Другой раз Леонтьев чрезвычайно задержал разрешение одной невинной народной повести. Автор несколько раз бегал в комитет и наконец пошел к Леонтьеву на квартиру, прося поскорее надписать разрешение, так как повесть совершенно безупречна и прочесть ее можно очень быстро. Леонтьев сначала отделывался разными, явно слабыми, отговорками. Но автор указывал, что ведь и он, и издатель терпят от такой медлительности серьезный ущерб: издатель теряет время публикации, автор не получает гонорара. Леонтьев, прижатый к стене, наконец раскрыл свой секрет:
— Да что же мне делать, когда он все не удосуживается прочесть вашей повести!
— Кто такой «он»? — спросил удивленный автор.
— Да мой Федька.
Что же оказалось? Леонтьев сам не рассматривал книжек для народа, а отдавал своему лакею Федору. Как будто просто почитать для развлечения. Когда Федор приносил ее обратно, он его расспрашивал:
«Ну что ж, понравилась книжка?»
«Хорошая книжка, занятная».
«А может быть, там есть что-нибудь против Бога, против святыни?»
«Как можно-с! Ничего такого нет».
«Ну, это хорошо. А то иной раз Бог знает что пишут. Вот тоже против царя пишут».
«Ни-ни! Ничего против государя нет. Книжка очень занимательная».
Тогда Леонтьев без дальнейших размышлений надписывал: «Печать разрешается». На этот раз Федька почему-то заленился прочесть повестушку.
Эту историю рассказывал мне в Петербурге сослуживец по Главному управлению Садовский, бывший при Леонтьеве в Московском цензурном комитете. Леонтьев тогда объяснял в комитете причину такого своеобразного рассмотрения народных книг. Авторы, говорил он, обыкновенно либеральничают и стараются провести какую-нибудь «тенденцию», а в то же время желают и спрятать ее от внимания цензуры. Но если Леонтьев сам начнет читать, то хитрости автора тотчас обнаружатся для него и он принужден будет запретить книжку. Между тем авторы так усердно затушевывают свою тенденцию, что народ может совсем не заметить ее. Тогда, значит, книжка безвредна и ее можно печатать. Поэтому он и дает ее прочитать Федьке. Если он ничего не заметит, то, следовательно, и прочие подобные ему читатели никаких вредных влияний не воспримут.
Когда Леонтьев окончательно оставил службу, его влиятельные друзья — кажется, главным образом Тертий Иванович Филиппов {179} — уже могли выхлопотать ему пенсию, и он поселился в Оптиной пустыни. Жил он в полумонашеском положении, на собственной квартире, под духовным руководством отца Амвросия, к которому успел «приучиться». Не знаю, почему отец Амвросий все оттягивал постриг, который совершился, да и то тайный, лишь в 1891 году, перед отъездом в Сергиево. Причины тайного пострига непонятны. Монах лишается пенсии, а Леонтьеву нужно было и самому жить, да еще содержать и других лиц. Но почему тайный постриг не совершился раньше — это уже дело духовнических соображений отца Амвросия.
Что касается Тертия Филиппова — они с Леонтьевым были близкими друзьями, на «ты», постоянно поддерживали переписку, обменивались мыслями и планами. Филиппов навещал Леонтьева и в Оптиной пустыни. Константин Николаевич по этому поводу рассказывал забавный анекдот. Приехал Филиппов и, не застав Леонтьева дома, отправился в гостиницу, приказав лакею: «Скажи барину, что Тертий приехал». Слуга переврал поручение и доложил Леонтьеву: «Заходил тут господин и велел сказать, что черти приехали». Леонтьев рассмеялся: «Черти приехали? Где же они остановились?»
О Филиппове он рассказывал не один раз. Их сближали и вкусы, и сходство мировоззрений, иногда и совместная деятельность. Филиппов был большой поклонник Греческой Церкви. В то время шла борьба болгар против Константинопольской Патриархии за свою автокефальность, раздутую до антиканоничности. Наша Церковь или, точнее сказать, правительство (в лице обер-прокуроров графа Дмитрия Андреевича Толстого и Победоносцева) сочувствовало болгарам и молчаливо смотрело на подрыв прав интересов Константинополя. Леонтьев, будучи не очень высокого мнения о славянах и во всех отношениях предпочитая греков, об руку с Филипповым ратовал за Константинопольскую Патриархию. Его статьи, относящиеся к этому делу, горячи и очень сильны. Вообще, Леонтьев, кажется, всегда являлся единомышленником с Филипповым. Их связывали даже вкусы, как, например, к русской народной песне и вообще к бытовому художественному творчеству народа. У Тертии Ивановича, как известно, было немало даже ученых трудов по народной песне, а что касается плясок, то он, когда был помоложе, хотя уже в чинах, любил лично участвовать в них в деревне и даже славился у девушек как хороводчик. Это мне рассказывал сам Леонтьев о своем друге. Нужно заметить, что Тертий Иванович в более молодые годы славился также своим голосом и был превосходный певец. В свои студенческие времена (в Московском университете) он раз, не думая об этом, сорвал сходку. Сходка, очень оживленная, собралась в новом университете, но в разгар ее вдруг послышались крики: «Господа, Тертий поет в саду!» (старого университета) — и студенты один за другим стали уходить послушать Тертия, так что сходка уничтожилась.
Разумеется, Леонтьев и Филиппов постоянно обменивались мыслями и о серьезных вопросах.
Ко времени нашего знакомства бурная жизнь Константина Николаевича уже совершенно улеглась и вошла в правильное русло. Его мировоззрение вполне определилось. Его религиозные убеждения и личные верования стали уже тверды и устойчивы. Все прежние сомнения и колебания сделались воспоминанием далекого прошлого. И хотя он чувствовал себя усталым, однако еще не собирался умирать, а думал о новой работе, новой борьбе. Во мне он предполагал во многих отношениях соратника и не только интересовался обменом мыслей, но даже очень заботился о том, чтобы мы спелись и в отношении практической работы. Очень характеристична была его мысль о нашей совместной работе по выяснению социализма.
Дело это возникло так. Когда он еще жил в Оптиной пустыни, я написал статью «Социальные миражи современности» (которая потом вышла и отдельным изданием) и в ней доказывал, что коммунистическое общество должно являться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было бы думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг. Когда он приехал в Москву, он с живейшим интересом стал меня расспрашивать о подробных основаниях моего мнения и говорил, что если так, то коммунизм будет, стало быть, явлением очень полезным. Рассказал мне, между прочим, что уже поделился своими впечатлениями с Тертием Ивановичем и писал ему, что Тихомиров указывает в социализме совершенно необыкновенные стороны; мы боялись социализма, а оказывается, что он восстановит в обществе дисциплину. «Странно не-како влагаеши ты мне в ушеса», — отвечал Тертий. Рассказывая об этом, Леонтьев шутливо нарисовал сценку из будущего социалистического строя:
«Представьте себе. Сидит в своем кабинете коммунистический действительный тайный советник (как он будет называться — это безразлично) и слушает доклад о соблюдении народом постных дней — ведь религия у них будет непременно восстановлена, без этого нельзя поддержать в народе дисциплину. И вот чиновник докладывает, что на предстоящую пятницу испрашивается в таком-то округе столько-то тысяч разрешений на получение постных обедов. Генерал недовольно хмурится:
— Опять! Это, наконец, нестерпимо. Ведь надо же озаботиться поддержанием физической силы народа. Разве мы можем дать им питательную постную пищу? Отказать половине!
Докладчик сгибается в дугу:
— Ваше высокопревосходительство (или как у них там будут титуловать!), это совершенно справедливо, но, осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство циркулярно разъяснили начальникам, как опасно подрывать и ослаблять привычную религиозную дисциплину в народных массах. Начнут покидать обрядность, и где они остановятся, осмелюсь доложить?
Генерал задумывается.
— Да, конечно. Не знаешь, как и быть с этим народом. Ну, давайте доклад.
И он надписывает: „Разрешается удовлетворить ходатайства“».
Он обрисовал эту гипотетическую сценку будущего живо и весело, гораздо интереснее, чем я теперь умею передать. Разумеется, говорилось это шутливо, но в Леонтьеве на эту тему зашевелилась серьезная философская социальная мысль, связанная с теми общими законами развития и упадка человеческих обществ, которые он излагает в «Востоке, России и славянстве». Он об этом серьезно задумался, ища место коммунизма в общей схеме развития, и ему начинало казаться, что роль коммунизма окажется исторически не отрицательной, а положительной. Он думал, что вопрос этот важно было бы обстоятельно разработать, но для этого у него не хватало практических знаний по социализму и коммунизму, вследствие чего и явилась мысль разработать вопрос совместно со мной. Вот что он мне писал по этому поводу уже из Сергиева Посада 20 сентября 1891 года, настойчиво приглашая приехать к нему:
«Кроме разговоров о службе, я имею в виду переговорить с Вами о другом деле, не знаю, важном или неважном, — я на него смотрю так или этак, смотря по личному настроению. Желал бы знать, что Вы скажете о нем. Я имею некий особый взгляд на коммунизм и социализм, который можно формулировать двояко: во-первых, так: либерализм есть революция (смешение, ассимиляция); социализм есть деспотическая организация (будущего); и иначе: осуществление социализма в жизни будет выражением потребности приостановить излишнюю подвижность жизни (с 89-го года XVIII столетия).
Сравните кое-какие места в моих книгах с теми местами Вашей статьи, где Вы говорите о неизбежности неравноправности при новой организации труда, — и Вам станет понятным главный пункт нашего соприкосновения. Я об этом давно думал и не раз принимался писать, но, боясь своего невежества по этой части, всякий раз бросал работу неоконченной.
У меня есть гипотеза или, по крайней мере, довольно смелое подозрение, у Вас — несравненно больше знакомства с подробностями дел. И вот мне приходит на мысль предложить Вам некоторого рода сотрудничество, даже и подписаться обоим и плату разделить. Впрочем, если бы это удалось, то дело так важно, что о плате можно много и не думать (по крайней мере, ныне). Если бы эта работа оказалась с точки зрения „оппортунизма“ неудобной для печати, то я удовлетворился бы и тем, чтобы мысли наши были ясно изложены в рукописи. Я об этом сотрудничестве с Вами ad hoc еще в Оптиной много думал».
Он меня очень звал к себе переговорить серьезно о совместной работе. Однако до серьезных разговоров мы так и не добрались. Через два месяца после своего письма он уже скончался, и хотя мы за это время еще виделись, но при обстановке, неудобной для отдельных разговоров.
Что касается вопроса о службе, о котором он упоминает, то дело в том, что я крайне тяготился положением газетного работника, необходимостью снискивать хлеб писанием лишь газетных пустяков. Я рвался поступить на службу, чтобы жить жалованьем, а писать только то, что меня занимало и вдохновляло. Я просил всех друзей помочь мне в этом, говорил Кирееву, {180} Новиковой и так далее, писал и Победоносцеву. Но только один Леонтьев, сам бывший писателем, а не газетчиком, понимал мои чувства. Он хотел пустить в ход Тертия Филиппова. Поступление на службу очень затруднялось тем, что я лишь недавно был освобожден от надзора полиции. Но я мог рассчитывать, что П. Н. Дурново {181} (директор полиции) не станет мне мешать. Он был умен и понимал, что отдача меня под надзор полиции была совершенной бессмыслицей. К сожалению, это было сделано по высочайшему повелению, а потому не могло не учитываться всеми властями, у которых можно было бы хлопотать о принятии меня на службу. Может быть, Леонтьев, очень заботливо ко мне относившийся, и успел бы чего-нибудь добиться, но он слишком скоро умер. Так я и остался пришпиленным к мелкой газетной работе.
Но он уже в этом не виноват. Он во всех отношениях старался расчистить мой жизненный путь, возлагая большие надежды на мою писательскую деятельность. Точно так же он заботился о моей духовно-религиозной выработке, которую находил самым слабым моим пунктом, и, нужно сказать, совершенно справедливо. Я, конечно, был верующим, и христианином, и православным, но все это шло слишком из головы, при чрезвычайной слабости сердечного чувства. Мы с ним об этом говаривали откровенно, потому что я и сам понимал религиозное значение эмоции и очень страдал от слабости ее у меня. Леонтьев очень за меня в этом отношении сокрушался и старался помочь мне. Помню ту грусть, с которой он заговорил об этом со мною в первый раз:
— Лев Александрович, дорогой, да почему же когда у вас разум так ясно говорит о вере, почему сердце холодно? Как же у вас это так выходит?
Он как-то пригнулся ко мне, голос понизился, принял какие-то нежные интонации. Казалось, он так и хотел бы перелить в меня свою сердечную веру. У него в это время религиозное состояние достигло уже полного расцвета. Он, бывший атеист, приобрел именно горячую сердечную веру, которая оставалась непоколебимой даже в такие минуты, когда в разуме появлялись облачка каких-то сомнений. А это у него все-таки бывало.
Раз он говорил со мной о прозорливости, о таинственном влиянии, проявляющихся у старцев вроде Иеронима Афонского, Амвросия Оптинского, Варнаввы и других. Потом вдруг запнулся и неожиданно заметил:
— Да это наш христианский гипнотизм. Признаюсь, меня смущают явления гипнотизма. Я стараюсь об этом не думать.
Почему он смущался? Вера хотела видеть чудо в прозорливости и духовном влиянии, видеть действие особых, божественных сил. А разум медика и естественника задавал лукавый вопрос: какая же объективная разница между гипнотизмом христианским и обыкновенным? Леонтьев не умел определить разницы и «старался не думать» о неприятном вопросе.
Впрочем, вера его не подрывалась такими недоумениями. Он давно жил в атмосфере уверенности, что во всем, великом и малом, мистическом и естественном, совершается воля Божия, без которой ничего не может с ним случиться ни приятного, ни скорбного. Это налагало печать на всю его обыденную жизнь.
Помню, раз я зашел к нему в его отсутствие. Сел подождать. Прибыл он страшно утомленный, сбросил верхнее платье и оказался в подряснике. Не здороваясь со мной, он прежде всего обратился к образам и начал молиться, отвешивая низкие поясные поклоны. Молился довольно долго, минуты три. Потом поздоровался со мной, позвонил и заказал подать чаю, а сам тяжело опустился в кресло:
— Совсем замучился, изморился. Тело плохо служит. Многие раны грешнику.
Принесли чай, он пил с видимым наслаждением. Душистый, горячий напиток освежил его, и он, повеселевший, обратился ко мне:
— Вот, Лев Александрович, видите, как нужно понимать дары Божии, милость Божию. Так у нас в монастырях понимается попечение Божие. Вы думаете, только в великих делах? Нет, во всем, в самом даже малом. Вот я был уставши, теперь с удовольствием напился чаю, и стало мне так легко и хорошо. Это милость Божия, это Бог послал, и я Его благодарю. Он добр, всякое утешение посылает. Как же не любить Его! А если посылает Бог «многие раны грешнику» — все равно, и в этом Его благость. Его любовь к нам. Нужно грешников вразумить, очистить. Бог делает это по милосердию. Как же не благодарить Его, как не любить такого доброго, попечительного Господа!
Эти точки зрения христианской философии перешли уже у Леонтьева в состояние сердечной веры, которая соединена с постоянной любовью к Богу и даст человеку счастье. Леонтьев очень настойчиво проповедовал страх Божий, но, собственно, потому, что в этом чувстве проявляется полное убеждение в реальности бытия Бога, а потому и сознание, что возбудить Его гнев очень опасно. Конечный же результат веры — это любовь. Леонтьев уже имел ее, и потому ему было жаль меня, для которого, при сухости сердечной веры, недоступно оставалось счастье, ею даваемое. Он и старался мне всячески помочь, и, можно сказать, не оставлял меня в покое настояниями, чтобы я пошел в духовной жизни таким путем, который приводит к сердечной вере. Для этого нужно прежде всего руководство старца.
У меня сохранилось письмо его по этому поводу (тоже где он проводит сравнение между отцом Иеронимом и отцом Амвросием).
«В Вас, — писал он, — я вижу нечто такое, что меня за Вас тревожит. Боюсь быть откровенным, боюсь оскорбить как-нибудь, боюсь лишиться Вашего доброго расположения. Но в надежде на то, что Господь расположит сердце Ваше принять слова мои так же искренне и просто, как я их говорю, — буду откровенен. Вы на прекрасном пути, Вы ищете именно того, что нужно искать, но я замечаю в Вас какую-то нерешительность и вредную медленность. В чем же? Да хоть бы и в том, например, что Вы, вероятно, и могли бы побывать в Оптиной и видеть отца Амвросия, но откладывали и теперь жалеете. И еще Вы чувствуете потребность найти духовника и говорите, что „страшно“. Почему же страшно? Во-первых, наши русские духовники и даже знаменитые старцы скорее слишком снисходительны, чем чересчур строги в своих требованиях, или потому страшно, что вдруг он, духовник, не понравится, а менять нехорошо? Гак ли? Или еще что-нибудь, чего и не придумаю? Многое, многое можно по этому поводу Вам сказать. Но вот что: сделайте опыт послушания (то есть против воли, против расположения). Послушайтесь для опыта меня, окаянного и многогрешного, только один раз, не по убеждению практического разума, а по другому чувству. Во едину из следующих суббот приезжайте ко мне без компании, в половине третьего, что ли; ночуйте у меня, у меня теперь квартира просторная, расхода, кроме вагона и извозчиков, не будет. [67]
Пробудете у меня все воскресенье до последнего вечернего поезда. Поговорим. Часов около 12 в воскресенье Вы съездите к отцу Варнавве, а то и я за ним могу коляску послать; он бодр и деятелен: приедет. Хотя, по правде сказать, я думаю, что Вам пока нужнее катехизатор (учитель теории), чем старец (руководитель жизни самой в ее частностях). В старцы я, разумеется, не гожусь, и смешно даже мне и думать об этом! Но катехизатором, не лишенным пригодности, сам отец Амвросий удостаивал меня признавать. Для старчества нужна особая благодатная сила, для проповеди и обучения теории достаточно искренней собственной веры и некоторых умственных способностей. Иногда эти свойства соединяются в одном лице, иногда они раздельны...»
Говоря затем о своем личном духовном воспитании у отца Иеронима, отца Амвросия и отца Климента (Зедергольма), он продолжает:
«Климент все-таки приучил меня к отцу Амвросию, да я и сам уже привык постепенно к тому духовному понуждению, которого Вы напрасно боитесь и называете ложью (точно Л. Н. Толстой)! Не знаю, господа умные люди, как вас избавить от ваших чрезмерных от себя требований, а если суховато, то сейчас: „Это ложь!“ А Спаситель сказал: „Нудящие себя восхищают Царство Небесное“. И в вере полезно постепенное понуждение. Ну, прощайте. Помолитесь-ка Богу, чтобы Он по милосердию Своему помог мне приучить Вас хотя бы к отцу Варнавве так, как меня Климент приучил к отцу Амвросию. А главное, не думайте, что нужны какие-нибудь необычайные молитвы, а очень просто: Господи, помоги мне приобрести то-то и то-то, укажи мне путь Твой».
С сердечной благодарностью вспоминаю я и теперь об этой доброй заботливости Константина Николаевича. Но не воспользовался я ею, не сумел отказаться от своей воли. Да и его жизнь была уже на исходе, и не имел бы он времени «приучить» меня к отцу Варнавве, у которого я не раз бывал, подобно сотням прочих богомольцев, но к руководству которого ни разу не обращался.
Вообще, пока Леонтьев жил в Оптиной и только изредка наезжал в Москву, трудно было что-нибудь совместно делать. А пребывание его в Сергиевом Посаде продолжалось всего три месяца, так что ни одного возникавшего плана не было времени осуществить. Такова была участь и еще одного проекта, о котором мы заговорили чуть ли не в 1890 году и к которому несколько раз возвращались в беседах, но не успели оформить даже в предложениях своих.
Дело касалось организации особого общества, которое Леонтьев в шутку прозвал «иезуитским орденом». «Ну что же, Лев Александрович, — спрашивал он, — когда же мы приступим к учреждению своего иезуитского ордена?» Но к этой сложной задаче мы даже и близко не подошли.
Конечно, тут дело касалось вовсе не какого-нибудь иезуитского ордена, а мысли наши бродили вот над чем. Борьба за наши идеалы встречает организационное противодействие враждебных партий. Мы все являемся разрозненными. Правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более что власть — как государственная, так и церковная — не дает свободы действия и навязывает свои казенные рамки, которые сами по себе стесняют всякое личное соображение. Необходимо поэтому образовать особое общество, которое бы поддерживало людей нашего образа мыслей повсюду — в печати, на службе, в частной деятельности, всюду выдвигая более способных и энергичных. Очень важное и трудное условие составляет то, чтобы общество было неведомо для противников, а следовательно, ему приходится и вообще быть тайным, то есть, другими словами, нелегальным. Это главное условие его силы, хотя, конечно, создает для него постоянный риск правительственного преследования. Для ослабления ударов с этой стороны — в случае расследования — общество должно иметь такой вид, что оно не общество, а просто случайное единение знакомых между собою единомысленных людей. Следовательно, в обществе этом не должно быть никаких внешних признаков организации, как, например, устава печати, списков членов, протоколов заседаний и тому подобного. Трудности на этом пути предвиделись огромные, но только тайное общество давало бы возможность сильного действия. Как все это устроить? Каких людей привлекать? Каков должен быть не писаный, а устный устав? Ничего этого мы ни разу не обсуждали. Только в одном пункте мы, кажется, были с первого слова единомысленны: что общество нужно и что оно, по необходимости, должно быть секретным, тайным. Поэтому-то Леонтьев и шутил, что мы затеваем «иезуитский орден». Но основание нашего общества было потруднее, чем учреждение иезуитского ордена, все-таки не тайного, а только имеющего тайны, как выражаются о своих ложах франкмасоны. Если бы мы с Константином Николаевичем дошли до серьезного обсуждения этого плана, то нет сомнения, что я бы и предложил поставить общество на двойном уставе: один явный, безобидный, преследующий какие-нибудь банальные цели — научные или благотворительные, для отвода глаз, а другой тайный, содержащий действительные цели организации. Но, повторяю, этот план остался у нас в зародыше, заглавием ненаписанного романа. Последний месяц жизни Леонтьева нам мешало серьезно поговорить об этом уже одно то, что мы оба в это время особенно горячо углубились в заботу о моих «духовных запросах». Они и для меня, и для него составляли более неотложную «злобу дня». О них Леонтьев упоминает даже в последнем ко мне, коротеньком письме от 4 ноября 1891 года, которое заканчивается словами: «Простите, больше ни слова не скажу. Была лихорадка, ослабел, принял 12 грамм хинина. Теперь голова плоха».
Но его «12 грамм хинина» не помогли, и через восемь дней, 12 ноября, он скончался от инфлюэнцы (воспаление легких), припадком которой, конечно, и была упоминаемая им «лихорадка».
Его схоронили у Черниговской Божией Матери, около Гефсиманского скита, поблизости от кельи отца Варнаввы. {182} Я не присутствовал ни при его кончине, ни на погребении. Но более двадцати лет ни разу не был у Черниговской Божией Матери без того, чтобы не посетить его могилу. Над ней возвышалась небольшая чугунная часовенка с неугасимой лампадой, кротко мерцавшей, как тихий свет веры, выращенной наконец Константином Николаевичем в своей душе, страдающей и бурной. Теперь, вероятно, угасла в бурях времени эта лампадка, но теплится, конечно, лампада просветленного сердца его там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Астафьев П. Н.
Петр Евгеньевич Астафьев, как писатель-философ, принадлежит к числу самых оригинальных русских мыслителей. По времени наибольшего развития своего таланта он относится к 80-м годам XIX века. В начале 90-х годов (а именно в 1893 году) он умер.
Я знаком с его сочинениями и мог бы сделать характеристику его мировоззрения. Но это не относится к воспоминаниям о нем, которые у меня очень необильны. Тем не менее мне хочется их записать. Об Астафьеве едва ли найдется многое в мемуарах этого времени, так что каждое малое свидетельство современника будет нелишне для историка русской мысли.
В словаре Брокгауза–Ефрона сказано, что он родился в богатой помещичьей семье в 1846 году. Но когда я познакомился с ним, в самом конце 80-х годов, он был совсем не богатый, а скорее бедный человек и жил на свое жалованье. У его жены было имение где-то в Малороссии, но незначительное и никакого дохода не дававшее. Тем не менее у Петра Евгеньевича было заметно много привычек богатого дворянина. Он одевался очень изысканно, видимо заботясь о костюме. Он был нерасчетлив. Когда ему приходилось быть в ресторане — брал хорошие кушанья и вина, в которых знал толк. Поэтому надо полагать, что он вырос в достатке, но состояние его родителей ко времени независимой жизни сына уже по каким-либо причинам исчезло.
Я его знал уже человеком, живущим своим грудой, то есть жалованьем и литературным заработком, которыми очень дорожил, — в общем, он вечно нуждался.
Несмотря на это, Астафьев был весел и жизнерадостен. На будущее он смотрел с доверием философа и христианина. Он был действительно верующий христианин, хотя в богословские и догматические вопросы не вникал и, мне кажется, по этой части не отличался большими познаниями. В этом отношении он довольствовался обычной церковной жизнью и тем, что она дает.
И по наружности, и в обращении он был очень симпатичен. Умное, тонкое лицо его вспоминается мне постоянно оживленным. В разговоре он очень любил по поводу разных частностей переходить на философские вопросы. Это была его характеристическая черта, что он как будто жил философией. Я знавал несколько специалистов-философов и не замечал у них этой черты. Может быть, это зависит от того, что такие специалисты обыкновенно знают все философские учения, но своей философии не имеют? Поясню свою мысль. Сократ, а вслед за ним, и даже особенно, Платон мало придавали значения тому, чтоб ученики их усваивали именно их воззрения, а успех свой видели в том, чтобы ученик начинал мыслить и отыскивать истину, сродную его душе. Таких учеников они бы признали у нас во Владимире Соловьеве и в П. Е. Астафьеве. Когда человек вступил на такой путь развития, он живет философской мыслью, она связывается с вопросами даже его обыденной жизни и с его поступками. Таков был и П. Е. Астафьев. Мне кажется, что для него, как для Платона, сущность философии состояла именно в вечном искании истины, а при этом, понятно, философия сливается с самими процессами жизни, во всех ее проявлениях. Собственно же добытый результат, то есть доктрина, при этом является не чем-нибудь окончательным, а вечно дополняемой формулой различных моментов этого процесса. Окончательного же результата не может быть, пока не окончились мысль и жизнь.
Еще не по сочинениям, а из бесед с Астафьевым припоминаю, что он совсем не признавал за философию такие мировоззрения, которые не были идеалистичны. Ни материализм, ни позитивизм для него не были философией. Помню, что я как-то заговорил о философии О. Конта. {183} Астафьев даже прервал меня: «Полноте, при чем же тут философия? Огюст Конт совсем не был философом...» Однако философия Конта была во всяком случае мировоззрением. Не знаю, как бы Астафьев определил сущность философии. Кажется, у него этого нет в сочинениях.
Петр Евгеньевич в личной жизни был очень добрым и кротким человеком. Своих детей он не имел, но у жены были от первого брака сын и дочь. Астафьев их очень любил, как бы своих собственных. Жена его была очень религиозна. Помню, что у нее в доме уже после смерти Петра Евгеньевича произошло необыкновенное явление: просветление старой иконы, которая была настолько черна от времени, что нельзя было даже разобрать, что на ней изображено. Вдова Астафьева благоговейно считала это чудом и потом передала поновленную икону в церковь.
Смерть Астафьева произошла в Петербурге. Он туда поехал по делам, связанным с получением какого-то хорошего места. Подробностей не помню, но Астафьев тут видел какую-то большую удачу в жизни и поехал веселый, с приятными ожиданиями. Дела его и шли в Петербурге очень хорошо, но тут его и настигла смерть. У него произошел разрыв каких-то сосудов, но он оставался в полном сознании. Свидетели его кончины рассказывали тогда, что Петр Евгеньевич встретил смерть очень спокойно, в очень светлом настроении и незадолго до последнего вздоха продекламировал из поэмы Майкова {184} слова умирающего Сенеки о том, что час смерти — это великий час, час внутреннего возрождения, час вступления в новую жизнь. «Он умер как настоящий философ», — прибавляли свидетели последних часов его жизни.
Последний могикан. А. А. Киреев.
Какие бы судьбы ни разбивала Россия, какие бы типы ни создавала заново или воспроизводила по моделям прошлого, — можно сказать наверное, что другого Александра Алексеевича Киреева у нее уже никогда не будет. Он — последний могикан в своем роде. Это не потому, чтобы он лично был чем-нибудь особенно замечателен, а потому, что для создания его нужен такой последовательный ряд.исторических условий, которых никогда уже не будет больше. Для того чтобы выработать А. А. Киреева, нужно иметь старорусского дворянина, пропустить его через стремления декабристов, через школу Императора Николая Первого, через мечтания славянофильства и через освободительные порывы реформ Александра Второго. Ни одного из этих составных элементов нельзя отбросить для получения того своеобразного, но рыцарски благородного типа, который представлял он и отражения которого давали жизнеспособность старой императорской России. Различные черты этого типа можно улавливать у самых разнообразных деятелей старой России: у Жуковского, Ростовцева, {185} великого князя Константина Николаевича {186} и т. д. Но он вымирал уже при жизни Киреева, который был последним его представителем.
Я познакомился с Александром Алексеевичем через его сестру, Ольгу Алексеевну Новикову, с которой был в дружеских отношениях. Кажется, первый раз увиделся с ним в доме Ивана Петровича Новикова, [68] мужа Ольги Алексеевны, около 1890 года (точно не помню). Она имела главным местопребыванием Лондон, но ежегодно наезжала в Россию, и я навестил именно ее. Сам Новиков выходил ко мне только из приличия и скоро скрылся. Он мне вообще не понравился и показался слишком скучным и дряхлым для своей жены, которая была почти красавицей и блестящей светской женщиной, хоть в это время имела уже пятьдесят лет от роду. [69] Новикова я больше никогда не видал, да он, кажется, скоро после того и умер.
Но Ольга Алексеевна тут же познакомила меня и с братом своим, который производил уже совсем иное впечатление, такое же приятное и симпатичное, как она сама. Она скоро куда-то уехала, а он повел меня в свою комнату, где мы и погрузились в оживленную и интересную беседу. Я его посетил и в Павловске, где он имел постоянное пребывание во дворце великого князя Константина Николаевича (а потом его сына, Константина Константиновича). {187}
Александр Алексеевич Киреев был в то время около шестидесяти лет (он родился в 1833 году), но выглядел не только молодцом, а, пожалуй, даже красавцем. Жил он после этого еще долго, почти до восьмидесяти лет, и прекрасно сохранился даже до этого преклонного возраста. Это был мужнина крупный, высокого роста, крепкий и стройный, щегольской военной выправки. Носил он, конечно, только усы на гладко выбритом лице. Он числился по кавалерийской службе, кончил курс в Пажеском корпусе, долго пробыл придворным, сначала состоя при великом князе Константине Николаевиче, а по смерти его при его вдове, Александре Иосифовне. {188} По всем этим причинам на нем все было чисто, изящно, мундир обтягивал талию как вылитый, сам он держался ровно и стройно, все манеры элегантные, обращение изысканно-вежливое, и никакие крепкие слова «армейщины» у него никогда не вырывались. Обращение его было не только вежливое, но приветливое. Он строго держался «хорошего тона» — быть всегда спокойным, в самообладании, избегая всяких резкостей. Короче, это был тип высшего аристократического воспитания доброго старого времени.
У Александра Алексеевича идеал старого воспитания создал не одну внешность. Он до последних глубин души был идеально благороден, с тем рыцарским оттенком, который всегда доступен лишь немногим. По самой натуре своей он был в высшей степени честен, добр, благожелателен, всегда готов помочь каждому чем только мог. Все это я, конечно, узнал лишь со временем и постепенно. Но уже первое впечатление заставляло предполагать у Киреева именно такие свойства и такое отношение к людям.
Жил он в Павловске во дворцовом помещении. Мебель и вся обстановка были тоже дворцовые, то есть очень приличные, хотя и не очень богатые. Нужно сказать, что обычные представления о роскоши дворцов чрезвычайно преувеличены. Не только у богачей-промышленников, которых случалось видеть, но и у многих министров обстановка была более роскошная, нежели в тех дворцах, которые я видел.
Собственно, у Александра Алексеевича помещение (кажется, три комнаты) было просто, что называется, приличное. Сам же хозяин вносил в эти комнаты одну своеобразную черту: множество холодного оружия, развешанного по стенам. Это была целая коллекция рапир, эспадронов и т. п. Было у него много и книг, но это дело обычное, а оружие бросалось в глаза. Он сам обратил мое внимание на некоторые замечательные образчики его и говорил об этом предмете с большим оживлением.
Дело в том, что Александр Алексеевич был «доктором» фехтовального искусства. В Европе — где-то, кажется, в Италии — было, а может быть, и есть какое-то общество, вроде академии фехтования, которое выдает дипломы особо искусным бойцам. В числе их был и он. Откуда у него явилась любовь к этому делу — не знаю. Но он, кроме искусства фехтования, был также специалистом по теории и практике дуэли и иногда приглашался как эксперт, в случаях каких-либо спорных вопросов дуэли. Необходимость дуэли он всегда отстаивал принципиально, считая ее очень важным способом развития у людей чувства чести. Дуэль, говорил он, предохраняет людей от грубых насилий и даже преступлений и дает единственный исход для защиты своей чести в таких тонких случаях оскорбления, которые неудобно открывать даже третейскому суду. Об том Александр Алексеевич говорил с убежденностью какого-нибудь средневекового рыцаря. Не знаю, приходилось ли ему самому драться на дуэли, но вся его манера отношений к людям была выработана так, чтобы не задевать ничьей чести.
Помню, в этой же комнате он объяснял мне, по каким предметам знаний он занимается. Это именно: этика, эстетика, философия и богословие. Книги его были подобраны по этим предметам, и он был в них весьма сведущ, по некоторым отделам даже как специалист. Но он много читал и по другим предметам и был вообще широкообразованным человеком, интересующимся всеми сторонами общественной жизни. Он знал даже и свое военное дело, хотя им, кажется, менее всего занимался, так как его служба при великом князе Константине Николаевиче была, собственно, не военная, его адъютантство было аналогично работе чиновника особых поручений, то есть по всем статьям, какие могут понадобиться начальнику.
Но по внешней выработке — он имел самый военный вид, даже с оттенком старых, николаевских времен, то есть с физической закалкой. Я часто видел, как он на сильном морозе щеголял в одном мундире, стройный, не обнаруживая никаких признаков, что ему холодно. Ежедневно, невзирая на погоду, он перед обедом совершал прогулку пешком от Павловска до Царского Села и обратно и, конечно, легко выдержал бы самый трудный поход.
Александр Алексеевич был не только небогат, но, кроме своего генеральского жалованья, можно сказать — ничего не имел. Киреевы имели когда-то значительное состояние и потеряли его из-за неудачных «спекуляций» Александра Алексеевича и его младшего брата Николая. Оба они были славянофилами и мечтали об освобождении славян от турецкого ига. Они думали поднять восстание славян, а так как на это требуется много денег, то пустили все свое состояние в какие-то промышленные предприятия, надеясь таким образом выручить значительные суммы. Вышло на деле совсем не то. Предприятия лопнули, и оба брата разорились. Остатки состояния (в Московской губернии) Александр Алексеевич отдал сестре, Ольге Алексеевне, а сам остался ни с чем. Николай Алексеевич сохранил для жены своей, Анны Ивановны, дома на Кудринской улице (в Москве). Сам же в 1876 году отдал славянскому делу и жизнь свою. Славянское благотворительное общество с его участием (он, как и Александр Алексеевич, был членом общества) организовало отправку добровольцев в Сербию, и сам он поступил в сербскую армию под именем Гаджи-Гирея. Этот Гаджи-Гирей некоторое время прогремел в газетах подвигами, которые совершал со своим отрядом, разбивая турок, но под Раковичами, в том же году, кончил жизнь свою. Николай Киреев, человек пылкого мужества, атаковал значительные силы турок. Сербы, составлявшие огромное большинство его отряда, испугались. Он, надеясь увлечь их, кинулся вперед один с громкими призывами: «Напред, напред!» Горсть русских добровольцев, бывшая в отряде, действительно кинулась вслед за ним, но сербы не шевельнулись, и храбрецы были буквально искрошены турками. Так пал Гаджи-Гирей — Николай Киреев. Александр Киреев ездил на поле сражения с целой экспедицией в надежде разыскать хоть труп брата. Но среди искрошенных кусков тел невозможно было различить его. Так он и остался неразысканным. Эта смерть была толчком, который выдвинул на славянское дело его сестру, Ольгу Алексеевну.
Оба брата и сестра жили между собой в самой нежной дружбе. Николая я не видел и только слыхал о нем. Но Александр Алексеевич и Ольга Алексеевна заботились друг о друге самым трогательным образом. Александр прожил весь век холостяком и своей семьи не имел, если не считать семьи великого князя, к которой он относился с такой же привязанностью какого-то старого дядьки. Константин Константинович (сын Константина Николаевича) был, как слышно, очень хороший человек, но на службу и практическое дело по характеру своему плохо годился, и странно было видеть озабоченность, с которой Александр Алексеевич размышлял, куда бы лучше было пристроить своего великого князя. Я не знаю, как было у других великих князей, но у Константина Константиновича придворные жили совсем по-семейному. Обедали они за общим столом с Константином, его женой, Елизаветой Маврикиевной, {189} и детьми, и отношения придворных к великокняжеской семье казались свободными и дружескими. Александр же Алексеевич держал себя совсем как член семьи, даже с некоторым авторитетом.
В Павловске у Киреева я бывал очень редко, а у великого князя только один раз. Это было значительно позже, когда я состоял на службе при Столыпине. Киреев как-то, приглашая меня к себе, передал мне, что великая княгиня Елизавета Маврикиевна просит меня зайти от него на чашку чая под шутливым предлогом: что свои придворные надоели ей и она хотела бы поболтать со свежим человеком. В действительности, как я убедился потом, у нее был иной умысел: она хлопотала о каком-то пособии своим благотворительным учреждениям и рассчитывала, что я что-нибудь напишу о них и этим обращу на них внимание властей. Если такой расчет был у нее, то она в нем ошиблась, так как именно в это время я и не занимался журналистикой. Как бы то ни было, я отправился к Кирееву, от него нас пригласили не на чай, а на обед. Тут я видел обстановку целого ряда дворцовых комнат, далеко не богатых. Обед тоже был самый обыкновенный.
За столом сидела вся семья. Сам Константин Константинович также был дома. Обедали и придворные: всего было человек тридцать. Сидели, очевидно, в каком-то установленном порядке, заранее всем известном. Чужой был, по-видимому, один я, и меня усадили около Елизаветы Маврикиевны, почти против великого князя, а слева от меня был кто-то из молодых сыновей их. Перед обедом великий князь встал, а за ним и все остальные и, обратясь к очень маленькому образу в углу, хором пропели «Очи всех на Тя, Господи, уповают». Точно так же после обеда пропели «Благодарим Тебе, Создателю». Пели громко, особенно сам Константин Константинович. Елизавета Маврикиевна, хотя протестантка, также участвовала в хоре.
За столом разговор шел непринужденно, только все старались не мешать друг другу. Маленькие княжата довольно смело, громким голосом вмешивались в разговоры. Впрочем, все они были очень милые, симпатичные подростки и не столько высказывали свои суждения, как расспрашивали старших. Тот, который был около меня, обращался и ко мне очень свободно, не стесняясь нашим малым знакомством. Елизавета Маврикиевна все время болтала со мной без умолку, по большей части рассказывая о своих филантропических учреждениях на какой-то невероятной смеси языков русского, немецкого, французского и английского. Она была природная немка и по-русски знала очень плохо; точно так же она постоянно забывала и французские слова, да, кажется, и немецкие, и тогда оглядывалась, как это выразить, и кто-нибудь из окружающих подсказывал ей слово на каком-нибудь языке. Но болтала она шибко и так выразительно, что в конце концов я ее хорошо понимал. Мой французско-русский язык она тоже вполне понимала. Но, за исключением ее, за столом разговаривали по-русски, и особенно великий князь не произнес, кажется, ни единого иностранного слова.
Елизавета Маврикиевна была бойкая, оживленная толстушка. Константин Константинович, напротив, имел вид болезненный, землистый цвет кожи, был очень худ, довольно' мрачен и мало говорил. Киреев, красивый, крупный, приветливый, казался скорее хозяином, чем гостем, поддерживал разговор, и слова его всеми принимались как нечто очень авторитетное. Разговор, с его же почина, зашел между проч.им о миссионерском съезде, бывшем в Киеве. Я спросил великого князя, каково его мнение об этом съезде. «Я нахожу, что отцы наговорили много глупостей», — ответил он. «А что же именно?» — «Да вот, они хотят развести меня с женой, а мы не хотим разводиться». Это был намек на высказанное кем-то на съезде мнение, что браки православных с протестантами должны быть воспрещены. Но резолюции в этом смысле вовсе не было принято...
После обеда несколько человек мужчин, трое-четверо, в том числе и я с Киреевым, и великий князь пошли в соседнюю комнату покурить. Киреев, впрочем, был некурящий. Не помню, курил ли великий князь. Весь разговор зашел на чисто политическую тему, о настроении общественном, о Государственной Думе. Ничего хорошего в этом отношении я не мог им сообщить. Великий князь предложил мне два-три вопроса о Думе. Сам высказывался очень мало и в самом пессимистическом смысле. Вообще он казался как-то пассивен, очень мрачен, не проявлял ни малейшего оживления, и я вынес впечатление, что он предвидит революционный крах России как нечто неизбежное. В это время, то есть в 1907 году, и Киреев уже считал новую революцию, может быть, неустранимой.
Но не то было в начале нашего знакомства. Тогда Александр Алексеевич еще был полон веры в торжество славянофильской идеи в русском государственном строе. Пессимизм начал овладевать им лишь в царствование Николая II по мере того, как обнаруживалась политическая неспособность нового Императора. Но в начале 90-х годов настроение его было очень светлое.
До 1907 года я жил в Москве и очень редко бывал в Петербурге, вследствие чего и Киреева в Павловске посещал весьма мало — два-три раза. Но он сам, вероятно, не пропустил ни одного своего приезда в Москву, не побывавши у меня. Мы вообще с ним очень сошлись, да с ним и невозможно было не сойтись. Это был такой душевно чистый человек, именно без всякого лукавства, так искренне относился к вопросам жизни и к людям, что едва ли могу я назвать за свою жизнь лучшего человека. Близко к нему могу поставить только Алексея Александровича Нейдгарта.
Нельзя сказать, чтобы Александр Алексеевич Киреев отличался выдающимся умом. В этом отношении он был человек средний, просто неглупый. Его племянник (сын Ольги Алексеевны) Александр Иванович Новиков называл его даже «тупым». Это неверно. В умственном отношении он был просто средний, неглупый человек, но и тут — вследствие отсутствия каких бы то ни было личных интересов, часто извращающих суждение даже высокопроницательных людей, — Киреев нередко оценивал людей и события гораздо вернее, нежели люди, превосходящие его умом. Поэтому я всегда интересовался его мнением, тем более что он был человек высококультурный. Его способности были развиты наукой и размышлением до всей высоты, до какой только допускали природные размеры этих способностей. В нравственном же отношении он был человек, безусловно, выдающийся, редкий, наравне с которым я решительно никого не могу поставить даже теперь, когда, находясь сам уже при конце жизни, беспристрастно окидываю взглядом все, мною пережитое. Это понял в конце жизни и Александр Иванович, который, умудрившись горьким опытом, сам говорил мне, что «лучше Александра Алексеевича нет человека на свете».
Александр Алексеевич был славянофил, но его политические идеалы сводились к самым общим формулам: должен быть Царь, должен быть и народ; народу принадлежит мнение и совет. Царю — решение; для их соединения должен быть Земский собор. Как это организовать конкретно? Он не думал. О том, что в народе существуют очень разнообразные интересы и мнения, он тоже мало думал. И это вовсе не по «тупости», а потому, что у него живы были только нравственные мотивы, а конституционные его мало занимали. У него было такое убеждение: если будут судить по совести, то столкуются. Ну а если будут судить не по совести? Тогда все равно ничего не выйдет, как ни устраивай. Но во всяком случае, он стоял за созыв Земского собора. В таких же общих чертах ему представлялись и государственно-церковные отношения. Россия есть «государство-Церковь». Тот же самый народ, который составляет государство, составляет и Церковь; стало быть, государство и Церковь должны единиться. Для того чтобы голос Церкви был слышен государству, нужен Поместный собор, Александр Алексеевич и стоял всегда за созыв Поместного собора. О подробностях учредительных он и в этом случае мало думал, и по этим же причинам: нужны люди честные, убежденные — тогда все устроится хорошо, а без этого все будет плохо.
Лично он занимался церковными делами несравненно более, чем политическими, и в этом отношении занял совершенно исключительное положение как главный деятель по соединению старокатолической Церкви с Православной. Об этом он хлопотал всю жизнь, ездил по всем старокатолическим конгрессам, писал за границей и в России, настойчиво толковал и с нашими иерархами, и с государственными людьми. Тогда у нас было немало лиц, считавших желательным присоединение старокатоликов и видевших в этом средство усилить Православие в Европе. Но Киреев смотрел так, что старокатолики и без того православные, так что ни о каком присоединении не может быть речи, а нужно просто соединение, признание их в качестве Православной Церкви. Величайшей горестью его жизни было то, что Русскую Церковь никак нельзя было на это подвинуть, так как она требовала несравненно более сильного единства верований. Я был в этом случае не солидарен с Александром Алексеевичем, так как у старокатоликов находил много протестантского духа. Враги даже и называли их не «старокатоликами», а «ново-протестантами». Но дело в том, что Киреев, в сущности, в самом Православии находил много римско-католического, формального и, так сказать, религиозно-материалистического. Он не отвергал этих верований православных, но зачислял их в разряд «личных» верований, не обязательных церковно, и в глубине души, полагаю, находил их часто ошибочными, надеясь, что ученые старокатолические профессора и епископы в случае соединения церквей благодетельно повлияли бы на русских и расширили бы их религиозное сознание. В представлении об этом расширении у него, думаю, было немало рационалистического. Но конечно, он был прав, находя, что наш епископат и священство — очень невысокого уровня развития и что в Русской Церкви исчезла внутренняя организованность, единение священства и мирян. Вследствие этого Церковь делается бессильной. Влияние старокатоликов, развитых, ученых и широко признающих церковные права мирян, конечно, в этом отношении могло бы поднять Русскую Церковь. Александр Алексеевич всюду ставил во главу угла высоту людей и считал, что соединение со старокатоликами оживило бы Русскую Церковь, а через нее и русское государство и всю русскую жизнь. И потому-то для него такое горе составляла невозможность достигнуть соединения со старокатоликами, и он упорно добивался этого всю жизнь, при всех переменах, происшедших за эти долгие годы в России.
Лично он был искренне верующим, только немножко не с русским оттенком. Не замечал я, чтобы он усердно посещал храмы, и думаю, что никогда он не совершал богомолий к каким-либо святыням и не искал бесед с какими-нибудь почитаемыми старцами, например хотя бы с отцом Иоанном Кронштадтским. Но говенье он совершал очень набожно, старался на это время уединиться от дел и людей. Очень охотно он также обращал иноверцев в Православие. Таких случаев я слыхал несколько. Один раз он сам передавал, как крестил еврейку, и у него даже лицо светилось, когда он говорил, какая у него хорошая дочка вышла. Он считал обязанностью и впоследствии заботиться о своих крестных детях и помогать им.
Впрочем, он и вообще помогал всякой нужде человеческой, какая встречалась на его пути. Денег у него и самого было немного, но было много знакомств, было влияние, и он этим немедленно пользовался, чтобы выручить человека из беды, пристроить к месту и т. п. Я сам, при помощи его хлопот, смог достать порядочную сумму (несколько сот рублей) бедствующей семье одного умершего журналиста (Овсянникова). При такой помощи нуждающемуся Киреев не обращал ни малейшего внимания на его религию или политическое направление, политическую «благонамеренность» и т. д. Он видел пред собой только человека. Вообще можно сказать: он был истинный христианин.
Незадолго до смерти судьба ему послала большую радость: начались официальные приготовления к созыву Поместного собора и с этой целью созвано Предсоборное присутствие, на которое был приглашен в качестве члена и Александр Алексеевич. Я также был членом присутствия и видел тут его. Он был если и не из самых деятельных членов, то из самых внимательных. Присутствие было составлено очень хорошо, и по всему множеству вопросов, которое оно разрабатывало, выдвигалось столько талантливых знатоков дела, что с ними сравниться было нелегко. У Александра Алексеевича был лишь один вопрос, на котором он мог считаться крупным авторитетом, — это вопрос старокатолический. Но он внимательно следил за разработкой всех основных вопросов собора, как, например, об участии на нем мирян. В этом случае он, конечно, стоял за участие мирян, ссылаясь на книгу старокатолического ученого Мишо «De sept coneiles oecumniques», но в Предсоборном присутствии были сторонники участия мирян, способные цитировать не Мишо, а непосредственные источники. Там были знатоки по всем статьям, и они спорили между собой с одинаково богатым материалом научных аргументов. Само зрелище собрания таких авторитетных сил уже производило внушительное впечатление, тем более что разногласия и разница направлений не мешали Предсоборному присутствию оставаться на всей высоте корректности. Работы эти наполняли Александра Алексеевича чувством особой радости за родную Церковь, тем более это обещало добрую будущность и Поместному собору, которого бесконечных оттяжек тогда еще не было оснований ожидать.
Но такова уж была судьба злополучного Императора Николая I: не допускать ничего способного укреплять здоровые устои национальной жизни.
Александр Алексеевич от этого Императора с самого начала не ждал ничего доброго. Как старый придворный, он хорошо знал Царскую фамилию. Кстати сказать, о нем самом ходили слухи, будто бы он побочный сын Императора Николая I от известной красавицы Алябьевой, воспетой когда-то Пушкиным: «Краса Алябьевой и прелесть Гончаровой...» Эта Алябьева вышла замуж за Киреева и обратила на себя внимание Императора. Когда Киреев узнал об этом, он был в страшном негодовании, уехал из Петербурга и скрыл свой позор в глуши деревни... Так рассказывали лица, осведомленные в «скандальной хронике» двора. Не знаю, правда ли. У меня никогда не хватало духу спросить о таком щекотливом обстоятельстве даже моего друга Ольгу Алексеевну... А пожалуй, у Александра Алексеевича было некоторое сходство с Николаем Павловичем... Как бы то ни было, он жил в придворной сфере очень долго, и, как это часто бывало в старину, у него развилась чрезвычайная преданность Царскому роду вообще, в принципе, лучше сказать — в чувстве. Но наличный состав Царской семьи он ценил очень невысоко. Об этом он не любил говорить, но, когда поближе со мной сошелся, подчас у него вырывались очень резкие выражения о разных членах семьи и даже, особенно, о самом Николае II. Положение, конечно, весьма тягостное для славянофила. Но Киреев и находил, что Россия переживает совершенно ненормальное состояние. И сохранял лишь веру в то, что ее может исцелить восстановление земских соборов. Как это сделать, в каких формах они могут быть восстановлены — этого вопроса он не представлял себе с ясностью, да, пожалуй, не мог представлять, потому что именно к формам относился пренебрежительно и с антипатией. Он верил в чудодейственную силу нравственного общения и единения. Раз уж вопрос возникал о формах, это приводило к чему-то юридически обязательному, то есть так или иначе к парламентаризму. Парламент же он уже отрицал, считая, что в нем именно исчезает то нравственное единение, в котором он видел все благотворное значение соборности. Конечно, все это было расплывчато и неопределенно, в известном смысле идеалистично, но, с другой стороны, настолько же нереально. Нереальность эта состояла прежде всего в том, что в России предполагался некоторый крепкий фонд общих всему народу верований и идеалов, чего на самом деле уже было мало. А раз такое духовное национальное единство исчезало, то становилось иллюзорно и нравственное единение власти и народа. Но в 90-х годах никто не оценивал в должной мере нарастающего национального разложения страны. Киреев же по своей службе и положению мог лишь издали и очень поверхностно наблюдать Россию, в которой на глазах его совершилось только что такое по-видимому крупное национальное движение, как добровольческое движение для освобождения славян. Да и притом истинный разгром национальной идеи, раньше производившийся только интеллигенцией, был окончательно довершен всей политикой Императора Николая II, особенно системой привлечения иностранных капиталов. Таким образом, Александра Алексеевича нельзя обвинять в непонимании своей страны и народа. Он был представитель старой России, а в то время и нельзя было сказать, воссоздастся ли она в новой эволюции или же революционно рухнет.
Киреев, сверх того, и не мнил себя государственным человеком, и не брался за решение политических вопросов. Он был просто гражданин своей страны, имевший свои идеалы и надежды и на основании их оценивавший деятельность государственных людей. В огромном большинстве случаев он был ею недоволен. Недоволен он был и общим направлением развития России, которая все более теряла свою «старорусскую физиономию». Он мало-помалу стал чувствовать, что нам предстоит революция, и в этом отношении был более чуток, чем очень многие люди общества и руководители наших государственных дел. Но что делать в виду этого? У него и в этом случае крепко залегло правило старой России: «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». Будь на своем посту, где тебя поставила жизненная судьба, исполняй свое дело. Он его и исполнял. Старые правила службы и жизни совпадали тут с религиозным чувством, по которому он покорно и спокойно принимал волю Божию, когда начинал ее чувствовать.
В отношении спокойного принятия воли Божией, без фраз, без произнесения благочестивых формул, трудно было встретить равного ему. Он так же спокойно переносил и личные невзгоды. Они бывали. Много лет, например, мучил и его, и сестру его племянник, Александр Иванович Новиков, единственный сын Ольги Алексеевны. Это был человек больших способностей, очень острого ума и в высшей степени честный, но нервный и какой-то взбалмошный. Сначала он пошел в земские начальники и с увлечением исполнял свои обязанности попечительства о крестьянах своей родной местности. Он действительно о них заботился, просадил чуть не все состояние на школы, на огнестойкую постройку изб и т. п. Он был внимательнейшим судьей, искоренял ростовщичество. Но затем постепенно он пришел к убеждению, что все это вздор, начал сближаться с радикальными элементами, наконец совсем пошел в революцию, попал в тюрьму и привлекался к суду за произнесение в собрании революционных речей с оскорблением Величества. Это было истинным мучением для матери. Во-первых, он, бросив должность земского начальника и растратив свое состояние, потом был десять раз прогоняем со всех других должностей, государственных и общественных, и каждый раз мать должна была его содержать и искать ему какой-нибудь новой службы. А ее состояние было очень небольшое, и она его все на него поистратила. Но когда дело дошло до революционных выступлений, и особенно до оскорбления Величества, — это уже превзошло всякую меру. Ольга Алексеевна сама была придворная дама, состояла при Императрице Марии Федоровне. Политические скандалы сына страшно компрометировали ее при дворе... А между тем сына приходилось выручать и из денежных, и из политических затруднений. За оскорбление Величества он должен был потерпеть осуждение на каторгу, то есть, в сущности, на смерть, потому что у него уже развилась тяжелая болезнь сердца. Ольга Алексеевна была истинно мученицей. И вот я видел в это время спокойную, внимательную помощь Александра Алексеевича неукротимому племяннику. Он, конечно, его журил, но не покидал, несмотря на то что Александр Иванович обращался с ним пренебрежительно и непочтительно, а хлопоты за такого революционера компрометировали дядю-придворного. Когда племяннику стал угрожать тяжкий приговор суда, единственный способ спасти его состоял в том, чтобы добиться Высочайшего прекращения дела. Но подать Царю прошение о милости Новиков ни за что не хотел... В конце концов мать, которой помогал Александр Алексеевич, успела и без прошения сына выхлопотать ему помилование, так что Александр Иванович, скоро умерший, мог хоть последний год жизни провести на свободе и в тишине.
Так вот, и видел, как спокойно переносил Александр Алексеевич всю эту тяжкую для семьи вереницу испытаний, задевавших не только его, но и его сестру Ольгу Алексеевну, которую он любил вдесятеро больше себя и которой горе было самое тяжелое изо всех, что могло его постигнуть. Он, собственно, и племянника любил, хотя глубоко порицал за его деяния. Но тихо, спокойно, без ропота он делал все, чтобы помогать этому «блудному сыну», перенося и то ложное положение, в которое становился в своем круге из-за этого «нигилиста». Новиков и помимо политики доставлял им много неприятностей. Так, например, он держал при себе дочь вне закона, прижитую от одной крестьянки, и водил ее к матери, спокойно представляя ее гостям как свою дочь. Я видел эту девушку, по-рабочему просто одетую, очень приличную, и она на меня произвела самое лучшее впечатление. Своего отца Новикова она нежно любила и внимательно заботилась о нем, уже давно больном. Итак, по существу, все было хорошо: и то, что Новиков не бросил дочь и заботился о ее воспитании, и сама дочь была в высшей степени симпатична. Но в светском смысле, с которым принуждены были считаться и Киреев, и Ольга Алексеевна, все это производило отчаянный скандал. Не удивительно еще, что мать, с горем все это переносившая, терпела сына до конца, утешая себя хоть тем, что он «честный человек» и «ничего неблагородного никогда не сделал». Но дядя уж никак не обязан был терпеть бесконечные неприятности от своенравного племянника. Однако он тихо и спокойно нес выпавший на долю его крест, не жалуясь на судьбу, и по мере сил своих спасал и выручал буйною революционера.
В конце концов это благородное поведение победило племянника. Он, прежде насмехавшийся над дядей и называвший его «тупым», понял наконец и громко заявил, что «на свете нет человека лучше дяди Александра».
Вообще я редко видел Александра Алексеевича потерявшим свое спокойное самообладание при тяжелых ударах. Один раз это было, когда жестоко пострадала в его глазах честь русской армии. Когда началась Японская война, я спрашивал его мнения о вероятных исходах будущих столкновений. «Да как сказать, — отвечал он, — ведь японская армия очень хороша. У нас полагают, что штыкового удара нашего японцы не выдержат. Да теперь война ведется не по-прежнему... Поди-ка доберись до этого штыкового удара». И вот произошел первый серьезный бой — под Тюренченом. Наши войска не только были разбиты, но форменно бежали во все лопатки. Вся артиллерия осталась в руках японцев. Это был для Киреева страшный удар. Он был потрясен, взволнован и долго не мог прийти в равновесие. Я раза два-три при встречах слыхал от него одну и ту же фразу: «Мы со времен Бородина никогда не теряли орудий, а тут вся артиллерия взята японцами».
Да, многое шло скверно, и он терпел; все даже очень шло скверно, и он сдерживался. Но оказалось, что даже армия наша утратила доблесть: этого он уже не в состоянии был вынести, по крайней мере долго. Потом, разумеется, события войны приучили ко всему. Киреев переболел факт и этого разложения русских сил и снова овладел собой. Но, повторяю, ничто не потрясло так могикана старой, великой России, как потеря чести русской армии.
Сходные впечатления ему пришлось пережить и во время заключения Портсмутского договора. Здесь опять честь России не только была потеряна, но оказалось, что о ней государственные деятели уже не имеют и понятия. Витте находил свои портсмутские деяния очень удачными и полагал, что вполне спас честь России, отвергши требования контрибуции. Тогда японские участники переговоров высказали свое удивление тому, что русские считают посягательством на честь России требования уплаты денежной, тогда как соглашаются на уступку территории. Киреев вполне понимал японцев и с тех пор просто возненавидел Витте. Но конечно, не в одном Витте было дело. Император публично заявлял являвшимся к нему депутатам, что он «не заключит позорного мира», — и через несколько дней подписал Портсмутский договор. Он, значит, не видел в нем ничего позорного. Слова «контрибуция» в нем не было написано, хотя огромные суммы вознаграждения были уплачены под наименованием уплаты за содержание пленных. А в манифесте о мире Император перед всем светом не стеснялся сказать, что японцам отдан только «отдаленный остров Сахалин». Как будто вопрос государственной чести измеряется расстоянием уступленной территории от Петербурга. Но Киреев еще помнил заявление Императора Николая Павловича, что «русский флаг, где-нибудь поднятый, никогда больше не спускается», как спустил его Николай II не только на «отдаленном острове», но и в Порт-Артуре и Дальнем — так его переименовал лично сам Император вместо Талиенвана.
Эта потеря чести армии и государства была всего тяжелее для могикана старой России. «Новые люди» тогда уже не понимали его. Они заботились об «интересах», хотя и интересы умели сохранить не лучше, нежели честь. Киреев чувствовал всеми фибрами души, что его Россия, та, которою он жил и гордился, куда-то исчезает. А между тем он подходил сам к концу жизни и не мог надеяться увидеть воскресение того, что умирало на его глазах. Наступала революция, которая сама по себе его не могла удивить, но в которой он не улавливал духа старой России. В течение самой резолюции я его, кажется, не видал, не припоминаю встреч, но немедленно по окончании ее стал видеть часто, был у него даже в Павловске. Понятно, что такая революция могла лишь еще более удручать его, потому что в ней Россия только еще более отходила от основ своего прошлого, исторического бытия. Александр Алексеевич не удивлялся революции, он предчувствовал ее. Мало того, он не считал ее и конченой и относился к этому со спокойствием неизбежности. Государственная Дума не возбуждала в нем, конечно, никаких надежд, и царская власть точно так же ясно определилась как безнадежная. Госдума была антипатична ему как учреждение парламентарное, но ввиду непригодности царской власти он, может быть, еще и примирился бы с Думой, если бы она представляла хороший парламентаризм. Но она была самым плохим его образчиком и, при всех роспусках, оставалась учреждением, по преимуществу дезорганизующим страну и революционизирующим ее. Таким образом, будущее было задернуто для стареющего могикана только траурным флером.
Единственным отрадным для него событием, как сказал я, явилось Предсоборное присутствие. Только в нем чуялся ему росток чего-то устроительного. Но это было явление совершенно исключительное.
Эти годы Государственной Думы — до смерти Киреева, то есть лет шесть, представляли в правительственных сферах почти не прерывающуюся борьбу двух крупнейших государственных людей разлагающейся монархии — Витте и Столыпина. Столыпин известен своей фразой: «Я поклялся спасти Династию — и спасу ее». Но он в то же время считал безусловно необходимым представительные учреждения. Царская власть и представительные учреждения были двумя основами его политики. Как скомбинировать их действия и права? Он считал, что это разрешит практика, и иногда страшно запутывался в этой практике. Витте, который был главным деятелем по созданию Государственной Думы, потеряв правительственную власть, круто перешел на сторону царского абсолютизма и все годы правления Столыпина вел непрерывную борьбу против него, чтобы спихнуть его с места в расчете снова сделаться председателем Совета министров. Несколько раз падение Столыпина казалось неизбежным, но каждый раз планы Витте оказывались неудавшимися, пока наконец соперник его не был убит Богровым.
Борьба этих двух людей приковывала общее внимание, и так называемый «весь Петербург» разделялся на виттевцев и столыпинцев. Киреев не был ни тем, ни другим. Столыпину он несколько симпатизировал, но в чисто личном смысле, так как в характере Столыпина также были черты благородства и рыцарства, хотя и не в том виде, как у Александра Алексеевича. У Киреева благородство и рыцарство жили внутренне, не показно — у Столыпина они проявлялись демонстративно, подчас даже крикливо, как в столкновении его с Родичевым {190} в Думе, а в ходах своей политической игры он подчас допускал действия, ничем не разнящиеся от «интриг» его врагов против него. Во всяком случае, Столыпин был человек честного и прямого характера, и это возбуждало симпатии Александра Алексеевича: что же касается его политики, то Киреев, подавляемый нравственным развалом страны, ничего особенного уже не ожидал ни от какой политики. Но Витте он буквально ненавидел, чем дальше, тем больше, как какое-то воплощение всякого зла.
Что такое был Витте, чего хотел, к чему стремился — это, вероятно, будет предметом больших споров историков. При огромных способностях, смелости, широком воображении, всегда рисовавшем ему великие задачи, он был безгранично честолюбив. В средствах действия он был совершенно неразборчив, софист, лгун, интриган. Без сложных интриг ему, вероятно, скучно было бы жить. Но его обвиняли даже в прямых преступлениях, в убийстве соперников — Сипягина, {191} Плеве, {192} а потом и Столыпина. Все они убиты революционерами. При чем тут Витте? Но его обвиняли в связях с революционерами, если не прямо с теми, кто были убийцами, то косвенно, через масонов. Тогда многие думали, что русская революция направляется франкмасонами и что именно для ниспровержения существовавшего тогда строя парижский масонский «Grand Orient» («Великий Восток») организовал русский отдел, ложу «Авангард». Самого Витте называли тоже масоном, даже очень высокой степени (33°), и это, кажется, несомненный факт. В Европе найдется немного политических деятелей, которые не принадлежали бы к масонским ложам. Связь масонства с революционными движениями в Европе и в Турции составляет исторический факт, и, конечно, было бы вполне естественно, если бы нечто подобное было и в России. Витте именно обвиняли в том, что он и сам действует по масонским директивам и через масонов, руками революционеров, устраняет со своего пути опасных для него соперников.
Чему тут верил Киреев — я не знаю. Да и как можно чему-нибудь твердо верить в таком тумане? Убийство Плеве, во всяком случае, казалось ему крайне подозрительным, ибо рассказывали, что Плеве вел секретное дознание о Витте и собрал материалы о его государственной измене, достаточные для испрошения Высочайшего разрешения на арест Витте. О Плеве как государственном человеке Киреев не был особенно высокого мнения, считая его типичным бюрократом. Но вследствие способностей Плеве и его энергии говорил, что это «последняя карта» правительства. И вот эту «последнюю карту» побила революционная бомба. Удар, с точки зрения Киреева, был рассчитан очень тонко.
Что касается Витте, то он, оставляя в стороне какие бы то ни было «масонские директивы», постепенно дошел до полной ненависти к Императору. Витте не имел той прирожденной любви к царям, которая жила в душе, например, Киреева или Столыпина. Личные же качества Императора не могли возбудить в нем ни любви, ни уважения. Он видел в нем лишь человека посредственного, слабовольного, колеблющегося, от которого, однако, зависела вся его участь. Витте попытался подчинить себе Императора и сначала как будто успел в этом, но скоро увидел, что тот тяготится подчинением и старается освободиться. Это угрожало Витте ежеминутным падением и все более его раздражало. Он не мог не замечать, что Император, нуждаясь в нем, в то же время относится к нему как к человеку не своего круга, чужому, parvenu (выскочке). А тут еще подлила масла в огонь жена Витте Матильда, в своем роде знаменитая. Она страстно желала быть принятой ко двору, и Витте усиленно этого добивался, а Император этого никак не хотел допустить. Эта Матильда была дочь английского еврея, поселившегося в Одессе и, как ходили слухи, содержавшего дом терпимости. О самой Матильде говорили, что она торговала своей красотой среди богатых курортистов Южного берега, а потом в Петербурге была с этой стороны известна «всей гвардии». Из всех министров Витте был единственный, жену которого не пускали ко двору, и, какая бы ни была Матильда, это его оскорбляло. А между тем дочь его влюбилась в одного молодого аристократа, которого родители соглашались на брак только в том случае, если жена их сына будет иметь право бывать при дворе. Все это доводило Витте до белого каления. Через несколько лет он таки добился своего, и слабодушный Император украсил свой двор этой авантюристкой. Но долгое время он раздражал Витте упорным ее отвержением.
Император и боялся Витте, и не любил его, и в то же время был не в силах противиться его гипнотизирующим натискам. Ему говорили, что Витте возбуждает революцию против монархии и мечтает быть президентом Русской республики, а сам Император подозревал, что он хочет убить его и сделаться регентом при малолетнем Алексее. Словом, отношения были самые ненормальные, а Витте, даже низвергнутый, никогда не терял надежды захватить Императора в свои руки. Во времена всесилия Распутина он не постеснялся взять себе в духовники известного Варнавву, грязного ставленника грязного Гришки.
Не было никогда государственного человека, который бы жил в такой атмосфере интриг, сплетен, подозрений, как Витте. Его обвиняли и в антигосударственных стремлениях, и в сношениях с иностранными державами, и в служении целям франкмасонства, и в убийстве политических противников. Его систематическая борьба против всех министров, заслуживших доверие Царя, шла на виду у всех, и, каковы бы ни были его действительные цели, Витте, при всех своих способностях, был, конечно, живым выражением разложения русской государственности.
Этот человек вечно мучил Киреева, который считал его злым гением России и изменником. Он считал его Каталиной, готовым взорвать все государство из-за своих личных целей, и даже как-то цитировал мне речь Цицерона против Катилины: «O tempora, o mores! Senatus haec videt — et ille vivit!»
Среди таких времен и нравов Александру Алексеевичу приходилось кончать свою жизнь. Судьба или Божья воля сохранили его от еще худших испытаний в жизни родины, он не дожил до всесветной войны, в которой монархия так страшно рухнула. Впрочем, Кирееву было уже под восемьдесят лет, и он достаточно пережил; он достаточно и предвидел, так что будущие события вряд ли его бы удивили, если бы он их увидел. Старость имеет свои непонятные прозрения будущею, которых обыкновенно не понимает молодежь.
Но Киреева ждало еще одно личное испытание — потеря зрения.
Когда я последний раз видел его (он заезжал ко мне в Москве так около года до смерти), он жаловался, что с глазами его делается нечто неладное — потухают. Но он был спокоен. Скоро он заболел каким-то общим упадком сил и вызвал к себе из Лондона сестру, Ольгу Алексеевну. Она все время и ухаживала за ним в Павловске и мне рассказывала о том, как он расставался с жизнью.
Ослепший и скоро уже лишенный сил подниматься с постели, он несколько месяцев терпеливо ждал смерти, ни на что не жалуясь и погруженный в свой внутренний мир. Думаю, что он молился и готовился к переходу в иную жизнь. О делах внешних, политических и т. п., он уже не заботился. Немного и распоряжений оставил он сестре. У него нечем было «распоряжаться» и из близких людей оставалась уже на свете одна-единственная Ольга. Ее он много раз благодарил за ухаживание и говорил, как он счастлив, что умирает на ее руках. Ни страха перед смертью, ни сожаления о жизни не было уже у умирающего могикана старой России. Он был совершенно спокоен, да и физически не страдал. Сознание его не оставляло, но он, по-видимому, уже видел что-то «потустороннее». Ольга Алексеевна передавала мне один случай, ее удививший.
«Ольга, Ольга, — позвал ее умирающий, — что это такое?»
«Что такое?» — спросила она.
«Да голубь... Вот он спустился. Неужто ты не видишь?»
Никакого голубя не видела она, и его не было в комнате, а если бы и был, то как бы его мог увидеть слепой? А он все повторял:
«Да посмотри же, Вот спускается голубь...»
— Не правда ли, странно? — спрашивала меня Ольга Алексеевна, передавая этот случай. — Что бы это могло быть?
Я, разумеется, не знаю и не знал. Это не был бред, потому что Александр Алексеевич оставался в сознании. Какое-то внутреннее созерцание умирающего, непонятное для окружающих.
Новиков А. И.
Вспоминая об А. А. Кирееве («Последний могикан»), я сказал несколько слов о его племяннике, Александре Ивановиче Новикове. {193} Но это был такой типично русский образчик времен ликвидации старого строя, что о нем стоит сказать несколько подробнее.
Во Франции я впервые услыхал от медиков выражение les nerfs russes — в смысле больных, возбужденных нервов — и только тогда подумал, до какой действительно степени русские нервы ненормально возбуждены и в какой резкой противоположности с нервами отцов. Вот хотя бы этот Александр Иванович: что-то феноменально неврастеничное. И откуда взялось? Отец его, Иван Петрович, был, насколько знаю, типичный чиновник, без всяких порывов и увлечений. Мать, Ольга Алексеевна, — конечно, очень живого характера и увлекающаяся по темпераменту, но вполне здоровая, жизнерадостная, с ясными целями жизни. Сын вышел каким-то психопатом.
Физически это был очень крепкий, здоровый человек, высокий, плечистый, румяный. Воспитание получил в Катковском лицее, где старались развивать гармонически все способности: тут была и гимнастика, и музыка, и классическая система образования. Способности у Александра Ивановича были замечательные и самые разносторонние. Он вышел очень образованным человеком, много знал, много читал. В довершение всего он был в высшей степени честным, благородным, проникнутым сознанием своей обязанности служить на пользу людям. И изо всего этого получилась жизнь, которая разрушала все, к чему он прикасался, и ничего не создала, по крайней мере, ничего такого, что было нужно кому-нибудь. Что он ни начинал, он доводил до абсурда, а потом бросал, чтобы начать нечто новое, доводимое до таких же абсурдов. Получалась какая-то полная фантастичность и дисгармоничность.
Я с ним познакомился в начале 90-х годов и был у него в имении Новая Александровка Тамбовской губернии. Это было родовое имение Новиковых. Александр Иванович получил огромное наследство: большой денежный капитал, это имение с барской усадьбой и восемьсот десятин превосходной черноземной земли. В это время он был человеком религиозным и консервативным. Он считал, что дворянское сословие должно быть заботливым опекуном крестьянства, и потому-то поступил на службу земским начальником. В этом положении богатого помещика и земского начальника я его и застал.
Незадолго перед тем его постигло большое несчастье, которое, может быть, несколько объясняет его психику. Он был женат на женщине, которую страстно любил. Вероятно, для нее и для будущей семьи своей он и устраивал гнездо в Новой Александровке. Но жена разлюбила его, а может быть, влюбилась в другого, за которого потом и вышла замуж. Как бы то ни было, она потребовала развода, и Новиков не только дал, но принял вину на себя, чтобы не портить ей будущего. Может быть, в этих же целях — сделать для нее развод наименее хлопотливым — он признал себя якобы неспособным к брачному сожитию. Таким образом, он отпустил ее на волю, а себя осудил оставаться безбрачным. Мать его очень сердилась на эгоизм разведенной жены, а его поступок называла глупым рыцарством.
Итак, я застал его соломенным вдовцом. Его усадьба в Новой Александровке носила весь характер не то глупых фантазий, не то крушения надежд на семейное счастье. Тут был двойной комплект жилищ. Прекрасные каменные дома в два этажа достались Новикову в наследство, и отец его незадолго до смерти капитально их отремонтировал. Но они стояли теперь наполовину совсем нежилые, наполовину пущены были на квартиры служащих и склады. Неподалеку от них Александр Иванович выстроил себе новый, тоже каменный, дом, богатый, при большом подъезде, с массивными колоннами, наполовину одноэтажный, с высочайшими комнатами, наполовину двухэтажный, с рядом жилых помещений пониже. Дом был огромный, как бы рассчитанный на большую семью, на множество прислуги и на приезжих гостей. Но теперь в этих обширных помещениях жил один человек да человека три мужской прислуги и какая-то вроде горничной. В пустых комнатах поддерживался величайший порядок, паркеты блестели, нигде ни пылинки. Все было богато меблировано. В гостиной по стенам — масса фотографий в рамках, разбросанных красивыми прихотливыми вереницами, вроде узоров. Немало нужно было потрудиться над таким размещением этой массы фотографий, художественно украшавших стены. В комнатах было расставлено множество изящных безделушек и масса цветов. Одна небольшая комната, стены которой состояли из сплошных окон с двойными стеклянными рамами, представляла зимний сад, густо заполненный деревьями, кустами и цветами. Одного недоставало этому райскому уголку — людей. В безмолвной тишине своего маленького дворца одиноко блуждал Александр Иванович. Зачем он поддерживал все в таком порядке и чистоте? Может быть, ему мечталось, что вот где-нибудь заслышится ласковый голос жены, раздастся топот бегающих со звонким хохотом детей? Но ведь это не могло уже быть ни сегодня, ни завтра и никогда, до конца его дней, а без этого все вокруг было ни к чему, бесплодно и бесполезно.
Такие же бесполезности переполняли все имение. В прежнее время, у отца, около дома был парк с оранжереями. Все это — старое, наследственное — было запущено. Теплица разваливалась, дорожки заросли. Но зато рядом с парком Александр Иванович насадил фруктовый сад на четырнадцати десятинах земли. Кому и для чего нужна была эта масса фруктов? За садом некому было ухаживать, некому было и пользоваться им. Зачем было этот огород городить?
Около сада тянулось кладбище с часовней для покойников. Это была выдумка Александра Ивановича — для предупреждения похорон мнимо умерших. Раньше в деревне, конечно, было кладбище. Александр Иванович его забросил и устроил новое. Здесь каждая крестьянская семья получила особый участок, на котором и должна была хоронить своих членов. Для чего это нужно? Чистая фантазия. В деревне не было храма, и Александр Иванович выстроил церковь. Дело доброе Но он выстроил такую церковь, которая и в городе была бы роскошной: громадную, красивую, затейливой архитектуры. Эта церковь обошлась ему, кажется, в сто пятьдесят тысяч рублей, и это еще дешево, потому что он сам строил. Он, конечно, не учился архитектуре, но его способностей хватало на все. Он и дом сам строил, и эту громадную церковь, а архитектора призывал только для того, чтобы поставить свою подпись на его планах. Церковь эта имела еще особый смысл: быть усыпальницей для рода Новиковых. Для этого под церковью был сделан особый склеп. Можно и это одобрить. Беда лишь в том, что уже не было рода Новиковых. Под церковью покоился отец Александра Ивановича и мог быть положен со временем он сам, но это и конец, ибо с ним род по необходимости пресекался. Опять какая-то фантазия и бесполезность.
В деревне не было школы, и Александр Иванович ее устроил. Но тут уже пошло нечто вроде сумасшествия. Школа его была, конечно, прекрасная, и учителя хороши, и сам Новиков показал выдающиеся педагогические способности. Но когда он поставил хорошо школу одноклассную, то немедленно добавил второй класс, потом выдумал третий, потом семинарию для сельских учителей. В конце концов эти школы выросли в огромные каменные трехэтажные здания с пансионами для учащихся. Новая Александровка превратилась в какой-то центр просвещения крестьян для всей губернии, и притом такого просвещения, которое никому не было нужно, потому что не могла же вся губерния пойти в сельские учителя? Сверх того, воспитанники получали барско-интеллигентное образование и совершенно отрывались от своей среды. Денег это стоило бесконечно много, и Александр Иванович просадил на школу весь свой капитал. Потом пришлось закладывать землю. Сами школы Новой Александрова Новиков значительно отклонил от обычных типов, ввел новые предметы, и все это было ни к чему, ни для кого не нужно. Когда впоследствии, уже не имея денег для поддержания своих школ, Александр Иванович предложил их в дар духовно-учебному ведомству вместе со своей заложенной землей, го оно не захотело взять ввиду слишком большой стоимости поддержания бесполезных огромных зданий.
Вот так он вел всю свою созидательную деятельность. Конечно, в Новой Александровке образовался целый слой интеллигенции: священники, учителя. И все были очень хорошие люди. Дети и юноши в школах учились прекрасно и выходили очень развитыми. Но Александр Иванович, начав дело, не мог остановиться ни на какой границе, строил этаж за этажом, раздувал начатое до безграничности, и, если бы у него были сотни миллионов, он бы тут .устроил и университет, и обсерватории, и что угодно. Зуд деятельности, а не ясная надобность дела руководила им.
Я был в его школе, когда он еще не довел своей педагогической деятельности до абсурда, и положительно восхищался детьми. Они превосходно читали, писали, сознательно отвечали по всем предметам преподавания, по арифметике показывали сообразительность удивительную, они хорошо знали богослужение. Вообще видно было, что их учили прекрасно, учителя — с талантом и любовью к своему делу. Сам Новиков был тут вроде первого учителя. Отношения между ним, учителями и детьми были простые, дружелюбные. Дети не обнаруживали ни робости, ни нахальства, они, очевидно, даже не понимали, что их тут кто-нибудь может обидеть, так что никого не боялись, но относились к учителям вежливо и почтительно. Короче, школа была прекрасна. Беда только в том, что Новикова съедало стремление к грандиозному, как будто ему дороги были не интересы данных лиц, а упражнения своей мечты, своего зуда бесконечно созидать. Эта черта — русско-интеллигентская черта, вследствие которой деятельность интеллигенции неизбежно должна была кончиться абсурдом и крахом. Так было и с Новиковым. Без сомнения, неудачная семейная жизнь обострила этот психический порок его, но, конечно, Александр Иванович, если бы его и не бросила жена, все же бы остался таким же фантазером. И как знать, не разрушил ли бы он и свою собственную семью? Мог ли бы он удовлетвориться простым семейным счастьем, если бы получил его? Я у него побывал в Новой Александровке во время голода, охватившего ряд русских губерний. Всюду принимались меры помощи крестьянам. Разумеется, Александр Иванович не остался безучастным, и Новая Александровка превратилась в крупный центр кормления голодающих и рассылки пищи крестьянам. Я осматривал подробно все его учреждения, пекарни, раздачу и рассылку хлеба. И что сказать? Все было очень хорошо. Но по-моему — слишком хорошо. Казалось бы, достаточно было дать крестьянам их обычную пишу. Но их кормили в десять раз лучше. Такого хлеба, какой им давали во время голода, они не имели во времена благополучия. Думаю, что это стоило гораздо больше, чем следовало, и только привлекало к даровой кормежке тех, которые могли бы прокормиться и сами.
И замечательно, что этот бескорыстный рачитель о народных нуждах все-таки не приобрел доверия народа и, истратив не сотни тысяч, а уж конечно более миллиона рублей на просвещение народа, не достиг того, чтобы крестьяне разумно относились хоть к борьбе с эпидемиями. Впоследствии, когда в Тамбовской губернии возникла холера, Новиков устроил в Новой Александровке холерные бараки. И что же? Крестьяне начали против этого бунт и двинулись толпой, чтобы сжечь бараки. Новиков, чтобы избавить толпу от ответственности за насильственные действия, сам сжег свои бараки...
В конце концов Александр Иванович совершенно разорился на всех этих «благодеяниях» народу. Мать. Ольга Алексеевна, отдала ему свое имение. Но оно тоже было скоро съедено. Пришлось Новикову прекратить служение народу и убираться куда-нибудь на казенное место, искать пропитания. В Новой Александровке у него в конце концов не осталось ничего, кроме усадьбы. Школы кое-как пожертвовал казне.
И вот началось хождение Александра Ивановича по местам. Он их переменил что-то много и нигде не уживался. Он в этом обвинял губернаторов, и, может быть, в чем-нибудь и справедливо. Но в основе, конечно, был виноват он сам. В своей Новой Александровке он мог как угодно чудить на свои собственные средства. Но конечно, никто не мог ему позволить чудить на казенной службе и на казенный счет. Каждый раз, когда он лишался места, он являлся к матери, жил на ее счет, и она мало-помалу растратила на него все, что имела. Пользуясь своими связями, она отыскивала для него новое место, но сын и там кончал свою деятельность так же. как и на прежнем. Одно время он счел себя счастливым: он успел получить место городского головы в Баку. Это была уже не административная, а общественная служба, и Александр Иванович думал, что наконец попал на свое место. Но оказалось, что и на общественной службе выходит не лучше, чем на казенной. Он нашел, что его друзья по партии, которые ему доставили место и которые принадлежали к виднейшим бакинским радикалам, совершают какие-то денежные злоупотребления. Правда это или нет, я не знаю. Но он счел долгом вступить с ними в борьбу, и, конечно, они победили, а он потерял место городского головы.
Надо сказать, что вместе со всей Россией Александр Иванович постепенно все более радикализировался и революционизировался. Бывший сторонник дворянской опеки над крестьянами стал демократом. Уже место в Баку было доставлено ему радикальной партией, как своему человеку. Выбывши из голов, он уже не находил другого прибежища, кроме журналистики, и оказалось, что он имеет и писательский талант. У него были все таланты на свете. Но конечно, он явился писателем оппозиционным, антиправительственным.
Между тем подошла революция. Я не знаю, что именно он в ней делал, но, во всяком случае, после ее усмирения был привлечен к суду за произнесение каких-то возмутительных речей с оскорблением Величества. Много горя и беспокойства наделал он матери и дяде (Кирееву). Надо сказать, что к этому времени он очень расстроил здоровье, а именно нажил болезнь сердца. Немудрено, конечно, при такой жизни, вечно полной волнений и нервного кипения. Он был слишком умен, чтобы, окидывая взглядом жизнь, не видеть в ней множество сумбура. Он не мог не разочароваться во всем, чем увлекался. Если он зачеркнул крестом былые идеалы старого режима, то не лучшие впечатления выносил от народа и представителей передовых идей, с которыми столкнулся еще в Баку. Вообще, нравственное состояние было тяжкое. А тут еще давило отсутствие средств к жизни, потому что и мать свою он уже обобрал настолько, что мог получать от нее уже очень немного. В довершение же всего его посадили в тюрьму. Хлопоты матери и дяди успели его временно выручить, а именно ему была дана свобода на несколько месяцев для лечения. Он поселился в Вырице (под Петербургом) с дочерью своей, которую имел от связи с какой-то крестьянкой.
Дочь эта была очень милая девушка, которую он воспитал и которая имела совершенно интеллигентный вид. Она его очень любила и ухаживала за ним.
Но затем его снова посадили в тюрьму, тем более что «дело» его принимало очень плохой оборот. Ему угрожала каторга, которая его бы убила в одну неделю. Юристы советовали добиться прекращения дела до суда, по Высочайшему помилованию. Но конечно, Александр Иванович не хотел просить помилования даже под угрозой смерти. К счастью, дядя и мать успели выхлопотать Высочайшее помилование по прошению матери, и Новиков вышел на свободу, совершенно измученный, надломанный, разочарованный в какой бы то ни было деятельности.
Он занялся учебными переводами латинских авторов для гимназий, чем и зарабатывал небольшие средства к жизни. Изо всего в жизни у него остались только мать и дядя, которых он мог оценить за последнее время как редких нравственно людей. Не долго он, впрочем, пожил. Кажется, мать перевезла его прах в фамильный склеп в Новой Александровке.
Так кончил жизнь последний Новиков. Все дала ему судьба: огромные способности, прекрасное образование, благородное сердце, общественное положение, богатство. Казалось бы, только и оставалось жить и созидать все вокруг себя. Но он умел только все разрушать, за что ни брался, — и тогда, когда хотел созидать, и когда хотел разрушать; подорвал свою жизнь и, умирая, конечно, не мог сказать ничего на вопрос: «Что же ты сделал с данными тебе талантами?» Может быть, он был бы счастливее и даже полезнее для людей, если бы не имел ни одного из них.
Чего же недоставало ему? Что в последнем отпрыске Новиковых погибло такое, без чего человек не может ни жить, ни созидать жизни? Это наш «общеинтеллигентский» вопрос.
Генерал Богданович
Я называю его «генерал» Богданович, потому что так его обыкновенно именовали сотни его знакомых, как будто он был какой-нибудь генерал par excellence. «Будете ли у генерала Богдановича?», «У генерала Богдановича слышал то-то...» Может быть, это установилось в полушутку, ввиду того что этот добрейший, и доступнейший человек любил представлять из себя сторонника чинопочитания доброго старого времени. Очень близкие знакомые уже с нескрываемой шуточностью тона называли его в лицо «ваше высокопревосходительство», и старик выслушивал с забавной серьезностью, как будто это так и должно было быть.
Я говорю о Евгении Васильевиче Богдановиче, одном из известнейших людей в Петербурге и даже в России в течение долгого ряда лет. Мое с ним знакомство относится только к концу его жизни, примерно с 1907 года по 1914-й, когда он и скончался. Но за эти годы я с ним очень сошелся, как и с его женой, Александрой Викторовной.
Евгений Васильевич был действительно генерал, даже и «полный», кажется, от инфантерии, хотя, в. сущности, никакой серьезной военной службы, полагаю, никогда не нес. Начал же он службу с флота, о чем потом говорил с усмешкой, потому что совсем не годился в моряки: его укачивало при малейшей волне. Однако, шутя рассказывал он, морская служба «дала мне случай войти в личные сношения с самим Нахимовым».
Этот анекдот произошел в Севастополе. Молодой гардемарин Богданович ухаживал за какой-то барышней и однажды провожал ее куда-то. Было жарко, и он взял на руки ее накидку (не знаю, какие тогда носили). Так он шел со своей дамой, чувствуя себя на седьмом небе... Вдруг на повороте угла на них наталкивается адмирал Нахимов... Богданович растерялся и неловко стал во фрунт с руками, окутанными накидкой. Адмирал грозно взглянул на него: «Гардемарин! Дрянь-с...» «Дрянь» — это было его излюбленное ругательное слово. Тогда к отданию чести относились очень строго, и Нахимов, не ограничиваясь «дрянью», отправил его под арест.
В морскую службу Евгений Васильевич пошел по семейным преданиям: в их роду (хотя и не по прямой линии) был Богданович, отличившийся в Наваринской битве. Но по своей непригодности к морю Евгений Васильевич скоро перешел в сухопутную службу. О ней, как и о всей его деятельности до самого моего с ним знакомства, я ничего не знаю, кроме отрывочных фактов и слухов, на которые обращал очень мало внимания. Всем известно, что он был старостой Исаакиевского собора и издавал «Кафедру Исаакиевского собора», то есть слова и речи, в нем произносимые. Эти издания он очень усердно распространял. Знаю также, что он участвовал в железнодорожном строительстве на Урале. Он даже сам говорил, что считает себя первым, начавшим соединять Россию с Великим океаном. Знаю, что Богданович вошел в близкие связи со двором, но не знаю, давно ли и как это произошло. Все это для меня туманно и малоизвестно. Подробно и ясно я стал узнавать о генерале Богдановиче лишь после 1900 года, а лично познакомился или в 1906-м, или в 1907 году.
В это время он был уже очень стар, свыше 75 лет (он родился, кажется, в 1829 году), и притом слепой. Уже несколько лет назад я начал слышать, что старик слепнет; он лечился, доктора поддерживали в нем надежду, будто он выздоровеет, но эти надежды не исполнились, хотя даже еще при мне он не терял их года два. Но в остальных отношениях Евгений Васильевич был совсем молодец. Высокий, даже величественный, когда приосанится, он сохранил всю свежесть ума, сохранил все политические интересы, неуклонно продолжал свою деятельность, вел установленный у него образ жизни, деловой и светский, и, как однажды выразился мне их швейцар: «Если бы не слепота, так генерал был бы помоложе нас с вами».
Ангелом-хранителем его была его жена, Александра Викторовна. Весьма тучная, она была значительно моложе его, на вид лет пятидесяти, и ухаживала за ним с неистощимой добротой и терпением, с неослабевающими силами даже и тогда, когда старик стал все больше «рассыпаться» и за ним потребовался непрерывный сложный уход, бравший много времени (тут были и клизмы, и ванны, и переодевания, и т. п.). Я удивлялся этой женщине, ее самоотверженности и кротости, тем более что он, слепой, относился очень нервно к тому, чтобы оставаться одиноким.
А кроме ухода за мужем, на ней лежали еще большие хозяйственные и светские обязанности. У Богдановичей был своеобразный «салон», давно и твердо установившийся: это именно знаменитые «завтраки». Желающие посетить генерала должны были являться к завтраку. Иногда приглашали на обед. Генерал терпеть не мог, чтобы знакомые приходили в какое-нибудь другое время, и иногда очень резко высказывал свое неудовольствие за это. Для свидания в другое время требовалось уговориться особо, и другое время принадлежало врачам, всяким операциям по режиму старика и лицам, являющимся с какими-нибудь просьбами, делами и т. п. Но все, признанные в качестве «знакомых», могли без всяких церемоний являться к завтраку. К этому времени Евгений Васильевич уже обязан был являться в роли радушного хозяина, точно так же, как и Александра Викторовна, встречать гостей. Гости обычно сходились в гостиную, где в кресле восседал Богданович. Он уже с трудом мог подыматься, и Александра Викторовна или подводила гостя к нему, или говорила громко через дверь, кто пришел. В этих светских обязанностях им часто помогали знакомые барышни и молодые барыни. В гостиной и столовой Богдановича строжайше соблюдалось правило знакомить гостей между собой. Это делалось в предупреждение недоразумений, так как могло случиться, что кто-нибудь вздумал бы говорить что-либо резкое или неприятное о человеке, не зная, что он находится тут же. Точно так же генерал, представляя гостей друг другу, имел привычку пояснять, где каждый из них служит. Это опять для того, чтобы гость по незнанию не вздумал ругать какое-нибудь ведомство и разоблачать его тайны или просто сплетничать о нем. За принятием таких предохранительных мер хозяева предоставляли гостям полную свободу слова. Впрочем, нельзя было бранить лично начальника самого Богдановича, то есть министра внутренних дел: генерал состоял в его Совете, хотя, конечно, по слепоте своей совершенно фиктивно. Затем гости переходили в столовую. Опоздавшие прямо проходили туда.
Эти завтраки Богдановича очень привлекали служебных и деловых людей, которые старались получить приглашение «бывать» у генерала. Причин на это было много. Во-первых, Богдановичи жили в весьма центральном пункте — на Исаакиевской площади, дом № 9. Заходить к ним было удобно. Во-вторых, у Богдановича бывали на завтраках разные влиятельные его приятели из высших учреждений, иногда даже министры. Гости сами собой создавали интересный круг, который привлекал каждого из них. Можно было встретить нужного человека, закинуть словечко просьбы в удобной обстановке, разузнать кучу новостей во всех ведомствах. Сам Богданович, в высшей степени осведомленный, мог многое сказать, посоветовать и даже помочь рекомендацией. Наконец, в-третьих, завтраки его были очень хороши. Это был целый обед. Прежде всего, прекрасная, разнообразнейшая закуска, потом горячее, жаркое, рыба, десерт, после завтрака — кофе в гостиной. За завтраком были всегда превосходные вина; некоторые Богданович выписывал прямо из Франции. Часто у него бывали и редкости, которые ему присылали приятели, например какая-нибудь горная коза и тому подобная дичь. Сам Богданович любил покушать, и при его слепоте что-нибудь лакомое составляло для него более утешения, чем для кого другого. Вообще стол Богдановичей мог удовлетворить даже весьма изысканный вкус. Забота об этой стороне хозяйства лежала опять-таки на Александре Викторовне.
Эти завтраки, без сомнения, стоили очень недешево, потому что гостей было много, человек десять, двадцать и больше. Иногда у Богдановича были специальные приглашенные, и тогда их набиралось по несколько десятков человек, так что приходилось накрывать особый стол. Так, помню у него целую толпу членов Государственной Думы, помню депутации, подносившие что-нибудь Императору или даже самому Евгению Васильевичу. Ему как-то подносили образ из какого-то провинциального города; была, помнится, депутация из Одессы, в которой он состоял Почетным гражданином. Он это звание имел в нескольких городах и очень им гордился.
Он вообще любил себя считать общественным, даже народным деятелем. Он очень охотно входил в сношения с народом, крестьянами и рабочими, что особенно имело место при распространении его многочисленных изданий. К партиям он не принадлежал, программ их не знал. Но понятно, что в общем по образу мыслей его можно было отнести только к так называемым «правым». Он был религиозен, был всей душой предан Царю и династии, был горячий патриот. Но в программах и фракциях не разбирался, так что у него бывали и люди либеральные. На Государственную Думу он смотрел так: учредил ее Государь — значит, и должна она быть. Захотел бы уничтожить — значит, будем без Думы. Понятно, что он был против всяких революций, против социализма, которого он и не знал ясно. Вообще в политике он был очень прост: нужен Царь, заботящийся о народе; народ честный, трудолюбивый, религиозный, любящий Царя; нужен порядок, нужно уважать власть; но нужно также заботиться о благе народа. Вот и все его взгляды, прибавив еще, что Россия должна жить в чести и славе. Иностранную политику он знал хорошо и следил за нею.
Лично он очень любил народ и считал, что это народ хороший, добропорядочный. Он умел и ладить с народом; его тоже любили. Впрочем, он вообще во всех людях возбуждал симпатию: был человек хороший и добрый, готовый всякому помочь.
Одно из дел, бравших у него много времени и сил, — это были его издания, всегда в духе патриотическом и религиозном. Пока он был зрячим, он смотрел в своих брошюрах за всякой мелочью. Брошюры его должны быть, по программе его, нравственны, патриотичны, возбуждать добрые чувства и непременно должны быть изящны. Это иногда и были просто картинки с текстом; если же брошюры, то всегда с изящными картинками. Когда он ослеп, следить за изданиями стало трудно, но он все же прилагал к этому все усилия. Он говорил, что должно быть изображено и в каких красках, показывал картинки, не говоря уже об Александре Викторовне, людям, которым доверял, спрашивал о впечатлении, о том, что следует изменить или поправить. И его издания действительно были всегда очень чистенькие, красивые, иногда очень изящные. Часто в них была идея, о которой непосвященный не мог бы и догадаться.
Так, например, была картинка, изображающая царское семейство. На ней нарисованы были обе Царицы, то есть царствующая и вдовствующая, с детьми. Обе молодые, красивые, сидели рядом, очевидно, в самой дружеской беседе. Дети ласкались к ним. Такой сцены в действительности не могло быть. Но генерал потому-то и пустил свою картинку. По всей России был слух о неладах между Царицами, и Богданович хотел своей картинкой опровергнуть этот слух. Вдовствующую же Императрицу страшно подмолодил, для того чтобы сравнение с молодой Царицей не возбуждало в ней горькой мысли об исчезающей молодости. Все это было очень наивно, но генерал был в восторге от своей идеи сблизить Императриц в глазах народа.
В другой раз картинка изображала крестный ход в Москве; в нем был представлен на первом плане и сам Царь. Император Николай II, улыбаясь, заметил о картинке, что в ней художественная правда, но не действительная, так как он, конечно, должен был участвовать в крестном ходе, но на самом деле не был. Но Богданович потому-то и выпустил свою картинку, чтобы загладить во мнении народа толки об отсутствии Царя на крестном ходе.
Свои издания Богданович раздавал бесплатно, рассылал по разным городам, где имел уже знаковых распространителей. Расходились издания в десятках тысяч экземпляров. Случалось, генерала и надували при этом. Так, одна компания рабочих брала у него большое количество изданий, уверяя, что народ расхватывает их, как пряники. Генерал радовался и старался исполнять всякие просьбы этих неутомимых распространителей, когда им нужна была его протекция, выручал иногда и из денежной нужды. Но однажды у этих рабочих полиция по каким-то подозрениям своим сделала обыск и нашла целые залежи изданий Богдановича: их совсем не распространяли. Полиция сообщила о своем открытии генералу, и он был страшно разогорчен коварством своих рабочих друзей.
Эти издания стоили больших денег. Богданович, кроме жалованья, имел некоторое состояние, но я слыхал, что на свои издания он получает будто бы субсидии непосредственно от Императора. Вполне возможно, хотя наверное не знаю.
Император Николай II его очень любил и, так сказать, баловал. Время от времени старик получал награды, ордена, хотя уже нелегко было и придумать, чем его награждать. Император ему иногда оказывал и другие знаки внимания: дарил картины, изящные веши и т. п. С тех пор как Богданович ослеп, он уже не мог бывать при дворе, но он писал Царю о чем угодно, и тот очень ценил его письма. В мое время дворцовый комендант Дедюлин и его жена, очень милая, были частыми посетителями Богдановича и находились в числе лучших друзей его и Александры Викторовны. Мимоходом скажу, что как Владимир Александрович Дедюлин, так и жена его производили на меня прекрасное впечатление. Владимир Александрович имел репутацию безусловно честного человека, в обращении был прост и добродушен. Политикой он не занимался, но Царю был предан до последней капли крови. Нет сомнения, что он поддерживал сношения Богдановича с Императором. Через Богдановича и я познакомился с Дедюлиным. Жил он в Царском Селе (Садовая, д. I), хотя у него, как дворцового коменданта, была квартира и в Петербурге.
Знакомства и связи Богдановича были какие-то всеобъемлющие. Он знал весь правительственный мир и имел среди него множество друзей. Все это он, конечно, запас еще в прежние голы, когда не ослеп и мог всюду бывать, но этот капитал связей был так велик, что не мог скоро истощиться. Конечно, в последние годы явилось много новых людей, с которыми он лично не мог познакомиться, но заочно он их все-таки прекрасно знал через своих приятелей-чиновников, ставших товарищами министров и т. п. За всей ведомственной политикой, за всеми внутренними отношениями, ссорами, союзами и т. д. он следил тщательно и держал в голове целый склад сведений по этой части. Он был большой дипломат, сведений своих зря не разбалтывал. Но если нужно было дать хорошему человеку совет и указание, как избежать междуведомственных подводных камней, никто не мог сделать это лучше, чем Евгений Васильевич.
Своими сведениями и связями он охотно пользовался для того, чтобы делать добро. Множество лиц получали через него места, перемену мест, разную помощь в хлопотах по делам. Особенно любил он покровительствовать разной молодежи. Не раз приходилось мне видеть у него какого-нибудь молодого офицерика, пришедшего благодарить за оказанную услугу.
Молодой человек, очевидно, уже предупрежденный о привычках генерала, вытягивался в струнку перед слепым стариком и громким голосом начинал: «Честь имею представиться вашему высоко-превосходительству. Подпоручик такой-то. Счел долгом явиться, чтобы выразить...» и т. д. Выслушав эту «форменную» часть речи, Евгений Васильевич притягивал молодого человека рукой, усаживал на кресло возле себя и начинал дружески расспрашивать, как у него устроилось дело, и давать советы на будущее время.
Евгений Васильевич, случалось, протежировал и людей в совсем другом роде. Однажды он вытягивал в люди какого-то молодого музыканта (забыл его имя), который сделал замечательное, говорят, усовершенствование балалайки, начавшей тогда входить в моду. Он пригласил его к себе с компанией других балалаечников, и в его гостиной устроился маленький концерт, на котором и я присутствовал. Меня Богданович заставил слушать все объяснения, чтобы написать в газетах. Другие присутствовавшие должны были разнести по Петербургу известие о новом усовершенствовании.
Короче, у него вечно была куча дел по всяким претензиям. Время этого слепого старика было все разобрано, и в доме постоянно толклась разнообразнейшая публика. В гостиной и за столом являлся интереснейшим собеседником. Он был остроумен, знал кучу анекдотов, любезничал с барышнями, которые охотно кормили его, потому что он по слепоте не мог ничего взять себе и ему нужно было все вкладывать в руки, да еще смотреть, чтобы он не обронил тарелки или рюмки вина. Барыни и барышни положительно любили старика, и, сказать правду, он был гораздо интереснее молодых, сидевших вокруг.
Он часто рассказывал разные анекдоты из своей жизни. Любил при случае сообщить какие-нибудь новости из придворной жизни. Тогда пришлось мне услышать несколько рассказов о маленьком Наследнике, который проявлял ранние способности, но также чрезвычайную требовательность почтения к себе. Говорят, что дядька, матрос Деревенько, приставленный к нему и умевший привязать к себе мальчика, внушал ему мысли о царском величии и самовластии. Однажды маленького Алексея несли, завернутого в простыню, из ванны, и по дороге с ним встретился какой-то министр, который не обратил на него внимания. Ребенок запротестовал, почему тот ему не поклонился, и министр должен был извиниться. Другой раз Наследник сидел, кажется, с учительницей за столом, и проходивший министр также не заметил его. После этого через комнату проходил Николай II, и ребенок тотчас пожаловался ему на невежливость министра. Когда Император вышел к ожидавшему его министру, то первым делом спросил его: «Что это у вас вышло с Цесаревичем?» Министр не понимал, в чем дело, и когда Царь сказал ему о жалобе Наследника, тот, конечно, мог только рассыпаться в извинениях, уверяя, что не поклонился только потому, что совершенно его не заметил. А Царь произнес: «Да, он вам будет не я!» Еще раз маленький Алексей обратил внимание на какого-то придворного, который ходил во дворце постоянно с палкой. Ему объяснили, что тот страдает подагрой, у него болят ноги Мальчик задумался и сказал: «А у нас тоже есть палка: Петра Великого... Я ее видел в его комнатах». Кто его знает, что у него роилось в голове при таком размышлении.
Не ручаюсь, чтобы все это я слышал именно от Богдановича. Но помню, что именно он рассказывал еще один случай. Однажды Наследнику вместо его любимца Деревенько дали почему-то другого дядьку, и мальчик был этим очень недоволен. Он дулся на нового приставника. Тот, однако, успел угодить ему и развеселить его. К вечеру мальчик уже подружился с ним и, идя спать, важно заявил ему: «Ну, я жалую тебя в Деревенько».
Многие из таких рассказов я уже и позабыл. Все они рисовали в маленьком ребенке какую-то властную натуру. Не вовремя он родился, опоздал на доброе столетие.
Об остальных обитателях Царскосельского дворца мало разговаривали в те времена. Там жили тихо и незаметно. Придворная жизнь как-то стушевалась и совершенно перестала быть средоточием даже великосветского мира, как, по преданиям, было в старину. А когда о дворце заговорили, то стало уже совсем нехорошо, и преданным Царю пришлось помалкивать о царскосельских делах. Начала все более развиваться история Гришки, то есть, иначе, Григория Ефимовича Распутина-Новых. Природная фамилия этого мерзкого существа была Распутин, и недовольный такой кличкой по шерсти он ее официально переменил на Новых. Однако публика не приняла этого новшества, и он остался для всех тем, чем был, — Распутиным.
Он был представлен Царице, говорят, епископом Феофаном (бывшим инспектором Петербургской Духовной академии). Феофан был личностью чрезвычайно чистой нравственно и в некоторых отношениях очень учен. Он был также глубоко религиозен, и именно на мистической почве. В академии он отстаивал перед профессорами учение Григория Паламы о Фаворском свете, стремился к единению с Божеством, жил строжайшим аскетом, и о нем говорили, что он непрестанно творит Иисусову молитву. Я его видел только раз в академии, желая ознакомиться с этим человеком, которого называли чуть не святым. Но я увидел только человека непобедимо молчаливого. Не на минуту, а на несколько минут погружался он в молчание при моих стараниях втянуть его в разговор. Казалось, он готов был просидеть молча хоть целый час, и я ушел наконец с чувством полного недоумения. Как он попал к Царице — не знаю. Знаю, что это не нравилось митрополиту Антонию, который добивался от Феофана узнать, о чем он беседует с Царицей, но Феофан отказался начисто отвечать, как бы зачисляя свою беседу в тайну исповеди или старчества.
Гришку же Распутина Феофан узнал, кажется, в Казанской академии, где этот безграмотный авантюрист, говорят, из хлыстовской секты, умел как-то выставлять себя необычной мистической силой. По-видимому, он и обладал большими способностями гипнотизера и магнетизера. Имея свою главную квартиру в Сибири, в своем родном селе, Гришка шлялся по многим местам России, в том числе в Петербурге. Феофан, говорят, и провел его к Царице.
Что Распутин был весьма развращенный распутник — это для меня не подлежит никакому сомнению: на это существует целый ряд свидетельств соблазненных им женщин. Он их раздражал всякими способами, разными прикосновениями, объятиями, поцелуями, совместным мытьем в бане, заставлял себя раздевать и т. п. И доводил до исступления. Все это, однако, для того, чтобы бороться с плотью и побеждать ее. Но плоть брала свое и сама побеждала. Происходило паление. Но Распутин успокаивал падшую, что это не беда. Нужно продолжать бороться, то есть по-прежнему раздражать себя, и снова падать и «восставать». В Сибири у него, говорят, был целый гарем таких «спасающихся». Он, при почти отвратительной (судя по карточке, ибо я его в натуре не видал ни разу) наружности, имел для женщин какую-то притягательную силу, магнетизировал их. Думаю, что теоретически он не знал гипнотизации, но, по рассказам некоторых знакомых, пускал и против мужчин обычные приемы гипнотизации. Они практически известны во многих сектах раньше, чем их узнали наши ученые.
Царица, очевидно больная психически, на гистерической почве, еще и до Распутина попадала в руки шарлатанов-гипнотизеров. Таких называли двух, оба заезжие из-за границы шарлатаны: сначала был некто Папюс, потом Филипп. Филипп, которого к ней провела черногорская княжна, уверял, что своим гипнотическим влиянием может достигнуть того, что она родит наконец мальчика, чего она страстно хотела. Таким образом, Царица добровольно подвергла себя его гипнотическим экспериментам. Мальчика, однако, у нее не родилось, хотя она и воображала себя беременной и у нее было нечто вроде выкидыша. Но это не была беременность, а что-то такое болезненное, о чем лучше знают акушеры, я же только слыхал по толкам публики, Филипп этот остался неизвестен широким кругам, а в конце концов был выслан за границу вследствие увещательного письма отца Иоанна Кронштадтского Николаю II. Тогда Император не был еще так беспредельно порабощен своей женой.
Итак, Царица себя психически испортила еще до Распутина и еще раньше стала впадать в какой-то гистерический лжемистицизм. Пришлось мне слышать историю в этом роле. Я ее плохо помню и не знаю, что в ней верного. Будто бы Царица и Анна Вырубова были обе влюблены в Орлова, который, однако, умер, и они обе ездили на его могилу и там погружались в мистическое совместное общение с духом умершего. Может быть, я что-нибудь тут и путаю, но история мне вспоминается именно с этим характером, психопатически-мистическим.
Распутин явился на готовую почву. На Царицу он повлиял очень быстро и вытеснил влияние Феофана. Но от Царя он сначала прятался, хотя тот, конечно, и знал, что новоявленный «святой» шляется к его супруге. Для публики он тоже оставался неизвестен. Но мало-помалу он стал на более прочную ногу, начал приучать к себе и Императора; начала замечать кое-что и публика. Вероятно, раньше многих стал узнавать о Распутине Богданович, и на душе его явилась язва, отравлявшая целый ряд последних годов его жизни.
Богданович любил царей той преданной, безграничной любовью, какую уже перестали понимать новые поколения моего времени. Но это не было холопство. В царе он любил свой идеал, и когда носитель идеала начинал его позорить, это причиняло жестокие муки старому генералу, он с этим не мирился и шел на протест и борьбу. Именно с этот времени я только и понял душу этого представителя старого времени и начал проникаться уважением к нему.
Я не стану здесь излагать моих предположений об истинном характере отношений Царицы и Распутина. Во-первых, и все-таки могу говорить лишь гадательно; во-вторых, тут нужно бы пуститься в очень сложный психологический анализ, который отвлек бы меня далеко от генерала Богдановича. Во всяком случае, во дворце развивалось нечто скандальное. Распорядителем царской семейной жизни делался грязный нравственно Распутин. Царица была послушна каждому его слову; жизнь детей шла по его указаниям и под его надзором. Он входил к ним в спальни, благословлял на сон грядущий. Его фамильярно-«отеческое» отношение, доходившее до обниманий, возмущало даже прислугу. Фрейлина Тютчева, не хотевшая допустить Распутина в спальню к принцессам, должна была оставить свое место. Ту же судьбу испытала фрейлина Озерова, хотя ушедшая без скандала. Царица за малейшее противодействие кого-нибудь Распутину приходила в ярость бешеной тигрицы и не останавливалась ни перед какими скандалами. Ими она терроризировала и своего мужа. На замечания преданных ему люлей о неуместности такого распутинского фавора Николай II отвечал сначала: «Ах, оставьте, пожалуйста, мне легче стерпеть двадцать Распутиных, чем ее нервные приладки». Когда ее сестра, Елизавета Федоровна, {194} попробовала урезонить Императрицу, та ей устроила такой скандал с самыми непристойными криками, что обе сестры надолго прекратили сношения. Сам Царь, сначала только издали терпевший присутствие Распутина, потом принужден был войти с ним в сношения и до некоторой степени стал подпадать его влиянию. Распутин, грубо безграмотный, обладал, однако, по-видимому, большим умом и, кажется, влиял на Царя, выставляя себя выразителем души русского мужика.
Богданович сначала старался молчать о Распутине, хотя уже по Петербургу ходили о нем всякие сплетни в связи с двором. Он молчал даже наедине со мной. А я скоро получил такую благосклонность генерала, что меня просили заходить «когда угодно», и я действительно, случалось, заходил, когда и никого не было. Но мука, которую испытывал старик при мысли о Распутине, стала наконец невыносима, требовала облегчить сердце. И вот однажды, когда я зашел в неурочное время, Александра Викторовна сказала:
— Евгений Васильевич нездоров, в спальне... Но не уходите. Я спрошу, может быть, он захочет вас видеть.
Старик действительно попросил меня в спальню. Он лежал на кровати, но, когда я вошел, присел на кровати с ногами; он был в халате, а ноги под одеялом. Я присел на стуле около него.
— Ах, как я рад вас видеть. У меня невыносимо тяжело на душе.
— Что такое?
Он заговорил о Распутине, не называя этого ненавистного имени:
— Да как же... Тот, негодяй, дрянной развратник... Ведь что это делается! Подумайте...
Оказалось, что его рану разбередил какой-то дворцовый служитель, зашедший к нему и рассказавший, что у них делается. У Богдановича были знакомые среди дворцовой прислуги. Они заходили поздравить с праздником, получали, конечно, солидные «на чай», любили и поговорить с генералом; он умел привлечь их сердца. На сей раз служитель пришел к генералу просто облегчить душу, спросить, что же это делается и неужто никакого конца не будет. Он говорил о владычестве Гришки и его деяниях в Царском семействе. Это-то и уложило в кровать беднягу Евгения Васильевича.
Он начал рассказывать хриплым, прерывающимся голосом:
— Что делается! Это все мерзкая Анютка (Вырубова) устроила. Гришка у них господин, или что он такое? Она (Царица) сидит с ним, запершись на ключ. Государь приходит, стучится, она его не пускает... Сидит с Гришкой... Она Царя и ночью к себе не пускает. А Гришка детей укладывает, одеялами закутывает. Что это такое! — Старик упал головой мне на шею, охватил руками. Из его слепых глаз лились слезы, грудь вздрагивала. — Подумайте, ведь это престол, Русский Царь, величие, чистота, святость... И что же делается? Где высота, где величие? Грязь. Гадость, гнусный Гришка царствует...
Эта сцена меня потрясла. Несчастный старик! Погибала его святыня, величие и чистота престола. Его слезы меня мучили. Я никогда в жизни не видал таких горьких слез у такого старика, выдержанного, постоянно владеющего собой. А что было ему сказать? Чем его утешить?
Уж не помню, что я ему говорил. Должно быть, ничего путного. Да и сказать нечего... А он потом, немного успокоившись, воскликнул со злобой:
— О, если бы у меня глаза были! Я бы знал, что мне делать!..
Мне кажется, у него была мысль, что Гришку следовало бы просто убить. Это мне потом подтвердили слова, раз вырвавшиеся у Александры Викторовны.
Что делать? Как вырвать Царскую семью из позора? Эта мысль стала постоянно занимать Евгения Васильевича, и в частностях он даже кое-что пытался делать. Конечно, он говорил об этом со своими друзьями — Дедюлиным, а в Ялте с Думбадзе: это видно по их действиям. Но скажу лишь о том, что знаю непосредственно.
Тогда Столыпин понемножку начал «вывозить Царя», как выражались остряки. Долго после революции Царская семья никуда не выезжала, и народ отвыкал видеть своего монарха. Потом стали выезжать. Было назначено посещение Москвы. А Распутин уже так приклеился к Царской семье и начал так афишировать свою близость к ней, что, по общим слухам, готовился тоже ехать в Москву. По сведениям Богдановича, так действительно и предполагалось. И вот он однажды сказал мне: «Выслушайте это письмо, которое сегодня поедет в шхеры». (Царская семья пребывала в шхерах.)
Это было его письмо Царю. Евгений Васильевич со всякими выражениями почтения писал, что, по слухам, Григорий Распутин предполагает сопровождать Государя в Москву, но что это будет очень неблагоразумно. Отношение народа к Распутину — самое плохое, и если он окажется в Москве, то настроение чувств первопрестольной столицы может принять весьма нежелательные оттенки. Пребывание Царя и Царицы должно быть встречено восторгом населения. Появление же Григория Распутина может не только охладить чувства, но вызвать даже какие-нибудь демонстрации.
Письмо было написано почтительно, но твердо и без всяких уверток.
«Я хочу, чтобы вы знали, что я не сижу сложа руки, — сказал мне Богданович. — Вы многого не знаете, что я делаю. Когда я умру, Александра Викторовна передаст вам кипу моих бумаг. Рассмотрите их и тогда сделайте из них какое захотите употребление».
Но никаких бумаг я от Александры Викторовны не получил, может быть, потому, что не успел с нею повидаться по смерти Богдановича. Тем более записываю теперь то, что знаю о его действиях.
Письмо его на этот раз оказало влияние. Царь настоял, чтобы Гришка не ездил в Москву. Но это была лишь уступка общественному мнению. Положение же Распутина осталось непоколебленным.
Другой раз я видел у генерала попытку гораздо более грозного похода против Гришки.
Зашел я к Богдановичам несколько позднее их завтрака. Александра Викторовна меня встретила в первой комнате (перед гостиной) и несколько смущенно сообщила, что у них сегодня особый день, специальные гости. Я ее успокоил насчет завтрака; мы уже были в таких простых отношениях, что она бы меня накормила и особо, но я действительно уж завтракал и спросил, могу ли просто тут посидеть. «Да, пожалуйста, конечно. А гости особые. Завтракают за большим столом. Евгений Васильевич с ними хочет говорить...» Она убежала и возвратилась ко мне после завтрака, предложив даже войти в гостиную взглянуть на гостей. Если бы я знал, в чем дело, то не пошел бы, но я думал, что какие-нибудь пустяки, и вошел в гостиную. Богданович провозгласил мою фамилию, прибавив, что я человек благонадежный, его друг. Представлять же мне гостей было довольно трудно, потому что их было множество. Кое-кого я и знал. Было несколько человек из Государственной Думы, из Государственного Совета, были (как мне потом объяснила Александра Викторовна) несколько человек из провинции; предводители дворянства, городские головы; собрались целые Etate Generaux (генеральные штаты). Было их несколько десятков, думаю, и, по-видимому, они не знали, зачем их созвал генерал.
Евгений Васильевич это немедленно объяснил. Он громким голосом начал форменную речь о тяжелом бедствии, обрушившемся на Россию, то есть о том, что известный Григорий Распутин охватил своими путами всю царскую семью. Он очертил, как это роняет престиж трона в глазах всего народа и какими бедствиями через это угрожает всей России. В заключение он сказал, что им, представителям народа и общества, надлежит обсудить, какие меры должно принять для спасения России от этой опасности.
Гости были, очевидно, захвачены предложением Богдановича совершенно врасплох: выходило некоторое политическое, даже заговорщицкое выступление. Горячего отклика в публике речь Богдановича видимо не вызвала. Время было не такое, чтобы люди боялись заговоров, но казалось, никто не представлял себе, что бы тут можно было сделать. Кое-кто из присутствовавших начал немножко говорить, но весьма неопределенно. Мое же положение оказывалось очень странное: я был не их круга, а чиновник, мое присутствие могло просто стеснять их, да и мне тоже предстал вопрос: а что, если Бельгард (начальник Главного управления по делам печати), прослышавши об этом инциденте, спросит меня: «Что же они там такое толковали?» Крайне неудобное положение. Я поэтому пошел взять чашку кофе — и улизнул, сначала в другую комнату, а потом совсем домой. Однако ко мне еще выбегала Александра Викторовна, крайне взволнованная, и, прощаясь, проговорила: «Какое ужасное положение! Уж хоть бы кто-нибудь убил этого Гришку!»
Я не знаю, что говорилось в совещании, созванном Богдановичем, но никаких решений в нем принято не было. Да и какие решения могли быть? Запрос в Думе? Земские городские представления? Все это хорошо только для скандала, а образумить не могло бы.
Богданович все-таки не смирился. Он еще раз попытался свалить Гришку в Крыму.
Богдановичи проводили лето в Ялте. За границей при мне они уже не бывали. Расписание жизни Евгения Васильевича было такое. На Страстной неделе он приезжал в Москву и останавливался непременно в гостинице «Дрезден» на генерал-губернаторской площади. В «Дрездене» он принимал московских знакомых, причем у него считали долгом побывать и высшие представители власти. Когда я бывал в Москве, то и я неизбежно должен был зайти: иначе он обижался. При этом непременно угощал меня завтраком и заставлял приводить дочь, которую очень полюбил и обыкновенно дарил либо конфетами, либо фруктами. К завтраку любил заказать что-нибудь необыкновенное у Тестова, вроде паштета и т. п. К концу недели уезжал в Сергиеву лавру, где кратко говел и приобщался непременно в Светлое Христово Воскресение. Затем отъезжал в Санкт-Петербург.
Второй приезд его в Москву с остановкой в «Дрездене» был на пути в Крым. Третий приезд — на обратном пути в Петербург. Так у него шло из года в год.
В Ялте он останавливался на даче, на окраине Ливадии, около дома Думбадзе, с которым очень подружился. Молоденькую дочь Думбадзе, тонкую, высокую, яркого закавказского типа, я встречал у Богдановичей, когда она зачем-то приезжала в Петербург. В Ялте Думбадзе часто навещал Богдановича, и оба вместе рассыпались в проклятиях Гришке Распутину. Думбадзе громогласно объявлял, что если Гришка осмелится приехать в Ялту, он его утопит в море. Вероятно, это Богданович подзадорил ялтинского пашу, ибо Распутин раньше бывал на Южном берегу. Несмотря на такие угрозы, он, конечно, не устрашился прибыть и на сей раз, вместе с Царским семейством, и расположился в гостинице близ дома Думбадзе.
Здесь Распутину, еще до его приезда, Вырубова сняла две комнаты и сама там же расположилась. Остальные комнаты нанимали обыкновенные приезжие. Они, конечно, интересовались Распутиным и наблюдали всю его жизнь. А он не только не скрывал своих связей с соседней Ливадией, а тщеславно выставлял их на вид. Приходит к нему Вырубова и кричит: «Гриша, угости-ка чайком». Гриша угощал. И через открытую дверь жители гостиницы слышали его рассказы о том, что он сегодня делал во дворце. Один раз он провожал по коридору какого-то своего поклонника и шел в туфлях. «Посмотри-ка туфли, — сказал Распутин. — Знаешь, кто вышивал? Сама Царица». Другой раз громко и радостно возвестил Вырубовой или, может быть, кому-то другому из своей братии: «Ну, я сегодня обделал хорошее дельце — такой-то назначен Царем в экзархи». Все это слушала вся гостиница, и Ялта гудела рассказами о дружбе и силе Распутина в Ливадии, о власти его над Царицей и влиянии на Царя.
Скандал был ужасный. Это был момент, когда Распутин начал сам всюду выставлять свое владычество во дворце, правильно рассчитывая таким путем привлечь к себе и подчинить себе и лиц административных, и всех, ищущих что-нибудь приобрести через столь влиятельную особу. Если оставались в администрации люди честные, которые негодовали на роль Гришки, если масса публики возмущалась этим, то известно, что целые толпы разной дряни действительно окружили Распутина своим преклонением и искательством.
Евгений Васильевич не выдержал. Вероятно, по взаимному соглашению они с Дедюлиным сделали натиск на Царя. Богданович написал письмо, которого я точно не знаю и о содержании которого сам он мне не говорил. Но другие передавали, что он снова предупреждал Царя об опасностях от Распутина.
Исход этой попытки вышел, однако, очень печальный. От Императора явился к Богдановичу адъютант и передал от него ответ: что ему 46 лет и ни в каких менторах он не нуждается.
Попытка Дедюлина окончилась еще хуже. Он доложил Государю, что не отвечает за спокойствие гарнизона, если Распутин не будет удален. Император отвечал, что не он держит Распутина и что Дедюлин должен объясняться с Императрицей. Владимир Александрович и пошел к ней. Но она сделала ему такую сцену и так накричала на него, что с ним по возвращении домой сделался удар, от которого он и скончался. Это передавал мне не Богданович, а другие ялтинцы Богданович, крайне разогорченный, тотчас уехал из Ялты, раньше срока.
В том же 1914 году он и скончался в Петербурге. Числа не помню, но приблизительно одновременно с А. С. Сувориным. {195} Воображаю, как тяжко он страдал от такого грубого ответа Царя и сознания бессилия очистить Царскую семью от Гришки. Но зато ему Бог дал утешение умереть в такое время, когда боевая слава русской армии засверкала на весь мир и еще не успела померкнуть.
При кончине Евгения Васильевича Богдановича ярко сказалось, что его любило и почитало множество людей. Я не был на его похоронах, но присутствовавшие рассказывали, что на последнее прощание пришли бесконечные толпы народа, гораздо больше, чем на похороны Суворина. А ведь Суворин был знаменитостью более чем всероссийской; Богданович же ничего знаменитого не совершил. Но можно сказать, что он ни одному человеку не сделал зла и множеству людей делал добро. Это и привлекло ко гробу его толпы народа.
Я мог лишь письменно выразить Александре Викторовне мое соболезнование и говорил в письме, что очень бы желал знать о настроении, в котором скончался Евгений Васильевич. Она отвечала письмом, в котором говорила, что все мне расскажет при личном свидании.
Но этому свиданию не суждено было состояться. Она лишь немногими месяцами пережила мужа, как будто существовала только для него и с его смертью жизнь ее уже потеряла цель.
Не знаю, что сталось с бумагами, которые Богданович хотел мне передать после своей смерти.
Примечания
1
Тихомиров Л. А. Христианство и политика // Апология Веры и Монархии. М., 1999. С. 112.
(обратно)2
Тихомиров Л. А. Христианство и политика // Апология Веры и Монархии. М., 1999. С. 115.
(обратно)3
Тихомиров Л. А. Государственность и религия // Апология Веры и Монархии. М., 1999. С. 125.
(обратно)4
Шмитт К. Политическая теология // Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. М., 2000. С. 57.
(обратно)5
«Царская прерогатива решения по совести поддерживает сознание того, что правда выше закона, что закон только и свят — как отблеск правды» (Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М., 1991. С. 540).
(обратно)6
См. его работы: «О недостатках конституции 1906 года» (М., 1907), «Самодержавие и народное представительство» (М., 1907), «Верховная Власть и Основные Законы 1906 года» (М., 1909) и, конечно, «Монархическая государственность» (М., 1905).
(обратно)7
Наиболее важным и уместным здесь может быть свидетельство знавшего его лично крупного эмигрантского историка Владислава Маевского (1893–1975), судьба которого — тихомировского масштаба: доброволец в балканских войнах 1912–1913 годов, участник Первой мировой войны, эмигрант, секретарь сербского Патриарха Варнавы, преподаватель православной Свято-Владимирской духовной академии в США. «Лев Александрович, — вспоминал он, — от природы был богато одаренным, талантливым человеком, а вместе и широко начитанным, просвещенным энциклопедистом. Он с одинаковой эрудицией широко научно подготовленного человека мог обсуждать любой вопрос, особенно в области истории, права и социальной, общественной и политической жизни. Он обладал необычайной пытливостью. Колоссальной памятью и трудоспособностью. Ум его был профессорский — глубокий, холодный с бесстрастным анализом и скепсисом в отношении всего сущего, с бесконечным устремлением к правде и истине» (Маевский B. А. Революционер-монархист. Памяти Льва Тихомирова. Нови-Сад, 1934. C. 16–17).
(обратно)8
См.: «Почему я перестал быть революционером». «Начала и концы. Либералы и террористы», «Демократия либеральная и социальная» и «Борьба века», изданные журналом «Москва» в сборнике работ Л. А. Тихомирова «Критика демократии» (М., 1997).
(обратно)9
Так, например, за несколько месяцев до своей смерти от рук революционеров-террористов такое сомнение высказывал крупный русский сановник генерал-адъютант граф Алексей Павлович Игнатьев (1842–1906), не веривший в крайнюю опасность революции.
(обратно)10
Маевский В. А. Революционер-монархист. Памяти Льва Тихомирова. Нови-Сад, 1934. С 51.
(обратно)11
Дневник Л. А. Тихомирова. Май 1896 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 6, л. 34–35.
(обратно)12
«Я часто чувствую себя в положении Иова многострадального. Легче, когда понимаешь причины своей муки. Но я часто теряюсь и не могу себе объяснить, за что именно, по какой причине. И что я могу сделать для избежания мучения? Это одна из самых тяжелых сторон тягости» (Дневник Л. А. Тихомирова. 12 февраля 1900 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1 д. 7, л. 150). И таких страниц в дневнике много.
(обратно)13
Дневник Л. А. Тихомирова. 12 августа 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 14.
(обратно)14
Дневник Л. А. Тихомирова от 27 октября 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 65–66.
(обратно)15
Дневник Л. А. Тихомирова. 1 ноября 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 74.
(обратно)16
Дневник Л. А. Тихомирова. 12 ноября 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 82–83 и др.
(обратно)17
«Совсем разрушаюсь, должно быть, уж недолго протяну на свете. Сказать правду — не хочется умирать. А тут еще семья — без средств, без малейшего обеспечения. Тяжкие мысли...» (Дневник. 22 августа 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 16).
(обратно)18
Кажется, это был Нахимов, брат известного адмирала и севастопольского героя.
(обратно)19
Римлянин! Ты научись народами править державно <...> Милость покорным являть и смирять войною надменных! (Вергилий. Энеида; пер. С. Ошерова).
(обратно)20
С 23 января 1841 года по 8 октября 1842 года.
(обратно)21
Покойный отец был. кавалер орденов Анны 3-й степени, Станислава 3-й степени, Станислава 2-й степени с императорской короной, Анны 2-й степени с императорской короной, Владимира 4-й степени, Владимира 3-й степени, имел знаки отличия беспорочной службы, бронзовую на Андреевской ленте медаль в память войны 1854–1856 годов, серебряную за покорение Западного Кавказа, темно-бронзовую в память войны 1877–1878 годов и железный Кавказский крест.
(обратно)22
«Соломон» — это круг, разделенный на множество нумерованных отделений. Гадающий бросал шарик и смотрел в толкователе, что значит номер, на котором остановился шарик.
(обратно)23
То есть сильное, жгучее чувство («жаль») не имеет «вваги», «уваги», — уважения.
(обратно)24
На постройку церкви ассигновалось по 10 тысяч рублей.
(обратно)25
Далее пометка автора: «Приезд брата. Моя „наука“, чтение, ботаника, Бабухин. Охлаждение к естественным наукам. Политическая экономия и тому подобное».
(обратно)26
П. Л. Лаврова.
(обратно)27
Далее идет следующая конспективная запись: «Знакомство с Ц[акни], через него с К[лячко], знакомство с кн. У[русовым]. Я начинаю распространять книги. Это в 1871 году. К[лячко] знакомит с Р[агозиным], с Армфельд. „Общество распространения полезных книг“, Писарев (адъютант). Процесс нечаевцев. Процесс Нечаева».
(обратно)28
Кружком руководил Феликс Волховский.
(обратно)29
Мы не умели образовать кружок, не умели преодолеть какой-то конфузливости для совершения самой формальности. Я говорил это Чарушину: «Да устройте нас вы». Он смеялся, пожимал плечами, наконец сказал: «Ну хорошо, извольте, сделаю я».
(обратно)30
Мария Николаевна была урожденная Оловеникова. Ее первый муж, какой-то богатый рамоли, был Ошанин.
(обратно)31
Постепенно погибли: Мойша Зунделевич, {196} Александр Михайлов, {197} Андрей Желябов, {198} Перовская, Квятковский, {199} Степан Ширяев, {200} Баранников, Анна Якимова, незаменимый Клеточников, {201} Кибальчич, {202} Пресняков, {203} Халтурин, {204} Бух (Николай) {205} — последние пять были агентами. Выбыли также члены исполнительного комитета Фроленко и Суханов. {206} Все были — по своей части каждый — прямо незаменимыми. Не говорю о множестве более мелких, но также ценных людей — вроде младшей Фигнер, Исаева, {207} Гриневицкого. {208}
(обратно)32
То есть Александр Михайлов, Желябов, Перовская и она.
(обратно)33
Она жила в Париже под именем Марины Никаноровны Полонской.
(обратно)34
Будем готовы в свою очередь ослабить их любовь. Савойяр, берегись, берегись (фр.).
(обратно)35
Говорят, он действовал по приказу масонского ордена, к которому принадлежал.
(обратно)36
Глинский Б. Б. {209} Эпоха мира и успокоения // Исторический вестник. 1911. № 9.
(обратно)37
Глинский Б. Б. Эпоха мира и успокоения // Исторический вестник. 1911. № 9.
(обратно)38
В обвинительном акте, однако, сказано, что он кое-кого выдал.
(обратно)39
Он судился по «процессу 20-ти» в 1883 году и сослан на каторгу на Кару. Потом я слыхал, что он был освобожден, дожил до всемирной войны и очень ею интересовался, но умер до революции.
(обратно)40
Что нужно республиканцу? Свободы роду людскому. Хлеба, чтобы хвалиться... Танцуем карманьолу! Да здравствует гром, да здравствует гром, танцуем карманьолу, да здравствует гром пушек!
(обратно)41
В приговоре по «делу 193-х» он почему-то наливается Исааком Абрамовичем.
(обратно)42
Еще Беклемишева.
(обратно)43
Это была компания Семена Львовича Клячко и других.
(обратно)44
Этот кружок был основан Н. В. Чайковским, В. М. Александровым, М. А. Натансоном.
(обратно)45
Выпьем, дети Отечества, за Россию, за Царя, за противников тирании Александра и его низкопоклонников (фр.).
(обратно)46
Андрей Афанасьевич, Евгения Флориановна.
(обратно)47
По «Календарю „Народной воли“», они бежали из Сольвычегодска в феврале 1880 года. Не знаю этого эпизода. Нет ли ошибки в «Календаре»? Нужно сказать, что у Андрея был брат, тоже революционер. Но Андрей никак не мог в 1880 году попасть в Сольвычегодск (по смыслу приговора суда).
(обратно)48
Михаил Кац (Доброджану).
(обратно)49
Далее зачеркнуто: «Между прочим, 6 января 1887 года умер в Новороссийске мой отец, о чем я был извещен месяца через полтора, но по поводу чего еще до извещения имел странный сон».
(обратно)50
По всей вероятности, Лорис-Меликов, племянник министра внутренних дел.
(обратно)51
Н. С. Русанов.
(обратно)52
Назовем его так. (фр.).
(обратно)53
1888–1889 годы.
(обратно)54
«Почему я перестал быть революционером».
(обратно)55
Прошение о помиловании.
(обратно)56
«Рассвет» и «Борьба классов».
(обратно)57
А также недавно повешенный Куницкий. — Примеч. автора.
(обратно)58
Прожигателя жизни (фр.).
(обратно)59
М. Ковалевского.
(обратно)60
Русский генеральный консул в Париже.
(обратно)61
Нужно заметить, однако, что именно в то время эта идея воскрешения мертвых зрела у известного Николая Федоровича Федорова и в начале XX века подробно развита его учеником Петерсоном {210} (см.: «Философия общего дела»).
(обратно)62
Он родился в 1831 году, умер в 1891 году, 60-ти лет от роду.
(обратно)63
Этот эпизод неодинаково передается в воспоминаниях о Леонтьеве. Я рассказал так, как слышал от него самого и помню совершенно отчетливо. В кавычках ставлю фразу, которую вспоминаю буквально.
(обратно)64
Почему он мог уделять Леонтьеву гораздо меньше времени.
(обратно)65
То есть в Иеронима.
(обратно)66
О. Климент (Зедергольм) сделался катехизатором Леонтьева, а о. Амвросий — старцем. На Афоне то и другое соединялось в Иерониме.
(обратно)67
Он постоянно заботился о расходах моих, потому что я тогда зарабатывал очень мало и весьма нуждался.
(обратно)68
Он был попечителем учебного округа.
(обратно)69
Она родилась в 1840 году.
(обратно)Комментарии
1
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) — светлейший князь, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Участник военных действий на Кавказе с 1803. Участник войн с Францией в 1805–1807, русско-турецкой войны 1806–1812, Отечественной войны 1812, заграничных походов 1813–1814. Командир отдельного оккупационного корпуса во Франции в 1814–1817. В 1823–1844 Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор. Участник русско-турецкой войны 1828–1829. В 1844–1854 наместник на Кавказе.
(обратно)2
Вельяминов Алексей Александрович (1785–1838) — русский военный деятель. Участник войны с Францией в 1805, русско-турецкой войны 1806–1812, Отечественной войны 1812, заграничных походов 1812–1814. С 1816 начальник штаба у Ермолова на Кавказе. Участник русско-персидской войны 1326–1828. С 1831 командующий войсками Кавказской линии И начальник Кавказского края.
(обратно)3
Альбранд Лев Львович (1804–1849) — русский военный деятель, генерал-майор. Участник Кавказской войны. В 1820–1832 нес гражданскую службу. В 1832 волонтером отправился на Кавказ. В 1849 назначен Эриванским военным губернатором.
(обратно)4
Дибич-Забалканский Иван Иванович (1785–1831) — граф, русский военный деятель, фельдмаршал. Участник Отечественной войны и заграничных походов. Главнокомандующий русской армией в турецкой войне в 1829 и при подавлении польского мятежа в 1830–1831.
(обратно)5
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) — русский историк. Профессор Петербургского университета. Автор исследования «История царствования Петра Великого».
(обратно)6
Барятинский Александр Иванович (1815–1879) — князь, русский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Участник Кавказской войны. В 1853 назначен начальником главного штаба Кавказской армии. В 1856–1862 командир Кавказского корпуса и наместник на Кавказе. Пленил Шамиля в 1859.
(обратно)7
Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) — граф, русский государственный деятель. В 1847–1861 генерал-губернатор Восточной Сибири. За заключение с Китаем Айгунского договора в 1858 получил титул графа Амурского.
(обратно)8
Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796–1866) — русский государственный деятель. Служил по министерству внутренних дел. С 1850 член Государственного Совета. С 1856 генерал от инфантерии. В 1857–1862 министр государственных имуществ. С 1863 виленский, гродненский, ко-венский и минский генерал-губернатор. В 1865 возведен в графское достоинство.
(обратно)9
Черняев-Ташкентский Михаил Григорьевич (1828–1898) — русский военный деятель, генерал. Участник Крымской и кавказских войн, туркестанских походов (взял в 1865 Ташкент). Был военным губернатором Туркестана. Оказался в отставке, не приняв военной реформы Милютина. В 1873–1878 издавал газету «Русский мир». С 1876 в Белграде, где стал главнокомандующим главной сербской армией в войне против Турции. В 1882–1884 — туркестанский генерал-губернатор.
(обратно)10
Евдокимов Николай Иванович (1804–1870) — граф, русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. Один из главнейших покорителей Кавказа.
(обратно)11
Филипсон Григорий Иванович (1809–1883) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, сенатор. Участник подавления польского восстания 1830–1831. Участник Кавказской войны. Автор «Воспоминаний» (1885).
(обратно)12
Бабыч Павел Денисьевич (1806–1883) — русский военный деятель, генерал-лейтенант Черноморского казачьего войска. Участник Кавказской войны, Восточной войны 1853–1856, русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
(обратно)13
Кухаренко Яков Герасимович (1800–1862) — русский военный деятель, генерал-майор, писатель. Наказной атаман Черноморского войска. Участник Кавказской войны. Автор оперетт «Черноморский побиг на Кубань миж 1794 и 1796 роками» (1836), «Вороний конь» (1861).
(обратно)14
Гейман Василий Александрович (1823–1878) — русский военный деятель, генерал-лейтенант. Участник Кавказской войны, русско-турецкой войны 1877–1878 на Кавказе. Отличился при штурме Ардагана, Карса. Умер от тифа во взятом Эрзуруме.
(обратно)15
Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич (1820–1877) — граф, русский военный деятель, генерал-лейтенант. Участник Восточной войны 1853–1856. С 1863 — наказной атаман Кубанского казачьего войска. С 1875 командующий войсками Харьковского округа.
(обратно)16
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, русский государственный деятель, историк. В 1865–1880 обер-прокурор Святейшего Синода. В 1866–1880 министр народного просвещения. В 1882–1889 министр внутренних дел.
(обратно)17
Котляревский Иван Петрович (1769–1838) — малорусский писатель. В 1796–1808 на военной службе, участник русско-турецкой войны. Во время Отечественной войны сформировал 5-й казачий конный полк. В 1818–1821 директор Полтавского театра. Автор бурлескной поэмы «Виргилеева „Энеида“, на малоросский язык переложенная...» (ок. 1794), пьес «Наталка Полтавка» (1819) и «Солдат-чародей» (1819).
(обратно)18
Минье Огюст (1796–1884) — французский историк либерального направления. Один из создателей теории классовой борьбы.
(обратно)19
Карлейль Тома (1795–1881) — английский историк, публицист. Автор книг «История французской революции» (1837), «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841).
(обратно)20
Гарнье-Пажес Луи Антуан (1803–1878) — французский политический деятель. В правительстве 1848 министр финансов. В 1870–1871 член правительства народной обороны.
(обратно)21
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) — русский публицист, славянофил. В 1848–1854 был бакалавром Московской Духовной академии по кафедрам герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересях и расколах. В 1856–1863 член Московского цензурного комитета. В 1862–1863 чиновник особых поручений при министре народного просвещения. В 1867 оставил службу и занялся издательской деятельностью. В 1867–1887 издавал ежедневную газету «Современные известия», а в 1883–1884 — еженедельный журнал «Радуга». Автор воспоминаний «Из пережитого» (1886).
(обратно)22
Аксаков Николай Петрович (1848–1909) — русский публицист, доктор философии, писатель, славянофил. Автор книг «Всеславянство» (1910), повести «Зора» (1892), «Дети-крестоносцы» (1894).
(обратно)23
Вагнер Владимир Александрович (1849–1934) — русский биолог и психолог. Профессор Императорского Санкт-петербургского университета, а затем Ленинградского университета в 1906–1931.
(обратно)24
Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — либеральный общественный деятель, публицист. Редактор журнала «Русская мысль», сотрудник газеты «Русские ведомости». Автор книг «Государственное хозяйство во Франции XVII в.» (магис. дис., 1878), «Очерк развития педагогических идей в Новое время» (1880), «Законодательство и нравы в России XVIII в.» (1886), «Воспитание, нравственность, право» (1889), «Вопросы дня и жизни» (1892).
(обратно)25
Морозов Николай Александрович (1854–1946) — революционер-народник. Участник покушений на Императора Александра II. В 1882–1905 в заключении. Автор книг «Террористическая борьба» (1880), «Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса» (1907), «Повести моей жизни» (1965. Т. 1–2.).
(обратно)26
Фогт Карл (1817–1895) — немецкий зоолог-материалист и общественный деятель. Осужденный на смертную казнь в 1848 году, бежал из Германии в Швейцарию.
(обратно)27
Устюжанинов Иннокентий Александрович (?–1876) — революционер. Был привлечен по «делу 193-х», умер в тюрьме.
(обратно)28
Саблин Николай Алексеевич (1849–1881) — революционер-народоволец. Участник террористической деятельности, в том числе подготовки цареубийства 1 марта 1881. Застрелился во время ареста.
(обратно)29
Вандакурова Федосья Васильевна — знакомая Л. А. Тихомирова. Была слушательницей Высших женских курсов. В 1887 эмигрировала, но впоследствии вернулась в Российскую империю и вышла замуж за бывшего амнистированного революционера Павловского.
(обратно)30
Грессер Петр Аполлонович (1833–1892) — санкт-петербургский губернатор.
(обратно)31
Эскирос Анри Альфонс (1814–1876) — французский писатель. Автор романа «Эмиль XIX столетия». Роман в русском переводе появился в 1871 году.
(обратно)32
Верещагин Николай Васильевич (1839–1907) — организатор сыроваренных артелей.
(обратно)33
Лопатин Всеволод Александрович (1848–после 1917) — революционер. Участник киевского кружка чайковцев. Судился по «процессу 193-х» и административно выслан в Вятскую губернию.
(обратно)34
Аносов Николай Михайлович (1850–?) — революционер. Судился по «процессу 193-х» и административно выслан в Архангельскую губернию.
(обратно)35
Пругавин Александр Степанович (1850–1920) — революционер, исследователь раскола и сектантства. Административно высылался.
(обратно)36
Долгушин Александр Васильевич (1848–1885) — революционный пропагандист и организатор кружка. В 1874 особым присутствием Сената осужден на Шлет каторги. Умер в тюрьме.
(обратно)37
Папин Иван Иванович (1849–после 1903) — революционер. Член кружка Долгушина. Осужден к каторжным работам на 5 лет.
(обратно)38
Плотников Николай Александрович (1851–1886) — революционер. Член кружка Долгушина.
(обратно)39
Гамов Дмитрий Иванович (1847–1876) — революционер. Член кружка Долгушина.
(обратно)40
Дмоховский Лев Адольфович (1851–1881) — революционер. Член кружка Долгушина. Осужден к 10 годам каторжных работ. Умер в тюрьме.
(обратно)41
Натансон Марк Андреевич (1849–1919) — революционер. Создатель народнической организации «Земля и воля». В 1877 арестован и выслан до 1889 в Сибирь. С начала 1900-х социалист-революционер.
(обратно)42
Сердюков Анатолий Иванович(?–1878) — революционер. Социалистический пропагандист в среде рабочих. Сослан административно в Тверь. Кончил жизнь самоубийством.
(обратно)43
Лермонтов Феофан Никандрович (1847–1878) — революционер. Член кружка чайковцев. Выйдя из него, основал свой кружок. Осужден по «процессу 193-х», умер в тюрьме.
(обратно)44
Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) — революционер. Его именем была наименована крупнейшая революционная организация первой половины 70-х годов. В 1874 уехал в США, за проповедником религии «богочеловечества» А. К. Маликовым. В 1879 вернулся в Европу и активно участвовал в эмигрантских делах. В 1917 один из лидеров трудовой народно-социалистической партии. В период гражданской войны возглавлял архангельское правительство.
(обратно)45
Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий политический деятель, философ, юрист и экономист. Убит на дуэли.
(обратно)46
Блан Луи (1811–1882) — французский социалист. Историк, автор «Истории французской революции» (Т. 1–12).
(обратно)47
Верморель Огюст-Жан-Мари (1841–1871) — французский публицист. Убит на баррикадах Парижской Коммуны. Автор книги «Деятели 48-го года и их роль в событиях как 1848 года , так и последующих лет». На русском языке книга впервые появилась в 1870 году.
(обратно)48
Шеллер Александр Константинович (псевдоним А. Михайлов) (1838–1900) — писатель и публицист. Автор книг «Пролетариат во Франции 1789–1852. Исторические очерки» (СПб., 1869 и 1872), «Ассоциации. Очерк практического применения принципа кооперации в Германии, в Англии и во Франции» (СПб., 1871), а также ряда романов, повестей.
(обратно)49
Берви Василий Васильевич (псевдоним Флеровский) (1829–1918) — публицист и социолог. Автор книг «Положение рабочего класса в России» (1869), «Азбука социальных наук»(1871. Ч. 1–2.), «Исследования по текущим вопросам» (1872), «Философия бессознательного, дарвинизм и реальная истина» (1878), «Критика основных идей естествознания» (1892).
(обратно)50
Корнилова Александра Ивановна (в замужестве Мороз) (1853–после 1940) — революционерка. Осуждена по «процессу 193-х».
Корнилова Любовь Ивановна (в замужестве Сердюкова) (?–1892) — революционерка. В 1880 административно выслана.
Корнилова Вера Ивановна (в замужестве Грибоедова) (?–1873) — участница кружка чайковцев.
(обратно)51
Купреянов Михаил Васильевич (1853–1878) — революционер, участник кружка чайковцев. Осужден по «процессу 193-х». Умер в заключении.
(обратно)52
Купреянова Надежда Васильевна — революционерка, сестра М. В. Куприянова. Участница кружка чайковцев.
(обратно)53
Синегуб Сергей Силыч (1851–1907) — революционер. Пропагандировал среди рабочих. Осужден по «процессу 193-х». Приговорен к 9-летней каторге.
(обратно)54
Львов Исаак Константинович (?–1875) — революционер. Осужден по «процессу 193-х». Умер в военном госпитале.
(обратно)55
Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914) — революционер, этнограф. Участвовал в пропаганде чайковцев. В 1874–1878 за границей. В конце 1879 арестован и после двухлетнего заключения в Петропавловской крепости выслан в Сибирь, в Минусинск.
(обратно)56
Чарушин Николай Аполлонович (1851–1937) — революционер. Пропагандист в среде рабочих. По «процессу 193-х» приговорен к 9 годам каторги. С 1881 вышел на поселение.
(обратно)57
Кувшинская Анна Дмитриевна (по мужу Чарушина) (1851–1909) — революционерка. Вступила в кружок чайковцев в 1872. Судилась по «процессу 193-х» и последовала добровольно на каторгу за мужем.
(обратно)58
Ободовская Александра Яковлевна (по мужу Сидорацкая) (1847–?) — участница революционного движения. По «процессу 193-х» оправдана.
(обратно)59
Попов Леонид Владимирович — революционер. Арестован в 1873. В 1877 выпущен до суда по «процессу 193-х» и бежал за границу.
(обратно)60
Кравчинский Сергей Михайлович (революционный псевдоним Степняк) (1850–1895) — революционер. С 1874 за границей. В 1878 приехав в Санкт-Петербург, убил шефа жандармов Мезенцева. Автор книг «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов».
(обратно)61
Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910) — революционер. Член кружка чайковцев. Пропагандист среди рабочих. По «делу 193-х» приговорен к 9 годам каторги. После каторги перешел на поселение в Забайкальскую область. В 1889 бежал за границу. Затем играл видную роль в партии эсеров.
(обратно)62
Батюшкова Варвара Николаевна (по мужу Цвиленева) (1849–1894) — революционерка. Член кружка чайковцев. По «процессу 50-ти» сослана на поселение в Сибирь.
(обратно)63
Армфельд Наталья Александровна (1850–1887) — революционерка. Член московского кружка чайковцев. В 1879 приговорена военно-окружным судом к 14 годам и 10 месяцам каторги.
(обратно)64
Крапоткин (Кропоткин) Петр Алексеевич (1842–1921) — революционер, один из идеологов анархизма. Член кружка чайковцев. В 1874–1876 под арестом, затем бежал за границу. В Россию вернулся я 1917.
(обратно)65
Клячко Самуил Львович (1850–1914) — революционер Член московского кружка чайковцев. В 1875 эмигрировал.
(обратно)66
Цакни Николай Петрович (1851–1904) — революционер. Член московского кружка чайковцев. Был сослан в Архангельскую губернию, откуда бежал за границу в 1878. В 1886 получил разрешение вернуться в Россию. Был городским гласным. Издавал «Южное обозрение».
(обратно)67
Волховский Феликс Вадимович (1846–1914) — революционер. Член одесского кружка чайковцев. По «процессу 193-х» приговорен к ссылке в Тобольскую губернию. В 1889 бежал за границу. В дальнейшем стал эсером.
(обратно)68
Шервинский Василий Дмитриевич (1850–?) — врач-терапевт. Профессор. В 70-х годах был близок к революционной среде.
(обратно)69
Князев Василий Иванович (1854–?) — революционер. Член московского кружка чайковцев. По «процессу 193-х» сослан в Архангельскую губернию.
(обратно)70
Андреева Анна Васильевна (1849?–?) — революционерка. По «процессу 193-х» оправдана.
(обратно)71
Аркадакский Константин Васильевич (1851–?) — революционер. Привлеченный по «делу 193-х» скрылся за границу. Вернулся в 1905. Постоянный сотрудник «Русских ведомостей».
(обратно)72
Васюков Семен Иванович (1854–1908) — революционер, писатель и публицист. В 1879 административно выслан в Вятскую губернию.
(обратно)73
Фроленко Михаил Федорович (1848–после 1927) — революционер. Активный участник народовольческой деятельности, и том числе и цареубийства 1 марта 1881. По «процессу 20-ти» в 1882 приговорен к пожизненной каторге. Вышел по амнистии в 1905.
(обратно)74
Ивановский Василий Семенович (1846–1911) — революционер, врач. В 1877 сумел бежать из-под суда за границу. Поселившись в Румынии, занимался врачебной практикой.
(обратно)75
Воейков Александр Владимирович — жандармский офицер. Помощник начальника московского губернского жандармского управления при Слезкине.
(обратно)76
Слезкин Иван Львович — жандармский офицер. В корпусе жандармов с 1848. С 1867 — начальник московского губернского жандармского управления. Руководил дознанием по делу «о преступной пропаганде в среде народа, обнаруженной в разных губерниях Империи».
(обратно)77
Алексеева Олимпиада Григорьевна (1850–1918) — революционерка. По «делу 193-х» была оправдана судом.
(обратно)78
Черкезов Варлаам-Джон Асланович (1846–1925) — революционер, анархист. Судился по делу каракозовцев в 1866, по нечаевскому делу в 1869. По последнему был приговорен к ссылке в Томскую губернию. В 1876 бежал за границу.
(обратно)79
Урусов Александр Иванович (1843–1900) — князь, адвокат.
(обратно)80
Любавский Федор Михайлович (1856–?) — революционер. По «делу 193-х» суд вменил ему в наказание продолжительное предварительное заключение.
(обратно)81
Богданов Иван Александрович (1846–?) — революционер. Сослан в 1873 в Самарскую губернию.
(обратно)82
Михаил Николаевич (1832–1909) — великий князь, четвертый сын Императора Николая I, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер. Участник Восточной войны 1853–1856, Кавказской войны. В 1860–1881 наместник Кавказа и командующий Кавказской армией. Главнокомандующий действующей армией в русско-турецкую войну 1877–1878 на Кавказе. С 1881 председатель Государственного Совета.
(обратно)83
Осинский Валериан Андреевич (1853–1879) — революционер, террорист. Член-учредитель «Земли и воли». Организатор покушения на Котляревского, убийства Гейкинга, убийства Кропоткина и убийства Никонова. Арестован в 1878, повешен.
(обратно)84
Вероятно, Мышкин Ипполит Никитич (1848–1885) — революционер. В 1875 при попытке освободить Чернышевского из Вилюйска был арестован. По «процессу 193-х» приговорен к 10 годам каторги. В 1882 бежал, но был пойман и заключен в Петропавловскую крепость, а затем в Шлиссельбургскую, где и был казнен.
(обратно)85
Ивичевичи Иван и Игнат — члены террористического кружка Осинского. При их аресте в 1879 были оба смертельно ранены.
(обратно)86
Сентянин Александр Евграфович — член террористического кружка Осинского. При аресте в 1878 оказал сопротивление. Умер в Петропавловской крепости.
(обратно)87
Оловеникова Мария Николаевна (по первому мужу Ошанина, по второму — Баранникова) (1853–1898) — революционерка, одна из лидеров «Народной воли». В 1882 эмигрировала за границу.
(обратно)88
Баранников Александр Иванович (псевдоним Кошурников) (1858–1883) — революционер, террорист. Участвовал в попытке освободить Войнаральского, в убийстве шефа жандармов Мезенцева. Арестован в январе 1881 и по «процессу 20-ти» в 1882 приговорен к бессрочной каторге.
(обратно)89
Стефанович Яков Васильевич (1853 или 1854–1915) — революционер. Вместе с Дейчем и Бохановским обманным путем пытался поднять крестьянское восстание Чигиринского уезда, используя подложную царскую грамоту Был арестован в 1877, но в 1878 бежал и эмигрировал за границу. Периодически возвращался в Россию для организации революционной деятельности. В 1882 арестован и приговорен по «делу 17-ти» к 8-летней каторге.
(обратно)90
Бохановский (Бухановский) Иван Васильевич — революционер. Был арестован вместе со Стефановичем и Дейчем по Чигиринскому делу. Вместе с ними бежал в 1878 и эмигрировал. Работал в типографии «Вестника „Народной воли“».
(обратно)91
Чернявская Галина Федоровна (по мужу Бохановская) (1854–после 1927) — революционерка, террористка. Участница подготовки взрыва царского поезда 19 ноября 1879. В 1883 бежала за границу.
(обратно)92
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — революционер, социал-демократ, публицист В 1880 эмигрировал за границу. В 1883 совместно с Аксельродом, Засулич, Дейчем и Игнатовым организовал социал-демократическую группу «Освобождение труда». После революции 1917 вернулся в Россию.
(обратно)93
Засулич Вера Ивановна (1851–1919) — революционерка. Стреляла в 1878 в генерала Трепова. Оправданная судом, была затем переправлена за границу. Участница конечного периода деятельности «Земли и воли», затем, после раскола, в числе учредителей «Черного передела». В 1880 снова в эмиграции. В 1883 была в числе учредителей группы «Освобождение труда». С 1900 в составе редакции газеты «Искра». С 1905 в России.
(обратно)94
Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — революционер. Участник революционного движения с 1874. Участник хождения в народ. В 1377 арестован по Чигиринскому делу, но в 1878 бежал из тюрьмы за границу. Участник конечного периода деятельности «Земли и воли», затем, после раскола, в числе учредителей «Черного передела». С 1880 снова за границей. В 1883 стал одним из учредителей группы «Освобождение труда». В 1884 выдан русскому правительству и осужден на каторгу. В 1901 бежал с поселения за границу. В 1905 вернулся в Россию, снова арестован и снова бежал за границу. После февральской революции вернулся вновь в Россию.
(обратно)95
Судейкин Георгий Порфирьевич (1850–1883) — русский жандармский офицер, подполковник. С 1882 инспектор Санкт-петербургского охранного отделения. Зверски убит народовольцами.
(обратно)96
Златопольский Савелий Соломонович (1858–1885) — революционер. Член Исполнительного комитета «Народной воли». Осужден по «делу 17-ти» в 1883.
(обратно)97
Варынский Людвиг-Фаддей Северинович (1856–1889) — польский революционер, социалист. В 1882 организовал польскую партию «Пролетариат». В 1886 арестован и осужден.
(обратно)98
Грачевский Михаил Федорович (1849–1887) — революционер. Член Исполнительного комитета «Народной воли». Участник покушений на Императора Александра II. В 1882 арестован и по «делу 17-ти» приговорен к бессрочной каторге. В тюрьме покончил с собой.
(обратно)99
Богданович Юрий Николаевич (Кобозев) (1850–1888) — революционер. Член Исполнительного комитета «Народной воли». Арестован в 1882, а затем в 1883, по «процессу 17-ти».
(обратно)100
Дегаев Сергей Петрович (1857–1920) — революционер. В революционном движении с 1878. В 1882 завербован жандармским офицером Судейкиным. В 1883 разоблачен. Уехал в США, где преподавал математику.
(обратно)101
Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — русский революционер, идеолог народничества, публицист. Автор книг «Очерки вопросов практической личности» (1860), «Исторические письма» (1870), «Опыт истории мысли Нового времени» (1894), «Задачи понимания истории. Проект введения в изучение эволюции человеческой мысли» (1898).
(обратно)102
Добровольский Иван Иванович (1848–после 1934) — революционер, врач. Будучи приговорен к 9 годам каторги, бежал за границу. В Россию вернулся только в 1905. Печатался под псевдонимом «Денисов» в различных либеральных органах печати.
(обратно)103
Жуковский Николай Иванович (1833–1895) — русский революционер, бакунист. С 1862 эмигрант. Член Альянса социалистической демократии. В 1869–1872 член I Интернационала.
(обратно)104
Эльсниц Александр Людвигович (1849–1907) — революционер, врач. Эмигрировал. Печатался в либеральных органах печати.
(обратно)105
Иохельсон Владимир Ильич (Голдовский) (1853–?) — революционер. Член «Народной воли». Эмигрировал в 1880. В 1884–1885 заведовал типографией «Вестника „Народной воли“». Нелегально вернулся в Россию в 1885, арестован.
(обратно)106
Соколов Николай Николаевич (1832–1889) — революционер, подполковник Генерального штаба. В 1866 написал книгу «Отщепенцы», был арестован и приговорен в 1867 к 16 месяцам крепости и к административной ссылке. В 1872 бежал за границу.
(обратно)107
Игнатов Василий Николаевич (1850–1885) — революционер. Член «Земли и воли», затем член «Черного передела». В 1883 один из учредителей социал-демократической группы «Освобождение труда».
(обратно)108
Аксельрод Павел Борисович (1850–1928) — революционер. Член киевского кружка чайковцев. Член «Черного передела». В 1880 эмигрировал. В 1883 стал одним из учредителей группы «Освобождение труда». С 1903 один из главных лидеров меньшевизма.
(обратно)109
Мезенцов Николай Владимирович (1827–1878) — русский государственный деятель. С 1864 начальник штаба корпуса жандармов. С 1876 шеф жандармского корпуса. Убит С. М. Кравчинским.
(обратно)110
Николадзе Николай Яковлевич (1843–1928) — грузинский общественный деятель, публицист, литературный критик. Сотрудник различных радикальных и либеральных органов печати. Один из руководителей грузинской организации «Меоре-даси».
(обратно)111
Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский публицист, социолог и литературный критик. Один из редакторов «Отечественных записок» и «Русского богатства». «Литературные воспоминания и современная смута» (1900), «Из романа „Карьера Оладушкина“» (1906), «Полное собрание сочинений» (1906–1914. Т. 1–8).
(обратно)112
Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) — граф, русский государственный деятель. Участник Кавказской войны, покорения Туркестана, русско-турецкой войны 1877–1878. В 1881 управляющий государственным коннозаводством. В 1882–1897 министр Императорского двора. С 1897 наместник на Кавказе и главнокомандующий войсками Кавказского военного округа.
(обратно)113
Салова Неонила Михайловна — революционерка. Начала революционную деятельность в 1880. В 1882 выехала за границу, но в 1884 вернулась обратно. Судилась по «делу 21-го» и приговорена к каторге.
(обратно)114
Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — революционер, публицист. Издатель журнала «Былое». После октябрьской революции эмигрант. Автор книг «За сто лет (1800–1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России» (1897. Ч. 1–2), «В борьбе с большевиками и немцами» (1919), «Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания (1882–1922)» (1923. Т. 1).
(обратно)115
Федоров Николай Федорович (1828–1903) — русский философ. Его сочинения были изданы под названием «Философия общего дела».
(обратно)116
Кожевников Владимир Александрович (1852–1917) — русский философ, историк культуры, публицист. Автор книг «Нравственное и умственное развитие римского общества во II в.» (1874), «Бесцельный труд, „неделание“ или дело?» (1893), «Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII в. и к критической философии» (1897. Ч. 1), «О задачах русской живописи» (1907), «Значение А. А. Иванова в религиозной живописи» (1907), «Н. Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изд. и неизд. произведениям, переписке и личным беседам» (ч. 1, 1908), «Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности» (1908), «О добросовестности в вере и неверии» (1909), «О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем» (1910. Ч. 1–2), «Исповедь атеиста» (1911), «Современное научное неверие» (1912), «Церковная деятельность женщины в Англии» (1912), «Мысли об изучении святоотеческих творений» (1912), «Религия человекобожия у Фейербаха и Конта» (1913), «Индусский аскетизм в добуддийский период» (1914), «Буддизм в сравнении с христианством» (1916. Т. 1–2).
(обратно)117
Гартман Лев Николаевич (1850–1908) — революционер. Участник «Земли и воли». Член «Народной воли». Участник покушений на Императора Александра II. После покушения 19 ноября 1879 эмигрировал. Был арестован и выслан из Франции в 1880.
(обратно)118
Гамбетта Леон (1838–1882) — французский государственный деятель, республиканец. Член Правительства национальной обороны в 1870–1871. Премьер-министр и министр иностранных дел в 1881–1882.
(обратно)119
Русанов Николай Сергеевич (1859–после 1927) — революционер. В революционной деятельности с 70-х годов. Эмигрировал в 1882. Участвовал в «Вестнике „Народной воли“». Один из организаторов «Группы старых народовольцев». Впоследствии социалист-революционер. Под псевдонимом Н. Кудрин был одним из главных сотрудников «Русского богатства». С 1905 в России. После октябрьской революции 1917 снова за границей.
(обратно)120
Бардина Софья Илларионовна (1852–1883) — революционерка. Осуждена по «процессу 50-ти» в 1877. Сослана в Сибирь, в 1880 бежала за границу. Кончила жизнь самоубийством в Женеве.
(обратно)121
Бух Лев Константинович (1847–1917) — русский революционер, экономист. Автор книги «Земля — народу».
(обратно)122
Серебряков Эспер Александрович (1854–1921) — революционер, публицист, морской офицер. С 1880 член «Народной воли». В 1883 эмигрировал. Издавал в 1899–1902 журнал «Накануне». В 1906 вернулся в Россию.
(обратно)123
Бах Алексей Николаевич (1857–1946) — революционер, биохимик. Член «Народной воли». Эмигрировал в 1885. Состоял затем в партии социалистов-революционеров. В 1917 вернулся в Россию. Основа. Физико-химический институт им. Карпова в 1918 и Институт биохимии в 1935.
(обратно)124
Лопатин Герман Александрович (1845–1918) — революционер. В революционной деятельности с 1866. С 1870 член Генерального совета Интернационала. В 1884 арестован в Санкт-Петербурге и осужден на бес срочную каторгу. В 1905 году освобожден.
(обратно)125
Штромберг Александр Павлович (1854–1884) — революционер лейтенант флота. Член центра военной организации «Народной воли». В 1884 казнен.
(обратно)126
Батгенбергский Александр (1857–1893) — немецкий принц, князь Болгарии в 1879–1886. Был вынужден отречься от престола под давлением офицеров-русофилов.
(обратно)127
Судзиловский Николай Константинович (1850–1930) — революционер. С 1875 в эмиграции. С 1887 в США. С 1904 в Японии. Вел революционную пропаганду во время русско-японской войны 1904–1905 среди русских военнопленных.
(обратно)128
Эспинас Альфред Виктор (1844–1922) — французский профессор Автор книги «История политико-экономических доктрин».
(обратно)129
Фюстель де Куланж Нюма Дени (1830–1890) — французский историк.
(обратно)130
Лебон Густав (1841–1931) — французский писатель, социолог, естествоиспытатель. Автор книг «Арабская цивилизация» (1884), «Индийская цивилизация» (1887), «Психология толпы» (1895), «Эволюция силы» (1905–1907). «Массовая психология» (1912).
(обратно)131
Тард Габриэль (1843–1904) — французский социолог и криминалист.
(обратно)132
Лодыгин Александр Николаевич (1847–1923) — русский электротехник, изобретатель. В 1872 изобрел угольную лампу накаливания.
(обратно)133
Варыньский Людвик (1856–1889) — польский революционер. В революционном движении с 1875. В 1882 основал партию «Пролетариат». В 1883 арестован и заключен в тюрьму.
(обратно)134
Эркман-Шатриан — псевдоним двух писателей работавших вместе Эркмана Эмиля (1822–1899) и Александра Шатриана (1826–1890). Авторы романов «История одного крестьянина» (1868–1870. Т. 1–4), «Ватерлоо» (1865).
(обратно)135
Корба Анна Павловна (урожденная Мейнгардт, по второму муж Прибылева) (1849–после 1927) — революционерка. Член Исполнительного комитета «Народной воли». Осуждена по «процессу 17-ти» к каторжным работам.
(обратно)136
Стародворский Николай Петрович (1863–1918) — революционер 16 декабря 1883 вместе с Конашевичем убил инспектора Санкт-петербургского охранного отделения Судейкина. В 1887 осужден на вечную ка торгу. В 1905 освобожден.
(обратно)137
Конашевич Василий Петрович (1859–1918) — революционер 16 декабря 1883 вместе со Стародворским убил инспектора Санкт-петербургского охранного отделения Судейкина. В 1887 осужден на вечную ка торгу.
(обратно)138
Новикова Ольга Алексеевна (1840–1925) — русская публицистка. Была членом «Союза русского народа» и Русской монархической партии. Автор книг «Russia and England from 1876 to 1880» («Россия и Англия в 1876–1880», 1880), «Skoboleff and Slavonic Cause» («Скобелев и славянский вопрос», 1883).
(обратно)139
Маликов Александр Капитонович (1839–1904) — революционер. В 1866 сослан в Холмогоры. В 1874 выдвинул учение о «богочеловечестве». В 1875–1878 в США.
(обратно)140
Похитонов Николай Данилович (1857–1897) — революционер, штабс-капитан. Член военной организации «Народной воли». Приговорен к вечной каторге.
(обратно)141
Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842–1926) — революционер, подполковник. Член военной организации «Народной воли». По «процессу 14-ти» в 1884 приговорен к вечной каторге. Автор книги «Военная организация „Народной воли“ и другие воспоминания» (1924).
(обратно)142
Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917) — жандармский полковник. Начальник Московского охранного отделения с 1896. В 1902–1903 начальник Особого отдела департамента полиции.
(обратно)143
Тонконогов Иван Григорьевич — революционер, секретарь симферопольского окружного суда. Разыскивался по делу Германа Лопатина, но смог бежать за границу. Впоследствии покаялся и вернулся в Россию.
(обратно)144
Гинсбург София Михайловна (1863–1891) — революционерка. В 1888 организовывала покушение на Императора Александра III. Приговорена к вечной каторге. Покончила жизнь самоубийством
(обратно)145
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — русский историк, юрист и социолог. В 1878–1887 — профессор Императорского Московского университета. В 1887–1905 — в эмиграции. В 1905–1916 профессор Императорского Санкт-петербургского университета. Автор книг «Происхождение современной демократии» (1895–1897. Т. 1–4) и «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (1898–1903. Т. 1–3).
(обратно)146
Де Роберти (полное имя Де Роберти де Кастро де ла Серда) (1843–1915) — русский общественный деятель, социолог и публицист. Эмигрировал в 90-х годах XIX века. В 1905 вернулся в Россию. Убит в своем имении. Автор книг «Политико-экономические этюды» (1880), «Социология» (1880), «Прошедшее философии» (1886), «Петр Кропоткин. Личность и доктрина» (1906), «Новая постановка основных вопросов социологии» (1909).
(обратно)147
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — выдающийся русский публицист, филолог. В 1845–1850 профессор философии Московского университета. С 1856 издатель журнала «Русский вестник», а в 1850–1855 и с 1863 — и газеты «Московские ведомости». Имел большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику России.
(обратно)148
Петровский Сергей Александрович (1846–1917) — русский юрист. Читал в Московском университете курс по русскому праву в 1873–1878. В 1875 защитил магистерскую диссертацию «О Сенате в царствование Петра Великого». С 1880 сотрудник «Московских ведомостей», а в 1887–1896 их редактор-издатель. Автор книги «Основы русского государственного устроения» (1906).
(обратно)149
Никитина Варвара Николаевна (урожденная Жандр) (1842–1884) — революционерка, писательница. Печаталась во французской прессе. Друг П. Л. Лаврова.
(обратно)150
Франжоли Андрей Афанасьевич (1848–1883) — революционер. Осужден по «процессу 193-х». Выслан административно в Вологодскую губернию. В 1880 эмигрировал. Покончил жизнь самоубийством.
(обратно)151
Завадская Евгения Флориановна (1852–1883) — революционерка. В 1880 эмигрировала. Покончила жизнь самоубийством.
(обратно)152
Боголюбов Алексей Петрович (1824–1896) — художник-передвижник, академик. Ему принадлежат поэтические пленэрные сцены и изображения морских сражений.
(обратно)153
Дерулед Поль (1846–?) — французский государственный и военный деятель. Участник франко-прусской войны 1870–1871 и подавления Парижской Коммуны. Требовал реванша над Германией. Создал в 1882 «Лигу патриотов». Активный буланжист.
(обратно)154
Малон Бенуа (1841–1893) —французский политический деятель. Один из лидеров правого крыла французской рабочей партии. Член I Интернационала с 1865. Участник Парижской Коммуны 1871.
(обратно)155
Лафарг Поль (1842–1911) — французский революционер, марксист.
(обратно)156
Жорес Жан (1859–1914) — французский социалист. Убит французским шовинистом.
(обратно)157
Клемансо Жорж (1841–1929) — французский политический деятель. В 1906 министр внутренних дел. В 1906–1909 и 1917–1920 председатель совета министров.
(обратно)158
Греви Жюль (1807–1891) — французский политический деятель. В 1879 и 1885 избирался президентом республики. С 1887 из-за афер его зятя Г. Вильсона вышел в отставку.
(обратно)159
Ферри Жюль (1832–1893) — французский политический деятель. В 1880–1881 и 1883–1885 глава кабинета министров.
(обратно)160
Буланже Жорж Эрнест Жан Мари (1837–1891) — французский военный и политический деятель. Участник военных действий в Африке, Итальянской кампании 1859, франко-прусской войны 1870–1871. Участник подавления Парижской Коммуны 1871. В 1884 занял территорию Туниса. В 1886–1887 военный министр. В 1887 командующий 13-м корпусом, затем в отставке. В 1889 неожиданно уезжает из Франции и в 1891 кончает жизнь самоубийством.
(обратно)161
Карно Мари Франсуа Сади (1837–1894) — французский государственный деятель. Президент Франции с 1887.
(обратно)162
Мирибель де Мари Франсуа Жозеф (1831–1894) — французский военный деятель, генерал артиллерии. Участник Восточной войны 1853–1856, Итальянской кампании 1859, экспедиции в Мексику 1862. В 1881–1882 начальник Генерального штаба. С 1888 командующий 6-м корпусом, а с 1890 главный начальник Генерального штаба.
(обратно)163
Луи Филипп (1773–1850) — французский король в 1830–1848.
(обратно)164
Наполеон III Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) — император Франции, младший сын голландского короля Людовика Бонапарта, брата Наполеона I, и Гортензии Богарне, дочери императрицы Жозефины от ее первого брака. В 1848 стал президентом французской республики. В 1851 совершил государственный переворот и в 1852 после решения Сената и плебисцита стал императором. Вследствие поражения во франко-прусской войне 1870–1871 потерял трон.
(обратно)165
Мартынов Иван Михайлович (1821–1894) — католический историк, филолог, иезуит. В 1845 эмигрировал из России и перешел в католичество.
(обратно)166
Зверев Николай Андреевич (1850–1917) — русский юрист, литературный критик. Профессор Императорского Московского университета. Автор книг «Основания классификации государств в связи с общим учением о классификации» (1883), «Достоевский в своих последних романах» (1884), «Лекции по истории философии права» (1893), «Курс законоведения» (1898), «Энциклопедия права» (1901), «Граф Л. Н. Толстой как художник» (1916).
(обратно)167
Снегирев Владимир Федорович (1847–1916/1917?/) — русский врач-хирург. Профессор, один из основоположников научной гинекологии.
(обратно)168
Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — русский политический деятель, крайне правый. Публицист и педагог. Преподавал в Лицее цесаревича Николая немецкий и греческий языки. Затем был его директором. В 1896—1907 редактор-издатель газеты «Московские ведомости». Был создателем в апреле 1905 Русского монархического союза. Автор книг «Золаизм в России» (1880), «Несколько слов о ритмичном строе Пиндаровых од» (1887), «Наш классицизм» (1890), «Враги живописи» (1893), «История народовластия» (1908), «Кризис в мировой истории» (1908).
(обратно)169
Саблер (с 1915 – Десятовский) Владимир Карлович (1845–1929) — русский государственный деятель, статс-секретарь. С 1883 управляющий канцелярией Святейшего Синода. С 1887 личный секретарь великой княгини Екатерины Михайловны. В 1892–1905 товарищ обер-прокурора Св. Синода. В 1912–1915 обер-прокурор Св. Синода.
(обратно)170
Фудель Иосиф Иванович (1864–1918) — протоиерей, публицист.
(обратно)171
Александров Анатолий Александрович (1861–1930) — русский поэт, публицист. В 1891–1898 приват-доцент Московского университета. В 1892–1898 издавал и редактировал журнал «Русское обозрение». Автор книг «Стихотворения» (1912), «I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову» (1915).
(обратно)172
Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850–1896) — русский литературный и театральный критик и публицист. Автор книг «Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко» (1893) и «Тургенев. Критический этюд» (1894).
(обратно)173
Погожее Евгений Николаевич (1870–1931) — русский духовный писатель, писавший под псевдонимом Поселянин. В 1931 расстрелян большевиками.
(обратно)174
Попов Иван Васильевич (1867–1938) — русский богослов. С 1898 профессор кафедры патрологии Московской Духовной академии, при-ват-доцент Императорского Московского университета по истории патриотической философии и истории догматов. В 1903–1906 редактор журнала «Богословский вестник». В 1925–1927 отбывал срок на Соловках. Затем отправлен в ссылку под Сургут, в 1931 его перевели на жительство к северу от Тобольска. В 1932 возвращен в Москву. Но в 1935 снова арестован и отправлен в Красноярский край, где в 1938 был расстрелян. Автор книг «Естественный нравственный закон» (магист. дис., 1897). «Личность и учение блаженного Августина» Т. 1 (ч. 1 «Личность блаженного Августина», ч. 2. «Гносеология и онтология блаженного Августина», докт. дис., 1916).
(обратно)175
Цертелев Дмитрий Николаевич (1852–1911) — князь, русский философ, поэт, журналист. В 1890–1893 издатель журнала «Русское обозрение». Автор книг «Философия Шопенгауэра» (1880), «Религиозное сознание человечества» (1884), «Спиритизм сточки зрения философии» (1885), «Современный пессимизм в Германии. Очерк нравственной философии Шопенгауэра и Гартмана» (1885), «Логика позитивизма» (1887), «Эстетика Шопенгауэра» (1888), «Свобода и либерализм» (1888–1896), «Нравственная философия графа Л. Н. Толстого» (1889), «Вопросы искусства» (1898), «Стихотворения 1883–1901» (1902), «Америка и ее идеалы» (1904), «Конституция, Самодержавие и Основные Законы» (1906), «Метафизические сказки» (1911).
(обратно)176
Иероним (Соломенцов) (1803–1885) иеросхимонах, старец, духовник в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне.
(обратно)177
Амвросий (Гренков) (1812–1891) — иеросхимонах, старец Оптинский, духовный писатель. Автор книг «Поучения... в общих праздничных приветствиях» (1892), «Собрание писем и статей» (1894–1897. Ч. 1–2), «Избранные места из писем к семейным особам» (1897), «Душеполезные наставления...» (1898), «Собрание писем к мирским особам» (1906. Ч. 1), «Собрание писем к монашествующим» (1908–1909. Вып. 1–2), «Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой» (1911).
(обратно)178
Климент (Зедергольм) (ок. 1830–1878) — иеромонах Оптиной пустыни, богослов. Принял Православие в 1853. Служил чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре Святейшего Синода графе А. П. Толстом. В 1862 вышел в отставку и стал послушником в Оптиной. Автор книг «О жизни и сочинениях Катона Старшего» (маг. дис., 1857), «О жизни и трудах Никодима Святогорца» (1865), «Из воспоминаний о поездке на Восток в 1860 г.» (1867), «Описание богословских училищ Востока» (1868).
(обратно)179
Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — русский государственный деятель, сенатор, публицист. Участник славянофильских изданий «Москвитянин», «Московский сборник», «Русская беседа». Служил по морскому ведомству, затем был чиновником особых поручений при Святейшем Синоде. С 1864 в государственном контроле. В 1878 товарищ государственного контролера. С 1889 государственный контролер и член Государственного Совета. Автор книг «О началах русского воспитания» (1854), «„Не так живи, как хочется“. Сочинение А. Н. Островского» (1856), «Современные церковные вопросы» (1882), «Сборник Т. Филиппова» (1896).
(обратно)180
Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) — русский публицист, славянофил, генерал от кавалерии. Автор книг «Избавимся ли мы от нигилизма?» (1881), «Народная политика как основа порядка» (1889), «Славянофильство и национализм. Ответ г. Соловьеву» (1890), «О папской непогрешимости» (1892), «Краткое изложение славянофильского учения» (1896), «Польский вопрос и старокатолицизм» (1898) «Россия в начале XX столетия» (1903).
(обратно)181
Дурново Петр Николаевич (1845–1915) — русский государственный деятель. В 1900 товарищ министра внутренних дел. В 1903 главноуправляющий почти телеграфа. В 1905–1906 министр внутренних дел. С 1905 член Государственного Совета, где являлся одним из лидеров правой группы.
(обратно)182
Варнавва (Меркулов) Гефсиманский (1831–1906) — иеросхимонах, старец Гефсиманского скита.
(обратно)183
Конт Огюст (1789–1857) — французский философ, социолог. Основатель позитивизма. Автор сочинений «Курс позитивной философии» (1830–1842. Т. 1–6), «Система позитивной политики» (1851–1854. Т. 1–4).
(обратно)184
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт. Автор книг «Стихотворения» (1842), «Две судьбы» (1843), «Очерки Рима» (1847), «1854-й год» (1855), «Новые стихотворения. 1858–1863» (1864).
(обратно)185
Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) — русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Член Северного общества, В письме от 12 декабря 1812 года на имя Императора рассказал о заговоре декабристов, не называя имен. С 1835 начальник штаба военно-учебных заведений. С 1858 председатель Главного комитета по крестьянскому делу.
(обратно)186
Константин Николаевич (1827–1892) — великий князь, второй сын Императора Николая Павловича, генерал-адмирал. С 1855 управлял Морским ведомством. В 1862–1863 наместник в Царстве Польском, в 1865–1881 председатель Государственного Совета.
(обратно)187
Константин Константинович (1858–1915) — великий князь, русский государственный деятель, генерал от инфантерии, поэт, переводчик, драматург. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. С 1889 был президентом Петербургской Академии наук. С 1900 главный начальник, а с 1910 генерал инспектор военно-учебных заведений. Автор книг «Памяти графа А. А. Голенищева-Кутузова» (1914), «Царь Иудейский» (1914), «Критические отзывы. Литературно-критические статьи о русской поэзии за 1905–1913» (1915).
(обратно)188
Александра Иосифовна (1830–1911) — великая княгиня, урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская (Фредерика-Генриетта-Паулина-Мариана-Елизавета). С 1848 жена великого князя Константина Николаевича.
(обратно)189
Елизавета Маврикиевна (1865–1927) — великая княгиня, урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская. С 1884 жена великого князя Константина Константиновича.
(обратно)190
Родичев Федор Измайлович (1853–1932) — земский либеральный деятель, юрист, кадет. В феврале – мае 1917 министр Временного правительства по делам Финляндии. Эмигрант.
(обратно)191
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — русский государственный деятель. В 1899–1902 министр внутренних дел и шеф жандармов. Убит эсером Балмашевым.
(обратно)192
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — русский государственный деятель. В 1884–1894 товарищ министра внутренних дел. С 1899 министр, статс-секретарь Финляндии. С 1902 министр внутренних дел. Убит эсером Сазоновым.
(обратно)193
Новиков Александр Иванович (1861–1913)— русский общественный деятель. В 1902–1904 бакинский городской голова.
(обратно)194
Елизавета Федоровна (1864–1918) — великая княгиня, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская. Сестра Императрицы Александры Федоровны. С 1884 жена великого князя Сергея Александровича. В 1910 приняла монашеский постриг. В 1918 зверски убита большевиками. В 1992 причислена клику святых Русской Православной Церковью.
(обратно)195
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — русский журналист, издатель. Издавал в Санкт-Петербурге с 1876 газету «Новое время» и журнал «Исторический вестник» с 1880.
(обратно)196
Зунделевич Арон Исаакович (Мойша) (1854–1923) — революционер. Член «Земли и воли», «Народной воли». Арестованный в 1879, был осужден по «делу 16-ти» в 1880. В 1906 эмигрировал в Англию.
(обратно)197
Михайлов Александр Дмитриевич (1856–1884) — революционер. Один из учредителей «Земли и воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». В 1880 арестован, а в 1882 — судим по «процессу 20-ти».
(обратно)198
Желябов Александр Иванович (1851–1881) — революционер. Активный деятель «Народной воли». Арестован в 1881, осужден по «делу 1 марта» и казнен.
(обратно)199
Квятковский Александр Александрович (1852–1880) — революционер. Участник «Земли и воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». Арестован в 1879 и осужден по «процессу 16-ти» в 1880. Казнен.
(обратно)200
Ширяев Степан Григорьевич (1857–1881) — революционер. Член Исполнительного комитета «Народной воли». Участник подкопа для взрыва царского поезда в Москве 19 ноября 1879. Арестован в 1879 и осужден в 1880 на пожизненную каторгу.
(обратно)201
Клеточников Николай Васильевич (1847–1883) — революционер. Арестован в 1881 и осужден по «процессу 20-ти» в 1882.
(обратно)202
Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) — революционер. Заведовал в «Народной воле» динамитной мастерской. Арестован и казнен за подготовку цареубийства.
(обратно)203
Пресняков Андрей Корнеевич (1856–1880) — революционер. Участник «Земли и воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». В 1880 был приговорен к смертной казни и повешен.
(обратно)204
Халтурин Степан Николаевич (1856/1857?/–1882) — революционер. Организатор «Северного союза русских рабочих». В 1880 организовал взрыв в Зимнем дворце. С 1881 член Исполнительного комитета «Народной воли». Повешен за участие в убийстве одесского военного прокурора В. С. Стрельникова.
(обратно)205
Бух Николай Константинович (1853–после 1934) — революционер. Участник «Земли и воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». В 1880 приговорен к 15 годам каторги. Автор воспоминаний.
(обратно)206
Суханов Николай Евгеньевич (1853–1882) — революционер. Активный деятель военной организации «Народной воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». Арестован и по «делу 20-ти» в 1882 приговорен к смертной казни. Расстрелян.
(обратно)207
Исаев Григорий Порфирьевич (1857–1886) — революционер. Участник «Земли и воли». Член Исполнительного комитета «Народной воли». В 1882 приговорен к вечной каторге.
(обратно)208
Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856–1881) — революционер. Член «Народной воли». Бомбой, брошенной им 1 марта 1881 года был убит Император Александр II, при этом сам был смертельно ранен.
(обратно)209
Глинский Борис Борисович (1860–1917) — русский историк, публицист. В 1890–1891 — редактор-издатель «Северного вестника». С 1894 сотрудник «Исторического вестника». С 1906 помощник редактора, а с 1911 редактор «Исторического вестника». В годы Первой мировой войны член националистических организаций «Самодеятельная Россия» и «Общество русской государственной карты». Автор книг «Царские дети и их наставники» (1899), «Очерки русского прогресса» (1900), «Борьба за конституцию. 1612–1861 гг.» (1908), «Революционный период русской истории. 1861–1881 гг.» (1913. Ч. 1–2), «Среди литераторов и ученых» (1914), «XL. „Новое время“. 1876–1916» (1916).
(обратно)210
Петерсон Николай Павлович (1844–1919) — русский публицист. Последователь Н. Ф. Федорова. Автор книг «Правда о великом писателе земли русской — графе Л. Н. Толстом. К 55-летнему юбилею его литературной деятельности» (1908), «Моя переписка с графом Л. Н. Толстым» (1909), «Н. Ф. Федоров и его „Философия общего дела“ в противоположность учению Л. Н. Толстого „о непротивлении“ и другим идеям нашего времени» (1912), «О религиозном характере учения Н. Ф. Федорова» (1915).
(обратно)

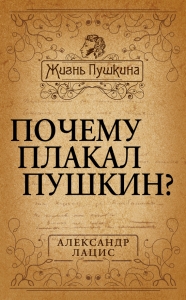


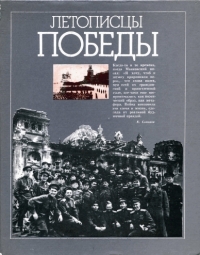



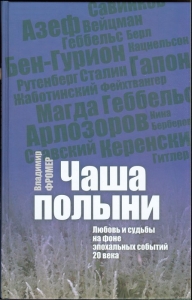

Комментарии к книге «Тени прошлого. Воспоминания», Лев Александрович Тихомиров
Всего 0 комментариев