ЛЮДИ МИРА Русское научное зарубежье
© Аллахвердян А. Г., Баюк Д. А., Ваганов А. Г., Горелик Г. Е., Губайловский В. А., Зайцева (Баум) Е. А., Орлова О. М., Первушин А. И., Пономарева И. А., Скоренко Т. Ю., Ястребов С. А., 2017
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2018
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2018
* * *
Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина», которая объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории: издание научно-популярных книг «Библиотека „Династия“», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель».
Дмитрий Борисович Зимин — основатель компании «Вымпелком» (Beeline), фондов «Династия» и «Московское время», учредитель премии «Просветитель».
* * *
Несколько предварительных соображений и личных впечатлений Предисловие редактора
Зачем эта книга
Эта книга была придумана Дмитрием Борисовичем Зиминым по довольно радостному поводу. Учрежденная по его инициативе премия «Просветитель», которая ежегодно вручается лучшим научно-популярным книгам по разным (как правило, двум) номинациям, существует уже десять лет. Книге «Люди мира. Русское научное зарубежье» было суждено принять участие в десятой торжественной церемонии вручения премии в 2017 году. На эту юбилейную дату наложилась еще одна, всем известная, и между ними, возможно, есть определенная связь, поскольку изменения в политическом устройстве нашей страны, произошедшие 100 лет назад, сделали ее малопригодной для подлинно успешного развития научной мысли. Стараниями большевиков Мировая война перетекла в Гражданскую. Из-за этого далеко за пределами своей страны пришлось искать убежища миллионам ее жителей, среди которых были многие тысячи исключительно талантливых, умных и хорошо образованных. Другие тысячи погибли в ходе войны — от пуль, голода, тифа и прочих «инструментов» революции. За Гражданской войной последовали три десятилетия сталинского социализма с его голодомором и волнами террора, а после короткой «оттепели» наступил застой, который привел к саморазрушению «научного социализма» и приходу ему на смену ненаучного дикого капитализма. Увы, умным и талантливым людям, если они хотят самореализоваться, по-прежнему приходится ехать в другие страны. И если граждане России хотят изменений к лучшему, то им надо понять и признать: умные и талантливые люди — это не те, кто делает удачную карьеру в какой-нибудь полицейской структуре. Наоборот: бывшие полицейские во власти, даже если полиция была тайной, создают скверную атмосферу для формирования ума и процветания таланта.
Однако при ближайшем рассмотрении проблема оказалась еще сложнее. Мы не собирались ограничиваться рассказом только лишь об эмигрантах: русское научное зарубежье — понятие значительно более широкое. Но даже если говорить именно об эмиграции, то самая высокая ее волна пришлась, как выяснилось, не на 1920–1930-е, а на 1895–1915 годы, и присутствие интеллигенции в этом потоке уже довольно заметно. Так что захват власти большевиками был не причиной, а скорее следствием вытеснения интеллектуальной элиты из страны. Тем не менее факт неоспорим: именно с их приходом процесс стал самоподдерживающимся, а поначалу даже лавинным. Для того чтобы как-то задержать отток интеллекта и культуры за рубеж, надо было поставить на его пути непреодолимую преграду — лучше всего частокол, колючую проволоку, вышки, солдат с собаками и автоматами…
Волны: накаты и откаты
Многолетнее общение с иностранными коллегами привело меня к убеждению, что сейчас почти в любой академической семье есть предки российского происхождения. Их помнят и чтут и при случае рассказывают о них гостям из России. Никаких статистических данных по этому поводу я не видел, и этот вывод основывается исключительно на впечатлениях от личных встреч. Поэтому с них и начну, причем с самых ранних.
Мое знакомство с эмиграцией началось в Нью-Йорке в 1993 году. После пяти лет работы в «почтовом ящике», на парадном подъезде которого было написано «Институт прикладной математики», получить иностранный паспорт в СССР мне было бы непросто. Но к 1993-му многое изменилось, советские паспорта утратили силу, и без особых сложностей, хотя и за невероятные, по нынешним меркам, шесть месяцев, мне удалось оформить выездные документы и отправиться со скромным трудовым контрактом в Мюнхен, в Коллекцию музыкальных инструментов Немецкого музея. Это тот самый Deutsches Museum, который по-русски часто называют «Политехническим музеем немецкой нации» или «Немецким музеем естествознания и техники», отличая его от Germanisches Museum, или «Германского национального музея истории и искусств» в Нюрнберге. К тому моменту, когда я оказался в Нью-Йорке, я успел проработать в Мюнхене больше трех месяцев и побывать в Музее изящных искусств в Бостоне, поэтому у меня было с собой два рекомендательных письма к директору Отдела музыкальных инструментов Метрополитен-музея. Таким образом, теплый прием мне был обеспечен. Познакомить меня с музеем и его библиотеками поручили сотруднику отдела по имени Дерек, который уже минут через десять разговора сообщил, что его родители из Польши, родились еще в Российской империи и переехали в США между мировыми войнами. Так что мы в известном смысле соотечественники.
Конечно, в Мюнхене я тоже был окружен разнообразными соотечественниками. В один из первых дней после приезда мне понадобилось сходить в испанское посольство, где было необычно для советского человека пустынно: из посетителей — только я и Леонид Чижик с женой. В Мюнхенской консерватории, где мне приходилось бывать и по делу, и ради удовольствия, по-немецки почти никто и не разговаривал: даже казахскому студенту и его чешскому педагогу для общения вполне хватало русского. Но в основном это были люди, приехавшие недавно — или в годы перестройки, или вообще за год-два до меня. С имперским слоем эмиграции я впервые столкнулся в Нью-Йорке. Разумеется, я не преминул съездить на Брайтон-Бич, и в Квинсе, где мои бостонские друзья нашли мне на несколько дней пристанище у своих друзей, на улицах тоже говорили в основном по-русски. Но и это было что-то другое. Дерек по-русски не говорил не только на улице — он вообще языка не знал. Однако Российская империя в анамнезе была для него каким-то образом важна.
В библиотеке музея, куда мы с Дереком отправились после посещения постоянной выставки и запасника, меня главным образом интересовало хранилище и книги XVI–XVII веков по музыкальной теории. Но, поднявшись в читальный зал, мы разговорились там с пожилой сотрудницей, и тема прошлой жизни каким-то образом всплыла вновь. Наша новая знакомая оказалась с Западной Украины: ее родители бежали оттуда после очередного «воссоединения» и тоже осели в Нью-Йорке. Тут появились и ее дети и внуки. Сама она хорошо говорила по-русски, дети тоже. «А внуки?» — спросил я. «Ну что вы! — воскликнула она в ответ. — Их даже украинским заниматься очень трудно заставить». Меня тогда такой ответ немного удивил: несмотря ни на что, мне казалось, что учить русский резонов больше, но потом я понял, что у разных людей историческая перспектива тоже может быть разной.
Тогда же в Нью-Йорке я повстречался со своим бывшим одноклассником, уехавшим из СССР перед самым окончанием школы, и со времени нашей предыдущей встречи к тому моменту минуло уже 18 лет. После довольно трудного периода адаптации он добился известного успеха, и я застал его в радостный период заселения в новую квартиру в пентхаусе на Манхэттене. Он тут же познакомил меня со своей девушкой, и несколько дней они водили меня по другим музеям, куда рекомендательных писем у меня не было. Один такой поход закончился ужином с ее родителями — мамой, родившейся в Латвии, и папой родом из Эстонии. Оба родителя жили в своих республиках лишь в краткие периоды их предвоенной независимости, но общее российское прошлое давало нам богатую пищу для застольной беседы. Тем более что папа после университета успел поработать в архитектурном бюро Ээро Сааринена, одного из самых знаменитых архитекторов Америки, приехавшего туда из Великого княжества Финляндского, где он родился в то время, когда великим князем был Николай II, по совместительству император российский.
За этими первыми встречами последовали десятки других, и я все больше убеждался в том, что российская культура, словно «золотая пыльца», рассеялась по миру, давая то тут, то там замечательные всходы. Мы знаем о нобелевских лауреатах, чьи имена редко соотносят с Россией, но тем не менее они сами или их родители родились в Российской империи. Это Мария Кюри, Шелдон Глэшоу, Жорж (Гриша) Шарпак, Саймон Кузнец, Вильгельм Оствальд. Много прославленных имен связано с искусством: Марк Шагал, Ян Сибелиус, Игорь Стравинский… Этих людей знают по всему миру, хотя не всегда подозревают об их причастности к российской истории. А сколько наших бывших соотечественников, оставивших свой след в мировой культуре, пребывают в тени. Важный, на мой взгляд, вывод, который то и дело подкрепляется при самых разных оказиях вплоть до последней: во время празднования 350-летия Парижской обсерватории в июне 2017 года по дороге на вечерний оперный спектакль в Версале я разговорился с женой одного из самых почетных гостей, профессора из Стэнфорда. И она поведала мне о своих родителях, уроженцах Вильно, и других родственниках, переехавших из Литвы в Америку.
Научное изучение российской эмиграции началось относительно недавно: в октябре 2016 года в Доме русского зарубежья в Москве довольно скромно отметили 25-летие Первого Конгресса соотечественников, проходившего в августе 1991 года с куда большим размахом — тогда к его открытию была даже приурочена попытка военного переворота! Завеса официального забвения с имен уехавших на том или ином политическом повороте была снята несколько раньше, и на том конгрессе уже были представлены первые результаты научных исследований русской эмиграции в XIX и XX веках.
Здесь подразумевается, естественно, только эмиграция из Российской империи и (или) СССР в контексте российской истории. Но сама по себе проблема значительно шире, и контексты могут быть самыми разными. Ниже еще будет упоминаться эмиграция советских евреев в контексте истории Израиля. Ничего не будет сказано об эмиграции евреев из юго-западных губерний Российской империи в Аргентину, но это тоже известная и давно исследуемая тема. Отдельно изучается тема эмиграции в США немецких католиков, получивших убежище на территории Российской империи еще при Екатерине II. Вообще переселения народов в XIX — первой половине ХХ века проходили довольно бурно: переселялись поляки, шведы, венгры… Но авторы этой книги концентрируют свое внимание на русском научном зарубежье, российских эмигрантах и российской истории.
Определенные изменения в отношении к эмигрантам отразились в лексикографических дискуссиях постперестроечного времени. В советском варианте русского языка слово «эмигрант» долгое время имело однозначно негативную окраску, а слово «иммигрант» не использовалось вовсе. Признание на высшем политическом уровне того, что российские диаспоры существуют и, мало того, они весьма многочисленны — речь идет о десятках миллионов человек, — а также последовавшее за этим выражение стремления к объединению уехавших и оставшихся сделало старое словоупотребление как минимум двусмысленным. Ведь всякий эмигрант (то есть «откуда-то уехавший») для кого-то — иммигрант (то есть «куда-то приехавший»); термин, как сказали бы математики, можно симметризовать, заменив оба слова одним — «мигрант». Но очередная политическая перемена — на этот раз от «постперестройки» к «стабильности», то есть кризису и международной изоляции — сделала подобные лексикографические экзерсисы неуместными. Слово «мигрант», правда, все-таки прижилось, хотя и в несколько неожиданном значении. В советском лексиконе ему, пожалуй, больше всего соответствовало слово «лимитчик», только у «мигранта» значительно более официальный статус. Появилась даже «миграционная служба», которая вопреки своему названию занимается вовсе не миграциями, а как раз мигрантами, хотя в данном случае их все-таки следовало бы, наверное, называть «иммигрантами». В этой книге мы в итоге сохранили использование в ограниченном терминологическом значении слова «эмиграция», признавая право некоторых из наших героев от него решительно отказываться. Например, Владимир Игоревич Арнольд на протяжении последних десятилетий своей жизни проводил во Франции ежегодно на один день меньше, чем в России. Не стал эмигрантом, в строгом значении этого слова, и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, не принявший от Фонда Карнеги грант, который подразумевал переселение из нацистской Германии в США, и сохранивший советский паспорт. Но оба они — люди русского научного зарубежья. Для его представителей в последние годы применимость понятия «эмигрант» стала еще более сомнительной, о чем будет сказано ниже.
Без малого три десятилетия научных исследований русского зарубежья принесли уже немало результатов. Дома у одной своей коллеги я видел целую библиотеку в полторы-две тысячи томов исключительно по этой проблеме, не считая рукописей и журнальных публикаций. Ключевым событием традиционно считается 1917 год, положивший начало так называемой первой волне советской эмиграции. Ее нижняя временнáя граница очевидна, но верхняя несколько более подвижна: это может быть и 1939, и 1935 год, а в некоторых публикациях она даже проводится по 1922-му. Однако в любом случае после нэпа массовая эмиграция из СССР стала невозможна. Страну прочно закрыли, и покинуть ее удавалось единицам. По данным известного исследователя русской научной эмиграции Татьяны Ивановны Ульянкиной, которая часто будет цитироваться на страницах этой книги, после 1925 года отъезды почти прекратились. Правда, начало новой мировой войны повлекло за собой и новую, вторую волну эмиграции, но ее природа иная и о ней будет сказано позже.
Намерению начать книгу с этой естественной нижней границы воспротивился сам материал, с которым мы работали. Эта книга не просто об эмиграции — она о российских ученых и инженерах, реализовавших свои таланты за пределами России. Один из крупнейших российских историков Олег Витальевич Будницкий любит повторять, что предреволюционная эмиграция из Российской империи значительно превосходит эмиграцию из СССР. Ее демографическая оценка обычно принимается на уровне четырех с половиной миллионов, хотя какова статистическая погрешность, установить довольно трудно. Немаловажно и то, что многие (в некоторых социальных группах до 18 %) эмигранты этой «досоветской» волны в середине 1930-х «вернулись» в СССР (кавычки тут потому, что из СССР они, строго говоря, и не уезжали), чтобы потом на протяжении десятилетий становиться первыми жертвами любой из волн репрессий. И много ли потенциальных героев нашей книги среди этих эмигрантов?
Проще ответить на вопрос, много ли их среди эмигрантов первой советской волны. Ученых и преподавателей университетов и высших технических школ, покинувших СССР к 1931 году, в картотеке Татьяны Ульянкиной насчитывается 1612 человек, включая четверть всех членов Императорской академии наук. Как это ни много, но все же менее промилле от общей численности этой волны, составившей, по разным оценкам, от двух до трех миллионов. Таким образом, статистика говорит нам, что доля ученых, покинувших Россию после 1917 года и, как мы можем предположить, по причинам, которые стали неизбежны после прихода к власти последователей Маркса и Ленина, в общем потоке эмиграции ничтожна. В то же время она более чем значима, если сравнивать количество уехавших ученых с количеством оставшихся. Однако та же статистика говорит нам, что гораздо больше эмигрантов по разным причинам покинули страну до революции 1917 года, и доля ученых в этой волне совсем не велика, даже если сравнивать их число не с количеством уехавших вообще, а с количеством оставшихся деятелей науки. Однако дело не в статистике.
Типический эмигрант этого периода оказывался за границей либо в поисках лучшей доли, либо убегал от погромов, конфессиональных или этнических притеснений и не рассчитывал на возвращение. Российский ученый в XIX веке не мог возникнуть иначе как из-за границы, где ему надо было получить образование и набраться опыта. Для него тема возвращения была открыта всегда, если только он не вступал в откровенное противостояние режиму. Даже задержавшиеся во Франции или в Германии долее положенных пяти лет всегда могли испросить высочайшего дозволения и в силу единичности таких случаев гарантированно получить его. Дореволюционная российская наука не могла существовать в отрыве от мировой, но в дореволюционном русском зарубежье почти не было эмигрантов.
Когда в годы перестройки исследования русской эмиграции только начинались, было совершенно естественно смотреть на проблему в советской перспективе: кто, как, когда и при каких обстоятельствах покидал именно СССР. Тот факт, что между 1918-м и 1921-м мы имеем дело не с СССР, а с почти не управляемой территорией, на которой то тут, то там возникали и разрушались временные псевдогосударства с политическими режимами разной этиологии и разным периодом полураспада, в данном случае не очень существенен: Российская империя к тому времени рухнула, а оставшееся после нее пространство, как сказал бы Ленин, в глазах историка уже беременно Советским Союзом. Но с тех пор перспектива существенно изменилась.
Космополитические идеалы XIX века
Принято считать, и не без определенных оснований, что наука представляет собой одно из наиболее космополитических предприятий в человеческой истории. Ведь она основана на разуме, наблюдениях, опыте — то есть на тех источниках знания, к которым человек имеет доступ независимо от расы, нации, языка или классовой принадлежности. Перемещение через границы всегда считалось прерогативой ученых, и даже в период религиозных войн на заре Нового времени это право никем не оспаривалось. Математик Ретик, будучи немецким протестантом и человеком близким Меланхтону, провел год в епископской части Польши, изучая рукописи Коперника, несмотря на прямой запрет протестантам находиться там. За протестанта же Кеплера в католическом Граце, когда оттуда изгоняли протестантов, вступились иезуиты, добившись для него права задержаться в этом городе.
Космополитический характер науки в России еще более очевиден. И Академия наук, и первый русский университет создавались по европейским меркам, по советам европейских ученых и даже при их непосредственном участии. Потом на протяжении двух веков серьезное образование для жителя Российской империи предполагало обучение, более или менее продолжительное, в одном из европейских университетов. Михаил Васильевич Ломоносов три года учился в Марбургском университете, потом год во Фрайбургском; Дмитрий Иванович Менделеев более двух лет «совершенствовался в науках» в университете Гейдельберга; Климент Аркадьевич Тимирязев три года практиковался в нескольких лабораториях видных немецких и французских ученых; Леонид Исаакович Мандельштам уехал в Страсбургский университет в 1898 году и оставался там до 1913-го — сначала в качестве студента, потом, после защиты диссертации, ассистента — и вернулся в Одессу уже полным профессором; даже Лев Давидович Ландау успел провести за границей три года, продолжая образование в Берлине, Лейпциге, Копенгагене и Кембридже. Сама природа научного труда делает его космополитичным.
И это еще не все. Вторая половина XIX века проходила под знаком расцвета космополитических идей. Одним из его проявлений стал затеянный в 1887 году Парижской обсерваторией проект Carte du Ciel («Карта неба») — создание единого астрографического каталога всех видимых звезд до 12-й звездной величины (это примерно соответствует Проксиме Центавра). В реализации проекта участвовали 22 обсерватории разных стран мира в обоих полушариях, включая расположенные на территории Российской империи. Они следовали единым правилам проведения наблюдений, их персонал подчинялся единым нормам, и между разными задействованными в проекте научными коллективами происходил свободный обмен научной информацией.
Неслучайно примерно в то же время, в 1875 году, и примерно в том же транснациональном духе в предместьях Парижа было создано Международное бюро мер и весов, призванное произвести стандартизацию используемых в разных странах единиц измерения. А организованные тогда же международные конгрессы и конференции пытались унифицировать зоологические, ботанические и химические номенклатуры. Конец XIX века стал свидетелем беспрецедентного расцвета научной периодики, которая окончательно вытеснила из норм научной коммуникации личное общение и частную переписку, и появления первых реферативных журналов, потребность в которых возникла, потому что отслеживание новых научных публикаций даже в рамках какой-то узкой отрасли науки вышло за пределы человеческих возможностей. К этому же времени относится лихорадочный поиск универсального языка научного общения: латынью на рубеже эпох еще пользовались, но это уже было явным анахронизмом; немецкий еще считался вполне приемлемым, но предпочтение одного языка всем остальным казалось европейцам недопустимым, а ученых, в равной степени владевших хотя бы тремя основными языками — немецким, французским и английским, — было по пальцам сосчитать. Для решения этой проблемы начали создавать искусственные языки: сначала в 1879 году Иоганн Мартин Шлейер предложил свой волапюк (что в переводе с него же означает «язык мира»), потом в 1887-м Лазарь Маркович Заменгоф опубликовал первую книгу на эсперанто. У последнего сразу появились активные сторонники, и в их числе — уже упомянутый однажды Вильгельм Оствальд. Определенной популярностью эсперанто пользуется до сих пор.
Космополитический дух столетия был подорван с началом Первой мировой войны. Германская артиллерия разбомбила Лувенский университет в Бельгии, библиотека которого располагала одним из крупнейших в Европе собраний средневековых рукописей. Значительная их часть погибла в начавшемся после бомбардировки пожаре. И в то время как ученый мир содрогнулся, 93 немецких интеллектуала, среди которых было немало состоявшихся и будущих нобелевских лауреатов, опубликовали свой манифест, оправдывавший действия правительства. «Немецкая армия и немецкий народ едины, — говорилось в этом манифесте, — и сегодня эта мысль делает братьями все семьдесят миллионов немцев без различия в образовании, общественном положении и политических взглядах». С неожиданным красноречием выразил общее настроение Фриц Габер, лауреат Нобелевской премии по химии 1918 года за синтез аммиака, прославившийся, однако, прежде всего, как создатель химического оружия: «В мирное время ученый принадлежит всему миру, но во время войны он принадлежит нации».
Слова Габера вполне можно было бы повесить в актовом зале АН СССР, заменив только слова «война» и «нация» на «классовая борьба» и «партия». Еще один из «подписантов», все тот же Оствальд, придал этой идее дополнительное измерение:
Я вам сейчас объясню великий секрет Германии, — заявил он корреспонденту шведской газеты Dagen. — Мы, или, вернее, германская раса, открыли фактор организации. Все остальные народы живут в режиме индивидуализма, тогда как мы живем в режиме организации. Этап организации — это высший этап цивилизации. […] Германия хочет организовать Европу, которая до сих пор жила не организованной. […] У нас все направлено на то, чтобы максимально привлечь каждого индивидуума к участию в общей пользе. […] Война и их (то есть остальных европейцев. — Д. Б.) привлечет, в форме организации, к этому высшему этапу цивилизации.
Как тут не вспомнить Маяковского и его «заменить бы вам богему классом»?
План социалистических преобразований, предельно глобалистский в своей исходной форме, на практике обернулся предельным изоляционизмом. Это видимое противоречие легко встраивается в непрерывный ряд противоречий между лозунгами советской власти и ее делами.
«„Литературная газета“ настоятельно рекомендует мне хотя бы в общих чертах ознакомиться с основными трудами основоположников учения. Вероятно, я и в самом деле ознакомился с ними кое-как, ибо в противном случае я сумел бы, пожалуй, полностью объяснить себе, почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам». Так писал в 1968 году в своем «письме товарищам» в «Литературной газете» чехословацкий писатель и кинематографист Ян Прохазка. Ввод советских танков в Прагу, вызвавший протест и недоумение Прохазки, состоялся всего через семь лет после возведения в Берлине «Великой советской стены», как назовет это символическое сооружение Геннадий Горелик в одной из публикуемых ниже статей. Оба эти события отмечают пик советского социалистического изоляционизма, но этот путь от подножия до самого пика еще предстояло пройти.
О лязге, скрипе и визге
Острее всех резкую перемену в судьбе страны ощутили литераторы. На захват власти большевиками осенью 1917-го негативно отреагировал не только Владимир Набоков, представитель богатой семьи, дед которого, Дмитрий Николаевич Набоков, был министром юстиции. Когда 5 января 1918 года расстреляли мирную демонстрацию в защиту только что разогнанного Учредительного собрания, пролетарский писатель Максим Горький написал в газете «Новая жизнь»: «Правительство Смольного относится к русскому рабочему как к хворосту: оно зажигает хворост, чтобы попробовать — не загорится ли от русского костра общеевропейская революция?» А прозорливый Василий Розанов незадолго до смерти, в 1919 году, пророчествовал: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою историею железный занавес».
Александр Куприн видел корень зла в личности вождя революции. В том же 1919 году он писал: «…Этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, — гораздо страшнее Нерона, Тиверия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки люди, доступные капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути…»
Но действительность значительно сложнее: каковы бы ни были личные качества Ленина, они не объясняют победу большевиков в Гражданской войне. Трагическая трансформация, из-за которой, по словам Набокова, возвращение в Россию стало невозможным в силу отделенности от нее не столько пространственной, сколько временнóй границей, не была спонтанной. Некая логика предшествующего исторического развития если и не предопределила ее, то, во всяком случае, сделала весьма вероятной.
Ученые-естественники реагировали не так живо и остро, как литераторы и философы. Выше уже говорилось, что, по официальным оценкам, 1612 из них после революции покинули Россию, но лишь 7 % от этого числа уехали до 1919 года. Правда, многие ученые очень скоро устремились на юг России, в зоны, свободные от большевиков. Одним из крупнейших научных центров стал Таврический университет, организованный по инициативе ученого-агронома и политического деятеля Соломона Самуиловича Неймана (1868–1936), который взял себе псевдоним Крым. Первые лекции в этом университете были прочитаны тревожной зимой 1917–1918 года. До апреля Крым возглавлял Крымскую Республику, внимательно следя за тем, чтобы бежавшие из Москвы и Петрограда ученые находили соответствующую их квалификации работу в Таврическом университете. Но уже в апреле 1919-го Соломону Крыму пришлось бежать на французском военном корабле — Красной армии удалось прорваться на полуостров и взять Симферополь. В июне большевики были выбиты оттуда Добровольческой армией Деникина, но Соломон Крым из Франции не вернулся. Полуостров Крым оставался под флагами Белого движения до осени 1920-го. События, предшествовавшие окончательному прорыву Красной армии через Перекоп 12 ноября, получили название «Русский исход». Двадцатого октября, понимая, что отступление неизбежно, барон Врангель отдал приказ об эвакуации «всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага…» До появления красных из крымских портов успели отойти 126 кораблей. Последовавшие за этим события получили названия «крымского террора». Историк Леонид Абраменко исследовал в архивах Ялты 15 папок с «расстрельными» списками, от 200 до 400 фамилий в каждой.
Таврический университет, де-факто уже прекративший свою деятельность, был распущен де-юре (кроме медицинского факультета) на заседании областного совета РКП(б) 23 декабря 1920 года. Профессура, включая возглавлявшего тогда учебное заведение Владимира Ивановича Вернадского, была фактически помещена под арест. Для некоторых, например для Михаила Михайлович Дитерихса (1871–1941), этот арест проходил в условиях, «противоречащих гуманности и достоинству человека», — как писал председателю Реввоенсовета Крыма Беле Куну Вернадский. Будущий нобелевский лауреат Игорь Евгеньевич Тамм успел перебраться из Крыма в Одессу по приглашению Мандельштама еще до описываемых событий, но самый знаменитый из его учеников по Симферополю Игорь Васильевич Курчатов оставался все это время в Крыму и, благополучно пережив реформирование университета, окончил его в 1923 году.
Самого Вернадского ожидало этапирование в Москву, но этого все же не случилось. Его бывший ученик по Московскому университету Николай Семашко, ставший еще в 1918-м наркомом здравоохранения РСФСР, прислал охранный лист. Сын Вернадского, Георгий Владимирович (1887–1973), занимавший пост начальника отдела печати крымского правительства при Врангеле, успел эвакуироваться вместе с женой 30 октября.
Времена, как видим, отличались еще очевидным уважением к учености. Бела Кун в Крыму прославился разного рода циничными суждениями типа: «…Так как Крым отстал на три года в своем революционном развитии, то быстро подвинем его к общему революционному уровню России…» — и добросовестно следовал своему плану. В изученных Абраменко расстрельных списках есть и 15-летние гимназистки, и сестры милосердия, и беременные женщины. Если в чью-либо защиту властям подавалось коллективное письмо, приговоренный расстреливался вместе со всеми «подписантами». Однако университетская профессура по тем или иным причинам почти не пострадала. Тем не менее значительная ее часть все же покинула пределы советской России если не до ноября 1920 года, так после.
Столь же относительно гуманной акцией по отношению к дореволюционной российской ученой элите стала история так называемого «философского парохода». О тех, кого туда погрузили для отправки за пределы родины, Лев Троцкий сказал так: «Расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». В силу некоторой инерции мышления сам он спустя семь лет тоже был всего лишь выслан, хотя, по мнению некоторых, его не только невозможно было терпеть, но уже и было за что расстрелять. Причины, по которым не расстреляли Льва Троцкого и Николая Бердяева, безусловно, различны, но в чем-то и схожи: нет сомнения, что, задержись оба на родине еще лет на пять, их опять-таки постигла бы одинаковая участь.
По поводу же «философского парохода» здесь надо сказать три вещи. Прежде всего, пароходов было два, и оба немецкие. Первый из них, «Обербургомистр Гакен» (Oberburgermeister Haken), отошел из Петроградского порта 29 сентября 1922 года. Второй — «Пруссия» (Preussen) — отошел из того же порта 16 ноября. Эти две акции были только частью кампании: высылки продолжались с июня 1922-го по январь 1923-го. Кроме пароходов были задействованы поезда и иные транспортные средства. Наконец, вопреки уже ставшему привычным названию, на этих пароходах из СССР уплывали отнюдь не только философы — они там даже не были в большинстве. Среди покинувших в течение этих семи месяцев страну были Питирим Сорокин, ставший одним из крупнейших социологов ХХ века, Михаил Новиков, зоолог, в прошлом ректор МГУ, Дмитрий Селиванов, математик, создатель одного из первых численных методов решений дифференциальных уравнений, Всеволод Ясинский, инженер, разработчик паровых турбин.
На рубеже 1920-х и 1930-х годов в СССР произошли важные изменения. Здесь не место о них говорить, но подобные массовые высылки быстро вышли из моды. Если возникала необходимость, ученых, как раньше медсестер или гимназисток, отправляли в лагеря либо казнили. Их имена так же старались предать забвению, как ранее предавали забвению имена добровольно уехавших и насильно высланных. Это забвение стало одним из правил игры, что видно и по легенде, ставшей популярной в годы горьковской ссылки академика Сахарова. Речь шла о том, как академики воспротивились предписанию ЦК лишить Андрея Дмитриевича академического звания. Всю эту историю подробно разбирает в № 4 за 2017 год журнала «Знамя» Евгений Беркович, но я приведу ее здесь в том виде, в каком пересказал в 2001 году физик Борис Михайлович Болотовский, хотя в этом изложении она выглядит значительно менее правдоподобно.
В то время президентом Академии был М. В. Келдыш. Он пригласил к себе нескольких авторитетных и уважаемых академиков, в том числе П. Л. Капицу и Н. Н. Семенова, и сказал им примерно следующее: «Вы не думайте, что в настоящий момент у руководства имеется намерение исключить Андрея Дмитриевича Сахарова из Академии. Но если тем не менее такой вопрос был бы поставлен на общем собрании, как бы вы к этому отнеслись?» Я уверен, что М. В. Келдыш в данном случае действовал не самостоятельно, а по указанию отдела науки Центрального комитета Коммунистической партии. После вопроса, поставленного Келдышем, последовало долгое молчание, а потом Н. Н. Семенов сказал: «Но ведь прецедента такого не было». На это П. Л. Капица возразил: «Почему не было прецедента? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук».
Сам Болотовский отмечает, что Капица позволил себе немного исказить факты: Гитлер не исключал Эйнштейна из Берлинской академии, Эйнштейн покинул ее сам. Но на самом деле «искажений» тут больше: из АН СССР ее членов исключали десятками, о чем все трое участников разговора прекрасно знали. Одним из первых был исключен академик Бухарин, расстрелянный в 1938-м, и тогда же, в 1938-м, был исключен член-корреспондент Георгий Гамов, одним из последних, в 1933 году, ускользнувший из СССР, лоббировать избрание которого когда-то не захотел Капица. А одновременно с Гамовым из Академии исключили Андрея Туполева, ставшего потом генеральным конструктором одного из крупнейших в СССР самолетостроительных предприятий. Говорить об этом вслух никому не хотелось, хотя и по разным причинам.
Находчивость Капицы много обсуждали в то время, то есть в начале 1980-х. Легенда эта гуляла в самых разных вариантах, но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь вспомнил о массовых исключениях из АН СССР. О них и правда забыли.
Об этой книге, ее авторах и героях
Как следует из этого небольшого введения, героями книги могли стать сотни, если не тысячи ученых. Но стали — чуть больше трех десятков. Причина не в том, что кто-то из них оказался лучше, а кто-то хуже. Выбор персонажей может даже показаться случайным: мы хотели рассказать историю, иллюстрируя ее теми примерами, которые первыми приходили на ум. По нашему общему мнению, в России должны помнить имена всех тех, кто здесь появился на свет, сделал свои первые шаги, а потом трудился на благо человечества, пусть даже и за ее пределами. Сам фактор забвения, связан ли он с необоснованными репрессиями или необходимостью уехать жить в другое место, уже сам по себе достаточное основание для того, чтобы относиться к таким людям с повышенным вниманием. И для восстановления справедливости, и в целях более полного самопознания. Поэтому наша книга не более чем маячок, указывающий читателю на ту работу, которая уже давно ведется и будет продолжаться после выхода этой книги, по вызволению из небытия имен крупных ученых, подвергнутых несправедливому и насильственному забвению.
В случайности выбора были все же свои ограничения. Прежде всего, мы хотели, чтобы были показаны представители разных областей научного знания: физики, химики, биологи, математики, инженеры. Ученым-гуманитариям и социальным наукам будет посвящена отдельная книга. Мы стремились показать и разные обстоятельства, при которых наши герои покидали родину и которые могли сложиться так, что возвращение оказывалось желательным или необходимым. Отдельную и непростую проблему представляла собой классификация и, соответственно, последовательность, в которой наши герои предстают на страницах книги. Принципов классификации у нас было несколько. Во-первых, главные персонажи поделены на два больших класса в соответствии с двумя разделами книги — тех, кто эмигрировал до Второй мировой войны, и тех, кто начал постоянно работать в зарубежных научных организациях во время войны или после нее. Во-вторых, ученые группировались по дисциплинам или по типу эмиграции. Например, по этой причине под одной рубрикой «Невозвращенцы» у нас оказались Тимофеев-Ресовский, Добржанский и Гамов, хотя, конечно, понятия «невозвращенец» и «эмигрант» к Тимофееву-Ресовскому могут быть применены лишь с очень большими оговорками. Наконец, внутри каждой рубрики герои располагаются по хронологии. Из-за этого очерки разных авторов оказались перемешаны друг с другом.
Авторы, согласившиеся принять участие в работе над книгой, тоже заметно различаются между собой. Среди них есть журналисты, есть ученые-исследователи, а некоторые сочетают эти два рода деятельности. Более подробную информацию о них можно найти в конце книги в соответствующем разделе.
Но не только авторы работали над книгой. Художник, редактор, корректоры, дизайнеры и так далее будут указаны в соответствующих местах, а здесь мне хотелось бы упомянуть тех, чьи имена не будут названы больше нигде. Речь о людях, читавших книгу в процессе работы над ней, дававших советы до того, как работа была начата, или даже просто выступивших в роли «подопытных кроликов», или интервьюируемых.
Эта книга не появилась бы на свет, если бы не моя многолетняя дружба с Татьяной Ивановной Ульянкиной, за работами которой я с вниманием и интересом слежу уже несколько десятилетий. Наши долгие разговоры о судьбах русской эмиграции, о ее изысканиях в самых разных архивах всегда были для меня путеводной звездой. С не меньшей благодарностью я должен упомянуть здесь имя княгини Зинаиды Александровны Трубецкой, урожденной Ратьковой-Рожновой, скончавшейся в 2006 году накануне своего столетия. Ее красочные рассказы о семье — о бабушке, Анне Павловне Философовой, и «дяде Сереже» (Дягилеве), о приключениях в Канаде и Алжире, о ее друзьях на Лазурном Берегу — помогли мне понять трагедию тех, кому пришлось в разное время покинуть родину. Я должен также поблагодарить некоторых моих коллег: Ирину Геннадьевну Дежину, Василия Петровича Борисова и Вадима Ивановича Михеева — обсуждение некоторых вопросов, связанных с деятельностью отечественных инженеров в эмиграции, даже безотносительно этой книги, сыграло при ее создании важную роль.
От имени своих коллег, авторов этой книги, я выражаю нашу общую глубокую благодарность всем тем, кто согласился читать тексты, давать советы, высказывать критические суждения. Прежде всего это Алексей Старобинский, Валерий Рубаков, Александр Костинский, Дмитрий Погосян и Игорь Ткачев.
Дмитрий БаюкЧасть I. Время исхода О том, что ему предшествовало, и о том, что за ним последовало
В мире как дома
Братья Мечниковы: борьба со старостью и великие исторические реки (Андрей Ваганов)
Это удивительно: человек, несколько раз предпринимавший попытки суицида, стал создателем теории ортобиоза — достижения «полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося спокойной естественной смертью». А его брат — русский ученый-географ и революционер, итальянский офицер, японский и швейцарский профессор, этнограф, социолог, путешественник, художник, писатель, дипломат, политик — смог вместить все это в одну не такую уж и долгую жизнь — всего-то 50 лет. Будь судьба чуть-чуть благосклоннее к нему, он точно не уступил бы в известности своему младшему брату.
Илья Ильич Мечников родился 15 мая 1845 года в имении отца — деревне Ивановка Харьковской губернии. В семье уже было три сына: Иван, Лев и Николай. Отец, Илья Иванович, — дворянин, гвардейский офицер, происходивший из старинного молдавского боярского рода; мать, Эмилия Львовна (урожденная Невахович), уроженка Варшавы, дочь известного публициста Льва Неваховича.
Способности Ильи Мечникова были очевидны. В 1861 году он окончил харьковскую гимназию с золотой медалью. В 1867 году получил звание магистра, защитив диссертацию «История эмбрионального развития Sepiola» (головоногого моллюска); в 1868 году с диссертацией «История развития Nebalia» (род морских ракообразных) стал доктором. В 1867–1870 годах — приват-доцент Петербургского университета, профессор Новороссийского университета в Одессе по кафедре зоологии и сравнительной анатомии… При жизни он был избран действительным и почетным членом более чем 60 российских и зарубежных академий, научных и профессиональных обществ, в том числе почетным членом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге… И такое признание не было случайным, хотя пришло оно непросто.
Еще 20-летним ученым, только-только окончившим естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета (1864), он открыл у ресничного червя — земляной планарии — внутриклеточный тип пищеварения. Оказалось, что у планарии в отсутствие пищеварительной полости акт пищеварения происходит непосредственно внутри подвижных клеток соединительной ткани. Интересное, но достаточно локальное, казалось бы, открытие через 17 лет станет толчком к созданию знаменитой теории фагоцитоза — первой строго научной теории иммунитета.
Эксперимент, поставленный Мечниковым в декабре 1882 года в одной из лабораторий Мессины (Италия), был прост: он вставил в личинки морской звезды небольшие растительные колючки. На следующее утро ученый заметил, что около колючек собрались подвижные клетки, которые стремились уничтожить инородное тело. Он подробно описал свои наблюдения и в 1883 году рассказал о них известному австрийскому зоологу Карлу Клаусу. Венский профессор предложил назвать это явление фагоцитозом, а подвижные клетки — фагоцитами (что значит «пожирающие клетки»).
«Открытие фагоцитоза, как и детальное описание Мечниковым физиологической системы иммунитета, ранее не известной ни биологам, ни медикам, рассматривается современной наукой как фундаментальное, — подчеркивает российский историк биологии Татьяна Ульянкина. — Оно содержит научное описание главного объекта иммунологических исследований — иммунокомпетентные клетки, объединенные в систему».
Увы, медики, которым и предназначались полученные результаты, отвергли «зоологические доводы» Мечникова. Да и большинство ученых продолжали считать, что белые кровяные тельца не являются нормой для крови, а образуются только при инфекции или болезни.
В 1886 году совместно с Николаем Федоровичем Гамалеей и Яковом Юльевичем Бардахом Мечников организует в Одессе первую в России (и вторую в мире) бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями, прежде всего с чумой и туберкулезом. И опять — резкое неприятие со стороны местных врачей: они никак не могли смириться с тем, что новые методы им навязывает не профессиональный медик.
Судя по всему, именно это моральное давление, неприятие его теории профессионалами и подтолкнуло Илью Мечникова в 1887 году к решению покинуть Россию. Обида эта еще долго чувствовалась. Так, в 1907 году он напишет: «…Наука в России переживает продолжительный и тяжелый кризис. На науку не только нет спроса, но она находится в полнейшем загоне».
Однако в Европе его теорию фагоцитоза тоже поначалу не признавали. Особенно негативно настроен был крупнейший европейский авторитет, немецкий микробиолог Роберт Кох. Не помогло даже то, что Мечников демонстрировал ему свои экспериментальные результаты.
И хотя Мечников сохранил российское гражданство, продолжая бывать в России и по научным, и по личным делам, вся оставшаяся его жизнь была связана с Институтом Пастера в Париже. Причем поначалу Мечников уговорил Луи Пастера принять его на honorary position (почетную должность без оклада). Впрочем, дворянин, статский советник, владелец двух поместий в Малороссии, в материальном плане Илья Мечников был вполне обеспеченным человеком.
Однако он с тревогой ожидал каждого отклика на свои работы. Тем более что именно в это время стала популярной другая теория иммунитета — гуморальная, которую предложил выдающийся ученый Пауль Эрлих (1890). Согласно его гипотезе, главная роль в защите от инфекций принадлежит не клеткам, а открытым им антителам — специфическим молекулам, которые образуются в сыворотке крови в ответ на внедрение агрессора. Эта гениальная догадка нашла экспериментальное подтверждение лишь через десять лет, когда Родни Роберт Портер и Джералд Эдельман определили молекулярное строение антител.
Соперничество этих двух теорий — клеточной (фагоцитарной) и гуморальной — было настолько острым, что Мечников несколько оказывался на грани нервного срыва и даже пытался покончить жизнь самоубийством. Переживания ученого можно понять — у него-то результаты экспериментов были уже на руках!
Но в итоге в 1908 году Нобелевский комитет вынес решение: «Присудить Нобелевскую премию года по физиологии и медицине Илье Ильичу Мечникову и Паулю Эрлиху за работы по иммунизации». Самое забавное, что к тому времени оба ученых уже не занимались иммунологией.
26 мая 1909 года Илья Ильич Мечников, крупнейший ученый-биолог, заместитель директора Института Пастера в Париже выступал в Большой аудитории Политехнического музея в Москве. Был аншлаг. Нобелевский лауреат — второй нобелевский лауреат из России! — Мечников читал лекцию о кишечной флоре человека. На следующий день «Московские ведомости» сообщали: «Появление Мечникова было встречено овацией тысячной толпы…» Еще бы, ведь профессор Мечников предложил ни больше ни меньше путь к продлению жизни, лекарство от старости!
В своих трудах Études sur la nature humaine (1903; русский перевод — «Этюды о природе человека», 1904) и Essai de philosophie optimiste (1907; русский перевод — «Этюды оптимизма», 1907) Илья Мечников пришел к выводу, что старение и смерть в эволюции оказались важными элементами отбора. Однако, как считал Мечников, старение и смерть у человека преждевременны, а потому «не физиологичны».
«Исходною точкой теории Мечникова является прочно установленное ныне существование в природе человека многих несовершенств или „дисгармоний“, по терминологии нашего ученого», — отмечал приват-доцент Императорского Петроградского университета Петр Юльевич Шмидт в популярном очерке «Борьба со старостью» (1915). Сравнительный анатом Видерсгейм насчитывал в общей сложности не менее 107 бесполезных, рудиментарных, как он считал, органов. Для Мечникова главной такой «дисгармонией» был толстый кишечник — своеобразный питомник для бактерий, которые выделяют ядовитые вещества, отравляющие в итоге организм и приводящие к смерти.
Мечников предлагал бороться против этих «гнилостных процессов в кишечнике» с помощью специальной кисломолочной диеты. Сам до конца жизни регулярно употреблял не только молочнокислые продукты, но и чистую культуру болгарской палочки (эта бактерия использовалась для изготовления так называемой болгарской простокваши, йогурта). Можно сказать, ставил эксперимент на себе. Тот же Петр Юльевич Шмидт признавал:
Трудно сказать пока, насколько такое рациональное питание в связи, разумеется, с принятием других гигиенических мер может служить к удлинению жизни. Все открытия И. И. Мечникова в этой области сделаны лишь несколько лет тому назад и не могли быть проверены на опыте достаточно продолжительном для того, чтобы можно было прийти к какому-нибудь окончательному выводу. Ясно, во всяком случае, что ослабление гнилостных процессов в кишечнике и уменьшение количества ядов, выделяемых толстыми кишками, должно отражаться благотворно на здоровье и на продлении жизни. Вопрос весь в том, насколько значительно такое продление, и на этот вопрос пока нельзя еще дать точного ответа!
Увы, и эксперимент, поставленный на себе Ильей Мечниковым, не дал ответов на эти вопросы. 14 декабря 1915 года французские врачи диагностировали у него тяжелейший миокардит, осложненный легочным инфарктом. «За месяц до смерти Илью Ильича перенесли в бывшую квартиру Пастера. Это доставило ему очень большое удовольствие, так как он был ближе к своей лаборатории. Изредка он еще надеялся вернуться в нее», — вспоминала его жена Ольга Николаевна.
Умер он в 4 часа 20 минут 15 июня 1916 года в возрасте 71 года. Тело И. И. Мечникова было кремировано, а урна с его прахом помещена на полку одного из шкафов в Парадной библиотеке Института Пастера. Там она находится и до сих пор.
Вообще, судьба братьев Мечниковых заставляет говорить о чуть ли не мистических поворотах в вопросах жизни и смерти…
Другой, если можно так сказать, стиль смерти, сугубо частный, исследовал Лев Николаевич Толстой в своей потрясающей повести «Смерть Ивана Ильича». «Описание простой смерти простого человека, описывая из него» — так формулировал себе задачу Лев Николаевич. План этот родился 2 июля 1881 года. В этот день умер от рака знакомый Толстого, член тульского окружного суда Иван Ильич Мечников (1836–1881), брат Ильи Ильича Мечникова.
А ведь у Ильи Ильича Мечникова был еще один старший брат — Лев Ильич…
Русский ученый-географ и революционер, итальянский офицер, японский и швейцарский профессор, этнограф, социолог, путешественник, художник, писатель, дипломат, политик… Тут сюжетов не для одного — для десятков! — авантюрных или приключенческих романов — жанр, который так любили в XIX веке. И все это вместилось в не такую уж и долгую жизнь (всего-то 50 лет) не обладавшего крепким здоровьем человека — Льва Ильича Мечникова. Будь судьба чуть-чуть благосклоннее к нему, он точно не уступил бы в известности своему младшему брату.
Российский географ и дальний родственник Льва Мечникова Владимир Иванович Евдокимов пишет:
Мечников был чрезвычайно одаренным ребенком. Он учился в Петербурге, в Училище правоведения, которое в 1852 году оставил по болезни — коксит. (На всю жизнь правая его нога осталась короче, он постоянно пользовался тростью или костылем, шил специальную обувь.) Детство провел на Харьковщине, образование получил главным образом домашнее.
В 1856 году поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Но с первого же семестра был отчислен — за участие в студенческих беспорядках. В 1857 году, после смерти Николая I, у Мечникова появилась возможность поступить на физико-математический факультет Петербургского университета. Одновременно он стал посещать курсы Академии художеств, изучал восточные языки. (Вообще, Лев Мечников знал девять языков: французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, польский, арабский, турецкий, японский.) Но и в Петербургском университете он проучился недолго — уже в 1858 году его исключили. Причина все та же — участие в студенческих «историях».
Знание языков помогло — Лев Мечников получил должность переводчика в дипломатической миссии по святым местам. А дальше — завертелось в ускоряющемся темпе…
С 1860 года Лев Ильич в Италии, и в Россию он уже не вернулся. В рядах гарибальдийцев участвовал в военных действиях. В боях за освобождение Неаполя от австрийцев был тяжело ранен — повреждены обе ноги и легкие. Выжил только благодаря заботе друзей, в особенности знаменитого французского писателя Александра Дюма-отца.
О друзьях надо сказать особо. Ведь среди них — Александр Герцен, Николай Огарев, Петр Кропоткин, Сергей Степняк-Кравчинский, Георгий Плеханов, Вера Засулич, Михаил Бакунин, Джузеппе Гарибальди… Последнего Лев Мечников замечательно описал в своих воспоминаниях «Записки гарибальдийца» (1861):
…Я мало видел Гарибальди, и видел обыкновенно в очень трудные минуты. До тех пор я знал его по рассказам, по печатным известиям и по фотографическим портретам, которые тайком покупал в Венеции за большие деньги. Я не предполагал, чтобы фотография, это механическое передавание действительности, могла так переиначивать личность человека. Увидя в первый раз Гарибальди, я спрашивал сам себя: но что же общего между этим прекрасным, выразительным и почти женски нежным лицом и тою грубою суровою физиономией гверильяса, снимок которой лежал в моей записной книжке.
А Бакунин, кстати, дал такую, слегка ироничную, характеристику самому Льву Мечникову, своему другу: «Много струн на вашей лире, милый Лев Ильич, только ни на одной вы не играете как виртуоз». И в каком-то смысле так оно и было.
Широта интересов его была поразительной, подчеркивает Владимир Евдокимов. Он полемизировал с Пьером-Жозефом Прудоном, совместно с Н. П. Огаревым издал «Землеведение для народа», написал историю противников государственности в России, знакомил русского читателя с европейской литературой, публиковал литературные произведения и очерки о своих путешествиях по Европе, освоил фотодело, организовал канал доставки нелегальной литературы в Россию, переводил с разных языков.
С 1865 года Лев Мечников обосновался в Женеве. Анархист, член бакунинского Альянса социалистической демократии, помогал участникам Парижской коммуны в 1871 году, вел подготовку к Гаагскому конгрессу Интернационала в Испании и во Франции… И всегда сильно нуждался.
В 1874 году, как отмечают все — немногочисленные, впрочем, — биографы Льва Мечникова, удача улыбнулась ему чуть ли не в первый и последний раз: японское министерство народного просвещения приглашало профессоров в Токийский университет, чтобы поставить там преподавание науки на европейском уровне. Мечников получил предложение читать лекции по русскому языку и организовать в Токио русскую школу. За один год он освоил японский язык. Но в 1876 году из-за малокровия вынужден был покинуть Японию и возвратиться в Женеву. В 1883 году Невшательская академия наук предложила ему занять кафедру сравнительной географии и статистики. Лев Ильич возглавлял ее до самой смерти…
1884–1888 годы Мечников посвятил главному труду, который предполагал назвать «Цель жизни». В нем он задумал объяснить жизнь как феномен планеты Земля. Однако успел написать только первую часть — книгу La civilisation et les grands fleuves historiques («Цивилизация и великие исторические реки»). Она вышла на французском языке в 1889 году. Готовил работу к печати уже Элизе Реклю. Французский географ, историк и тоже анархист, член Парижского географического общества, Реклю в предисловии к этому труду отмечал:
Я знаю, что произведение Мечникова не принадлежит к числу тех, какие привлекают внимание широких кругов читающей публики; эта книга не будет иметь шумного успеха модного романа, но я сознаю, что эта книга откроет новую эру в истории науки.
Действительно, на русском языке она вышла только в 1899 году, и то с большими цензурными изъянами. А в полном виде была впервые опубликована только в 1924 году. Редактор того русского перевода Н. К. Лебедев неслучайно свою вступительную статью завершил словами: «Приходится лишь пожалеть, что автору не удалось выполнить целиком своего плана и осветить всю человеческую историю с точки зрения географа и анархиста».
А «человеческая история с точки зрения географа и анархиста» Льва Мечникова последовательно разделяется на эпоху речных цивилизаций, средиземноморскую и океаническую.
Мечников пишет:
Подобно тому как воды всякой великой реки в конце концов достигают моря, так и каждая речная цивилизация должна погибнуть или раствориться в каком-либо более широком культурном потоке или же развиться в более обширную морскую цивилизацию.
Но развитие морских цивилизаций на этом не останавливается. Постепенно международные коммуникации достигают такой степени насыщенности, что моря становятся тесны для них и человечество входит в период океанической цивилизации.
Однако широта охвата проблемы возникновения и развития цивилизаций не ограничивается в книге Мечникова только рассмотрением влияния рек. Вот как определял основную идею своего труда сам Лев Мечников:
Не придавая той доминирующей и исчерпывающей роли, которую ей приписывает [французский географ] Мужоль, мы тем не менее должны признать значительное влияние географической широты и климата вообще на развитие цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту годичных изотермических линий. Основываясь на этой карте, мы можем сказать, что самые значительные на земле города и селения сгруппированы между двумя крайними изотермическими линиями в +16° и +4°. Изотерма в +10° с достаточной точностью определяет центральную ось этого климатического и культурного пояса; на этой линии сгруппированы богатейшие и многолюднейшие города мира: Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Лондон, Вена, Одесса, Пекин.
К югу от изотермы в +16°, в виде исключения, рассеяно несколько городов с населением более чем в сто тысяч человек: Мексико (имеется в виду Мехико. — А. В.), Новый Орлеан, Каир, Александрия, Тегеран, Калькутта, Бомбей, Мадрас, Кантон. Северная граница или изотерма +4° имеет более абсолютный характер: к северу от нее нет значительных городов кроме Виннипега (в Канаде) и Тобольска и Иркутска (в Сибири). Наконец, на изотерме +0° расположены лишь очень небольшие поселения, как, например, Туруханск, Якутск, Верхоянск и другие места ссылки, куда русское царское правительство ссылает на медленную смерть своих политических противников.
Мы можем, конечно, сегодня снисходительно улыбнуться насчет «нескольких городов с населением более чем в сто тысяч человек (Мексико, Новый Орлеан, Каир, Александрия, Тегеран, Калькутта, Бомбей, Мадрас, Кантон)». Но в главном-то Лев Мечников, как выясняется, был абсолютно прав: «В жарком поясе, несмотря на роскошную флору и фауну, до сих пор также не возникло прочной цивилизации, которая занимала бы почетную страницу в летописях человечества».
Вся дальнейшая история науки только подтверждает правоту Льва Мечникова. В конце 2015 года американские ученые опубликовали в журнале Nature результаты очень любопытного экономико-географического исследования: идеальная среднегодовая температура для экономически успешного развития — 13 °C. Государства, где этот климатический показатель выше, то есть более жаркие страны, почти неизбежно показывают и худшие экономические результаты, они чуть ли не обречены на сниженную производительность труда. И число таких стран, климатических изгоев, будет из-за глобального потепления неуклонно расти.
Нормальная температура человеческого тела заключена в очень узком интервале: 36,6 ± 1°. Как оказывается, нормальная температура экономического тела общества тоже колеблется вокруг вполне определенной величины: 13 °C. А ведь именно об этом еще за 125 лет до американцев писал создатель первой русской геополитической системы Лев Мечников.
Шаг влево, шаг вправо в сторону от неких средних климатических параметров — и социально-экономическое развитие оказывается под вопросом. И можно только поражаться научной прозорливости Мечникова, когда он пишет:
…Изотермические линии действительно образуют границы той области, которую можно назвать ареной исторических цивилизаций. Эти границы, будучи не вполне определенными и постоянными, совпадают, однако, за весьма немногими исключениями, северная — с изотермой +4°, а южная — с изотермой +20° или +22°, не более…
30 июня 1888 года Лев Ильич Мечников скончался от эмфиземы легких в возрасте 50 лет в швейцарском городе Кларансе. Похоронен был на местном кладбище. Могила утрачена.
В мире как дома
Свет в окошке: краткая история лампочки. Павел Яблочков и Александр Лодыгин (Тим Скоренко)
Россия — родина многих сильных электротехников: в XIX веке это направление находилось в нашей стране на подъеме. Но, пожалуй, наиболее известны Павел Николаевич Яблочков (1847–1894) и Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923), два человека, в прямом смысле слова осветившие мир. О них и пойдет речь.
И Яблочков, и Лодыгин были «временными» эмигрантами. Они не собирались покидать родину навсегда и, достигнув успеха в Европе и Америке, вернулись обратно. Просто Россия во все времена «стопорила», как сегодня модно говорить, инновационные разработки, и порой проще было поехать во Францию или США и там «продвинуть» свое изобретение, а потом триумфально вернуться домой известным и востребованным специалистом. Это можно назвать «технической эмиграцией» — не из-за нищеты или нелюбви к родным разбитым дорогам, а именно с целью оттолкнуться от заграницы, чтобы заинтересовать собой и родину, и мир.
Судьбы этих двух талантливых людей очень похожи. Оба родились осенью 1847 года, служили в армии на инженерных должностях и почти одновременно уволились в близких чинах (Яблочков — поручика, Лодыгин — подпоручика). Оба в середине 1870-х сделали важнейшие изобретения в области освещения, развивали их в основном за границей, во Франции и США. Правда, позже их судьбы разошлись, о чем мы также поговорим в этой главе.
Итак, свечи и лампы.
Нити накаливания
Первым делом стоит заметить, что Александр Николаевич Лодыгин не изобрел лампу накаливания. Как не сделал этого и Томас Эдисон, которому Лодыгин в итоге продал ряд своих патентов. Формально пионером использования для освещения раскаленной спирали стоит считать шотландского изобретателя Джеймса Боумана Линдси. В 1835 году в городе Данди он провел публичную демонстрацию освещения пространства вокруг себя с помощью раскаленной проволоки. Он показывал, что такой свет позволяет читать книги без применения привычных свечей. Однако Линдси был человеком множества увлечений и светом больше не занимался — это был лишь один из череды его «фокусов».
А первую лампу со стеклянной колбой в 1838 году запатентовал бельгийский фотограф Марселлен Жобар. Именно он ввел ряд современных принципов лампы накаливания — откачал из колбы воздух, создав там вакуум, применил угольную нить и так далее. После Жобара было еще много электротехников, внесших свой вклад в развитие лампы накаливания, — Уоррен де ла Рю, Фредерик Маллинс (де Молейнс), Жан Эжен Робер-Уден, Джон Веллингтон Старр и другие. Робер-Уден, к слову, вообще был иллюзионистом, а не ученым — лампу он спроектировал и запатентовал в качестве одного из элементов своих технических трюков. Так что к появлению на «ламповой арене» Лодыгина все уже было готово.
Родился Александр Николаевич в Тамбовской губернии в семье знатной, но небогатой, поступил, как многие дворянские отпрыски того времени, в кадетский корпус (сперва в подготовительные классы в Тамбове, затем — в основное подразделение в Воронеже), служил в 71-м Белевском полку, учился в Московском юнкерском пехотном училище (ныне — Алексеевское), а в 1870-м ушел в отставку, потому что душа его к армии не лежала.
В училище он готовился по инженерной специальности, и это сыграло не последнюю роль в его увлечении электротехникой. После 1870-го Лодыгин плотно занялся работой над совершенствованием лампы накаливания, а заодно вольнослушателем посещал Петербургский университет. В 1872 году он подал заявку на изобретение под названием «Способ и аппараты электрического освещения» и двумя годами позже получил привилегию. Впоследствии он запатентовал свое изобретение в других странах.
Что же изобрел Лодыгин?
Лампочку накаливания с угольным стержнем. Вы скажете — так ведь еще Жобар использовал подобную систему! Да, безусловно. Но Лодыгин, во-первых, разработал намного более совершенную конфигурацию, а во-вторых, догадался, что вакуум — не идеальная среда и увеличить КПД и срок службы можно, наполнив колбу инертными газами, как делается в подобных лампах сегодня. Именно в этом был прорыв мирового значения.
Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°», был успешен, работал над множеством изобретений, в том числе, кстати, над водолазным оборудованием, но в 1884-м был вынужден покинуть Россию по политическим причинам. Да, из-за них уезжали во все времена. Дело было в том, что смерть Александра II от бомбы Гриневицкого привела к массовым облавам и репрессиям в среде сочувствующих революционерам. В основном это была творческая и техническая интеллигенция — то есть общество, в котором вращался Лодыгин. Уехал он не от обвинений в каких-либо противоправных действиях, а скорее от греха подальше.
До того он уже работал в Париже, а теперь перебрался в столицу Франции жить. Правда, созданная им за рубежом компания довольно быстро разорилась (бизнесменом Лодыгин был очень сомнительным), и в 1888 году он переехал в США, где устроился на работу в Westinghouse Electric («Вестингауз электрик»). Джордж Вестингауз привлекал к своим разработкам ведущих инженеров со всего мира, порой перекупая их у конкурентов.
В американских патентах Лодыгин закрепил за собой первенство в разработке ламп с нитями накаливания из молибдена, платины, иридия, вольфрама, осмия и палладия (не считая многочисленных изобретений в других сферах, в частности патента на новую систему электрических печей сопротивления). Вольфрамовые нити используются в лампочках и сегодня — по сути, Лодыгин в конце 1890-х придал лампе накаливания окончательный вид. Триумф ламп Лодыгина пришелся на 1893 год, когда компания Вестингауза выиграла тендер на электрификацию Всемирной выставки в Чикаго. По иронии судьбы позже, перед отъездом на родину, патенты, полученные в США, Лодыгин продал вовсе не Вестингаузу, а General Electric Томаса Эдисона.
В 1895 году он снова переехал в Париж и там женился на Алме Шмидт, дочери немецкого эмигранта, с которой познакомился в Питтсбурге. А еще спустя 12 лет Лодыгин с женой и двумя дочерьми вернулся в Россию — всемирно известным изобретателем и электротехником. У него не было проблем ни с работой (он преподавал в Электротехническом институте, ныне СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), ни с продвижением своих идей. Он занимался общественно-политической деятельностью, работал над электрификацией железных дорог, а в 1917-м с приходом новой власти снова уехал в США, где его приняли весьма радушно.
Пожалуй, Лодыгин — это настоящий человек мира. Живя и работая в России, Франции и США, он везде добивался своего, везде получал патенты и внедрял свои разработки в жизнь. Когда в 1923 году он умер в Бруклине, об этом написали даже газеты РСФСР.
Именно Лодыгина можно назвать изобретателем современной лампочки в большей мере, нежели любого из его исторических конкурентов. Но вот основоположником уличного освещения был вовсе не он, а другой великий русский электротехник — Павел Яблочков, не веривший в перспективы ламп накаливания. Он шел своим путем.
Свеча без огня
Как отмечалось выше, жизненные пути у двух изобретателей были сперва схожи. По сути, можно просто скопировать часть биографии Лодыгина в этот подраздел, заменив имена и названия учебных заведений. Павел Николаевич Яблочков тоже родился в семье мелкопоместного дворянина, учился в Саратовской мужской гимназии, затем — в Николаевском инженерном училище, откуда вышел в чине инженера-подпоручика и отправился служить в 5-й саперный батальон Киевской крепости. Служил он, правда, недолго и менее чем через год вышел в отставку по здоровью. Другое дело, что на гражданском поприще толковой работы не нашлось, и еще через два года, в 1869-м, Яблочков вернулся в армейские ряды и для повышения квалификации был откомандирован в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте (ныне — Офицерская электротехническая школа). Именно там он всерьез заинтересовался электротехникой — заведение готовило военных специалистов для всех связанных с электричеством работ в армии: телеграфа, систем подрыва мин и так далее.
В 1872 году 25-летний Яблочков окончательно ушел в отставку и начал работу над собственным проектом. Он справедливо считал лампы накаливания бесперспективными: действительно, на тот момент они были тусклыми, энергозатратными и не слишком долговечными. Куда больше Яблочкова интересовала технология дуговых ламп, которую в самом начале XIX века независимо друг от друга стали разрабатывать двое ученых — русский Василий Петров и англичанин Гемфри Дэви. Оба они в одном и том же 1802 году (хотя относительно даты «презентации» Дэви есть разночтения) представили перед высшими научными организациями своих стран — Королевским институтом и Петербургской академией наук — эффект свечения дуги, проходящей между двух электродов. На тот момент практического применения этому явлению не было, но уже в 1830-х начали появляться первые дуговые лампы с угольным электродом. Наиболее известным инженером, разрабатывавшим такие системы, был англичанин Уильям Эдвардс Стейт, получивший ряд патентов на угольные лампы в 1834–1836 годах и, что главное, разработавший важнейший узел подобного устройства — регулятор расстояния между электродами. В этом крылась основная проблема угольной лампы: по мере того как электроды выгорали, расстояние между ними увеличивалось, и их нужно было сдвигать, чтобы дуга не погасла. Патенты Стейта использовались как базовые множеством электротехников по всему миру, а его лампы освещали ряд павильонов на Всемирной выставке 1851 года.
Яблочков же задался целью исправить основной недостаток дуговой лампы — необходимость обслуживания. Около каждой лампы должен был постоянно присутствовать человек, подкручивающий регулятор. Это сводило на нет преимущества и яркого света, и относительной дешевизны изготовления.
В 1875 году Яблочков, так и не найдя применения своим умениям в России, уехал в Париж, где устроился инженером в лабораторию знаменитого физика Луи-Франсуа Бреге (его дед основал часовую марку Breguet) и сдружился с его сыном Антуаном. Там в 1876 году Яблочков получил первый патент на дуговую лампу без регулятора. Суть изобретения состояла в том, что длинные электроды располагались не концами друг к другу, а рядом, параллельно. Они были разделены слоем каолина — материала инертного и не позволяющего дуге возникнуть по всей длине электродов. Дуга появлялась только на их концах. По мере выгорания видимой части электродов каолин плавился и свет спускался вниз по электродам. Горела такая лампа не более двух-трех часов — но зато невероятно ярко.
«Свечи Яблочкова», как прозвали новинку журналисты, снискали сумасшедший успех. После демонстрации ламп на лондонской выставке сразу несколько компаний выкупили у Яблочкова патент и организовали массовое производство. В 1877 году первые «свечи» загорелись на улицах Лос-Анджелеса (американцы купили партию сразу после публичных демонстраций в Лондоне, еще до серийного производства). 30 мая 1878 года первые «свечи» зажглись в Париже — около Оперы и на площади Звезды. Впоследствии лампы Яблочкова освещали улицы Лондона и ряда американских городов.
Как же так, спросите вы, они же горели всего два часа! Да, но это было сравнимо со временем «работы» обычной свечи, и при этом дуговые лампы были невероятно яркими и более надежными. И да, фонарщиков требовалось много — однако не больше, чем для обслуживания повсеместно использовавшихся газовых фонарей.
Но подступали лампы накаливания: в 1879 году британец Джозеф Суон (впоследствии его компания сольется с компанией Эдисона и станет крупнейшим осветительным конгломератом в мире) поставил около своего дома первый в истории фонарь уличного освещения с лампой накаливания. За считаные годы эдисоновские лампы сравнялись по яркости со «свечами Яблочкова», имея при том значительно более низкую стоимость и время работы 1000 часов и более. Короткая эпоха дуговых ламп завершилась.
В целом это было логично: безумный, невероятный взлет «русского света», как называли «свечи Яблочкова» в США и Европе, не мог продолжаться долго. Падение стало еще более стремительным — уже к середине 1880-х годов не осталось ни одного завода, который производил бы «свечи». Впрочем, Яблочков работал над различными электросистемами и пытался поддерживать свою былую славу, ездил на конгрессы электротехников, выступал с лекциями, в том числе в России.
Окончательно он вернулся в 1892 году, причем потратив сбережения на выкуп собственных же патентов у европейских правообладателей. В Европе его идеи уже были никому не нужны, а на родине он надеялся найти поддержку и интерес. Но не сложилось: к тому времени из-за многолетних экспериментов с вредными веществами, в частности с хлором, здоровье Павла Николаевича начало стремительно ухудшаться. Подводило сердце, подводили легкие, он перенес два инсульта и скончался 19 (31) марта 1894 года в Саратове, где жил последний год, разрабатывая схему электрического освещения города. Ему было 47 лет.
Возможно, если бы Яблочков дожил до революции, он повторил бы судьбу Лодыгина и уехал бы во второй раз — теперь уже навсегда.
Сегодня дуговые лампы получили новую жизнь — по этому принципу работает ксеноновое освещение во вспышках, автомобильных фарах, прожекторах. Но значительно более важным достижением Яблочкова является то, что он первым доказал: электрическое освещение общественных пространств и даже целых городов — возможно.
В мире как дома
Ковалевские и мир вокруг них (Сергей Ястребов)
Александр Онуфриевич (1840–1901) и Владимир Онуфриевич (1842–1883) Ковалевские были яркими фигурами одного из самых динамичных периодов развития биологии — второй половины XIX века, когда эта наука получила, если можно так выразиться, дарвиновский импульс. В отличие от многих других героев книги, их никак нельзя считать эмигрантами: даже живя за границей, они всегда сохраняли связь с Россией и возможность туда вернуться. Расцвет их деятельности приходится на те десятилетия, когда русская наука после долгого периода ученичества, во время которого поток информации был направлен в основном с Запада в Россию, наконец-то «созрела» и стала полноценной, конкурентоспособной частью европейской науки. Достижения Ковалевских демонстрируют это как нельзя лучше. Более того, вокруг братьев Ковалевских как-то сама собой сложилась целая интеллектуальная среда — и очень продуктивная. В чем был их секрет? Да ни в чем, кроме неутомимой работы на благо познания мира.
Истоки
Братья Ковалевские принадлежали к известному западно-русскому дворянскому роду. Оба получили прекрасное домашнее образование, оба были совсем еще юными пристроены в престижные места: Александр — в Корпус инженеров путей сообщения (где учили перспективной и востребованной «высокой технологии» — строительству железных дорог), а Владимир — в Императорское училище правоведения (привилегированное учебное заведение, рассчитанное на подготовку юристов высшей квалификации, будущих государственных деятелей). По характеру, однако, братья оказались совершенно разными людьми. Старший, Александр, уже в 18 лет решительно оставил инженерное дело ради естественных наук, поступил в Петербургский университет, потом уехал учиться в Гейдельберг, затем в Тюбинген, откуда вернулся в Петербург, чтобы получить экстерном диплом. На первых курсах увлекся было химией, но вскоре переключился на биологию и от этого выбора не отклонялся уже никогда. Оставшиеся 40 лет своей жизни (1861–1901) он целиком посвятил работе исследователя-биолога. Преподавать не любил (хотя, если приходилось, вел занятия отлично), популяризацию науки по преимуществу игнорировал, от административных дел, когда они накапливались в больших дозах, и вовсе заболевал. Зато на исследования не жалел сил. Блестящий пример гармоничного человека, который, раз и навсегда «найдя себя», десятилетие за десятилетием ровно, спокойно, неутомимо занимался любимым делом.
Под стать сложилась и личная жизнь. Александр Ковалевский женился в 27 лет на Татьяне Семеновой — девушке, не блиставшей образованием (она окончила всего лишь курсы сестер милосердия), но полностью разделявшей его идеалы. Это было едва ли не первое в его жизни любовное увлечение, и оно сразу привело к счастливому браку, разрушить который смогла только смерть. Правда, надо заметить, что жизнь в этом браке иной раз требовала от жены усилий — дочь Ковалевских писала о людях, подобных своему отцу: «В большинстве случае сами эти ученые были совершенно беспомощны в практической жизни, и только преданность и забота жен позволяли им безмятежно работать в области науки». В любом случае, судя по всем воспоминаниям, атмосфера в этой семье была на редкость теплой и бесконфликтной.
Жизненный путь младшего брата, Владимира, напротив, складывался непросто, что особенно заметно в сравнении с Александром. Владимир Ковалевский доучился до конца в Училище правоведения и вначале честно пытался стать юристом, потом короткое время учился медицине, а потом серьезно занялся просветительским книгоизданием — делом, имевшим тогда еще большее значение для общества, чем сейчас. При его участии вышло несколько десятков научных или научно-популярных книг, включая труды Агассиса, Лайеля, Гексли и Дарвина; с последним Владимир еще и лично познакомился, когда готовил к печати его «Происхождение видов». Со всем этим у него сочеталась общественная активность — и какая! Одно время он дружил с Николаем Ножиным, участником заговора Каракозова — первой попытки убийства Александра II. Во время польского восстания 1863 года он тайно ездил в Польшу, чтобы помочь своему раненому другу Павлу Якоби (который по идейным причинам сражался против России на стороне Польши и пытался организовать там русский легион). Участвовал он также в качестве военного корреспондента в походе армии Гарибальди, воевавшего тогда с австрийцами. В иных биографиях его без затей называют революционером; он и в самом деле годами вращался в революционных кругах, только чудом избегая серьезных проблем, пока не схлопотал на ровном месте лично от Герцена обвинение в работе на охранку: «В подполье не жаловали людей, которым слишком везет…» Без сомнений, это обвинение было чистым вздором, но от революционной деятельности оно Владимира отвратило — прямо скажем, к счастью.
Авантюрой посерьезнее похода Гарибальди стала женитьба на прогрессивной девице Софье Корвин-Круковской, ныне известной всем как Софья Васильевна Ковалевская (1850–1891). Молодые люди договорились о том, что брак будет фиктивным: Софья мечтала получить высшее образование, что в те времена представляло большую сложность для девушки и для чего первым делом требовалось обрести формальную независимость от родителей. Фиктивный брак был популярным у тогдашних девушек-нигилисток решением этой проблемы. Не особенно удивительно, что в данном случае он со временем превратился в реальный. Между прочим, эмансипированных подруг Софьи это глубоко возмутило: верные нигилистической морали, они выступали против браков по любви (тут невозможно не вспомнить Сомерсета Моэма: «Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение — условность, принятая в компании ваших приятелей»). По этой и другим причинам жизнь супругов оказалась нелегкой. Творческие личности рвались в разные стороны, иногда вовсе разъезжаясь (Владимир — в Париж, в Музей естественной истории, а Софья — в Берлин, к великому Вейерштрассу). А уж когда у них родилась дочь, все стало еще сложнее.
Софья Ковалевская: от короля Матиуша до эллиптических функций
Тут надо сказать несколько слов о самой Софье. Как и Владимир, она происходила из западнорусского дворянства. Считалось, что родоначальником Корвин-Круковских был Матвей (или Матиуш, или Матьяш) Корвин — великий венгерский король, правивший во второй половине XV века. Это типичная семейная легенда, но, надо признать, красивая. Матвей Корвин был одним из самых просвещенных людей своего времени, прославленным покровителем культуры. Британский историк Норман Дэвис в своей великолепной «Истории Европы»[1] именно его называет образцовым государем эпохи Возрождения. Неудивительно, что Софья объясняла свою страсть к науке происхождением от этого короля (хотя и неизвестно, насколько всерьез она так думала).
Софья оказалась поразительно целеустремленным человеком. Карла Вейерштрасса, крупнейшего специалиста по математическому анализу, она выбрала себе в учителя совершенно сознательно, задолго до знакомства с ним. Когда это знакомство состоялось, Вейерштрассу было 54 года, он был знаменитым профессором и членом нескольких академий, учеников брать не стремился да и к женскому образованию относился скептически. Девятнадцатилетняя Софья взяла его штурмом. Вейерштрасс согласился дать ей на пробу несколько задач, а уж блестяще решить их было делом техники. В результате Вейерштрасс стал ее научным руководителем (и личным другом на всю жизнь). Уже через четыре года Софья получила в Гёттингенском университете ученую степень по совокупности работ — за три исследования: по дифференциальным уравнениям в частных производных, по динамике колец Сатурна и по эллиптическим интегралам. Результат первого из этих исследований по сей день известен как теорема Коши — Ковалевской и входит под этим названием в учебники как важная часть общей теории дифференциальных уравнений.
После нескольких лет затишья в творческой карьере Софьи последовал новый взлет — к сожалению, обусловленный тем, что она к тому времени окончательно оставила своего мужа. Последний и, по всей видимости, самый счастливый период ее жизни связан со Стокгольмским университетом. Там Софья стала сначала приват-доцентом, потом экстраординарным профессором, а потом и ординарным, в итоге создав этому молодому университету настоящую славу. Необходимость освоить шведский язык до такой степени, чтобы читать на нем лекции, не помешала ей принять это место — в творческих делах Софью вообще мало что останавливало. Ее самая известная работа стокгольмского периода относится к исследованию уравнений движения твердого тела с одной неподвижной точкой: Софье удалось найти аналитическое решение системы этих уравнений, проинтегрировав их с помощью уже знакомых ей эллиптических функций. Кроме того, к стокгольмскому периоду относится взаимная любовь Софьи с дальним родственником — социологом Максимом Ковалевским, о котором мы тут еще упомянем. Правда, выйти за него замуж Софья то ли не решилась, то ли не успела. В возрасте 41 года она внезапно умерла от воспаления легких, осложнившегося сердечной болезнью.
Софья Ковалевская неплохо вписалась в культурную элиту своего времени. Например, бывая в Лондоне, она посещала салон известной писательницы Мэри Эванс (писавшей под псевдонимом Джордж Элиот), где ей доводилось дискутировать со знаменитым философом Гербертом Спенсером. В известном романе Джордж Элиот «Миддлмарч» есть фраза, несомненно навеянная знакомством с Софьей Ковалевской: «Короче говоря, женщина — это загадка, которая, раз уж перед ней пасовал ум мистера Брука, по сложности не уступала вращению неправильного твердого тела».
Двойной портрет
Увы, приходится признать, что попытка совместить творческую активность и семейную жизнь не оказалась удачной ни для Софьи, ни для Владимира Ковалевских. Последний в результате рано оборвал свои научные занятия, окунувшись, как мы сказали бы сейчас, в бизнес-проекты. Лучше бы он этого не делал! Предприятия, в которых он принимал участие, неуклонно проваливались. Последнее из них, связанное с химической промышленностью, рухнуло со скандалом и оставило финансовую ситуацию, грозившую участникам судом (хотя, возможно, страхи на этот счет были преувеличены слишком живым воображением). Так или иначе жизнь в постоянном напряжении вызвала серьезное нервное расстройство, которое, в свою очередь, привело к смертоносному для творческого человека кризису. Владимир в отчаянии писал брату, что ему отказывает память; он больше не мог как следует готовить лекции, которые еще пытался читать в Московском университете. В 40 лет он покончил с собой.
Братьев Ковалевских легко сравнить. Научная карьера Александра, несмотря на свойственную этому ученому любовь к перемене мест, была блистательной. В 27 лет он стал профессором и был им сперва в Казани, потом в Киеве, потом довольно долгое время в Одессе (где его очень любили студенты) и, наконец, в Петербурге. В 49 лет получил звание академика. Он достиг всего, чего только мог достичь русский ученый, — разве что Нобелевской премии не получил (впрочем, к моменту его безвременной смерти в 1901 году ее только-только успели учредить).
А вот научная карьера Владимира была откровенно неудачной. Ее вершиной стала защита в Германии, в прославленном Йенском университете, диссертации доктора философии, то есть аналога нашей кандидатской. Уже после этого в России интриганы, задетые отрицательным отзывом на одну местную диссертацию, устроили ему провал на необходимом для подтверждения ученой степени магистерском экзамене (для сравнения: это как если бы Эйнштейна, уже опубликовавшего специальную теорию относительности, преднамеренно завалили на кандидатском экзамене по физике). И хотя степень Владимиру, конечно, в конце концов зачли, радости и уверенности в себе ему эта история не добавила. В Московском университете он числился доцентом, но лекции читал нерегулярно и не блестяще. А докторскую диссертацию вообще не смог закончить.
И при всем этом великими учеными были они оба.
Специальностью Александра Ковалевского была эмбриология. Он изучал развитие самых разных живых существ, но больше всего — морских беспозвоночных, среди которых много идеальных в этом отношении модельных объектов. Он был великолепным знатоком морской фауны (спустя много лет студенты вспоминали, как захватывающе интересно было ходить с ним по берегу моря). Он описывал животных из множества групп — стрекающих, гребневиков, кольчатых червей, мшанок, форонид, брахиопод, моллюсков, членистоногих, иглокожих, полухордовых, хордовых; причем само установление типа хордовых было прямым следствием открытий, сделанных Ковалевским при изучении развития ланцетников и асцидий. Известный зоолог Валентин Александрович Догель (1882–1955) перечислил четыре главных достижения Ковалевского: 1) выяснение природы асцидий (которые были невесть кем, а оказались близкими родственниками позвоночных); 2) обнаружение эмбриологических доказательств единства всего животного мира (с выделением стадий, которые сейчас называются бластулой и гаструлой); 3) установление разных типов полостей тела животных; 4) эмбриологически обоснованная гипотеза о близком родстве иглокожих, полухордовых и хордовых, которая полностью подтверждается современной наукой.
Даже одно из этих открытий (любое) наверняка обеспечило бы Александру Ковалевскому упоминание в учебниках. Но если ранжировать их по значению, вне конкуренции, безусловно, окажется одно — то, что Догель назвал эмбриологическими доказательствами единства животного мира. В первой половине XIX века биологи полагали, что все существующие способы развития животных распадаются на несколько абсолютно дискретных типов, не связанных никакими переходными состояниями. Это было мнение крупнейших научных авторитетов вроде Жоржа Кювье и Карла Бэра, и — как легко догадаться — с дарвиновской идеей происхождения всех животных от общего предка оно было несовместимо. Сторонники единства плана строения животных имелись, но были в меньшинстве. До поры до времени все их попытки защитить свое мнение заканчивались провалом. Именно в этом был смысл грандиозной дискуссии между Жоржем Кювье и Этьеном Жоффруа Сент-Илером (1830). В той дискуссии победил Кювье, но прав-то был Сент-Илер; он не сумел обосновать свою правоту, потому что полноценной сравнительной эмбриологии — единственной науки, способной добыть нужные ему факты, — на тот момент еще просто не существовало. А когда она возникла, именно Александр Ковалевский оказался человеком, по сути решившим эту проблему. Например, он четко показал, что раннее развитие ланцетника, который тогда считался позвоночным, больше всего напоминает соответствующие стадии развития беспозвоночных вроде морских звезд, а вовсе не рыб или птиц. Значит, переходные формы есть! Ковалевский собрал достаточно много подобных фактов, чтобы продемонстрировать: наличие переходных форм — не частный случай, а всеобщий закон. Единый набор элементов раннего развития (общий, как мы сейчас знаем, для всех без исключения типов животных) со всей наглядностью предстает во множестве тщательно выполненных им описаний. Эти описания послужили фундаментом для многих важных обобщений, популярных до сих пор, вроде теории гастреи, которую придумал йенский профессор Эрнст Геккель.
Специальностью Владимира Ковалевского была палеонтология. Главные его работы посвящены копытным: он прослеживал по палеонтологической летописи эволюционный ряд, который заканчивается современными лошадьми. Его немногочисленные монографии невероятно емки: они заполнены описаниями, промерами, рисунками, которые относятся к мельчайшим подробностям устройства скелета и из совокупности которых проступает с предельной наглядностью картина развития, в течение миллионов лет превращающего одних живых существ в совсем других. Однако значение этих работ, конечно же, не сводится к простой демонстрации запечатленных в палеонтологической летописи эволюционных переходов (тем более что в реальности таких переходов серьезные биологи к тому времени уже и не сомневались). Эволюция бесконечно богата историческими событиями. Эволюционные изменения имеют направления, скорости, причины; есть у них и собственные законы, и все это можно изучить, если знать как.
Владимир Ковалевский справедливо считал, что палеонтология млекопитающих представляет в этом плане очень благодарный материал. Основываясь на собственноручно собранных данных, он в итоге создал теорию того, что в привычных нам терминах следовало бы назвать макроэволюционными стратегиями. Группы организмов, параллельно эволюционирующие в сходном направлении (очень частая ситуация), могут придерживаться как минимум двух разных стратегий. Одна из них — инадаптивная специализация, или попросту инадаптивная эволюция, — способна привести к быстрому успеху за счет оптимизации какого-то одного признака, но обычно заканчивается вымиранием, когда другие признаки (коррелятивно связанные с исходным) начинают тормозить дальнейшее совершенствование всей системы. Это односторонняя специализация, дающая быстрый взлет и столь же быстрое последующее падение (и Ковалевский демонстрирует такие примеры, показывая, каким именно образом одни признаки заблокировали изменение других). Альтернатива такому способу эволюции состоит в том, чтобы оптимизировать множество признаков в комплексе, сохраняя их баланс между собой. Тогда эволюционный успех достигается гораздо медленнее, зато длится долго. Этот второй случай современный палеонтолог Александр Павлович Расницын предложил назвать эвадаптивной эволюцией. Отложенный расцвет — характерная судьба эвадаптивной группы.
Открывший все это Владимир Ковалевский не принадлежал ни к какой научной школе, вернее он был сам себе школой. Палеонтологию изучил автодидактом, не столько слушая лекции, сколько штудируя литературу, консультируясь с крупными специалистами (которые обычно были ему рады) и работая самостоятельно с образцами в музеях. При этом почти вся его деятельность как палеонтолога, от начала вхождения в эту специальность до вынужденной остановки исследовательской работы, уложилась не более чем в пять лет (1869–1874). Его работа по лошадям была первой из большой задуманной серии, так и не написанной. Надо учитывать, что Ковалевский (как, кстати, и его кумир Дарвин) ни в малейшей мере не был натурфилософом; все его рассуждения, вплоть до самых общих, целиком основаны на точных фактах. Любой специалист может пройти вместе с Ковалевским по всей цепочке от анатомических описаний до фундаментальных выводов и убедиться, что там не пропущено ни одной мелочи, ни одной детали, ни одного логического звена. Это — работа гения.
Братья по оружию
При всем несходстве жизненных обстоятельств братьев Ковалевских общего между ними все-таки больше, чем различий. Чтобы понять это, следует начать с того, что оба они сложились как личности в общественной атмосфере первых лет царствования Александра II. Атмосферу эту прекрасно охарактеризовал историк Александр Немировский:
Император Николай всю жизнь неустанно и ответственно (действительно неустанно и ответственно) заботился, прежде всего, о двух вещах: о российских вооруженных силах и о борьбе с революцией, особенно с распространением революционных настроений в образованных среднебогатых и небогатых слоях разных сословий и в народе. В обеих областях он достиг исключительных, беспрецедентных для России результатов: вооруженные силы впервые за полтора века сильнейшим образом отстали от европейских стран и стали регулярно проигрывать им полевые сражения, а образованные среднебогатые и небогатые слои оказались революционизированны на добрые две трети… Если бы один студент сказал в 1855 году другому произвольно выбранному студенту, высказавшему пожелание социалистической революции: «Да что же это такое — против своего же государя?!», то второй студент с высочайшей вероятностью вообще не понял бы, о чем это он, что тут вообще такого — что против своего же государя, и все, что он в ответ на это подумал бы, — это простое: «А ты, брат, видать, подлец!»
Напомним, что 1855-й — это год смерти Николая I. Александру Ковалевскому в этом году исполнилось 15 лет, Владимиру Ковалевскому — 13. Их юность прошла среди радикально настроенной, склонной к прогрессизму и нигилизму, разнородной по качеству образования интеллигенции эпохи начала правления Александра II, а иначе и быть не могло, потому что никакой другой подходящей для них среды в тогдашней России просто-напросто не существовало. Оба читали революционных демократов (а кое с кем из них и общались лично), оба были поклонниками призывавшего к революции Чернышевского, который в пору их юности стал, как он сам выражался, «властителем дум молодежи». И конечно, оба мечтали служить обществу. Отличительной чертой братьев было то, что они, в отличие от многих и многих своих сверстников, выбрали в качестве основного способа такого «служения» чистое научное познание мира (или содействие такому познанию — как при издании книг, которым одно время активно занимался Владимир). Вот в этом они, при всем несходстве их темпераментов, оказались совершенно одинаковы.
Между братьями есть и другие общие черты. Александр и Владимир работали в разных областях биологии, которые тогда (в отличие от нашего времени) между собой практически не пересекались. Тем не менее они были едины в убеждении, что знаменитые слова Кювье («Называть, описывать и классифицировать — вот основание и цель науки»)после 1859 года устарели начисто. И Александр, и Владимир считали, что задача науки — не каталогизация мира, а его объяснение. Во всех данных, с которыми приходилось сталкиваться, они первым делом искали биологический смысл (в том же самом понимании, в каком грамотный физик ищет физический смысл в неожиданных результатах эксперимента или запутанном уравнении). А вот описание новых видов само по себе их мало интересовало. (Характерно, кстати, что, когда Александр Ковалевский все-таки открыл в Красном море удивительного ползающего гребневика, он дал ему название Coeloplana metschnikowii — в честь своего друга и коллеги Ильи Ильича Мечникова, который не имел к этому открытию никакого отношения, но которого Александр решил, пользуясь случаем, увековечить.)
Еще одной особенностью обоих братьев была склонность постоянно путешествовать в поисках новых знаний. Александр Ковалевский буквально не мог жить без моря, хотя вырос он в Витебской губернии. Он прекрасно знал фауну беспозвоночных Средиземного, Черного и Красного морей (в меньшей степени — Северного). Список мест, где он вел полевые исследования, впечатляет: Неаполь, Триест, Мессина, Александрия, Суэц, Алжир, Марсель, Кальяри, Виллафранка, Севастополь, Принцевы острова… Что касается Владимира Ковалевского, то он не успел толком заняться полевой работой, зато объездил множество европейских музеев и университетов, где исследовал собранный другими палеонтологами ископаемый материал. Он успел поработать в Мюнхене, Вюрцбурге, Лондоне, Берлине, Париже, Йене, Бонне, Берне, Лозанне, Лионе и Турине (не считая Москвы, где материала тогда было мало). Значительная часть его работы по копытным была сделана в Париже непосредственно в те месяцы, когда там правила Парижская коммуна и шла гражданская война, — характерный для Владимира Ковалевского мелкий факт.
Вместе с тем ни Александра, ни Владимира Ковалевских ни в коем случае нельзя считать какими-то скитальцами, лишенными постоянного пристанища. Александр Ковалевский последние 26 лет своей жизни непрерывно служил профессором в России (сначала в Одессе, потом в Петербурге), и это было не случайное или вынужденное обстоятельство, а именно то, к чему он в жизни и стремился. Владимиру Ковалевскому меньше повезло с академической карьерой, но устремления у него были те же, и жизнь он закончил доцентом Московского университета. В общем, Ковалевские были совершенно нормальными русскими учеными — просто привыкшими свободно перемещаться по миру.
Безусловно, они во всех отношениях были людьми своего века. «Время — кожа, а не платье. Глубока его печать»[2]. Надо сказать, что образ жизни, который они вели, в общем-то только и был возможен в XIX веке (точнее, между 1815 и 1914 годами). В разделенном строго охраняемыми границами, накрытом паспортными режимами мире XX века такая форма жизни, как Ковалевские, существовать не могла бы. Не говоря уж о «железном занавесе» — рядом с этим жутким понятием само упоминание фамилии Ковалевских кажется нелепостью.
И конечно же, основой всего мировоззрения Александра и Владимира Ковалевских было представление об эволюции. Это вообще характерно для мыслителей второй половины XIX века, когда эволюционной стала вся картина мира. Например, в социальных науках эволюционную идею, по совпадению, разрабатывал еще один представитель огромного дворянского рода Ковалевских — младший современник Александра и Владимира, упоминавшийся выше Максим Максимович Ковалевский (1851–1916), известный юрист, историк и социолог (кстати, тоже проведший значительную часть жизни в Западной Европе). Он не впадал в крайности, связанные с уподоблением общества живому организму, но тем не менее считал эволюцию общества вполне реальным предметом исследований, а заодно и процессом, в котором все мы волей-неволей принимаем участие. С точки зрения Максима Ковалевского, эволюционный прогресс общества при прочих равных достигается тем надежнее, чем медленнее те изменения, которые к нему приводят. Эволюция предпочтительнее революции. Все это заметно перекликается с теорией эволюционных стратегий, которую начал разрабатывать Владимир Ковалевский, и, возможно, таит в себе объективно существующие схожие закономерности.
Максим Ковалевский тоже стремился поставить свои знания на службу обществу; он был одним из лидеров партии прогрессистов, располагавшейся в политическом спектре «левее октябристов, но правее кадетов». Умер он в 1916 году, за 11 месяцев до Февральской революции, последствия которой были бы катастрофическими для его идеалов. Одним из его учеников был знаменитый Питирим Сорокин.
Верный ученик
Александр и Владимир Ковалевские не оставили после себя научных школ. У Владимира, этого трагического гения, который сгорел, как сверхновая, никаких учеников вообще не было. Но и Александр, много лет состоявший ординарным профессором, не был склонен ни к активному учительству, ни к коллективной работе. Лишь в конце жизни у него появился ученик в полном смысле, взявший от учителя все что можно и сам впоследствии ставший крупным ученым. Звали его Константин Давыдов. О нем сейчас и стоит поговорить — тем более что уж он-то точно был ярким представителем русской научной диаспоры.
Константин Николаевич Давыдов родился в 1877 году, то есть в конце царствования Александра II. Соответственно, юность его пришлась на время Александра III, когда общественная жизнь в России была приглушена, а вот наукой заниматься никто особенно не мешал. Его отец, Николай Константинович, был математиком, окончил Петербургский технологический институт, в молодости отсидел год в Петропавловской крепости за связь с народовольцами, а в то время, когда Константин учился в гимназии, преподавал математику в Псковском кадетском корпусе. Происходил он из известного дворянского рода, но гордился не фактом дворянства, а близким родством с Денисом Давыдовым, легендарным генералом и поэтом. Семья, однако, была бедной. Отец говорил Константину: «Ты знаешь, нужно при ходьбе не стирать подошвы, а то детей у нас много, а денег мало». Это были времена, когда разница между сословиями в России постепенно теряла свое значение, важнее становились другие факторы.
В 18 лет Константин поступил в Петербургский университет — естественный выбор для выпускника Псковской гимназии. Что касается зоологии, то выбор ее как специальности, вероятно, определили два момента: детское увлечение животными, начавшееся с охоты (отец брал Константина с собой на охоту еще с восьми лет), но быстро перешедшее в интерес к живой природе в целом, и полная неспособность к математике (по этому поводу отец ворчал: «Знаешь, у меня в корпусе триста идиотов, но такого, как ты, — ни одного!»). В результате Константин попал в хорошую среду: к 1890-м годам зоология в Петербурге была очень сильной. В университете, например, читал лекции великолепный зоолог Владимир Михайлович Шимкевич, в ту пору молодой и очень энергичный. Давыдов слушал Шимкевича (и, безусловно, кое-чему от него научился), но его профессиональную судьбу определила другая встреча. Будучи первокурсником, на заседании Петербургского общества естествоиспытателей он познакомился с Александром Ковалевским (тогда уже академиком). Ковалевский очень хорошо отнесся к Давыдову и тут же пригласил его работать в свою лабораторию. Вот он-то и стал для Давыдова учителем в самом полном смысле. К сожалению, Ковалевский относительно рано умер — всего-то в 61 год, от инсульта, внезапно. Но как следует поработать с ним и многое перенять Давыдов успел.
Именно Давыдов сделал то, на что не хватило времени у самого Ковалевского: выпустил первую русскую сводку по эмбриологии беспозвоночных. На книге указан 1914 год издания, но в продаже она появилась в конце 1913-го — последнего года мирной жизни.
Работа самого Давыдова, впрочем, поначалу не была нарушена войной. В 1915 году он защитил диссертацию по эмбриологии морских червей немертин, а в 1918-м стал профессором в только что организованном Пермском университете. Этот университет создавался как филиал Петербургского, и преподавателей туда поначалу приглашали именно из Петербурга (вернее, из Петрограда). Неудивительно, что Давыдов, тогда относительно молодой ученый, успевший зарекомендовать себя как блестящий лектор, вошел в их число. Но пробыл он в Перми недолго. В университет не удалось доставить лабораторное оборудование — Давыдов получил в свое распоряжение буквально пустую комнату, где невозможно было вести ни микроскопические исследования, ни практикумы для студентов. А без серьезной работы Давыдов просто не мог жить. И, почитав несколько месяцев лекции в Перми, он вернулся в Петроград.
Давыдова прекрасно характеризует тот факт, что в полупустом, голодном Петрограде 1919 года он (вместе с группой других ученых) взялся организовать большую русскую научную экспедицию в Южную Америку. Прямо-таки инженер Лось из романа Алексея Толстого «Аэлита», готовящий среди петроградской разрухи полет на Марс! Проект этот, однако, ничем не кончился.
В декабре 1922 года Давыдов отправился в командировку в Финляндию и Германию «в целях ознакомления с работами, сделанными за границей в последние годы». Надо отметить, что это ни в коей мере не было надуманным предлогом: войны (Первая мировая и особенно Гражданская) надолго прервали международные связи, и сведения о происходящем в зарубежной науке были в тот момент нужны русским ученым как хлеб насущный. Тут, однако, вмешался личный момент. Давыдов, которому было уже почти 45 лет, задумал жениться, и бытовые проблемы, раньше мало его волновавшие, теперь стали беспокоить гораздо сильнее. По словам биографа, «сложные личные обстоятельства, мешавшие Давыдову жениться на любимой девушке, привели его к мысли, что единственным возможным выходом будет отъезд вместе с нею за границу». Так оно и вышло. Из Германии Давыдов вскоре перебрался в Париж, где работал в Пастеровском институте его друг, физиолог и иммунолог Сергей Иванович Метальников (в Пастеровском институте вообще работало довольно много русских ученых). Туда же ему удалось вызвать и жену. Первые два года Константин Николаевич, как считалось, был в командировке, но, когда вышел срок, возвращаться в Россию он не стал.
Давыдовы поселились во Франции. Первое время жили бедно, но постепенно положение выправилось. «Пропуском» в здешнюю науку для Константина Николаевича стало издание на французском языке расширенной версии его «Руководства по сравнительной анатомии беспозвоночных»: видимо, эту книгу невозможно было не оценить. Помогали и международные связи. Например, поездку Давыдова на Неаполитанскую биостанцию для изучения кольчатых червей оплатил американский Рокфеллеровский фонд. Нам еще придется упоминать Рокфеллеровский фонд в этой книге. В первой половине XXI века эта организация, фактически ставшая международной, сделала очень много для развития фундаментальной науки (во всяком случае, биологии).
В итоге Давыдов (конечно, никогда не прекращавший неутомимо работать) превосходно интегрировался во французскую науку. В 1949 году его избрали членом-корреспондентом Парижской академии наук. Кроме того, в 1940-х годах ему доверили написать несколько разделов в знаменитом «Руководстве по зоологии» (Traite de zoologie). Разделы эти цитируются и в наши дни, причем не только как документы истории науки, но и непосредственно по делу — в статьях, посвященных биологии развития тех животных, которыми Давыдов занимался.
Несколько лет Давыдовы провели во Французском Индокитае: Константин Николаевич работал в расположенном там Океанографическом институте. Путешествия вообще были неотъемлемой частью его жизни. Еще студентом он предпринял две экспедиции на Ближний Восток, окончив университет, совершил большое путешествие по Голландской Индии, начав с Явы и добравшись до Новой Гвинеи (предполагалось, что он отправится на Яву в качестве помощника Ковалевского, но тот внезапно умер, и Давыдова отпустили одного); бывал и в Африке, и все это — не считая бесчисленных поездок по России и по Европе. По всем описаниям, Давыдов был одним из последних представителей мира вольных натуралистов XIX века: слегка эксцентричные ученые странники, иногда богатые, чаще безденежные, но всегда независимые. В XX веке, когда наука стала делом организаций, такие люди почти исчезли.
Кругозор Давыдова как зоолога был необыкновенно широк. В разное время он занимался иглокожими, полухордовыми, немертинами, гребневиками, кольчатыми червями, паукообразными, многоножками, насекомыми, моллюсками, приапулидами, форонидами и даже такими странными глубоководными созданиями, как погонофоры. Кроме того, он попутно вел фаунистические исследования по млекопитающим и птицам. Это тоже примета классической зоологии XIX века.
А вот о фундаментальных проблемах биологии Давыдов писал мало. Он был прежде всего великолепным натуралистом, жадным до познания природы, глядящим вокруг широко раскрытыми глазами и готовым описывать все, что позволяла квалификация. Эпохальных открытий (вроде открытия его учителем Ковалевским «позвоночности асцидий») или новых теорий он не оставил. Складом личности Давыдов изрядно напоминал другого универсального натуралиста, с которым его не раз сравнивали знакомые и которого он сам весьма почитал, — Николая Николаевича Миклухо-Маклая.
Судя по всему, Давыдов был типичным «человеком без возраста». «Жажда жизни была в нем столь велика, что даже на склоне лет он производил впечатление молодого человека, у которого еще все впереди», — писал неплохо знавший его биолог Лев Александрович Зенкевич (1889–1970). Во времена, когда они активно общались, Давыдову было около 80 лет и ослабевшее зрение уже не позволяло ему работать с микроскопом, но бурный интерес к жизни никуда не делся. Для таких людей приметы возраста несущественны. Годы обтекают их.
Константин Николаевич умер от инсульта в июне 1960 года в своем домике под Парижем. На родине его помнили. Давно знакомый с ним Лев Зенкевич, член-корреспондент (на тот момент) АН СССР и заведующий кафедрой в МГУ, во второй половине 1950-х годов не раз навещал его в Париже, а после смерти Давыдова предложил историку науки Леониду Бляхеру написать его биографию. Книга эта вышла в СССР в 1963 году.
Как многие русские дворяне, Константин Давыдов был человеком традиций. Величественно-демократичные манеры, подчеркнутую простоту одежды, любовь к охоте, привычку носить бороду и пышную шевелюру — все это он перенял от отца. Научные интересы — от Александра Ковалевского. Верность исследовательской программе своего учителя Давыдов сохранил буквально на всю жизнь. «Мечтаем возвратиться в Россию, для которой сохраняю лучшие экземпляры ктенопляны и целопляны», — писал он на родину в 1955 году. Ктеноплана и целоплана — это ползающие гребневики, открытые Александром Ковалевским и ставшие его любимым объектом исследований. Давыдов мало чем так гордился, как открытием нескольких новых видов ползающих гребневиков в Южно-Китайском море.
Как — опять же — многие люди подобного склада, Константин Николаевич всю жизнь держался твердых моральных убеждений, ради которых мог идти и на риск. Не случайно род Давыдовых дал России не только знаменитого гусара-поэта, но и как минимум одного декабриста (полковник Василий Давыдов, один из руководителей Южного общества). Еще старшекурсником, сочтя, что начальство ведет себя несправедливо, Константин принял участие в студенческих волнениях и отсидел месяц в тюрьме — к счастью, без серьезных последствий. Он всю жизнь громко протестовал против дискриминации людей, будь то евреи (в императорской России) или вьетнамцы (во французских колониях). Политикой, однако, не интересовался и свою разлуку с родиной рассматривал как вынужденное бытовое неудобство. В конце 1950-х, когда регулярные контакты с Россией возобновились, Давыдовы мечтали слетать в Ленинград, да так и не собрались — с силами и здоровьем было уже плохо.
Остается сказать, что долгая жизнь Константина Давыдова связывает между собой совершенно разные эпохи биологии. Будучи учеником Александра Ковалевского — представителя самого первого, начавшего работу в 1860-х годах поколения биологов-дарвинистов, он дожил до открытия двойной спирали ДНК и даже до начала расшифровки генетического кода.
Реэмигрант
Человек, придумавший космонавтику: Ари Штернфельд (Антон Первушин)
Когда говорят о европейском ракетостроении, ставшем основой для первых шагов в практической космонавтике, то обычно упоминают Германа Оберта, Робера Эсно-Пельтри, Вальтера Гомана и, конечно, Вернера фон Брауна. Вполне возможно, если бы Ари Абрамович Штернфельд (1905–1980) не вернулся вместе с женой в 1935 году в «обновленную Россию», в СССР, то и его имя стояло бы в этом ряду. Именно ему мы обязаны многими проектами, предопределившими будущий облик мировой космонавтики, и даже тем, что в русском языке появились неологизмы «космонавтика» и «космонавты».
В эмиграцию ни сам Ари Штернфельд, ни его семья, как и многие другие их соотечественники, не отправлялись по своей воле. Просто та часть Российской империи, где они проживали, стала вдруг независимым государством, Польской Республикой, и даже еще до того, в 1915 году, перестала зависеть от российского императора, оказавшись под немецко-австрийской оккупацией. Отец Ари, Авраам, занимался коммерцией, которая в условиях военного времени шла плохо, но школы в Лодзи, где они тогда жили, работали исправно, и Ари мог успешно учиться.
Интерес к космическим полетам проявился у него еще в старших классах школы (вероятно, под влиянием научной фантастики), причем Ари решал довольно специфические задачи: например, обдумывал проблему оптимального топлива, возможность определения расстояния от Солнца с помощью высокочувствительного термометра и применения контурных коек для экипажей межпланетных кораблей. В семнадцатилетнем возрасте Ари прочел по-немецки популярную брошюру Альберта Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности» (1916). При всей ее популярности, по словам самого Эйнштейна, «она требует от читателя терпения и воли», и многое в ней оказалось непонятно юноше. Вместе с другом они, после обсуждения брошюры, решили написать великому физику и вскоре получили ответ — открытку, исписанную убористым почерком Эйнштейна. Позднее Штернфельд обращался к теории относительности, применяя ее к вопросам межзвездных полетов.
Высшее образование Ари получал уже в условиях мирного времени — сначала в Кракове, а потом, поскольку уровень преподавания точных наук не отвечал его запросам, перебрался во Францию. Он начал слушать курс в Институте электротехники и прикладной механики, входившем в состав Нансийского университета, но денег, получаемых от родителей, ему не хватало, поэтому пришлось пойти работать — сначала грузчиком на парижский рынок, потом рабочим на завод «Рено». В этой среде Ари рассчитывал освоить французский язык, однако выяснилось, что все его окружение составляли такие же бедствующие эмигранты, и, когда наступило время занятий, новоиспеченный студент обнаружил, что не понимает своих профессоров. Тем не менее быстрый ум помог преодолеть языковый барьер, и Штернфельд сумел сдать экзамены, необходимые для перехода на следующий курс.
Во время каникул Ари снова работал в Париже — на этот раз в мастерской по ремонту американских военных грузовиков «Либерти», поставлявшихся в Европу во время войны. Руководство предприятия заметило его способности, и в следующем году Штернфельд занялся усовершенствованием одного из серийных мотоциклов. Казалось, что жизненный путь молодого человека предопределен — из него получился бы отличный инженер-конструктор, однако он все больше времени отдавал делу, которое в то время мало кто воспринимал всерьез.
Сегодня нельзя назвать точную дату, когда Ари Штернфельд узнал о том, что только с помощью ракет на жидком топливе можно достичь космических скоростей: скорее всего, он пришел к этому выводу самостоятельно на основе какого-нибудь из фантастических романов, после чего поверил, что космонавтика — это не разминка для праздного ума, а перспективная область практической деятельности, которой можно посвятить жизнь. Вспоминая о том периоде, Штернфельд писал:
Мои коллеги, замечая схемы, которые я чертил и в перерывах между лекциями, и в своей маленькой комнатушке, считали меня неизлечимым фантастом. Не забудем, что в те годы перелет через Атлантический океан станет сенсацией, которая взбудоражит весь мир. А тут какой-то одержимый доказывает реальную возможность овладения Вселенной…
В июле 1927 года молодой перспективный специалист получил диплом инженера-механика и поначалу работал технологом на автомобильном заводе «Белланже», затем — в конструкторском бюро Жерстера, на предприятиях «Бетик» и «Вандевр». Штернфельд участвовал в создании станков для обработки дерева, деревянных колес и бочек; при этом получил несколько патентов. Заработанные средства позволили ему полностью расплатиться с Нансийским университетом и студенческим обществом, что немало удивило их руководителей: обычно долги выпускников списывались по статье «субсидии».
Однако увлечение внеземными полетами все больше охватывало Штернфельда, и в 1928 году он поступил в докторантуру Парижского университета, Сорбонны, для того чтобы заняться «фантастической» темой всерьез. Разумеется, в первую очередь следовало изучить весь теоретический материал, накопленный по теме, и познакомиться с авторитетными специалистами. Но оказалось, что какой-либо информацией по этому вопросу не располагает даже французское Национальное бюро научно-промышленных исследований и изобретений в Бельвю, где Штернфельд проработал больше года. Позднее бюро вошло в состав знаменитого Национального центра научных исследований (CNRS), но в то время молодому ученому пришлось самостоятельно разыскивать соответствующие публикации. Например, в Библиотеке святой Женевьевы он обнаружил описания ракет в сочинениях XVI века.
Все математические расчеты, связанные с межпланетными перелетами, Штернфельд выполнял самостоятельно. Изучая воздействие перегрузок на организм человека, он провел над самим собой серию экспериментов на центрифуге Аэротехнического института в парижском пригороде Сен-Сир-л'Эколь. В результате Штернфельд смог предложить «индивидуальный футляр», который подгонялся бы под фигуру пилота так, чтобы ускорения при разгоне летательных аппаратов переносились легче, — впоследствии его идея использовалась в конструкции амортизационных кресел и ложементов космических кораблей. Интересно, что Штернфельд изучал не только научный материал, но и популярные исторические источники, включая мифологию и религиозные легенды, связанные с полетами в небо. Не пренебрегал он и фантастическими романами, в которых находил источник вдохновения для инженерного творчества.
В те же годы Штернфельд активно переписывался со многими другими основоположниками теоретической космонавтики: Германом Обертом, Иоганнесом Винклером, Вальтером Гоманом и, конечно, Константином Эдуардовичем Циолковским. С калужским ученым молодой исследователь начал переписку 11 июня 1930 года, когда отправил в Советский Союз первое послание, которое ему помогла написать жена Густава, состоявшая в Коммунистической партии Франции и неплохо знавшая русский язык. К тому времени Штернфельд уже завершал сбор и анализ материалов для монографии по теории межпланетных полетов, и его волновал вопрос приоритета: французский авиаинженер Робер Эсно-Пельтри оспаривал первенство Циолковского в открытии возможности развития космических скоростей с помощью ракет на жидком топливе, поэтому требовалось подтверждение. Хотя Циолковский так и не смог представить документальное доказательство публикации первой части своей статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами» в 1903 году, Штернфельд принял его сторону, и 19 августа 1930 года в газете «Юманите» появился очерк «Вчерашняя утопия — сегодняшняя реальность. С Земли на другие планеты?» (Utopie d'hier, possibilité d'aujourd'hui. Peut-on aller de la Terre aux autres planètes?), в которой рассказывалось о достижениях калужского основоположника. Переписка с Циолковским продолжалась несколько лет, однако увидеться двум теоретикам так и не довелось.
Летом 1931 года, завершив сбор материала и расчеты, Ари Штернфельд обратился к своим университетским руководителям для утверждения темы диссертации. Однако они отказались поддержать его, не решившись взять на себя ответственность за научность работы. Штернфельд вспоминал:
Они советовали мне заняться теорией резания металлов […], прельщая повышенной стипендией, неограниченным сроком защиты докторской диссертации. Но я отказался от этих предложений, решив посвятить свои силы космонавтике и продолжать работу в этом направлении на свой страх и риск. Я покинул Париж и вернулся к своим родителям в Лодзь. На полтора года я заперся в маленькой комнате, работая днями и ночами над рукописью по космонавтике. Это была нелегкая работа: каждый день — один шаг, одна-две машинописные страницы. Если в Париже я имел к своим услугам огромный справочный аппарат, то в Лодзи не было даже порядочной библиотеки, и я с трудом достал, пожалуй, единственную в этом городе таблицу натуральных логарифмов. В Париже я располагал электрической счетной машиной, здесь — время от времени не совсем легально ко мне перекочевывал арифмометр, каждую субботу его тайком выносил для меня из конторы большого завода один служащий, а в понедельник утром арифмометр опять стоял на месте. Даже бумаги мне не хватало: писал я на кусках оберточной бумаги или макулатуры, которую предварительно обрезал до одинакового размера. Кроме того, в комнате было очень мало света, окна открыть было нельзя, солнце туда никогда не заглядывало…
Тем не менее работа продвигалась, и в ноябре 1933 года первый вариант монографии «Введение в космонавтику» (Initiation à la Cosmonautique) был полностью завершен. На тот момент это был самый передовой и самый научно обоснованный труд по проблематике внеземных полетов и межпланетных сообщений. Названия многих его глав и по сей день звучат современно: «Значение космонавтики», «Управление космической ракетой», «Жизнь внутри космического корабля», «Искусственные спутники»… Нужно отметить, что Штернфельд использовал терминологию, которая в то время не считалась общепринятой. Например, он выбрал слово «космонавтика», а не французский термин «астронавтика», мотивировав это тем, что «определение науки, изучающей движение в межпланетном пространстве, должно дать понятие о среде, в которой предполагается движение (космос), а не об одной из возможных его целей».
Теперь монографию следовало представить научной общественности. Шестого декабря 1933 года Ари Штернфельд выступил на научном собрании в Астрономической обсерватории Варшавского университета. Хотя выкладки молодого ученого выглядели безупречно, доклад был встречен холодно: выбранная тема опять показалась слишком «фантастической». Хуже того, директор обсерватории отказался давать отзыв о рукописи для польского издательства.
Штернфельд понял, что нужно искать иные пути. В том же месяце он вновь поехал в Париж и по совету физика Поля Ланжевена, известного своими коммунистическими взглядами, представил рукопись Комитету астронавтики Французского астрономического общества на соискание поощрительной международной премии по астронавтике (так называемая премия РЭП — Гирша), учрежденной в начале 1928 года специально для поддержки практических работ в области межпланетных полетов. В январе и феврале 1934 года Штернфельд выступил на заседаниях Парижской академии наук с лекциями, посвященными динамике космического корабля и его орбитального движения. «Отцы-основатели» премии, Робер Эсно-Пельтри и Андре-Луи Гирш, одобрили монографию, после чего 2 мая 1934 года молодой ученый прочитал лекцию «Некоторые новые взгляды в астронавтике» с кафедры аудитории «Декарт» Парижского университета. Здесь его встретили восторженно, о монографии тут же начала писать французская и зарубежная пресса, а Эсно-Пельтри использовал результаты Штернфельда в своих собственных работах.
Некоторое сопротивление вызвали, правда, парадоксальные идеи о наиболее выгодных межпланетных траекториях. Штернфельд вспоминал:
Свои концепции я представил еще в начале 1934 года Французской академии наук. В одной из них я развивал идею о том, что обходные траектории с предварительным удалением от центрального светила, к которому направляется ракета, более экономны, чем траектории, прямо ведущие к цели. На первый взгляд эта идея, изложенная также и на страницах «Введения в космонавтику», могла показаться сумасбродной. Так она вначале и была воспринята.
Оппонентом выступил сам Эрнест Эклангон — директор Парижской астрономической обсерватории и будущий академик. Не без труда Штернфельду удалось переубедить его. В результате молодой исследователь получил полное признание в западноевропейском научном сообществе и 6 июня 1934 года был удостоен премии РЭП — Гирша.
В это триумфальное время Штернфельд с женой наконец получили ответ из СССР на свои письма с просьбами о разрешении перебраться из Франции в Советский Союз на постоянное место жительства. Первое из этих писем, отправленных еще в 1929 году, осталось без ответа. Но постепенно дело двигалось. В июле — августе 1932 года молодой ученый побывал в Москве по приглашению Наркомтяжпрома для представления проекта «Андроида» — огромного роботизированного манипулятора, предназначенного для выполнения масштабных трудоемких работ типа монтажа и разбора зданий, тушения пожаров на нефтеприисках. Несмотря на то что жизнь в советской столице разительно и в худшую сторону отличалась от парижской, Штернфельда захватила атмосфера быстрых преобразований, которые были видны невооруженным глазом. Немалую роль в принятии такого решения сыграла и Густава, жена Ари Абрамовича, активная участница коммунистического движения. Она находилась под постоянной угрозой ареста, и отъезд мог избавить ее от преследований. Возможно, ко всему прочему Штернфельд сумел заручиться гарантиями со стороны советских представителей (в том числе из разведки), которые были особенно заинтересованы в приезде высококвалифицированных молодых инженеров, получивших образование в передовых западных университетах.
14 июня 1935 года авиарейсом из Германии чета Штернфельд прибыла в Москву. Без каких-либо проволочек Ари Абрамовича приняли в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) при Наркомтяжпроме на должность старшего инженера, причем работать ему пришлось во 2-м отделе, под непосредственным руководством Сергея Павловича Королева, который вел проекты управляемых крылатых ракет и пилотируемого ракетного самолета (ракетоплана РП-218). За полгода Штернфельд, получивший прозвище Француз, освоился в трудовом коллективе и занялся подготовкой испытаний крылатых ракет на полигонах, принадлежавших РНИИ. Он внес ряд новшеств в механизм освобождения ракеты от направляющей, что повысило результативность стрельб. В сентябре 1936 года Штернфельды получили советское гражданство, и Ари Абрамович, уже как сотрудник 5-го отдела, сам возглавил испытания крылатых ракет 06/IV, 212 и 216.
Помимо исследовательской работы, Ари Абрамович продолжал заниматься теорией. Известно, например, что 28 февраля 1937 года он выступил с научным докладом «Об особенностях стратосферной ракеты» перед членами Стратосферного комитета ОСОВИАХИМа. Главный инженер РНИИ Георгий Эрихович Лангемак перевел с французского монографию «Введение в космонавтику», и в сентябре 1937 года она наконец-то была издана приличным для столь специфической работы тиражом 2000 экземпляров.
Перед тем, в декабре 1936 года, РНИИ был преобразован в Научно-исследовательский институт № 3 (НИИ-3) Наркомата оборонной промышленности и в нем началась первая «чистка», коснувшаяся прежде всего иностранных специалистов. Штернфельда уволили с формулировкой «по собственному желанию». В письме Иосифу Виссарионовичу Сталину от 16 мая 1939 года он сообщал об этом так:
Летом 1937 года я взял временный отпуск, чтобы приступить к разработке робота моей системы в ЦНИИМАШ [Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и металлообработки]. Между тем в конце 1937 года я был сокращен из НИИ № 3, а в апреле 1938 года отчислен из ЦНИИМАШ. Вследствие этого уже свыше года я вынужден работать в одиночку, лишенный материальной базы, так как все усилия устроиться на работу в какой-нибудь из научно-исследовательских институтов Академии наук остались безрезультатными.
Сталин на просьбу о помощи в поисках работы не откликнулся, поэтому Штернфельд оказался вне практического ракетостроения, что, конечно, угнетало его. Но нет худа без добра. Во-первых, увольнение спасло его от неминуемого ареста, когда начались репрессии против руководящего состава НИИ-3; во-вторых, он мог публиковать результаты теоретических изысканий под своей фамилией в открытой печати, без прохождения военной цензуры. В Штернфельде раскрылся новый сильный талант — популяризатора космонавтики. С 1938 года он активно печатался в таких тиражных изданиях, как «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Советская наука», «Техника — молодежи» и «Красная звезда». При этом везде подчеркивалось, что он является уникальным специалистом в области межпланетных полетов, лауреатом международной премии.
Тем не менее с этого момента карьера Ари Штернфельда практически остановилась. Ему повезло в том, что участь подавляющего большинства репатриантов, переселившихся в СССР в середине 1930-х годов, его миновала. Однако и работать нормально он не мог. Тем более не могло быть речи о зарубежных поездках. Лишь с начала 1960-х годов вклад Штернфельда наконец-то начал получать официальное признание. В 1961 году Ари Абрамович был избран почетным членом Академии и Общества наук Лотарингии и доктором honoris сausa Нансийского университета. В 1962 году он вместе с Юрием Алексеевичем Гагариным удостоился Международной премии Галабера по астронавтике. В 1965 году Академия наук СССР присудила Штернфельду ученую степень доктора наук honoris causa — без защиты диссертации.
Все же Штернфельд не чувствовал удовлетворения: заниматься практической работой ему по-прежнему не давали и за границу дальше Польши, где у него оставалась сестра, не выпускали даже для получения заслуженных наград. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос, почему он посвятил себя расчетам оптимальных траекторий движения по Солнечной системе, он признался:
Все дело в том, что для работы в области механики и физики ракеты нужны были мастерские, лаборатории, заводы… А у меня ничего этого не было. Теоретическую же сторону вопроса почти исчерпывающе разработал К. Э. Циолковский. Белым пятном оставались вопросы космических трасс. И для работы над этим кругом проблем не надо было в те годы ничего, кроме желания…
В этих словах слышна горечь человека, исключительные таланты которого не были востребованы в полной мере.
Штернфельд ушел из жизни 5 июля 1980 года, в возрасте 75 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле установлен памятник в виде открытой книги: слева помещен барельеф головы ученого, выгравированы даты его рождения и смерти, справа — парадоксальная космическая траектория с предварительным удалением и латинское изречение Per aspera ad astra, что означает «Через тернии к звездам» — символ веры Ари Абрамовича Штернфельда.
Первая волна
Русский каучук в Америке: Иван Остромысленский (Елена Зайцева (Баум))
У Ивана Ивановича Остромысленского (1880–1939) уже в 1917 году, едва большевики пришли к власти, не возникало сомнений в том, что придется уезжать. И он стал оформлять зарубежные патенты на все свои изобретения. Ему приходилось спешить: хотя он пользовался необычными методами, сами решаемые им химические задачи были очень актуальны и он чувствовал, что конкуренты дышат ему в спину. Остромысленский преуспел во всем — однако не дожил десяти лет до полного признания своих заслуг.
Среди выдающихся исследователей эластомеров и каучука имя Ивана Остромысленского было одним из первых увековечено в галерее славы, основанной в 1958 году при Центре полимерных исследований имени Чарлза Гудиера Акронского университета при поддержке Американского химического общества. Портреты нашего соотечественника и самого пионера вулканизации каучука Чарлза Гудиера разместились здесь по соседству. И тут же рядом — нобелевские лауреаты в области макромолекулярной химии Герман Штаудингер и Пол Флори, первооткрыватели металлокомплексного катализа полимеризации Карл Циглер и Джулио Натта, проложившие человечеству путь к синтезу стереорегулярных каучуков. Мировое научное сообщество наконец-то оценило заслуги Остромысленского в полной мере, но, увы, уже после смерти ученого, скончавшегося в возрасте 59 лет в 1939 году в Нью-Йорке. Сегодня же некоторые исследователи и историки науки оценивают его открытия в области полимеров выше достижений нобелевских лауреатов. Рэймон Сеймур, ответственный редактор и один из авторов популярной книги «Пионеры науки о полимерах», сказал о нем:
Случись Остромысленскому волей Божьей прожить дольше, быть более твердым и напористым, более точным в экспериментах, входить в университетскую корпорацию и дольше проработать либо в СССР, либо в США, он был бы первым кандидатом на Нобелевскую премию по химии.
Действительно, некоторая нерешительность, неуверенность в своих силах и мнительность были присущи Ивану Остромысленскому с самого детства. Отчасти это, очевидно, было связано с тем, что он слишком рано, когда ему еще не было и семи лет, лишился отца, Ивана Ефимовича. Но, несмотря на груз переживаний, связанных с этой утратой, в 1898 году юноша успешно завершил учебу во Втором московском кадетском корпусе имени императора Николая I и сразу же поступил на механическое отделение ИМТУ (Императорского московского технического училища, из которого со временем выросла нынешняя «Бауманка»). Учеба не складывалась. Начала развиваться какая-то нервная болезнь. Его тогда оставили на второй год, а потом перевели на химическое отделение. Но и это не помогло — в итоге «по малоуспешности» Остромысленского и вовсе отчислили. История повторилась и год спустя: он снова поступил в ИМТУ на химическое отделение и на этот раз смог продержаться весь первый курс, но на втором его вновь отчислили по причине все той же «малоуспешности». И тогда Остромысленский решил попытать счастья за границей.
В 1903 году он записался сразу в два учебных заведения: в Политехническую школу Карлсруэ (Германия) и на философский факультет Цюрихского университета (Швейцария). К счастью, расстояние между Карлсруэ и Цюрихом всего 270 км, сущая мелочь по российским масштабам. И надо сказать, выбор оказался удачным, что кардинально изменило всю его дальнейшую жизнь.
Учеба в Цюрихе продлилась недолго — всего один семестр. Иван Остромысленский слушал курс химии на отделении математики и естествознания философского факультета Цюрихского университета в исполнении двух блистательных лекторов — будущего нобелевского лауреата Альфреда Вернера и Арутюна Абелянца. Вернер сосредоточился на теории, излагая свои взгляды на природу комплексных соединений, а Абелянц рассказывал о применении химии в медицине. Скорей всего, именно Абелянц способствовал формированию стойкого интереса молодого ученого к изучению химии лекарственных систем, сохранявшегося долгие годы.
В Политехнической школе Карлсруэ (Fridericiana), знаменитом Политехникуме, получившем в 1885 году статус высшей технической школы, что приравнивалось к университету, Остромысленский проучился дольше, до самого 1906-го. Основной акцент в обучении студентов химического факультета, на который поступил Остромысленский, делался на нуждах химической промышленности, особенно на методах, с помощью которых исследуются сырье, промежуточные и конечные продукты химико-технологических процессов. И практические занятия, и лекции проходили в специализированном химико-технологическом институте, созданном при Политехникуме. Для этого институт располагал одной большой аудиторией на 250 слушателей и двумя поменьше — на 90 и 56 соответственно. Все они были очень хорошо оснащены, что позволяло сопровождать лекции химическими опытами и демонстрацией исследовательской аппаратуры. Для сравнения: в здании химической лаборатории Московского университета в то время была всего одна большая аудитория для чтения лекций по химии.
Практические занятия в Карлсруэ проходили в нескольких специализированных лабораториях — качественного и количественного анализа, препаративной и органической химии, физической химии и электрохимии. Каждый студент-практикант располагал комфортным рабочим местом с индивидуальным освещением и подведенными к нему газом и водой.
В Политехникуме, погрузившись в новую для себя академическую культуру, Остромысленский пережил внутреннее взросление. От былой неврастении не осталось и следа! Обучение завершилось успешной защитой дипломной работы со специализацией в области электрохимии под научным руководством Макса Ле-Блана. Остромысленский почувствовал, что в его жизни наступила новая удачная полоса.
Наладилась и личная жизнь: за границей он встретил свою будущую жену Юлию Александровну Козлову и вернулся в Москву не только химиком-инженером, но также мужем и отцом. Полученное им прекрасное образование хорошо заметно уже в первых самостоятельно выполненных им работах — об образовании мочевой кислоты в организмах животных, о строении бензольного кольца и о некоторых характеристиках бензольных растворителей. Все они сразу получили признание российского научного сообщества.
В 1907 году Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета присудило Остромысленскому премию им. В. П. Мошнина, что позволило молодому ученому без особого труда стать членом Русского физико-химическое общества. Перед ним открылась перспектива академической карьеры, но не это его интересовало.
Главный интерес Остромысленского в то время — получение искусственного каучука. Поначалу, правда, он пытался вписаться в университетскую корпорацию, проработав два года (1907–1909) в Московском университете в лаборатории неорганической и физической химии в качестве сверхштатного лаборанта (то есть без денежного обеспечения). Затем попробовал обосноваться в своей несостоявшейся alma mater ИМТУ, поступив уже на должность штатного лаборанта.
Он занимался выработкой технически доступных способов получения мономеров (изопрена и бутадиена) для того, чтобы затем перейти к синтезу каучука и его аналогов. При этом установил, что изопрен и его аналоги полимеризуются под действием ультрафиолетовых лучей в каучукоподобное вещество. Изучил контактную полимеризацию (под влиянием катализаторов) указанных мономеров и выяснил, что на свойства синтетического каучука большое влияние оказывает введение различных органических добавок. Одним из первых Остромысленский предложил для стабилизации синтезируемого каучука вводить различные органические основания (толуидины и нафтиламины) в качестве антиоксидантов.
Но недостатки в технической оснащенности лаборатории сильно тормозили работу. В январе 1912 года ученый обратился за финансовой поддержкой своих исследований в Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова. Больше всего его тогда беспокоила перспектива упустить шанс российского приоритета:
В этом направлении успешно работают Гарриес и Гофман в Германии, Перкин — в Англии, — писал Остромысленский в своем обращении к совету Общества. — Затянувшаяся работа может быть выполнена и привилегирована независимо от меня другим лицом, и тогда техническая ценность ее в России окажется утерянной […]. Синтетический каучук еще не появлялся на мировом рынке, но известно, что эльберфельдская фирма Байера подарила саксонскому королю автомобильные шины, выполненные из синтетической резины. Предварительный расчет показал, что стоимость моих способов получения каучука (около 16–20 рублей за 1 пуд) значительно ниже способа Бушарда — Гарриеса — Гофмана (около 40–50 рублей за 1 пуд), привилегированного эльберфельдской фирмой.
Действительно, теоретический вопрос о строении и синтезе искусственного каучука и техническая проблема его получения занимали в то время умы многих химиков и промышленников. В России над решением этой проблемы работал Иван Лаврентьевич Кондаков, первым синтезировавший каучук из бутадиена, а в Германии — Карл Дитрих Гарриес и Фриц Гофман, получившие каучук из изопрена. Были и другие.
Поддержки ученых Остромысленский так и не получил. Зато получил поддержку промышленников, продав привилегии на производство синтетического каучука посредством полимеризации диолефинов акционерному обществу по производству и торговле резиновыми изделиями «Богатырь».
Как известно, Россия никогда не присоединялась к международным конвенциям в области патентного права. Правительство выдавало лишь «привилегии на изобретения», которые должны были рассматриваться как монаршая «милость» и в любой момент могли быть отозваны. Покупка привилегии промышленным предприятием позволяла не только продлить срок ее действия, но и рассчитывать на ее коммерциализацию, что, несомненно, воодушевило ученого. В 1912 году он по приглашению руководства АО «Богатырь» возглавил его исследовательскую лабораторию и стал разрабатывать там методы вулканизации каучука без серы посредством введения различных активаторов и ускорителей вулканизации, что позволяло добиваться различных физико-химических свойств получаемых резин, а также искать методы получения мономеров для синтеза каучука, позволяющие по возможности снизить его стоимость. Уже тогда Остромысленский правильно оценил перспективы синтеза каучука из бутадиена и хлористого винила.
Когда в 1914 году министерство финансов объявило международный конкурс на изыскание новых областей применения винного спирта, Остромысленский предложил разработанный им незадолго до того метод получения каучука из спирта через бутадиен и продемонстрировал образец резины, изготовленный из него. Метод ученого был премирован министерством, и впоследствии именно процесс каталитической конденсации этилового спирта с ацетальдегидом в бутадиен, лежащий в основе данной технологической схемы, стал именной реакцией Остромысленского. В ходе проведения конкурса министерством было высказано пожелание о создании «небольшого опытного завода по выработке каучука указанным процессом из спирта» с одновременным продолжением лабораторных работ по усовершенствованию технологии Остромысленского.
Завод, однако, открыт не был: началась война, и всем стало не до того. В результате первое в мире промышленное предприятие по производству синтетического каучука по методу Кондакова появилось в Германии. Но оно оказалось нерентабельным из-за высокой стоимости синтетического каучука и вскоре прекратило свое существование.
Впрочем, в военные годы внимание и самого Остромысленского переключилось на решение другой научной проблемы. Успешное сотрудничество с предприятием АО «Богатырь» принесло ученому хорошие дивиденды: в 1913 году он открыл собственную фирму «Частная химическая и химико-бактериологическая лаборатория», чтобы заняться исследованиями по второй давно волновавшей его теме — медицинской химии. В частности, его интересовал вопрос иммунологической специфичности и химической природы антител и антигенов. Тогда им была создана теория синтеза антител на антигене как на матрице — потом, в 1930–1960-е годы, такие теории стали очень популярны в иммунологии. Но война потребовала несколько расширить тематику исследований: противником России теперь стала страна, которая на протяжении многих лет была главным поставщиком на российском фармацевтическом рынке. А лекарственные средства для армии столь же необходимы, как снаряды или вооружение. И уже в августе 1914-го Русское физико-химическое общество в Петрограде организовало специальное совещание, посвященное вопросу неотложности создания новых отечественных производств в области лекарственных средств, развития научной базы в этом направлении. В военные годы ученый без устали работал над созданием и исследованием новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых инфекционных заболеваний, в частности широко распространенных в то время туберкулеза и проказы. Для борьбы с возбудителями этих инфекций он предложил использовать гинокардовую кислоту и ее производные; для этой же цели исследовал действие антисептиков — пиридиума и пиразолона.
Не вызывает сомнения, что решение уехать из страны было принято Остромысленским сразу после революций 1917 года. Готовясь к отъезду, он стал отсылать в Америку одну за другой заявки на патенты, оформляя таким образом свои дореволюционные разработки в области синтетического каучука и его гомологов. К 1919 году у него уже было несколько свидетельств на использование ряда ароматических аминов в качестве антиокислителей для каучука, а в 1920-м — патент на пластификацию поливинилхлорида, то есть придание ему пластичности при переработке и эксплуатации.
Отъезд тем не менее состоялся только в 1921 году. Задержка была связана с новым этапом в работах по синтезу каучука после совещания ВСНХ в сентябре 1918 года, на котором было принято решение перейти к опытам по получению синтетического каучука в малом заводском масштабе. Были созданы две специализированные опытные станции: одна — на заводе «Красный богатырь» в Москве, другая — на заводе «Красный треугольник» в Петрограде. На первой проверяли метод Остромысленского получения каучука из спирта, на второй испытывали технологию Бориса Васильевича Бызова, по которой каучук получался из нефтяного сырья. На какой-то момент Остромысленский даже поверил, что и с новой властью можно конструктивно сотрудничать.
В 1918–1920 годах он успешно руководил Химико-терапевтической лабораторией Научно-исследовательского химико-фармацевтического института в Москве, продолжая там свои фармацевтические исследования и разрабатывая новый антибактериальный препарат арсенол, коллоидальный раствор мышьяка, и его модификации — арсол и острол. Они заменили на российском рынке известное лекарственное средство против сифилиса сальварсан германского производства, продававшееся также иногда как «препарат 606». Для производства арсола на продажу был создан специализированный химико-фармацевтический завод № 11, который называли иногда заводом Остромысленского. Арсол использовался также для лечения других инфекций — малярии и возвратного тифа. В тяжелые годы Гражданской войны и хозяйственной разрухи арсол и арсенол спасли много жизней.
Крест на всех надеждах поставил Декрет об изобретениях, опубликованный 30 июня 1919 года. Согласно ему все инновации объявлялись собственностью советского государства. Шансов получить патент на технологию производства искусственного каучука в родной стране не оставалось. Осенью 1921 года Остромысленский отправился в Ригу в качестве приват-доцента Латвийского университета на два семестра. Там он прочитал два курса: по химии каучука и химиотерапевтическим препаратам, а потом, в мае 1922-го, по приглашению американской каучуковой компании U. S. Rubber Company переехал в Нью-Йорк.
Английским языком Остромысленский овладел достаточно быстро, но на постижение американского менталитета у него ушли годы. Владимир Зензинов, журналист и политический деятель, в те же годы эмигрировавший из советской России, так описывал жизнь в США, к которой им приходилось приноравливаться: «[Это была] отчаянная борьба за существование, в которой побеждал сильный, а слабый безжалостно растирался между колесами бегущих все дальше колесниц». В этой отчаянной борьбе у Остромысленского, к счастью, было важное преимущество — запас собственных научных разработок и технических идей, нужных американским промышленникам. Некоторое время он работал исследователем одновременно в двух фирмах — U. S. Rubber Company и Goodyear Tire and Rubber Company. В дополнение к запатентованному в 1920-е методу получения поливинилхлорида в растворе Остромысленскому удалось на основе своих дореволюционных разработок показать, что поливинилхлорид обладает свойством формировать прочные и гибкие пленки из раствора в монохлорбензоле.
Для U. S. Rubber Company он создал уникальную технологию производства стирола из этилбензола, запатентованную им в 1926 году. Мономер стирола стабилизировали добавками хинона. Стирол оказался популярным сырьем для производства искусственного каучука. Эта технология активно использовалась в годы Второй мировой войны на заводах Dow Chemical Co и Monsanto. Кроме того, стирол стали применять для производства небьющихся лобовых стекол автомобилей посредством полимеризации стирола между слоями стекол. Для второй фирмы Остромысленский создал метод получения поливинилхлорида, разработанный ученым в 1930-е.
Казалось, у него все шло удачно. Быстро складывались и отношения внутри российской диаспоры. Русских эмигрантов в Нью-Йорке тогда было больше, чем в любом другом городе Америки, — более полумиллиона человек. В декабре 1923-го была создана Русская академическая группа в Америке для сохранения и расширения научных контактов, в том числе с американскими коллегами. Остромысленский стал одним из первых ее учредителей. В конце 1920-х он был принят в Общество российских врачей Нью-Йорка, а также подружился с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. На протяжении довольно долгого времени ученый отказывался менять гражданство, к тому же в среде эмигрантов не умирала надежда на скорое возвращение на родину. Но многие профессиональные задачи при изменении статуса решались бы проще, и в 1930 году Остромысленский все же подал соответствующее ходатайство, которое вскоре было удовлетворено.
Сразу же после получения гражданства ученый был принят на работу в компанию Union Carbide Corp., которую интересовала технология каталитического производства бутадиена из спирта, разработанная Остромысленским еще в России. Именно она неожиданно оказалась востребована в Америке в годы Второй мировой войны, когда поставки натурального каучука были приостановлены, а опыта производства искусственного вещества в стране не было. В изменившихся обстоятельствах правительство срочно приняло в 1942 году программу по развитию промышленного производства искусственного каучука. Тут-то и обратились к технологии Остромысленского. Первый завод по производству мономера был запущен уже в январе 1943 года. Предприятия фирм Union Carbide Corp. и U. S. Rubber Company использовали метод Остромысленского в организованном ими в военные годы производстве бутадиен-стирольного каучука. К концу 1945 года США производили по этой технологии почти миллион тонн искусственного каучука в год. До сих пор она широко используется в Китае и Индии. Но увы, до этого триумфа Остромысленский не дожил: он умер незадолго до начала войны.
Не столь успешными оказались его разработки, связанные с лекарственной химией. Еще в 1925 году он открыл лабораторию Ostro Research Laboratory, в которой занимался изучением лечебного действия препаратов мышьяка, хинина и предложенных им аналогов, но организованная совместно с американскими партнерами корпорация для коммерческого производства разработанных им химиотерапевтических средств с течением времени изжила себя, и в 1936 году ее пришлось закрыть.
Настоящая слава пришла лишь спустя десятилетия после смерти ученого. И только в наши дни, благодаря деятельности американских исследователей, подлинное значение научного наследия нашего соотечественника становится явным.
Первая волна
Человек, приручивший колебания: Степан Тимошенко (Андрей Ваганов)
Степан Прокофьевич Тимошенко (1878–1972) — один из тех ученых, чьи имена становятся нарицательными. В естествознании и точных науках таких примеров много: камера Вильсона, таблица Менделеева, чашка Петри, бином Ньютона, цикл Карно… В технических науках, в механике этот перечень скромнее. Из тех, что на слуху, — карданный подвес (имеется в виду итальянец Джероламо Кардано, описавший его как изобретение Джанелло Торриано, хотя оно было известно уже Филону Византийскому почти за полтора тысячелетия до этого), параллелограмм Чебышева, дизель, цеппелин… В этом же ряду — ферма Тимошенко. Все очень просто: вместо сплошной металлической балки — специально рассчитанный профиль. А в результате все мосты, краны, опоры во всем мире — все это «фермы Тимошенко». Типично малороссийская фамилия, но сегодня, когда мы произносим имя Степана Прокофьевича, приходится добавлять: «американский ученый»…
Степан Прокофьевич Тимошенко, будущий ученый с мировым именем, создатель современной теории сопротивления материалов и теоретических основ строительной механики, «корифей прикладной механики», как назвал его в 2014 году президент Российской академии наук Владимир Фортов, родился в 1879 году в местечке Шпотовка Конотопского уезда Черниговской губернии. Степан был старшим из трех братьев: следующий по возрасту, Владимир (1883–1971), стал известным экономистом, а самый младший, Сергей (1881–1950), — инженером и архитектором.
Научная карьера Степана Прокофьевича начиналась мощно и, что называется, накатисто. В 1901 году он окончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге; в 1903–1905-м работал лаборантом в санкт-петербургском Политехническом институте, а в 1906-м он уже в Киеве и там в 1906–1911 годах, последовательно, адъюнкт, профессор, декан Киевского политехнического института. Но в январе 1911 года Степан Прокофьевич вместе с другими профессорами киевского Политеха подписал протест против политики министра просвещения Кассо. Реакция министерства была мгновенной: в феврале 1911 года Тимошенко уволили из института. Да невелика беда! Это уже сформировавшийся профессионал, блестящий механик. Ход набран.
В августе 1911 года Тимошенко переехал в город своей alma mater — Санкт-Петербург. Начался, пожалуй, самый плодотворный в творческом плане период его жизни в России. Он стал профессором Института инженеров путей сообщения и Электротехнического института (1913–1917) — читал там курсы по ряду разделов сопротивления материалов, теории упругости и строительной механики. В 1916 году вышел второй том его исследования «Теория упругости», которое позже легло в основу последующих работ. Так, в первом американском издании своей книги «Колебания в инженерном деле» (1928) Тимошенко отмечал:
…При создании этой книги автор следовал лекциям по колебаниям, читанным им в 1925 году для инженеров-механиков компании «Вестингауз» (Westinghouse Electric and Manufacturing Company), а также некоторым главам ранее опубликованной книги по теории упругости.
(Заметим все же, что Тимошенко работал не с чистого листа. Русская школа механиков как раз в то время была на подъеме. В частности, еще в 1908 году был опубликован классический труд «Вибрация судов» выдающегося русского механика, математика, корабела Алексея Николаевича Крылова, прославившегося также переводом на русский язык главного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии».)
В 1917 году Степан Прокофьевич вновь перебрался в Киев. И уже в январе 1918 года в столице Украины вышла его книга — первая в мире! — о прочности аэропланов. С осени 1918 года Степан Тимошенко — профессор в Киевском политехническом институте, директор Института механики Украинской академии наук.
Между тем на Украине в это время начала работать Комиссия по организации Всеукраинской академии наук (Комиссия Академии). Ее возглавил академик Владимир Иванович Вернадский. В своем дневнике от 19 июня 1918 года он сделал запись:
По делам Комиссии. Ужасная канитель и путаница в Министерстве народного просвещения.
Был С. Тимошенко. Он оказался совсем не украинцем по настроению, а человеком русской культуры. С ним о значении техники для науки. Я думаю, я найду в нем поддержку для развития технического отдела Академии наук.
И действительно, Степан Тимошенко стал одним из главных действующих лиц в создании Академии наук на Украине и фактически правой рукой Вернадского в Комиссии Академии. «Удивительно привлекательный своим обликом человек», — писал о нем Владимир Иванович. А 7 декабря 1919 года Вернадский отметил: «Проведен законопроект об Академии, довольно приемлемый по-видимому. Можно идти дальше, основываясь на нем. Он стал законом — но никому не известен…» Как бы там ни было, но Тимошенко был в числе первых 16 академиков Украинской академии наук.
Между тем общая ситуация в республике быстро ухудшалась. Член-корреспондент УАН Илья Яковлевич Штаерман, знакомый со Степаном Тимошенко, вспоминал: «Киев в течение короткого времени брали восемь раз — белые, красные, зеленые, немцы […], и все они вовсю стреляли. Не каждый может это выдержать».
По-видимому, именно в этот период у Степана Тимошенко созрело решение уехать из страны, хотя и далось оно очень непросто. Он сильно переживал, что придется оставить свою библиотеку. Но безопасность семьи перевесила, и 22 декабря 1919 года Вернадский с явным сожалением оставил в дневнике такую запись: «У Тимошенко. С ним разговор о поездке за границу, в славянские земли — в Прагу. Мне как-то и хочется, и жаль, что он уедет. И без средств…»
Подготовка к отъезду требовала времени — только в июле 1920 года Тимошенко отправился в «славянские земли», правда, не в Прагу, а в КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев. Три года он был ординарным профессором кафедры сопротивления материалов Высшей технической школы в Загребе. А в 1922 году эмигрировал в США.
В Америке его карьера складывалась сверхудачно. В 1923–1927 годах он — сотрудник исследовательской лаборатории компании Westinghоuse в Питтсбурге. Основал отдел прикладной механики в Американском обществе инженеров-механиков. Весной 1927 года стал заведующим кафедрой в Инженерной школе Мичиганского университета. Именно здесь он подготовил к печати свой классический труд «Теория колебаний в инженерном деле». Первое издание вышло в 1928 году. В предисловии к нему Тимошенко отмечал:
В настоящей книге излагаются основы общей теории колебаний, причем ее приложения к решению технических задач иллюстрированы различными примерами, взятыми во многих случаях из практики наблюдений над колебаниями машин и сооружений в эксплуатации.
Очень быстро книга Тимошенко стала настольной для инженеров во всем мире. Ничего удивительного: в ней изощренный математический аппарат теории колебаний развит для использования при решении вполне конкретных инженерных вопросов. Скажем, рассматривая регулятор паровой машины, Тимошенко выводит условие, при котором «колебания регулятора, вызванные изменением нагрузки на машину, не будут постепенно затухать, и будет наблюдаться хорошо известное явление прыгания регулятора». Метод оказался весьма универсальным и «был успешно применен к некоторым другим практически важным задачам, как, например, флаттер самолета, „шимми“ автомобильного колеса и осевые колебания паровых турбин».
В СССР к этому времени, вообще говоря, об эмигрантах старались забыть, но книга Тимошенко оказалась слишком важна, и перевод на русский язык был сделан оперативно: уже в 1931 году она вышла первым изданием под заголовком «Теория колебаний в инженерном деле», а в 1932-м — вторым.
Правда, издательство, где готовился выход книги, называвшееся ОНТИ, то есть Объединенное научно-техническое издательство, в 1938 году почти в полном составе отправилось под суд, а оттуда — кто в тюрьму, кто в расход. Многие уже готовые к изданию книги были уничтожены, среди них — новые переводы главного сочинения Ньютона (если у Крылова оно называлось «Математические начала натуральной философии», то в этом так никогда и не увидевшем свет переводе именовалось «Математические принципы натуральной философии») и «Динамики» Лейбница, а также хрестоматия по истории науки, подготовленная первым деканом физического факультета МГУ Борисом Гессеном. Выступив в 1931 году в Лондоне на втором Международном конгрессе по истории науки с докладом «Социально-экономические корни механики Ньютона», Гессен, как теперь признано во всем мире, положил начало новой научной дисциплине — социальной истории науки. Однако в конце 1936 года его расстреляли, и, возможно, именно участие Гессена в деятельности ОНТИ послужило причиной закрытия издательства.
В результате ни одного из двух первых изданий книги Тимошенко в каталоге Российской государственной библиотеки («Ленинки») не обнаруживается, хотя они до сих пор нередко попадаются на букинистических аукционах. В США книга тоже переиздавалась дважды: в 1937 и 1955 годах. Последние изменения в тексте нашли отражение и в новом русском переводе, который по горячим следам издавали дважды — в 1959 и в 1967 годах, выкинув на всякий случай из заглавия слово «теория» (оба эти издания «Колебаний в инженерном деле» в каталогах «Ленинки» есть), а потом еще много и много раз, вплоть до наших дней. В предисловии к третьему американскому изданию Тимошенко отмечал: «Изучение колебаний становится все более и более важным для инженеров-строителей и получило значительное развитие, в частности в области нелинейных колебаний». Для советских инженеров-строителей изучение колебаний, в том числе нелинейных, оказалось не менее важным.
После войны Степан Прокофьевич Тимошенко был уже весьма респектабельной фигурой в американском академическом мире: с 1944 года он эмеритус профессор Стэнфордского университета, где преподавал и вел исследования с 1936 года. Статус «эмеритус» (заслуженный) подразумевал, что он был освобожден от текущей преподавательской работы, но продолжал заниматься в университете научными исследованиями. Кроме того, Тимошенко стал доктором honoris causa еще в четырех университетах и трех политехнических институтах, его избрали членом академий наук Польши, Англии, Италии и Национальной академии наук США, Лондонского королевского общества, Американского общества инженеров-механиков, наградили медалью Уатта и Эвинга (Великобритания).
Но наукой деятельность Тимошенко не исчерпывалась: он был активным членом русской диаспоры, помогал спасению русских беженцев в Европе после окончания Второй мировой войны. Дело в том, что, согласно решению Ялтинской конференции, все, кто до 1 сентября 1939 года находился на территории СССР, должны были вернуться в пределы Советского Союза. В зонах оккупации союзников в Германии созданы были лагеря для перемещенных лиц (displaced persons, или DP, Ди-Пи). Советская военная администрация постоянно проводила облавы, пытаясь выявить в этих лагерях своих, «русских». Далеко не все перемещенные лица жаждали возвращения в лоно сталинского режима. Тех, кого удавалось отловить, насильно отправляли в сборные пункты советской зоны оккупации. В дальнейшем на родине абсолютное большинство из них ждали лагеря ГУЛага. Среди Ди-Пи было очень много представителей русской научной и инженерной интеллигенции. Чтобы понять масштабы проблемы, достаточно сказать, что в открытом российскими учеными и преподавателями из состава Ди-Пи в 1946 году в Мюнхене Международном университете обучалось 2000 русских студентов — из беженцев и перемещенных лиц!
Ради того чтобы облегчить участь своих коллег-ученых, Степан Тимошенко стал одним из членов так называемого Профессорского фонда, созданного в США по инициативе Александры Львовны Толстой. Официальное название фонда — Комитет по оказанию помощи русским ученым и профессорам, бедствующим в Европе. В его состав вошли самые известные русские ученые, проживавшие в США: социолог Питирим Сорокин, химик Владимир Ипатьев, авиаконструктор Игорь Сикорский…
Сотни людей науки, всемирно известные российские профессора в настоящее время находятся безо всяких средств к существованию в Европе, главным образом в лагерях ЮНРРА [Администрация ООН по восстановлению и помощи], — отмечалось в обращении Профессорского фонда от 18 сентября 1946 года. — Известных ученых в лагерях так много, что просто невозможно перечислить все их имена, как и их вклад в области естествознания и техники. Наша цель — помочь им, дать молодежи шанс продолжить работу, а старшим — возможность выжить, если они уже не смогут применять свои профессиональные знания.
Кроме общечеловеческих у Степана Тимошенко были и глубоко личные мотивы для такой деятельности. Он переживал потерю своего среднего брата Сергея. Известный и очень талантливый архитектор, Сергей Прокофьевич Тимошенко окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Успешно работал в Харькове. Октябрьскую революцию 1917 года не принял сразу и эмигрировал в Польшу, а оттуда переехал в Чехословакию. В Праге возглавлял Украинский технический и сельскохозяйственный институт. В 1945 году оказался в лагере для перемещенных лиц в Германии. Об этом трагическом периоде жизни брата Степан Прокофьевич Тимошенко напишет в своих воспоминаниях:
По окончании войны мой брат оказался в одном из лагерей для пленных, организованных американцами. Положение его было очень опасным. Лагеря посещались советскими представителями, которые особенно интересовались людьми, известными своей антикоммунистической деятельностью. Таких людей они увозили в Россию и там уничтожали. Брату посчастливилось, он не был замечен большевиками и смог через год после окончания войны приехать ко мне в Калифорнию. […] Брат был на два года моложе меня и в молодости был физически здоровее меня, но тяжелые переживания войны сильно отразились на его здоровье. Он с трудом ходил. Сердце отказывалось служить. […] Через четыре года, на семидесятом году жизни, он умер.
Но за эти четыре года Сергей Тимошенко успел разработать проекты православных церквей в Ванкувере, Эдмонтоне, Торонто…
Непростая судьба младшего брата, Владимира Тимошенко (1885–1971), сложилась все-таки более счастливо. Профессор, известный экономист, он еще до революции издал труд, принесший ему известность, — «Экономика зернового рынка Петербурга». В Гражданскую войну воевал в рядах Белой армии. Был арестован ЧК и чудом избежал расстрела. Затем эмиграция: Париж, Прага и, наконец, США. В 1945-м вышел в свет капитальный труд профессора — «Мировой зерновой обзор и прогнозы». Авторитет его как специалиста был очень высок. В 1946–1947 годах Владимир Тимошенко — экономический советник американской администрации в Германии. Научный консультант Министерства земледелия США. Занимал кафедру в Стэнфордском университете. В это же время подготовил монографию «Сельскохозяйственная Россия и проблема пшеницы». В последние годы жизни принимал участие в создании коллективного научного труда «Международная история пищевых продуктов и сельского хозяйства в годы Второй мировой войны».
Может быть, учитывая такую «генетику», на родине, в СССР, имя Степана Тимошенко хоть и не было официально запрещено и даже переиздавались некоторые его работы, но все же… Его, казалось, не забывали: выбрали в АН СССР, сначала, в 1928 году, членом-корреспондентом, а в 1958-м (по некоторым данным — в 1964-м) — иностранным почетным членом. Но когда в конце 1960-х годов член-корреспондент АН СССР Эдуард Иванович Григолюк попытался издать сборник трудов Степана Тимошенко под общим названием «Работы по вопросам высшего образования», ему пришлось столкнуться с анонимным, но явным и очень мощным противодействием. Сначала рукопись — его перевод сборника — пришлось забрать из московского издательства «Высшая школа» и передать в киевское издательство «Вища школа», оттуда — в издательство «Наукова думка». Но и на Украине до публикации дело не дошло. Григолюк снова привез рукопись в Москву, в издательство МГУ, и уже там она была благополучно… утеряна.
Однако у самого Степана Тимошенко искренний интерес к родине никогда не угасал — деловой, прикладной, а не просто интерес любопытствующего эмигранта. В частности, его волновали различия в системах инженерного образования США и СССР.
Сравнивая учебные планы русских и американских высших технических учебных заведений, можно заключить, что одним из принципиальных факторов, влияющих на учебные планы, является разница в подготовке, полученной в средней школе, — писал Тимошенко в книге «Инженерное образование в России», вышедшей в США в 1958 году, а в русском переводе уже в Российской Федерации, в 1997-м. — Повышенные требования по математике и естественным наукам и большие конкурсы на вступительных экзаменах позволяют преподавать в российских вузах фундаментальные науки, такие как математика, механика, физика и химия, на более высоком уровне, чем у нас [в Америке]. Это же касается общеинженерных дисциплин: сопротивления материалов, гидравлики, термодинамики, кинематики и динамики механизмов… […]
Следует признать, что […] с нашей слабой подготовкой в средней школе мы не сможем, по-видимому, достичь того, что имеют сегодня высшие учебные заведения России.
И нам следует признать, что опасения Тимошенко не подтвердились и сегодня 80 % инновационной продукции в мире выпускается в США. Но в этом, возможно, есть и его заслуга: неслучайно академик Григолюк подчеркивал, что Степан Тимошенко «фактически сформировал инженерный корпус Европы, Азии, Америки […] его главной заслугой стало не проектирование линкоров и строительство аэропланов и специальных сооружений, а создание в разных странах корпуса инженеров, подготовленных в области механики твердого деформированного тела, прочнистов в различных промышленных областях, развитие инженерного образования в мире».
В 1967 году Тимошенко посетил Москву. Его пригласили в Президиум АН СССР, где сообщили, что издательство «Наука» готово выплатить гонорары за опубликованные прежде переводы книг: «Берите чемодан, денег — куча». Но Тимошенко категорически отказался. Он написал заявление о передаче гонораров на премии ученым за работы в области строительной механики. Впрочем, эта премия так и не была учреждена, а деньги, видимо, пошли на что-то другое…
Точно так же вежливо, но твердо Степан Прокофьевич отверг и предложение возглавить академический институт, который специально под него готовы были создать в Москве. «Это было бы хорошо, когда я был молод, а сейчас я ничего не могу: и силы не те, и голова не та», — с грустью мудрого человека посетовал он.
Свои последние годы Тимошенко провел в Германии, в Вуппертале, с овдовевшей старшей дочерью Анной Хетцельт. Там и умер в 1972 году. Но похоронить себя завещал в Калифорнии, в Пало-Альто, рядом с могилой жены и вблизи могил братьев…
В 1971 году в СССР вышел последний прижизненный сборник Степана Прокофьевича Тимошенко «Устойчивость стержней и оболочек». Авторское посвящение в нем звучало так: «Родине моей и русскому инженерному гению посвящаю свое собрание».
Технологии
Русские крылья: авиация в эмиграции. Игорь Сикорский, Александр Прокофьев-Северский, Александр Казаков (Тим Скоренко)
Если считать в процентном отношении, выясняется, что эмиграция первой волны затронула в основном гуманитарную интеллигенцию — писателей, философов, поэтов. Инженеры, как ни странно, оставались в новом государстве до последнего, что было связано с рядом факторов, о которых мы поговорим ниже. Тем не менее одно инженерное направление по количеству и значимости уехавших сильно напоминало состав «философского парохода» — речь идет об авиаконструкторах. Для них в новой жизни места не нашлось.
В дореволюционной России инженерная мысль чувствовала себя не слишком хорошо. Судите сами: «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования», аналогичное британскому патентному закону, принятому при королеве Анне в начале XVIII века, в России начало действовать в 1896 году — почти на два века позже! Не будем вдаваться в подробности российского патентного права и вообще возможностей изобретателя «протолкнуть» свою идею — эта история заслуживает отдельной книги. Если коротко, то дела обстояли плохо. С 1896 по 1917 год в России было получено в три раза больше патентов, чем за всю ее предыдущую историю, но это в пять раз меньше, чем выдавалось свидетельств за любой произвольно взятый год в США. И проблема была не в «креативе» — мозгов хватало, а в стоимости, бюрократии и бесправии.
По сути, техническое развитие в России шло только в тех узких отраслях, которые по той или иной причине поддерживались государством. Электротехника — да, тут мы были одними из мировых лидеров. Торпедное и минное дело — безусловно. Кораблестроение. Сейсмология. Странные, вырванные из контекста области знания. Но что касалось, скажем, бытовых приборов, фотографии или автопрома, то здесь Россия отставала очень серьезно.
Так или иначе, после двух революций у множества инженеров-самоучек появилась надежда. Граф Петр Петрович Шиловский, изобретатель в области гироскопических систем, до революции встретил в России стену неприятия, вынужден был уехать в Лондон и там построить первый в мире гирокар при поддержке завода Wolseley. После революции он — потомственный дворянин! — вернулся в Россию и получил от нового правительства средства на строительство монорельса Москва — Петроград! Правда, это предприятие ничем не закончилось, и в 1922 году ему пришлось вновь уехать в Великобританию. Вероятно, это спасло ему жизнь, но сейчас речь о другом. В целом в 1920-е годы множество инженеров, порой даже одержимых совершенно безумными идеями, получили финансирование и сумели сделать то, что никак не получалось у них до революции.
А вот в тех областях, которые при царизме процветали, наоборот, возник провал. Мог ли человек, успешный и обеспеченный при старой власти, радоваться тому, что на смену ей пришло нечто невнятное и явно менее дружелюбное? Нет. И авиации это коснулось в очень большой степени. До революции российская авиация развивалась с небольшим отставанием от европейской и американской, а с началом войны рванула вперед стремительными темпами — во многом благодаря Игорю Ивановичу Сикорскому, но, конечно, не только ему. Новая власть закрыла все калитки. Талантливые инженеры остались не у дел.
Основной причиной было то, что авиация, развиваясь в тесной связи с армией, двигалась вперед благодаря офицерству и интеллигенции, то есть тем слоям общества, которые, мягко говоря, не приветствовались новым строем. Хотя были и исключения. Например, прошедший при царе все круги бюрократического ада изобретатель ранцевого парашюта Глеб Евгеньевич Котельников при Советах получил карт-бланш и стал одним из мировых «прогрессоров» в области спасения пилотов. Точно так же и Циолковский (впрочем, имевший успех и до революции) получил добро на свой проект цельнометаллического дирижабля — хотя построить его так и не успели.
А мы поговорим о талантливых инженерах, которые могли бы сделать русскую авиацию лучшей в мире, но не сделали. На повестке дня — Игорь Иванович Сикорский, Александр Николаевич Прокофьев-Северский и печальная история в качестве постскриптума.
Сикорский: и здесь и там
Конечно, Игорь Иванович Сикорский — это № 1. Единственный, чье имя знают, видимо, все по обе стороны океана, звезда двух миров и авиаинженер, заслуживший эпитет «великий».
Более всего в его биографии поражает тот факт, что в 1912 году он стал главным конструктором только что созданного авиастроительного отделения Русско-Балтийского завода — в 23 года! Каким образом консервативная структура пропустила молодого, едва после университета инженера на главный, по сути, авиатехнический пост в стране? Давайте разберемся.
Игорь родился 25 мая 1889 года в Киеве, в семье известного врача, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Круг знакомств последнего был обширен и значим: крестным отцом мальчика стал великий князь Петр Николаевич Романов, внук Николая I, а крестной матерью — великая княгиня Александра Петровна. На этом описание связей Ивана Алексеевича можно закончить — все уже понятно.
Игорь рос интересующимся, талантливым, но финансовая стабильность и, как следствие, полная свобода действий несколько его расхолаживали. По родительской инициативе он проучился несколько лет в Морском кадетском корпусе, бросил его и в 1906 году уехал в Париж продолжать образование в Технической школе Дювиньо де Ланно. Во многих источниках пишут, что и ее он бросил, чтобы поступить в Киевский политехнический институт, но на деле школа Дювиньо де Ланно не была даже среднеспециальным учебным заведением — скорее подготовительным к вузу. Так что Сикорский покинул ее тогда, когда посчитал себя готовым. Другое дело, что институт он тоже бросил и вернулся в Париж, где учился у Фердинанда Фербера, авиаконструктора, пилота и одного из известных европейских пионеров авиации. Когда же 22 сентября 1909 года Фербер погиб, разбившись при испытаниях опытного биплана системы Вуазена, Сикорский снова отправился в Киев.
Из всех этих перипетий он вынес самое главное — опыт строительства реальных летательных аппаратов. Примитивный вертолет Сикорский строил под началом Фербера, а в Киев привез два двигателя Anzani, комплекты пропеллеров — и построил там на деньги семьи два вертолета, С-1 и С-2. На тот момент вертолеты катастрофически отставали от самолетов, поскольку механизма перекоса еще не существовало и геликоптеры были практически неуправляемы.
К 1911 году Сикорский самостоятельно, с помощью нанятых помощников, построил три самолета: С-3, С-4 и С-5. Пятая модель стала первой машиной Сикорского, которая поднялась в воздух. За штурвалом сидел сам изобретатель, который в том году получил, наконец, удостоверение пилота. Его последний «до-руссо-балтовский» самолет, С-6А, удостоился в 1912-м Большой золотой медали Московской воздухоплавательной выставки.
Вот тут и произошло неожиданное. В 1912 году не имеющий законченного высшего образования юный инженер получил должность главного конструктора авиационного отделения РБВЗ, того самого легендарного «Руссо-Балта». Основное производство автомобилей и железнодорожной техники базировалось в Риге, авиационный отдел — в Санкт-Петербурге.
Секрет успеха был относительно прост. В России почти не было сильных специалистов, обладающих навыками практического авиастроения. Яков Гаккель уже работал у предпринимателя Щетинина на его авиазаводе «Первое российское товарищество воздухоплавания», позже они привлекли туда же Дмитрия Павловича Григоровича. Там же работал и Николай Васильевич Ребиков, создатель первого серийного российского самолета «Россия-А». Князь Александр Сергеевич Кудашев работать на заводе не согласился бы, у него были свои планы.
Руководитель авиационного отделения и председатель совета акционерного общества РБВЗ Михаил Владимирович Шидловский не хотел приглашать иностранца и, видимо, банально составил на листке бумаги список тех, кто хоть сколько-то мог подойти. Сикорский оказался единственным свободным специалистом, который строил летавшие самолеты. И Шидловский рискнул.
С 1912 по 1918 год Сикорский возглавлял авиационное отделение «Руссо-Балта» и совершил как минимум один прорыв мирового значения. Речь о знаменитом самолете «Русский витязь», четырехмоторном гиганте с закрытой кабиной и теоретической грузоподъемностью в тонну. Машину конструктор задумал в 1911-м, первый полет она совершила 10 мая 1913 года. Для понимания: типовой самолет второй половины войны, скажем Nieuport или Fokker, в первом приближении представлял собой скрепленный проволокой одноместный деревянный гроб. Машина Сикорского настолько опередила свое время, что заметки о ней в прессе воспринимались как утки, а пари на то, что она не полетит, заключались до самого момента взлета. По мотивам разобранного «Витязя» был построен первый в мире серийный многомоторный самолет «Илья Муромец», цельнодеревянный биплан с полноценным пассажирским салоном (это был первый аппарат, который мог нести не только пилота и пассажира), способный совершать пятичасовые беспосадочные перелеты со средней скоростью порядка 100 км/ч. Всего было выпущено 76 «Муромцев», но лишь четыре из них были гражданскими, остальные существовали лишь в военной модификации бомбардировщика.
На РБВЗ Сикорский проектировал самолеты вплоть до С-20, а за шесть лет было построено 240 различных машин — очень хороший по тем временам показатель. И если бы не революция, Россия стала бы авиационной державой № 1.
Но в 1918 году РБВЗ был национализирован и превратился в Первый бронетанковый государственный завод. Авиационное отделение также попало под национализацию (сегодня оно называется ФГУП «Ленинградский Северный завод»). Сикорский не стал ничего ждать — у него, явного представителя враждебного класса и человека, с юных лет привыкшего многое решать своей волей и талантом, в новом обществе не было никаких шансов. Зато у него имелось приглашение из Франции, куда он и отплыл 18 февраля 1918 года из Мурманского порта через Великобританию, оставив семью в Петербурге. С женой он, к слову, развелся, поскольку она увлекалась идеями коммунизма и уезжать с ним попросту не захотела.
Во Франции у Сикорского не сложилось. Кратковременная работа на военное ведомство показала, что толковой карьеры здесь не получится, и в марте 1919 года он высадился в порту Нью-Йорка, чтобы начать новую жизнь.
На первых порах судьба Сикорского в США складывалась точно так же, как судьба любого типичного эмигранта. Английской он знал крайне плохо, общался с другими такими же эмигрантами, зарабатывал преподаванием технических наук в русскоязычных школах, а первую авиационную фирму Sikorsky Aero Engineering основал лишь в 1923 году, когда поднаторел и в языке, и в общении с американской бюрократией. Проблема была в том, что после войны и революции из Европы и России в США хлынул такой вал безработных инженеров, что их попросту некуда было девать. Особенно много специалистов было из различных областей машиностроения.
Компания едва держалась на плаву. Сикорский жил в самых дешевых съемных комнатах, мастерской служил полуразрушенный ангар, денег постоянно не хватало, а опытные самолеты от S-29-A (1924) до S-35 никакого успеха не имели. Правда, у S-29-A была занятная судьба — финальный взнос на его строительство внес… Сергей Васильевич Рахманинов. Не «подарил другу-эмигранту», как говорят некоторые источники, а просто купил акции молодой компании — чтобы спустя много лет продать их за большие деньги. Самолет же впоследствии приобрел знаменитый Говард Хьюз и благополучно разбил его на съемках фильма «Ангелы ада». Серьезно подкосил Сикорского и позорно проваленный заказ на самолет Sikorsky S-35 для межконтинентального перелета за приз Ортейга, поступивший от французского пилота Рене Фонка в 1926-м: самолет потерпел катастрофу на испытаниях из-за технической ошибки. А приз выиграл Чарлз Линдберг.
Но в 1927 году Сикорский наконец поймал удачу за хвост — компания Pan American заказала ему летающую лодку, и на свет появилась модель Sikorsky S-36, оказавшаяся очень успешной. Построенная впоследствии по ее образцу амфибия S-38 стала первым крупносерийным (более 100 экземпляров) самолетом компании, и до 1944 года Sikorsky строила только амфибии, став лидером этой узконаправленной отрасли.
Окончательно встав на ноги и сделав себе имя в разработке амфибий, Сикорский осуществил наконец свою мечту, вернувшись к вертолетам. К тому времени его компания уже была брендом более крупной корпорации — United Aircraft and Transport Corporation, но у Сикорского внутри своего подразделения была полная свобода действий.
В 1939 году появился Vought-Sikorsky VS-300 — это был первый в мире вертолет с успешно интегрированным в систему автоматом перекоса и рулевым винтом. По сути, Сикорский собрал воедино все существовавшие на тот момент наработки вертолетостроения — от автожиров Хуана де ла Сьервы до французских систем Breguet-Dorand — и построил первый полноценный рабочий вертолет современной конфигурации. В 1942-м он же начал производство первого в мире серийного вертолета Sikorsky R-4.
До конца жизни великий инженер создал еще несколько десятков вертолетов вплоть до Sikorsky S-67 Blackhawk (1970). Он получал награды из рук почти всех американских президентов, при которых работал, и стал легендой: 99 из 100 современных вертолетов построены по схеме, предложенной Сикорским. И хотя в бизнесе и работе он полностью перенял американский стиль — деловой, собранный, лишенный сантиментов, в личной жизни Сикорский оставался самым настоящим белым эмигрантом. В разное время он возглавлял различные эмигрантские кружки и группы, писал статьи монархического характера и воспоминания о прекрасном былом. В США он вторично женился на эмигрантке Елизавете Алексеевне, родившей ему четверых сыновей, а позже в Америку переехала и его дочь от первого брака Татьяна. Под конец жизни он стал значительно сентиментальнее, укрепился в вере (он всегда был религиозен, что не мешало ему заниматься точными науками), ездил на старом «Фольксвагене-жуке», писал эссе романтического характера и увлекался спортивной стрельбой.
Скорее всего, если бы его пригласили в Советский Союз даже в качестве гостя, он согласился бы. В России осталось все, что он любил. И языком, на котором всегда говорили в его семье, был русский. Но Игорь Сикорский умер 26 октября 1972 года во сне, в мире и спокойствии, так и не увидев больше свою давно покинутую и навсегда любимую родину.
Напоследок заметим, что Сикорский «приютил» в своей компании множество талантливых русских инженеров-авиаторов. Например, отдел аэродинамики у него возглавлял известный специалист Михаил Евгеньевич Глухарев, а ведущим испытателем был пилот-ас Борис Васильевич Сергиевский, сбивший во время Первой мировой 11 самолетов противника.
Америка зовет
Еще один эмигрант и талантливый представитель авиационного дела, заслуживающий отдельного рассказа, — Александр Николаевич Прокофьев-Северский, потомственный дворянин, летчик и инженер. Он родился 24 мая 1894 года в Тифлисе. Его отец, Николай Георгиевич, был одним из немногих в России владельцев собственного частного самолета, Blériot XI, модифицированного под заказ совсем еще молодым (на шесть лет старше Саши!) авиационным инженером Михаилом Григорашвили. Последний, кстати, в 1917 году тоже эмигрирует — в США, а позже — в Канаду и станет еще одной звездой той же авиаэмиграционной плеяды.
Отец научил Александра летать, а потом Прокофьев-младший поступил все в тот же Морской кадетский корпус — одно из самых популярных учебных заведений для отпрысков дворянских семей. Позже он учился в летных школах в Гатчине и Севастополе, из второй был отчислен — но на фронте не хватало пилотов, и это сыграло на руку Прокофьеву: он восстановился, а потом отправился на фронт, где в июле 1915 года произошла трагедия. Экипаж Прокофьева — он сам и его механик Блинов — собирались сбросить бомбы на немецкий эсминец в Рижском заливе, и третья по счету бомба сдетонировала прямо в самолете. Прокофьев выжил — но потерял правую ногу.
Однако он не сдался. Работая авиаинженером и испытателем на уже упомянутом заводе Щетинина, бомбардировал начальство требованиями вернуть его в действующую авиацию — с деревянным протезом. А в итоге самовольно, «угнав» самолет, продемонстрировал уровень своего пилотажа перед начальством на летном поле и отправился после этого экзерсиса под домашний арест. История получила огласку и дошла до Николая II, который, узнав подробности, восхитился упорством одноногого пилота и велел вернуть того в строй.
Прокофьев летал до конца войны; документально подтверждены три его воздушные победы, что не позволяет включить его в ряды асов, но сам он всегда называл число 13. Кто знает, кто знает. По крайней мере он стал обладателем рекорда по неподтвержденным победам.
Надо сказать, что приход к власти Временного правительства положения Прокофьева не изменил. Керенский лично вручил ему орден Святого Георгия 4-й степени; позже временная же власть отправила молодого пилота в США с дипломатической миссией. Правда, в марте 1918 года, когда назначение начало действовать, никакого Керенского уже и в помине не было. Прибыв в США официальным лицом, Прокофьев понимал, что больше не вернется.
Америка не отпускает
Фамилия Северский была сценическим псевдонимом отца Александра, Николая Георгиевича Прокофьева. С какого-то момента и отец, и сын начали вписывать в документы двойную фамилию Прокофьев-Северский. Во франкоязычный загранпаспорт (да, в России и тогда были загранпаспорта) длинная фамилия не умещалась, и секретарь убрал первую часть, а чтобы подчеркнуть дворянство Прокофьева, прибавил аристократическую приставку. Поэтому в США конструктор известен как Александр де Северский, и никак иначе.
Работа в дипломатической миссии завершилась не начавшись — отношения так и не были установлены, а финансирование посольства довольно быстро прекратилось. Но «бонус» от нее был: Северский (теперь будем называть его так), в отличие от Сикорского, с самого начала имел связи на самом верху. В 1921 году он познакомился с генералом ВВС США Уильямом Лендрамом (чаще — просто Билли) Митчеллом. Митчелл считается сегодня «отцом американских ВВС»: он был не столько создателем, сколько «популяризатором» и дал старт реорганизации воздушных сил, приведшей к образованию в 1947-м — уже после смерти Билли — современной структуры.
Митчелл помог де Северскому с армейским контрактом на новый авиационный прицел, и на деньги от продажи патента на это устройство пилот-инженер основал свою первую американскую фирму Seversky Aero Corporation. Уже во вторую свою компанию, более известную, Seversky Aircraft Company, он в 1931 году пригласил на должность главного конструктора другого известного инженера-эмигранта — Александра Михайловича Картвели.
За последующие годы Северский построил целый ряд самолетов — в основном экспериментального, нетипового характера. Самым известным и построенным в количестве 195 экземпляров стал истребитель Seversky P-35 (1935) — первый американский цельнометаллический одноместный самолет. Впрочем, обе компании Северского были не очень успешны финансово, и в 1939-м он продал бизнес. Но в историю авиации Северский вошел в первую очередь целым рядом замечательных изобретений, продажа патентов на которые принесла ему существенный доход. В частности, именно Александр де Северский изобрел дозаправку в воздухе. Первая дозаправка по его методике, посредством гибкого шланга, произошла 27 июня 1923 года. Впрочем, регулярное практическое применение дозаправки началось уже в 1930-х с легкой руки другого талантливого инженера, британца Алана Кобхэма.
Северский был прекрасным оратором, много выступал на публике, популяризировал авиацию, написал книгу-бестселлер «Воздушная мощь — путь к победе» (1942), консультировал ВВС США во время войны и в мирное время, удостоился ряда наград и профинансировал строительство новых корпусов для Нью-Йоркского технологического института. Умер он в 1974 году в славе и почете.
Бесконечная авиация
О русских эмигрантах-авиаконструкторах можно говорить долго. Например, блестящий инженер Константин Львович Захарченко работал в США и Китае, став, по сути, одним из отцов всего китайского авиапрома. Другой конструктор, Николай Анатольевич Флорин, уехав из революционной России в Бельгию, в 1933 году построил первый способный на стабильный полет двухроторный вертолет. Уже упомянутый Александр Картвели стал главным конструктором истребителя Republic P-47 Thunderbolt — самого массового американского самолета Второй мировой, изготовленного в количестве более 15 000 машин. А еще были Михаил Михайлович Струков, Майкл Грегор (он же Михаил Грегорашвили), Георгий Александрович Ботезат, Янис Давидович Аккерман и прочая, и прочая.
Но напоследок мы расскажем одну небольшую историю о человеке, который так и не смог покинуть свою страну. Александр Александрович Казаков был величайшим русским пилотом-асом Первой мировой войны — он сбил 17 самолетов в личных боях и еще 15 в групповых. Также он стал вторым в истории после Петра Николаевича Нестерова пилотом, применившим воздушный таран, и первым, оставшимся при этом в живых. После революции он уехал в Мурманск и служил там командиром 1-го Славяно-Британского авиационного отряда, в составе которого были как английские, так и русские пилоты, воевавшие на стороне Белого движения. К лету 1919 года ситуация явно склонялась к победе Красной армии, и британцы начали постепенно эвакуировать свои войска с севера, заодно помогая с отъездом русским, не желавшим оставаться на новой родине. Казаков от эмиграции отказался, а двумя днями позже, 1 августа 1919-го, погиб. Он вылетел со своего аэродрома, чтобы сделать несколько кругов почета над кораблем, уходившим на север, к армии Колчака. Возвращаясь, Казаков на ровном месте совершил ошибку, вошел в штопор и разбился. Все до единого знавшие его пилоты, все историки авиации, российские и зарубежные, сходятся на одной версии: пилот такого уровня просто не мог ошибиться настолько грубо и глупо. Пилот-ас Александр Александрович Казаков покончил с собой, не желая ни покидать родину, ни оставаться в том, чем она стала.
Тоже по-своему эмиграция.
Технологии
Бульб Владимира Юркевича, или корабельная история (Тим Скоренко)
Жизнь авиационных инженеров в эмиграции можно охарактеризовать как «гнездовую». Гнездо Сикорского, гнездо Северского, гнездо Струкова и так далее. Специалистов из России было так много, что они могли образовывать целые фирмы сугубо эмигрантского состава. В кораблестроении дело обстояло несколько иначе — куда меньше инженеров уехало за рубеж, и совсем мало среди них было по-настоящему выдающихся, таких как Владимир Иванович Юркевич (1885–1964).
29 октября 1932 года на воду был спущен огромный океанский лайнер «Нормандия» (Normandie). Когда в мае 1935-го он совершил свое первое плавание, не было в мире пассажирского корабля крупнее. Немудрено: «Нормандия» строилась как флагман французской компании Compagnie Générale Transatlantique (CGT) и предназначалась для плавания из Гавра в Нью-Йорк через Атлантику.
К концу 1920-х самым крупным судном CGT был лайнер «Иль-де-Франс» (Île de France) водоизмещением 43 153 тонны. Свое первое путешествие он совершил в 1927 году, однако устарел едва ли не в момент закладки. И связано это было, как ни странно, с Первой мировой войной. Соглашение между CGT и французским правительством о строительстве четырех новых трансатлантических лайнеров было заключено в 1912 году, но до войны ни один не успели даже заложить. В 1916-м началось строительство первого из лайнеров, «Париж» (Paris), который был спущен на воду только в 1921-м, а «Иль-де-Франс» «опоздал» еще на шесть лет. Оставшиеся два корабля не были построены вовсе.
И «Париж», и «Иль-де-Франс» могли, конечно, пересекать океан с пассажирами и грузом и были мощными, комфортабельными судами. Но к началу 1930-х уже появились новые материалы, новые инженерные идеи, и главное — CGT планировала увеличивать свое присутствие в Северной Америке, наращивая плотность сообщения. Так появился проект «Нормандия».
В 1929 году был объявлен официальный тендер на проектирование. В нем в числе прочих приняла участие инженерная компания Penhoët, фактический монополист в проектировании пассажирских судов. Суммарно в тендере участвовали 25 различных проектов — как от инженеров Penhoët, так и от других французских специалистов.
А выиграл — совершенно неожиданно — проект, который по ночам, параллельно с основной работой, в съемной однокомнатной квартирке рисовал для Penhoët никому не известный русский эмигрант Владимир Иванович Юркевич. И это было неспроста.
Морская империя
Юркевич происходил из дворян: отец его был действительным статским советником, человеком уважаемым и обеспеченным. Родился Владимир в Туле, учился в престижной 4-й Московской гимназии, а затем поступил в очень странный по тем временам вуз.
Санкт-Петербургский политехнический институт был очень молод — его основали в 1899-м, когда 14-летнему Володе оставалось всего три года до окончания гимназии. Первый набор провели только в 1902-м, и кораблестроительное отделение было самым маленьким и непрестижным. До того велось множество споров, нужно ли оно вообще: мол, потребность в морских инженерах полностью покрывает Морское инженерное училище в Кронштадте.
Юркевич поступил во второй набор 1903 года, и на всем потоке учились 27 человек. В этом был плюс: преподаватели уделяли студентам значительно больше времени, чем могли бы при полной укомплектованности факультета. Учеба была сложной и интересной — мореходная практика (до самого Сингапура!), множество проектов, причем не только судов, но и портовых сооружений. В 1909-м Владимир Юркевич окончил Политех с золотой медалью.
Российский флот на тот момент пребывал не в лучшем состоянии. В результате Русско-японской войны было утрачено множество военных кораблей, в том числе совершенно новых, которые могли бы служить еще долгие годы. С торговым и пассажирским флотом дела обстояли не лучше: еще в 1898 году был принят закон о беспошлинном ввозе судов заграничной постройки, и это практически уничтожило гражданское кораблестроение в России. После института Юркевич работал на Балтийском судостроительном и механическом заводе и принимал участие в разработке линейных крейсеров серии «Измаил». К сожалению, «Измаилам» не повезло: к апрелю 1917 года первый по дате закладки был готов всего на 65 %, и Временное правительство банально отменило постройку. Но к тому времени Юркевича на заводе уже не было.
Важно другое: как раз при проектировании линкоров на Балтийском судостроительном он разработал концепцию бульба.
От Турции до бульба
Носовой бульб — это элемент конструкции, напоминающий луковицу, эллипсоидный выступ ниже ватерлинии, который нарушает стройную линию носа (что видно, когда корабль находится в сухом доке) и выдается вперед, придавая судну несколько комический вид. Как ни странно, с точки зрения гидродинамики бульб — огромный прорыв вперед. Рассекая воду, он перенаправляет потоки, значительно снижая сопротивление при движении судна и позволяя увеличивать дальность, экономичность и скорость. Для малых кораблей бульб роли не играет, но с определенного размера выигрыш при его использовании становится огромным. В частности, это работает для больших лайнеров, линкоров, авианосцев.
Влияние подводного выступа на сопротивление заметил не Юркевич. Первыми судами с подобной схемой, пусть и довольно примитивной, были американский линкор «Делавэр» (Delaware), спущенный на воду в 1910 году, и его «брат», линкор «Северная Дакота» (North Dakota). Изобрел бульб американский инженер-кораблестроитель Дэвид Тэйлор. До 1930-х годов схема применялась редко и довольно неумело — бульбы делались аккуратными, инженеры не решались на кардинальное изменение формы носа. Суммарно до Юркевича было построено около десятка кораблей с «прабульбами», реализующими идею Тэйлора, но несовершенными.
Итак, с началом революционных событий Юркевича перевели в местное отделение завода в городе Николаеве. Работы почти не было, как и денег, а вот опасностей и сложностей хватало. В 1920-м он принял решение уехать — в новой стране найти свое место не получалось. Юркевич уплыл в Стамбул, там два года работал в автомастерской, а потом, в 1922-м, сумел получить французскую визу и перебрался в Париж, где судьба его тоже складывалась непросто.
Некоторое время он работал токарем на заводе «Рено», затем — чертежником на небольшом производстве деревянных рыболовецких судов. Российский эмигрант никого не интересовал, рекомендаций у Юркевича не было, и карьера его могла пойти вверх только благодаря случаю. Каковой и представился в лице бывшего контр-адмирала Сергея Сергеевича Погуляева.
Погуляев, моряк, белый офицер, командир военных судов и экс-начальник штаба Черноморского флота, устроился на французскую морскую службу еще в 1918 году: у него были связи и какое-то время он отвечал за контакты между французским правительством и морским министерством Врангеля. В России Погуляев несколько раз пересекался с Юркевичем — все-таки они работали в одной структуре, хотя заметно различались положением и сферой деятельности.
Итак, как уже говорилось, в 1929 году CGT объявила тендер на строительство самого большого, быстрого и комфортабельного лайнера в мире. Об этом писали в газетах, и, конечно, об этом прочел Юркевич. Он отправил компании Penhoët, тогдашнему лидеру французской корабельной отрасли, свое видение проекта. Основным новшеством было использование характерного, большого и на первый взгляд казавшегося алогичным бульба. Схожую систему он предлагал еще для линкоров типа «Измаил», но консервативные русские кораблестроители принять ее уж точно не могли.
Ответа он не получил, но вмешался случай. Будучи знакомым и с Юркевичем, и с руководителем Penhoët Рене Фульдом, Погуляев попросту устроил Юркевичу аудиенцию у главы компании. Фульда идея Юркевича заинтересовала — и инженер, живший с женой в крошечной съемной квартирке и зарабатывавший вычерчиванием деревянных лодок, получил шанс. Да не просто шанс, а работу в Penhoët с возможностью просчитывать и изготавливать большие модели для реальных испытаний. Впоследствии вокруг Юркевича сплотилась целая группа русских кораблестроителей-эмигрантов, которые разрабатывали самые разные системы «Нормандии».
«Нормандия» стала проектом государственной важности. У самой CGT не хватало средств для реализации проекта, и государство оказывало компании серьезную финансовую поддержку. Франция соревновалась в этом вопросе с Великобританией, где уже был дан старт проекту лайнера «Океаник» (Oceanic) для компании White Star Line (правда, этот проект закрыли в 1929-м из-за экономических проблем) и где планировали к закладке знаменитую «Королеву Марию» (Queen Mary) для Cunard Line. Забавно, но еще в середине 1920-х Юркевич посылал свой проект John Brown & Company, строившей «Королеву Марию», но получил отказ.
В целом на суд CGT представили 25 проектов от разных компаний. Проект Юркевича и Penhoët оказался самым необычным — это было единственное решение с использованием бульба, причем бульба крайне странного по конфигурации и принципам распределения водных потоков. Предварительные испытания модели показали, что такое решение действительно позволит сделать лайнер исключительно быстроходным, добавив как минимум два узла к средней скорости трансатлантического перехода относительно других моделей.
Итак, в октябре 1932 года «Нормандия» была официально спущена на воду в присутствии 200 000 зрителей. Супруга президента Альбера Лебрена разбила о борт корабля бутылку шампанского. Бульб был не единственным оригинальным решением. В частности, в качестве энергетической установки использовалась гибридная, турбоэлектрическая — дизельные двигатели вращали генераторы, а уже от тех электроэнергия шла на моторы, приводившие в движение винты. Такое решение применялось на грузовых и военных судах, но никогда не использовалось на пассажирских.
На первых же испытаниях 1935 года стало понятно, что руководство компании не ошиблось, выбрав дизайн Юркевича: бульб нивелировал встречные волны, делая ход значительно более равномерным и позволяя без последствий разгоняться до значительных скоростей.
В первом же плавании в мае 1935 года «Нормандия» побила рекорд трансатлантического перехода, преодолев расстояние от Гавра до Нью-Йорка за четыре дня три часа и две минуты и перекрыв, таким образом, предыдущий рекорд средней скорости почти на узел (1,85 км/ч), за что ей достался переходящий приз — так называемая «Голубая лента Атлантики». Впоследствии рекорд был превзойден «Королевой Марией» и снова отобран у британцев «Нормандией», и так происходило еще не раз — они сражались на равных. Только вот у «Королевы Марии» были двигатели мощностью 200 000 л. с. против 160 000 л. с. у «Нормандии» и топлива она потребляла на четверть больше.
История успеха
После первого плавания «Нормандии» Юркевича везде и всюду ждал успех. Он запатентовал конфигурацию корпуса с бульбом во Франции, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Испании и Японии, основал собственное бюро BAKNI и ни минуты не сидел без заказов. В BAKNI проектировали самые быстрые и экономичные суда в мире — у Юркевича заказывали все ведущие верфи Европы. Кроме того, по его патенту реконструировались старые суда: к 1938 году «бульбами Юркевича» (так они и называются в специальной литературе) оснастили 42 больших корабля.
В 1937-м инженер перебрался в США — завоевывать новый рынок, основал там компанию Yourkevitch Ship Designs, Inc., работал с правительственными и частными заказами. Правда, в предвоенное и военное время проектировать приходилось лихтеры и буксиры, а не фантастические лайнеры. А первый послевоенный трансатлантический лайнер United States был спроектирован другим инженером — американцем Уильямом Фрэнсисом Гиббсом, и именно это судно стало последним обладателем «Голубой ленты Атлантики», перейдя через океан за три дня 12 часов и 12 минут.
Параллельно с бизнесом Юркевич читал лекции по кораблестроению в Мичиганском университете и знаменитом Массачусетском технологическом институте, консультировал Военное ведомство США, многократно ездил в Европу и работал с ведущими кораблестроительными компаниями мира. Умер Юркевич в 1964 году в возрасте 79 лет, причем до самых последних дней работал.
Его любимая «Нормандия», эвакуированная в 1939 году в Нью-Йорк, погибла 9 февраля 1942 года в пожаре, возникшем из-за безалаберности рабочих, которые переоборудовали лайнер в транспортное судно двойного назначения. Вода, использованная для тушения, скопилась с одной стороны судна, вызвала его крен и опрокидывание. Впоследствии вся дорогая обстановка и интерьеры «Нормандии» были демонтированы, а остов пущен на металлолом.
Несмотря на то что он прекрасно говорил по-французски и по-английски, Владимир Иванович никогда не терял связей с русской диаспорой, дружил со многими эмигрантами, не раз помогал им с работой. Единственный за все время эмиграции контакт Юркевича с бывшей родиной имел место в 1946 году, когда он разработал предложение по продаже поднятого лайнера «Нормандия» Советскому Союзу для последующей реставрации — но история ничем не закончилась. Главной — как он сам признавался — трагедией его жизни была не эмиграция, не трудный путь к успеху, а то, что в США, на которые он возлагал большие надежды, его знания оказались почти не востребованы. Ему хватало работы и заказов, но он больше никогда не строил больших океанских лайнеров: сперва этому помешала война, затем — конкуренция со стороны американских инженеров и, наконец, появление регулярных авиалиний и снижение интереса к теме.
Впрочем, концепция бульба Юркевича получила множество продолжений, а его дизайн лег в основу почти всего современного крупного кораблестроения. И это, поверьте, очень немало.
Технологии
Американский отец видеозаписи: Александр Понятов (Тим Скоренко)
Есть такое понятие — «американская мечта». Одно из ее воплощений — история парня из низов, который благодаря таланту и трудолюбию сделал состояние и заодно дал миру что-то новое и прекрасное. Биография Александра Матвеевича Понятова (1892–1980) полностью соответствует этой схеме за одним небольшим исключением — родился он вовсе не в США.
Понятовым очень любят гордиться в России. Его юбилеи празднуют в Казани, где он учился, его включают в список великих русских изобретателей. Но если такой подход справедлив, скажем, для Сикорского, который получил образование, встал на ноги и первых прорывов добился именно в России, то Понятов — это пример «абсолютной эмиграции»: на Родине он почти ничего не успел, а карьеру сделал именно за границей.
Кроме того, имя Александра Матвеевича всегда звучит рядом со словосочетанием «изобретение видеомагнитофона», хотя это было не личным свершением, а плодом длительной совместной инженерной работы и к тому же не главным достижением Понятова в этой области.
Казанские корни
В отличие от большинства эмигрантов первой волны, Понятов происходил не из дворян. Его отец, крестьянских корней, сделал состояние на лесоторговле и стал купцом первой гильдии. При этом он не перебрался в город, а продолжал жить в селе Русская Айша Казанской губернии, где 25 марта 1892 года и родился его сын Александр. Тут заметим, что на момент рождения Саши Матвей еще не был богат — настоящий успех в предпринимательстве пришел к нему в начале 1900-х.
Александр учился во 2-м (а не 1-м, как пишут во многих источниках) Казанском реальном училище, затем — на физмате Казанского университета, после его документы переслали в Санкт-Петербургский университет, но там Понятов так и не появился, поступив в итоге с нуля в Императорское Московское техническое училище, ныне известное как «Бауманка». Там он познакомился с «отцом русской авиации» Николаем Егоровичем Жуковским и учился под его руководством, а в 1911-м временно уехал в Германию, опасаясь преследований за участие в студенческих волнениях (к которым в те времена были склонны едва ли не все студенты). Вернувшись в Россию в 1913-м из-за призыва в армию, Понятов окончил школу летчиков, некоторое время был пилотом, попал в авиакатастрофу, выжил, болтался по госпиталям — в общем, все это выглядит «лоскутным одеялом». Неоконченные вузы, неопределенность с профессией при явных технических наклонностях и в итоге — Белая армия, чин поручика, отход с Колчаком на восток и бегство в Китай от наступающих большевиков. Сколько их было таких — неприкаянных русских офицеров, не имевших возможности вернуться в город, из которого они уехали, казалось, лишь на несколько месяцев.
А вот Китай для Понятова неожиданно стал трамплином — именно там он определился в призвании к технике, хотя, казалось бы, эта страна на тот момент отличалась архаическим подходом к жизни и стойкостью традиций. Тем не менее, тем не менее…
Из Китая в США
В Китае Понятов жил с 1920 по 1927 год, но об этом периоде почти ничего не известно. Он сам мало говорил и почти не писал о Китае — для него новая жизнь началась в Америке. К слову, период с 1914-го по 1918-й тоже покрыт тьмой — в авиационных частях Понятов в это время не служил и нигде не числился ни как студент, ни как сотрудник. Скорее всего, он отсиживался под Казанью у родителей, других вариантов история не предлагает. А в Белую армию вступил, когда та уже активно отступала.
В Китае Понятов работал на Shanghai Power Company — ныне это корпорация Shanghai Electric, одна из старейших в мире энергетических фирм. На тот момент она была крупнейшей в стране, в ней трудилось несколько сотен сотрудников (в основном иностранцев), и Понятов, судя по всему, был одним из рядовых инженеров. По крайней мере серьезных прорывов в электроэнергетике он там не совершил.
В 1927-м ему удалось перебраться в США — довольно сложным путем, через Европу (некоторое время он жил во Франции). Вероятно, к тому времени у него уже были полезные знакомства в сфере энергетики: в Китае работала масса американских специалистов и завязать контакты не было проблемой. Так или иначе, в США он почти сразу поступил на работу в General Electric, эдисоновский гигант, давший старт многим сильным инженерам. Старик Томас Альва на тот момент был еще жив, но вряд ли он лично пересекался с молодым и никому не известным инженером-эмигрантом.
Не похоже, чтобы Понятов грустил о России, в которой прожил 28 лет. Перебравшись в Калифорнию, он женился на американке, работал в различных электротехнических компаниях США, а домашним языком в его семье стал английский. Параллельно с работой в Pacific Gas and Electric Company (Сан-Франциско) и Dalmo-Victor (компания — наследница электрической империи Джорджа Вестингауза, основного конкурента Эдисона) он проводил собственные опыты в гараже — и в 1944-м решился уйти в свободное плавание.
Обратите внимание: большая часть крупных изобретателей «выстреливает» достаточно рано, в 90 % случаев — до 30 лет, а потом продолжает и развивает свою технологию или идею. Никола Тесла, первого настоящего успеха добившийся благодаря инвестициям упомянутого Вестингауза в 32 года, считался на этом поле почти что стариком. Понятов же на «молодого инженера» к моменту начала собственного бизнеса и вовсе не тянул — ему исполнилось 52 и он уже 17 лет жил в США и работал в качестве наемного специалиста.
Майор и его магнитофоны
Свою компанию Понятов назвал Ampex. Сам он говорил, что это акроним от сочетания Alexander M. Poniatoff Excellence («совершенство Александра М. Понятова» или «Его превосходительство Александр М. Понятов»?), но есть и другие версии. В разное время Понятов вообще рассказывал разное. Например, он же распространил версию о том, что AMP означает Aircraft and Marine Products («Авиационные и морские комплектующие изделия»). На первых порах компания действительно делала компактные электромоторы и генераторы для питания радаров.
И вот тут обстоятельства сложились удивительным образом, доказав, что без везения никакой талант не может раскрыться в полной мере. Понятову внезапно повезло — что не отменяет его выдающихся способностей.
Цепь событий запустил майор американской армии Джек Маллин, в 1946 году вернувшийся из Германии, где он воевал, а после служил в части, базировавшейся во Франкфурте. В Германии Маллин, очень интересовавшийся электротехникой, неоднократно бывал в офисах корпорации AEG (ведущим инженером которой за 30 лет до этого, кстати, был другой великий русский эмигрант, Михаил Доливо-Добровольский). Одним из направлений разработок AEG была аудиозапись на пленку, и немцы добились в этом значительных успехов. С собой в США Маллин захватил два «аеговских» стереомагнитофона с магнитными бобинами BASF и продемонстрировал их в Сан-Франциско перед собранием радиотехнического института 16 мая 1946 года. Инженеров концепция заинтересовала, но, скажем так, в спокойном режиме. А по-настоящему пленочная запись покорила человека совсем не технического склада — актера, певца и шоумена Бинга Кросби, который вел собственное шоу на калифорнийском радио.
Невероятно популярный певец, Кросби, по сути, был предтечей Элвиса Пресли. Его пластинки расходились миллионными тиражами. Из-за гастролей он часто не имел возможности вести прямые трансляции и потому искал решение, позволяющее быстро записывать передачи и таким образом пускать их в эфир. Маллин показал свои магнитофоны Кросби в июне 1947 года, и тот сразу понял: вот то, что нужно.
Но технология явно нуждалась в доработке, а сам Маллин, будучи человеком военным, не имел возможности организовать бизнес в этой области. Поэтому Кросби отправил Маллина с его магнитофонами в маленькую местную фирму, которая специализировалась на электрооборудовании, чтобы ее инженеры довели технологию до ума. Нетрудно догадаться, что это была Ampex.
История успеха
В апреле 1948 года компания выпустила бобинный стереомагнитофон Ampex Model 200A. Он, как уже понятно, не стал первым в мире, но его смело можно было назвать самым совершенным. С его помощью Кросби начал записывать шоу и сделал компании великолепную рекламу — заказы на аудиооборудование посыпались на Ampex как из рога изобилия. Фирма стала стремительно расширяться. Очень крупным заказом была разработка системы синхронизации звука и изображения в кинопроизводстве — первым фильмом, снятым с ее помощью, оказалась «Плащаница» Генри Костера (1953). Одновременно компания стала одним из пионеров разработки многодорожечной аудиозаписи — революционной технологии, которая применялась в записи музыкальных альбомов рок-групп.
Примерно в это же время Понятову, который лично принимал участие во всех разработках и выполнял инженерную работу наряду со своими сотрудниками, пришло в голову, что на пленку точно так же мгновенно можно писать не только звук, но и картинку, уйдя таким образом от громоздкой и сложной кинотехнологии. На эту программу были брошены серьезные инженерные силы под началом самого Понятова, и в 1956 году прорыв свершился — в лаборатории Ampex родилась технология поперечно-строчной видеозаписи. Собственно, это и есть та самая технология записи телевизионного сигнала на магнитную ленту с помощью магнитных головок. Поперечно-строчной она называется, потому что дорожки видеозаписи расположены перпендикулярно направлению движения носителя. Работа над системой была напряженной, велась на протяжении четырех лет, а результат был продемонстрирован в Чикаго Национальной ассоциации радио и телевидения 14 апреля 1956 года — этот день принято считать днем рождения видеозаписи. Представитель компании CBS Broadcasting, Inc. произнес перед демонстрацией вступительную речь — и буквально через несколько минут его выступление продемонстрировали в записи на экране. Успех был грандиозным.
Остальное оказалось делом техники. В том же году был представлен первый бытовой прибор, использующий технологию, — видеомагнитофон Ampex VRX-1000. Часто пишут, что в апреле 1956-го в Чикаго показали именно его — но нет, в тот день был продемонстрирован предтеча, опытный прибор, известный как Mark IV. VRX-1000 использовал пленку шириной 5,1 см (2 дюйма) и стоил $50 000, то есть мог применяться исключительно как профессиональное устройство, например на телестудиях. Всего было изготовлено 16 экземпляров.
Компания и дальше развивала магнитные технологии. Понятов стал звездой инженерного сообщества, он давал много интервью, рассказывал о своей работе, а количество патентов, полученных компанией, в 1950-е выросло в десятки раз. По сути, видеомагнитофон был самым технически сложным из всех электронных бытовых приборов того времени, вершиной технологической эволюции, сравнимой с компьютером.
Лидером бытовой отрасли Ampex не стала — тут у нее в скором времени появились конкуренты в лице Philips, Panasonic и др. Но в области профессиональной видеозаписи и оборудования для студий компания оставалась крупнейшим игроком рынка вплоть до середины 1990-х. Сам Понятов умер в 1980 году в преклонном возрасте уважаемым и знаменитым человеком.
Понятов и Россия
В отличие от большинства эмигрантов Александр Матвеевич или действительно никогда не скучал по родине, или просто умело это скрывал. Он был одним из немногих эмигрантов первой волны, полностью интегрировавшихся в американское общество и вышедших за рамки диаспоры. Возможно, этому способствовал «переходный период» в Китае.
К старости он передвигался в коляске — сказалась та самая авиакатастрофа. Он мог вставать на ноги и переходить из комнаты в комнату, но большие расстояния были ему не по силам. От дел фирмы он отошел в начале 1970-х — все-таки возраст сказывался.
Члены делегации Гостелерадио СССР, в 1974 году посетившей Ampex, рассказывали, что Понятов говорил по-русски словарно правильно, подыскивая слова — как человек, который некогда великолепно знал язык, но не пользовался им очень долго. Кстати, в СССР ввоз видеомагнитофонов был запрещен и технологию поперечно-строчной видеозаписи у нас разрабатывали независимо уже в 1960-е.
Невозможно предсказать, каких успехов добился бы Александр Понятов в России. Скорее всего, никаких. В 1920-х ему помешали бы происхождение и военная карьера, не говоря уже о том, что он едва ли пережил бы 1930-е. А если бы и пережил, вряд ли заинтересовался бы магнитной записью — все-таки ключевую роль в этом сыграл случай в лице майора Маллина.
Технологии
Владимир Зворыкин: патентная война (Тим Скоренко)
Телевидение — коллективное изобретение. Нет человека, о котором можно было бы сказать: именно он создал телевизор. Пауль Нипков и Джон Бэрд, Борис Розинг и Фило Фарнсуорт — все они в равной мере участвовали в разработке новой технологии. Видное место на этом пьедестале почета занимает и русско-американский инженер Владимир Козьмич Зворыкин (1888–1982).
В Москве неподалеку от телецентра «Останкино» есть памятник Владимиру Зворыкину. Безусловно, заслуженный самим изобретателем, но немного нечестный по отношению и к России, и к США. Памятник в Муроме, где Зворыкин изображен юным студентом, правомерен: да, здесь он учился, здесь, в России, получил основы знаний, сделавших его великим. Но пожилой Зворыкин, опирающийся на телевизор с кинескопом… Это уже не наша история, это история Соединенных Штатов Америки. Впрочем, почему бы и нет?! Есть же у нас памятник Майклу Джексону или Франклину Рузвельту.
Эмигрантом Зворыкин стал вынужденно. Он не уезжал из России намеренно, просто был в командировке, когда страна, которую он покидал, исчезла навсегда и возвращаться стало некуда. Как в милом фильме «Терминал» с Томом Хэнксом, застрявшим в аэропорту прибытия из-за того, что его виза аннулировалась.
Но начнем с самого начала.
Телевизор в России
Отец Владимира, Козьма Алексеевич Зворыкин, был богат. Он владел пароходами, собственным банком и крупным торговым предприятием, относился к купцам первой гильдии и потому пользовался в Муроме большим уважением. Род Зворыкиных, хоть и не дворянский, был старинным, и многие его представители имели хорошее образование, как, например, дядя Владимира, Константин Алексеевич, профессор Киевского университета.
Старший брат Николай учился в Киеве, а затем ушел в науку, пять дочерей были не в счет, и второй сын Козьмы, Владимир, оставался единственной надеждой отца на то, что кто-то примет семейный бизнес. Но Владимир после Муромского реального училища поступил в Петербургский университет, а затем по настоянию Козьмы перевелся в более прикладной вуз, Петербургский технологический институт. И это стало переломным моментом в судьбе Зворыкина-младшего.
В Технологическом институте преподавал Борис Львович Розинг, пионер механического телевидения, на тот момент уже запатентовавший «Способ электрической передачи изображений на расстояние». В некоторых источниках передача Розингом ряда простых фигур на небольшое расстояние в стенах своей лаборатории считается первой в мире телевизионной трансляцией. Произошло это событие в 1911 году, и говорить о телевидении на самом деле было рановато, но 23-летний Зворыкин сдружился с профессором и активно участвовал в проведении его опытов.
Окончив институт с отличием, Владимир получил диплом инженера-технолога (на деле — радиоинженера) и уехал в Париж, где еще полтора года учился в Collège de France на курсе знаменитого физика Поля Ланжевена. В 1914-м вернулся в Россию, был призван в армию и служил по специальности — инженером связи, сперва в Гродно, затем в Петрограде и, наконец, в Киеве. Все это время он сам конструировал радиопередатчики и вносил разнообразные усовершенствования в системы связи.
Между тем обстановка в стране накалялась. Женившись, Зворыкин почти сразу, в 1917-м, отправил супругу в Берлин, сам же бежал от ареста — его, царского офицера, ничего хорошего не ожидало — в Омск, в ставку Колчака. Белой армии хорошие радиоинженеры были нужны (не меньше, чем Красной), и из Омска Зворыкин был отправлен в первую командировку в США — сложно, через Карское море, Архангельск и Англию — для закупок оборудования, необходимого для строительства мощной радиостанции. В 1919-м он через Японию и Китай вернулся с техникой и почти сразу уехал снова. До Нью-Йорка добрался в июле, попал в бюрократическую передрягу (из-за долгой дороги и отсутствия связи в ставке решили, что он сбежал, и задним числом его уволили), выкрутился, начал работать, но тут пришло известие о том, что Колчак разбит. Возвращаться Зворыкину стало некуда. Правда, оставался он не на голом месте — его поддерживали представители российского (еще работавшего тогда) посольства в США и лично чрезвычайный посол Борис Александрович Бахметьев. Так началась новая жизнь Владимира Зворыкина.
Теперь — в Америке
Вообще, Бахметьев был сильным и, скажем так, правильным человеком. Он помогал устроиться на первых порах не только Зворыкину, но и Сикорскому, и будущему знаменитому астроному Отто Струве, и инженеру-механику Степану Тимошенко, и другим ученым и техническим специалистам в эмиграции. Сам Бахметьев, гидродинамик по образованию, после ликвидации посольства в 1922 году остался в США и в дальнейшем работал в науке, написав ряд значимых работ по гидродинамике и получив признание и известность именно как ученый.
Зворыкин же, с его блестящим образованием и прекрасными рекомендациями, быстро нашел работу по специальности в компании Westinghouse Electric в Питтсбурге. С одной стороны, это не мешало ему параллельно проводить опыты с передачей изображения на расстоянии, с другой — руководство Westinghouse совершенно этой темой не интересовалось и будущего в ней не видело. Это было в известной мере странно: уже в 1925 году шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд провел в своей лаборатории первую телетрансляцию в прямом смысле слова — не абстрактные фигуры, а реальные движущиеся картинки. В январе 1926-го Бэрд продемонстрировал свою систему механического телевидения публично, а еще годом позже впервые в истории передал подвижное видеоизображение на большое расстояние — 700 км — между Лондоном и Глазго.
Все развивалось параллельно. В 1928–1929 годах система Бэрда привела к появлению первых телекомпаний в Германии, Франции и США. Американская станция называлась WRGB, и ее развитием занималась компания General Electric, основной конкурент Westinghouse Electric. Зворыкин, будучи «в теме», понимал, что телевидение нужно развивать здесь и сейчас, потому что через пять лет это сделают другие.
И ему повезло. В 1928 году он познакомился с другим русским эмигрантом, Давидом Абрамовичем Сарновым. Сарнов Россию почти не помнил, его, девятилетнего, родители увезли в США в 1900 году. На момент знакомства со Зворыкиным Сарнов, талантливый инженер и организатор, был вице-президентом крупной радиоэлектронной компании RCA и буквально за два года до того основал собственную радиокомпанию National Broadcasting Company (NBC). Он пригласил Зворыкина к себе и предоставил ему полную свободу действий. В Камдене (Нью-Джерси) под нужды Зворыкина была построена отдельная лаборатория.
И Бэрд в Шотландии, и Лев Термен в СССР, и Дженкинс в США, и другие развивали механическое телевидение. При такой методике изображение раскладывается на отдельные элементы, а затем собирается после пересылки сигнала с помощью электромеханических устройств, в частности сканирующего диска Нипкова, круглого прибора с определенным образом расположенными отверстиями. При очень быстром вращении диска объект на экране целен для зрителя, но на самом деле он разложен на строки, видимые через отдельные отверстия, и каждая строка может передаваться на расстояние с помощью одного сигнала. Забавно, но сам Пауль Нипков, изобретший диск в 1884 году еще студентом, не предполагал, что его изобретение через 40 лет будет использовано для телевизионной развертки, — для него это был лишь забавный лабораторный опыт.
Зворыкин понял главное: будущее — за электронным телевидением. Он был не единственным, кто думал об этом: катодную трубку запатентовали еще в 1922 году Джон Джонсон и Гарри Вайнхарт из Western Electric. Началась патентная гонка. В 1923-м Зворыкин получил первый в мире патент на примитивную систему электронного телевидения, которую на тот момент еще невозможно было реализовать на практике. Мощный прорыв совершил в 1926-м венгерский инженер Кальман Тихани — он изобрел Radioskop. Его 42-страничный патент включал в себя полную систему электронного телевидения от электронно-лучевой трубки до методов массового производства и внедрения телевизоров. Аналогичную систему независимо от Тихани в 1927 году запатентовал американский изобретатель Фило Фарнсуорт — его электронно-лучевой прибор назывался диссектором, а схема включала в себя преобразование оптического сигнала в последовательность импульсов и вывод изображения на приемник.
И Тихани, и Фарнсуорт были прямыми конкурентами RCA и опережали Зворыкина — пусть и на чуть-чуть (он тоже синхронно с ними получал патент за патентом на различные элементы электронной системы). Сарнов с подачи Зворыкина вложил огромные деньги в выкуп патентов венгра и ряда других изобретателей. По сути, RCA просто приобрела все передовые технологии, существовавшие на тот момент в мире, кроме прибора Фарнсуорта, который от предложения о продаже отказался. У Зворыкина были развязаны руки: в его распоряжении оказалось все, чтобы сделать телетрансляции реальностью.
В 1933 году появился знаменитый иконоскоп — основанная на принципах Тихани электронно-лучевая трубка, по сути являющаяся классическим кинескопом, каким мы его помним в телевизорах 1980–1990-х (сегодня кинескопы вытеснены жидкокристаллическими экранами). Зворыкина можно назвать человеком, который собрал пазл. Он знал, где взять те или иные детали и как их сложить, чтобы на выходе появилась осмысленная картинка.
Тем не менее иконоскопы производились и продавались в Нью-Йорке и вообще на Восточном побережье, а на Западном работал Фарнсуорт со своими диссекторами. К тому моменту телетрансляции уже шли достаточно активно, и вопрос был именно в качестве картинки. Диссекторы бой проиграли — в конце 1930-х Фарнсуорт, влезший в долги, был вынужден все-таки продать свои патенты RCA, и Зворыкин интегрировал ряд его здравых решений в свою систему. Он (и Сарнов, конечно) победил.
Война миров
Суммарно за 1920–1930-е годы в США и Европе было выдано несколько тысяч патентов на различные телевизионные системы и усовершенствования. Система того же Фарнсуорта или система Тихани имели не меньше шансов победить и завоевать мир, чем система Зворыкина. А ведь был еще японец Кэндзиро Такаянаги, который в 1927 году построил первый в мире электронный приемник — но, к сожалению, с жалкой 40-строчной разверткой, не способной конкурировать с механическим телевидением (впоследствии он стал, кстати, вице-президентом JVC). А еще был блестящий немецкий физик Манфред фон Арденне, показавший свою систему в 1931-м. И 405-строчный «Эмитрон» Исаака Шенберга — уроженца Пинска, эмигрировавшего из Петербурга в Лондон в 1914 году по приглашению Маркони. «Эмитрон» стал доминирующей системой электронного телевидения в Великобритании, где регулярные телетрансляции начались в 1936-м. И так далее.
Доля везения в достижениях Зворыкина очень велика. И в первую очередь ему повезло с влиятельной RCA. Впоследствии, кстати, компания продала часть патентов в Великобританию и Германию, в какой-то мере навязав Европе американскую систему телевещания. Но сам Зворыкин получил полторы сотни патентов в самых разных областях электронной техники. Например, в 1940-х он заинтересовался медицинским оборудованием и разработал оригинальную схему сканирующего электронного микроскопа (первый такой прибор разработал уже упоминавшийся Манфред фон Арденне).
В отличие от многих других эмигрантов, Зворыкин в качестве известного американского радиоинженера неоднократно бывал в Европе и, в частности, возвращался в СССР. В 1933 году, например, он прочел в зале Ленинградского научно-технического общества электриков лекцию «Телевидение при помощи катодных трубок», а затем, в 1934-м, приезжал в качестве официального представителя RCA. На эту роль он подходил как нельзя лучше, поскольку знал и язык, и психологию своих бывших соотечественников. Благодаря Зворыкину был заключен контракт, и целый ряд советских телевизоров, в частности ТК-1 (1938), выпускались по американской лицензии.
Зворыкин рассказывал, что в СССР его совершенно откровенно пытались переманить, и опасался ездить туда вплоть до смерти Сталина (в третий раз он приехал в 1959-м). Но при этом возглавлял нью-йоркский комитет по науке Совета американо-советской дружбы и вообще довольно тепло относился к СССР — новой стране, которая теперь, издалека, из-за океана, уже не выглядела тем чудовищем, в которое он некогда решил не возвращаться.
В Америке Зворыкин успел развестись и повторно жениться. В 1967-м он приезжал в СССР уже со второй женой, русской эмигранткой Екатериной Полевицкой, причем приезжал как турист, по путевке, чтобы побывать в родном, давно забытом Муроме. Маршрут пролегал через Владимир, и в Муроме американцы побывали нелегально — передвижения иностранных туристов строго контролировались.
Скончался Владимир Зворыкин в возрасте 94 лет 29 июля 1982 года. Конечно, не будь Зворыкина, его работу в области популяризации электронного телевидения проделал бы кто-то другой. Скорее всего, кто-то из тех, кого мы упоминали в этой главе. Но так получилось, что он стал первым. Кто-то же должен.
Химия
Лейпциг как колыбель российской фотохимии: Плотниковы (Елена Зайцева (Баум))
Ивана Степановича (1878–1955) и Максимилиана Ивановича (1909–1954) Плотниковых, отца и сына, связывают не только родственные узы: их общее научное наследие стало достоянием фотохимии и заложило основу ее будущих успехов. Полученные двумя учеными экспериментальные результаты позволили атрибутировать ряд процессов, протекающих под действием света, и установить закономерности их течения. Эти классические работы, начатые Плотниковым-старшим еще в России, были продолжены им совместно с сыном за рубежом — сначала в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, а потом в Югославии…
Фотохимическими называются те химические реакции, которые идут в присутствии электромагнитного излучения, чаще всего — светового. Они чрезвычайно распространены в природе — например, в виде фотосинтеза. Без фотохимических реакций невозможно зрение. В определенной степени и образование озона в атмосфере под действием солнечного ультрафиолета тоже можно считать фотохимической реакцией. Но особенно велико их значение в технике. Без открытия светочувствительных материалов и изобретения способов их использования для получения изображений в XIX веке было бы невозможно появление фотографии.
На рубеже XIX и XX века фотохимия органично влилась в физическую химию — тогда еще совсем молодую науку. Суть физхимии заключается в том, что методы и подходы экспериментальной и теоретической физики применяются для исследования химических явлений. В значительной степени физхимия сформировалась, или, как говорят, науковеды, «институализировалась», в конце XIX века, и немалую роль в этом сыграла научная и организаторская деятельность Вильгельма Оствальда. А благодаря развитию квантовой теории к 1920-м годам фотохимия выделилась из физхимии в самостоятельную научную дисциплину. Именно к этому времени, к периоду 1920–1930-х, относятся первые учебники и учебные пособия по фотохимии, написанные Иваном Плотниковым. Они-то и заложили основы формирования фотохимии уже не только как исследовательского направления, но и как университетской дисциплины. Вторая половина ХХ века увидела небывалый взлет фотохимических технологий: cоздание искусственных молекулярных фотокаталитических систем для конверсии солнечной энергии в химическую, усовершенствование принципов записи, хранения и переработки информации (аналоговая фотография, ксерокопирование), создание новых фототехнологий тонкого органического синтеза (витамин D3, простагландины, гормоны, применяющиеся в химиотерапии) и многое другое.
Тамбов — Москва — Лейпциг
На заре развития фотохимии, в ее еще доквантовый период, Иван Плотников стал активным пропагандистом этой новой отрасли знаний в России, организатором первой учебно-исследовательской фотохимической лаборатории и создателем быстро растущей научной школы. Эмигрировав в Хорватию, он и там организовал фотохимический исследовательский центр мирового значения и основал новую успешную научную школу. Его последователем в этой работе стал сын Максимилиан. Отец Ивана Плотникова также был причастен к технике: его профессия — механик-строитель. Очевидно, инженерная жилка передавалась в этой семье от отца к сыну. Жизнь трех поколений Плотниковых была связана с конструированием разнообразных приборов.
В родном Тамбове Иван Плотников учился в гимназии, окончил ее в 1897 году и уехал в Москву, чтобы поступить там на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Уже с самого начала учебы он оказался вовлечен в выполнение исследовательских работ в университетских лабораториях, физической и термохимической, под руководством известных московских профессоров — Николая Алексеевича Умова, Владимира Федоровича Лугинина, Алексея Петровича Соколова. Под их влиянием он заинтересовался изучением физических изменений, сопровождающих химические реакции, что, собственно, и является предметом изучения физической химии. Работа шла успешно, и в 1901 году, по окончании университета, Плотников был удостоен диплома первой степени. Желая совершенствовать свои познания в области физической химии, он решил продолжить образование за границей. Выбор был для него очевиден: он отправился к мэтру физхимии Вильгельму Оствальду в Лейпциг. Надо заметить, что сам Оствальд был родом из Риги, происходил из семьи остзейских немцев. Окончив Императорский университет в городе, который тогда назывался Дерпт, а сейчас называется Тарту, он вернулся на родину, чтобы преподавать в Рижском политехникуме. Но проработал там Оствальд недолго, всего пять лет, и в 1887 году в возрасте 34 лет навсегда покинул Российскую империю, что не помешало ему в 1896 году быть избранным членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук по физико-математическому отделению. В 1909 году он был удостоен Нобелевской премии «в знак признания проделанной им работы по катализу», но, конечно же, ее никто и никогда не записывал на российский счет.
Около 20 лет своей жизни Оствальд провел в Лейпциге. В 1887 году он был приглашен возглавить кафедру физической химии местного университета, которая с его назначением приобрела славу крупнейшего мирового центра физико-химического образования. Здесь же он основал «Журнал физической химии» (Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchiometrie und Verwandtschaftslehre) и организовал в конце 1890-х годов первый в мире Физико-химический институт. К Оствальду в Лейпциг стали съезжаться молодые ученые из разных стран: Франции, Англии, Швеции, Америки, Японии. Впоследствии Оствальд писал: «Если я горжусь чем-либо из своей научной деятельности, то это блестящим рядом людей, которых я выделил уже молодыми и которым помогал в их свободном развитии». Среди них были и около 40 ученых из России, которым также удалось провести здесь важные для развития науки исследования. «Крестниками» оствальдовской лаборатории, в частности, стали будущие профессора Московского университета Адам Владиславович Раковский, Иван Алексеевич Каблуков, избранный в 1928 году членом-корреспондентом, а в 1932-м — почетным членом АН СССР, украинский ученый Лев Владимирович Писаржевский, избранный в 1930 году действительным членом АН СССР, латышский химик Павел Иванович Вальден, академик Петербургской АН с 1910 года, эмигрировавший в годы Первой мировой войны в Германию, впоследствии — профессор Ростокского университета. Отсюда берут начало их научные направления, развитые затем на родине и приведшие к формированию собственных научных школ. В число этих ученых вошел и И. С. Плотников.
Его воспоминания об учебе в Лейпциге и работе с Оствальдом были недавно опубликованы немецким историком науки Карлом Ганзелем, который всю свою жизнь посвятил изучению наследия Оствальда. В отличие от большинства своих коллег, лишь стажировавшихся у Оствальда, Плотников записался в студенты на общих основаниях, но сумел пройти весь учебный план всего за четыре семестра. Летом 1903 года он сдал все необходимые экзамены и уже с осени приступил к выполнению диссертационной работы. Именно тогда особенно ярко проявились способности молодого ученого к постановке эксперимента. Его идея изучения скоростей ряда реакций при низких температурах, сформировавшаяся еще во время учебы в Москве, очень понравилась Оствальду, который сразу же одобрил тематику работы.
В том же 1903 году в жизни Ивана Степановича произошло еще одно важнейшее событие. В ноябре в родовом имении семьи Максимовичей Адамовка, в Харьковской губернии, состоялась его свадьба с Марией Ивановной Максимович, дочерью потомственного дворянина сербского происхождения.
В XX веке семья Максимовичей прославилась благодаря религиозной деятельности племянника Марии Ивановны — святителя Иоанна, в миру Михаила Борисовича (1896–1966), епископа Русской православной церкви за рубежом (известен также как святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский чудотворец). Судьба этого вселенского странника очень необычна. Тяготея к религиозному служению, Михаил Максимович намеревался поступить в Киевскую духовную академию, но по настоянию родителей получил юридическое образование в Харьковском университете, окончив его в 1918 году. Затем вместе с большинством членов своей семьи эмигрировал в Югославию, где обучался на богословском факультете Белградского университета. В 1926-м был пострижен в монашество в Мильковском монастыре, с 1929 года — иеромонах. Первым местом его епископского служения (с 1934 года) стал Китай. По его инициативе и при непосредственном участии для российской диаспоры в Шанхае были возведены кафедральный собор Пресвятой Богородицы и Свято-Николаевская церковь в память царя-мученика Николая II. Во второй половине 1940-х годов с приходом к власти в Китае коммунистов святитель Иоанн, единственный из всех дальневосточных архиереев, сделал выбор в пользу Зарубежной церкви. Как и большинству эмигрантов из России, ему пришлось покинуть страну. Владыка Иоанн был назначен управлять Западно-Европейской епархией. Долго странствовал по Европе, а с 1962 года обосновался в США в качестве архиерея Сан-Францисской и Западно-Американской епархии Русской православной зарубежной церкви. В 1994 году был причислен к лику святых.
Но вернемся к научной деятельности Ивана Степановича Плотникова. Выполнение диссертационной работы требовало концентрации усилий. Задача изучения кинетики реакции бромирования этилена оказалась непростой. Чтобы решить ее, необходимо было сконструировать установку со специальным термостатом (вот тут-то и пригодились врожденные инженерные наклонности!) и постоянно иметь запасы сжиженного воздуха (измерения проводились при –120 °C), за которым Плотников регулярно ездил в Берлин на холодильную фабрику Линде. Но в итоге к лету 1905-го все трудности были преодолены, хотя, как пишет в воспоминаниях Плотников, выполнение работы «стоило ему большого напряжения и денег».
Оствальд оценил очевидные успехи молодого ученого и после защиты диссертации пригласил его к себе ассистентом. Воодушевленный, Плотников обратился к мэтру в признательном письме: «[Теперь я могу] смотреть в будущее с большими надеждами [… и буду] стараться отвечать этому высокому званию».
Во время работы в Лейпциге у Плотникова появилось много международных научных контактов, большую часть которой составила, конечно, немецкая профессура, что очень помогло ему в первые послереволюционные годы. На всю жизнь сохранились у него тесные дружеские отношения с Отто Винером, профессором физики и директором Института физики при Лейпцигском университете. Во время пребывания в Лейпциге Плотников тесно общался и с Александром Андреевичем Титовым, также выпускником Московского университета (о нем еще пойдет речь ниже). Увы, этот во всех смыслах плодотворный период длился недолго: в августе 1906 года из-за интриг, которые плели коллеги по университету, Оствальду пришлось выйти в отставку. Для Плотникова это стало ударом, поскольку все его дальнейшей планы были связаны с Физико-химическим институтом. Оствальд предлагал ему помочь устроиться в Йенский университет, но необходимо было менять научную тематику. А этого совсем не хотелось.
К тому же, работая в Лейпциге, Плотников начал сотрудничать с Робертом Лютером (1868–1945), еще одним прибалтийским немцем, уроженцем Москвы, обосновавшимся в 1890-е в Лейпциге в качестве ассистента Оствальда. Совместные исследования Плотникова и Лютера по фотоокислению фосфорной кислоты в присутствии йодистого водорода оказались очень интересными, поэтому после раздумий и колебаний Плотников решил на год остаться при институте, чтобы завершить свою научную работу, а затем возвратиться на родину, на чем особенно настаивал его отец, и продолжить занятия фотохимической тематикой там. Тем более что его исследования постепенно завоевывали признание. Изученная с Лютером двустадийная реакция легла в основу его нового прибора «световой термостат», позволявшего проводить эксперименты при монохроматическом облучении и постоянной температуре и впоследствии широко использовавшегося в фотохимических лабораториях. В 1907 году Плотников с семьей вернулся в Россию.
Титов, Лютер и другие обитатели Лейпцига
В лейпцигских воспоминаниях Плотникова особенно часто упоминается имя Александра Андреевича Титова (1878–1961). Он происходил из знаменитого ростовского купеческого рода. Его отец, Андрей Александрович (1844–1911), прославился отнюдь не коммерцией. Увлекшись археологией и этнографией, Титов-старший стал крупнейшим специалистом по древностям южной России. Собрав более 4000 списков северных летописей и других древнерусских рукописей, он передал их в Императорскую публичную библиотеку, где одно только описание их занимает четыре тома.
Титов-младший специализировался в области естественных наук. Работы Александра Андреевича в области физической химии в начале ХХ века получили широкое международное признание, а его магистерская диссертация «Об адсорбции газов углем», опубликованная на русском языке в 1910 году в виде монографии и одновременно в зарубежной периодике на немецком языке, на протяжении многих десятилетий была одной из наиболее цитируемых работ в области изучения адсорбционных равновесий. Опытные данные, изложенные в ней, стали своеобразным фундаментом для построения целого ряда теоретических концепций в области адсорбции, разработанных в последующие годы. Именно об этом писал в 1948 году известный советский физикохимик Симон Залманович Рогинский, характеризуя диссертацию Титова как классическую, положившую начало изучению адсорбционных равновесий газов на активном угле. «Эти изыскания, сохранившие свою актуальность до нашего времени, — утверждает Рогинский, — около сорока лет служат своеобразным пробным камнем для новых концепций». Однако это упоминание Рогинского — единственное в советской историографии физической химии. Титов уехал во Францию не просто как эмигрант, а как враг народа.
В Москве Титову не удалось получить законченного университетского образования. После двух лет обучения на физико-математическом факультете Московского университета он был исключен за участие в 1899 году в студенческих манифестациях. Более того, его даже выслали за пределы Москвы. В результате завершать образование пришлось за границей, а именно в Лейпцигском университете. Свою диссертационную работу об отрицательном катализе он выполнял под непосредственным руководством Оствальда. Как и у Плотникова, лейпцигский период жизни оказался удачным и в научном, и в личном плане: здесь Титов познакомился со студенткой Лейпцигской консерватории по классу фортепьяно англичанкой Беатрис-Mиллицентой Сольтер, которая в 1900 году стала его женой. Четырехкомнатная квартира, которую они снимали, на три года превратилась в центр научных и культурных встреч русской диаспоры с англо-американским сообществом, также обосновавшимся в Лейпциге.
В 1903 году Титов успешно защитился и год спустя вернулся с женой и трехлетней дочкой в Россию, где принял на себя от отца руководство фирмой «Вахромеев и К°», располагавшей несколькими фабриками по производству бакалейных товаров. Одновременно он решил продолжать и научную карьеру, устроившись в 1905 году в Дерптский университет, где успешно выдержал экзамены на звание магистра химии. Кроме того, с 1906 года он работал в Москве в должности сверхштатного (то есть без содержания) лаборанта при только что открывшемся при Московском университете Физическом институте. Уже в 1907 году он был включен в число приват-доцентов, читал курс физической химии по собственному литографированному пособию, работал над вышеупомянутой магистерской диссертацией «Об адсорбции газов углем». Ее защита успешно прошла весной 1911 года при деятельной поддержке профессора Ивана Алексеевича Каблукова, в свое время также работавшего у Оствальда в Лейпциге.
Но в 1911 году карьера Титова в Московском университете прекратилась. Министерство просвещения царского правительства приняло несколько законодательных актов, вошедших в историю по имени министра как «циркуляры Кассо». Они предполагали установление полицейского надзора за студентами и ущемляли университетскую автономию. В знак протеста более 100 профессоров и доцентов подали прошение об отставке. Александр Титов был одним из них. На долгое время университетские аудитории опустели. Многие преподаватели смогли устроиться в другие учебные заведения. Титов продолжил свою педагогическую и исследовательскую деятельность в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского.
Александр Андреевич всегда занимал активную жизненную позицию, сочетая профессиональную деятельность с участием в важнейших социально-политических событиях своего времени. Получив опыт студенческих выступлений, он уже в 1906 году вошел в оргкомитет Народно-социалистической партии, созданной в годы первой русской революции, и стал одним из основателей ее московской группы. В годы Первой мировой войны Титов участвовал в работе комитета Всероссийского союза городов, организовав поставку в Россию необходимых медикаментов для помощи раненым. В немалой степени этой стороне его деятельности содействовала поддержка известного шведского ученого-химика Сванте Аррениуса, научного руководителя Каблукова в лейпцигской лаборатории Оствальда. Титова с Аррениусом на протяжении многих лет связывали прочные дружеские отношения. После Февральской революции 1917 года Титов стал товарищем министра продовольствия во Временном правительстве. Неудивительно, что октябрьский переворот он встретил враждебно. В 1918 года он принял самое деятельное участие в создании Союза возрождения России, организации «демократической контрреволюции», а в 1919 году вошел в организованный Тактический центр — координационный центр антисоветских подпольных групп. Аресты членов этой организации проходили в 1920 году, и среди арестованных были Михаил Михайлович Новиков, Александра Львовна Толстая, Николай Константинович Кольцов. Титову удалось скрыться от ареста и уехать за границу. Процесс по делу Тактического центра состоялся в августе 1920 года в Верховном революционном трибунале. Александр Титов был объявлен на нем «врагом народа» и лишен права въезда на территорию РСФСР. В том же 1920 году он поселился во Франции.
Жизнь в Париже оказалась для него столь же насыщенной событиями. Титов продолжил здесь свою преподавательскую, научную и научно-организационную деятельность. По приезде он сразу же вошел в состав членов Русской академической группы Парижа и возглавил Общество русских химиков, бессменным председателем которого оставался до самой смерти. Экспериментальные исследования в области химии были продолжены в лаборатории Института биотерапии, коммерческого предприятия, которое он смог организовать, давая возможность работать в нем русским беженцам. Его лаборатория сотрудничала с Институтом Пастера, разрабатывая лекарственные препараты. На рынок были выпущены некоторые вакцины, в частности противотуберкулезные.
Переписка Титова с Аррениусом показывает, что эти проблемы в то время волновали обоих. В ней также обсуждается предложение вернуться в Москву в качестве профессора, полученное Титовым в 1926 году. «Но я отклонил его, — писал он Аррениусу в одном из писем, — потому что не доверяю им, там мне в некотором случае запросто может угрожать казнь».
Дела по развитию собственного бизнеса в рамках Института биотерапии вынудили Титова прервать интенсивную научную деятельность, о чем он потом сожалел. Связь с наукой продолжалась лишь в рамках его преподавательской работы в некоторых высших учебных заведениях Парижа: в Коммерческом институте, на русском отделении Парижского университета, в Русском высшем технический институте.
Дружба с Титовым была и приятна и полезна для Плотникова. Благодаря ему Плотников познакомился с Робертом Лютером, с которым также подружился на долгие десятилетия. Поэтому к сказанному о нем выше здесь надо кое-что добавить.
Известно, что, окончив 1-ю Московскую гимназию, Лютер поступил на русское отделение Дерптского университета, по окончании которого отправился в Петербург, где стал работать в Петербургском технологическом институте ассистентом у химика-органика академика Федора Федоровича Бейльштейна. Общительный характер Бейльштейна, блестящее знание иностранных языков способствовали его обширным международным научным контактам. Именно Бейльштейн в 1894 году порекомендовал Лютеру пройти стажировку в лаборатории Оствальда. Пик его славы, пожалуй, приходится на 1906 год, когда он был номинирован на Нобелевскую премию по химии, причем шансы у него были очень неплохие, сопоставимые с шансами Менделеева. Как известно, ни Лютер, ни Менделеев премию так и не получили, но, как показывают архивные исследования, они тогда были фаворитами, а не просто номинантами. Более поздние исследования Лютера в области изучения фотохимических равновесных процессов и экспериментальной фотографии также пользовались заслуженным признанием. С 1966 года в ГДР Немецким обществом фотографии была учреждена премия его имени, существующая и поныне.
В годы учебы Плотникова в Лейпциге Лютер одновременно состоял заместителем директора Физико-химического института и курировал работу стажирующихся у Оствальда. Взаимная симпатия, возникшая между учеными, привела к тому, что под влиянием Лютера Плотников занялся фотохимией. Фотохимический катализ, истинные и ложные фотохимические равновесия — эти направления исследований были чрезвычайно популярны в Физико-химическом институте. Одной из новых тем исследований Плотникова в Лейпциге стало изучение фотохимического окисления йодистого водорода в дополнение к выяснению его каталитических свойств, упоминавшемуся выше. Изучая кинетику этой реакции, ученый показал, что она может служить «фотометром» для сравнения интенсивности источников света. Позже, в 1908 году, на основании этой реакции Плотниковым был разработан прибор — йодокалиевый фотометр, который наряду со световым термостатом сразу же повсеместно вошел в фотохимическую практику.
Создание новой техники для фотохимического эксперимента — важнейшая составляющая научного творчества Плотникова. Аппаратурному оформлению эксперимента он научился, работая у Оствальда. Здесь, согласно его воспоминаниям, он познакомился с Фрицем Келером, основателем механико-оптических мастерских Fritz Köhler. Фирма производила оригинальную аппаратуру для физико-химических исследований по заказу Оствальда и его учеников. Кроме того, по договоренности между Келером и Оствальдом ученики последнего проходили в мастерских практикум, обучаясь самостоятельному изготовлению измерительной техники. Первоначально Келер предложил Плотникову выпустить серийно и запустить в продажу разработанный ученым для диссертационных целей термостат для низких температур, что стало их первым совместным предприятием. На будущее они заключили договор, согласно которому фирма выполняла безвозмездно все заказы Плотникова по созданию сконструированной им измерительной техники, оставляя за собой право самостоятельно заниматься их продажей. За годы сотрудничества фирмой Келера было выпущено 75 единиц измерительной техники и аппаратуры, разработанной ученым.
Успех на родине
По возвращении на родину Плотников устроился в должности сверхштатного лаборанта при лаборатории органической химии Московского университета. Николай Дмитриевич Зелинский, руководивший в то время лабораторией, любезно позволил молодому ученому завершить свои экспериментальные исследования, начатые с Лютером в Лейпциге. Конечным результатом стала магистерская диссертация, готовая еще в 1908-м, но защищенная только в начале 1910 года. Задержка была вызвана противодействием со стороны профессуры физико-математического факультета университета, в первую очередь Ивана Алексеевича Каблукова, отношения с которым у Плотникова как-то сразу не сложились. Профессор считал, что диссертация не достойна защиты, предъявляя претензии к ее содержательной стороне. Кроме того, по его инициативе известный физик Петр Николаевич Лебедев направил в диссертационный совет отрицательный отзыв на труд Плотникова. Затруднения были преодолены отчасти благодаря Зелинскому, но при вмешательстве «тяжелой артиллерии» в лице самого Оствальда.
К этому времени Плотников уже начал читать приват-доцентские курсы по «Опытной физической химии», а вскоре ввел в преподавание в Московском университете и первый в его истории курс фотохимии. Для этих целей он подготовил учебник Photochemie («Фотохимия»), дополненный в 1912 году монографией Photochemische Versuchstechnik («Экспериментальные методы фотохимии»). Обе книги были изданы в Лейпциге на немецком языке. В своей рецензии на монографию Оствальд отмечал ее пионерский характер: это была первая удачная попытка собрать в одном издании описания всей опытной фотохимической техники, рассредоточенные по разным публикациям, да и представленные в них не полностью.
В 1911 году положение Плотникова в университете изменилось: он не последовал за коллегами и стал «исправляющим должность экстраординарного профессора по кафедре химии». С 1912 года под его руководством начал работать фотохимический практикум, а в марте 1913 года под его же руководством в Большой химической аудитории состоялось открытие фотохимической лаборатории — одновременно и исследовательской, и учебно-образовательной.
Плотников постарался сделать так, чтобы лаборатория была оборудована на уровне мировых стандартов. Для этого он обратился в немецкую фирму Fritz Köhler, в которой уже несколько лет состоял ведущим научным консультантом. Из 179 приборов, значившихся при открытии лаборатории, 19 были пожертвованы этой лейпцигской фирмой, а еще 36 — самим Плотниковым.
Иван Степанович не только конструировал новые приборы, но и обучал этому своих учеников. В стенах фотохимической лаборатории Московского университета были созданы новые модификации светового термостата, ультрафиолетовые светофильтры, применявшиеся «при работах в области трехцветной фотографии, наиболее важною задачей которых является получение серии точных и невыцветающих фильтров», триболюминоскоп и многие другие инструменты для прецизионных фотохимических измерений. Эта лаборатория стала настоящей школой, через которую прошли многие будущие известные российские и советские химики.
В 1914 году Плотников возглавил объединенную лабораторию неорганической, физической химии и фотохимии, поскольку фотохимическая лаборатория была официально слита с лабораторией неорганической и физической химии. С этого времени через нее ежегодно проходило около 600 практикантов, при этом около 90 человек из них специализировались в области физической химии и фотохимии и выполняли здесь самостоятельные научные исследования. Например, студент Плотникова Маклаков выполнил работу «О новой бромомолочной фотографической бумаге», которая была внедрена АО «Формаза» управления Рязанско-Уральской железной дороги.
После защиты в 1915 году докторской диссертации Плотников был утвержден в должности ординарного профессора. Но уже через год, в марте 1917-го, уволен вместе с еще несколькими преподавателями. Его фотохимическое отделение было ликвидировано в связи с передачей заведования лаборатории неорганической, физической химии и фотохимии профессору И. А. Каблукову. Конфликт Каблукова и Плотникова к этому времени достиг своей высшей точки. В чем его причина, до конца не ясно. Видимо, русофил Каблуков оценивал бурную педагогическую и научную деятельность Плотникова как основанную исключительно на конъюнктурных соображениях, связанных с его зарубежными контактами. В частности, он возражал против публикации учебных пособий для студентов исключительно на немецком языке. Да и говорил Плотников, как язвительно отмечал Каблуков, с «определенно немецким акцентом». В результате с мая 1917 года по март 1918 года Плотников занимал должность приват-доцента.
Какое-то время Иван Степанович, лишенный лаборатории, продолжал работать в своем имении Черное Озеро в Рязанской губернии, поскольку одновременно оказался и без казенной квартиры, предоставляемой только профессорам университета. В имение он перевез и свою библиотеку, находившуюся ранее в его лаборатории в Москве. Там же он приступил к написанию книги на немецком языке Allgemeine Photochemie («Общая фотохимия»). Из предисловия к монографии, которая впоследствии стала настольной книгой для многих ученых-фотохимиков, мы узнаем о тяжелом положении ученого в то время:
День за днем приходилось беспомощно наблюдать, как приверженцы Керенского и Чернова разрушали и разграбляли мое с такими усилиями, трудами и вложенными средствами оборудованное поместье, пока в ноябре того же [1917] года его просто не сравняли с землей. Моя библиотека была использована на сигареты. В Москве, в единственной жалкой комнатке, моя семья нашла себе единственное убежище, и там, под непрерывный орудийный и оружейный огонь […] и голод должен был я продолжать свою книгу […]. Поскольку вопрос пропитания становился все более актуальным, а источники существования иссякали, осенью 1918 года мы бежали из этого социального рая на Украину к родственникам. В Харькове я написал математическую часть своей Allgemeine Photochemie. Но большевистская […] волна приближалась к богатой […] Украине […] угрожая поглотить ее и снова меня отрезать от культурного мира […]. Но тут пришла долгожданная помощь из Германии […].
Уже с весны 1918 года Плотников продуманно готовился к эмиграции. Будучи убежденным монархистом, он не мог смириться с узурпацией власти большевиками и разрушением экономики страны, а также с возникшей классовой ненавистью к интеллигенции как к «пособникам буржуазии».
Первоначально Плотников намеревался обустроиться в Лейпциге, о чем свидетельствует его переписка с Отто Винером. Но выездную визу не удавалось получить в течение нескольких месяцев. В декабре 1918 года он наконец-то перебрался в Германию, оставив семью у родственников на Украине. Нашел работу в Берлине, во главе научной лаборатории фирмы Agfa. Одновременно заключил контракт с гамбургской фирмой Haus Heuerburg, занимавшейся разработкой инноваций для сигаретной индустрии. Для нее Плотников выполнил серию исследований по изучению фотохимического разложения солей никотиновой кислоты. Но хорошие заработки в производственных компаниях не могли компенсировать отсутствие творческой академической свободы — к ней ученый привык в течение многих лет работы в университетах. Поэтому он продолжал попытки получить должность профессора в высшем учебном заведении и, в частности, подал документы на конкурс в Базельский университет.
Но тут возникла необходимость срочно заняться судьбой семьи: с 1919 года его жена «находилась в руках большевиков», в тюрьме. Все его старания разрешить эту проблему из-за рубежа не приносили успеха. Поездка в советскую Россию, предпринятая в 1920 году для вызволения жены из тюрьмы, ни к чему не привела. Семья смогла воссоединиться лишь поздней осенью 1921 года и только благодаря помощи немецких друзей, в первую очередь Отто Винера, организовавшего отъезд Марии Плотниковой с сыном Максимилианом через немецкого посланника в Москве. К этому времени сам Иван Плотников уже больше года проживал в Загребе.
Жизнь среди хорватов
В то время Королевство сербов, хорватов и словенцев стало прибежищем для многих русских, вынужденных по тем или иным причинам покинуть родину. Русские монархисты получили здесь благосклонную поддержку со стороны короля Александра, главнокомандующего сербской армией, в которой участвовали и русские добровольцы. Помимо политических симпатий к Российской империи, короля Александра, обучавшегося в свое время в Санкт-Петербурге, связывали с россиянами и родственные узы (сестры его матери были замужем за великими князьями Николаем Николаевичем и Петром Николаевичем). Но помощь русским была обусловлена не только политическими и альтруистическими соображениями — королевство было разорено войной. Для восстановления экономики оно нуждалось в научно-технических специалистах. Нехватка высококвалифицированных кадров открыла перед многими российскими учеными-эмигрантами возможность трудоустройства в этой стране. Кроме того, для русских эмигрантов въезд сюда не был ограничен квотами и визами. В результате в 1920-е годы в югославских университетах работало больше сотни российских профессоров и преподавателей, 14 из них вскоре получили академические звания в Македонской, Сербской и Югославянской академиях наук.
Осенью 1920 года, после издания Allgemeine Photochemie в Германии, Плотников был приглашен на должность ординарного профессора физики и физической химии химико-технологического факультета в Высшую техническую школу Загреба. Здесь уже работало немало преподавателей из России, в том числе Степан Прокофьевич Тимошенко. В своих воспоминаниях Тимошенко отмечал, что основным препятствием для русской профессуры в ее педагогической деятельности была необходимость читать лекции на хорватском языке:
Язык был близок к русскому и церковнославянскому, на котором велось богослужение в русских церквах. Зная эти два языка, я смог без особых трудностей понимать газетные статьи. Но от умения разбираться в прочитанном и до умения разговаривать — дистанция большого размера.
Но большой наплыв русских на факультете вскоре снял остроту проблемы:
Везде слышалась русская речь. Я перестал заботиться о дальнейшем изучении хорватского языка, так как видел, что смесь хорватского с русским, которой я пользовался на лекциях, вполне понятна моим студентам.
Очевидно, это обстоятельство способствовало плавному вхождению в учебный процесс и других педагогов факультета из русскоязычной эмиграции. Действительно, на факультете обучалось много детей русских эмигрантов, пополнивших впоследствии научные штаты этого учебного заведения. Среди русских учеников Плотникова мы находим имена Евгения Церковникова, Аркадия Лукьянова, Сергея Минаева и других, ставших затем преподавателями и профессорами Загребского университета.
В 1926 году Высшая техническая школа была переименована в технический факультет Загребского университета, и при нем Плотников состоял профессором химико-технологического отделения до 1943 года. В ходе научно-образовательных реформ, проводившихся в этом учебном заведении в том же 1926 году, ему удалось организовать Физико-химический институт при Загребском университете, директором которого он был до конца жизни. Некоторые из его учеников стали со временем известными югославскими профессорами и академиками.
К этому периоду деятельности Плотникова относится развитие целого ряда теоретических концепций в фотохимии, развитие теории необратимых и обратимых процессов, фотохимического катализа, периодических реакций под действием света, которыми он стал заниматься одним из первых, находясь еще в России. Также он изучал закономерности фотополимеризационных процессов, фотохимические свойства солей железа, серебра, хрома и некоторых других, использующихся в химико-технологических процессах, в частности фотографических. Значительная часть его работ была связана с развитием теории фотографии, и за них он в 1932 году был награжден золотой медалью Венского фотографического общества.
В Физико-химическом институте Загребского университета Плотниковым были заложены основы нового прикладного направления — фотохимия для биологии и медицины. Он изучал воздействие света на разнообразные биологические объекты, течение процессов фотолюминесценции в них. За свои научные достижения в этой области был награжден «Золотым ключом за заслуги» Американского конгресса физической терапии. Продолжать перечисление успехов Плотникова как в теоретических разработках, так и в создании практических устройств можно еще долго. Но достаточно упомянуть лишь фотохимические аппараты Плотникова, выставленные в Мюнхене в Deutsches Museum среди важнейших изобретений XX века.
Хотя активного участия в делах русской диаспоры он не принимал, но некоторую общественную деятельность все же вел. Своей важной задачей Плотников видел воссоздание русского научного сообщества для обсуждения на русском языке исследований и публикаций молодого поколения специалистов. В 1937 году им совместно с коллегами была основана для этих целей Ассоциация русских выпускников университета в Загребе. В 1941 году он стал также президентом политической организации российского «национального объединения».
К исследованиям Ивана Плотникова в области научной фотографии со временем присоединился его сын Максимилиан, окончивший в 1931 году химико-технологическое отделение технического факультета Загребского университета. Получив степень доктора наук в 1933 году, он стал работать в своей alma mater, помогая отцу. Его книга по инфракрасной фотографии, вышедшая в свет в 1946 году, получила широкое признание международного научного сообщества. Иван Плотников надеялся, что Максимилиан возглавит созданную им научную школу. Но этому не суждено было случиться: Максимилиан увлекался альпинизмом и во время одного из восхождений трагически погиб. Ныне его имя увековечено в названии одного из горных приютов на отрогах горного хребта Жумберак-Самоборск.
В отличие от родины, в стране, где они смогли начать новую жизнь, имя Плотниковых не забыто. В 1993 году в их честь назвали одну из улиц Загреба, а их имена регулярно включаются в энциклопедии и справочники выдающихся ученых Хорватии.
Наука о живом
Русская эмиграция и биология: Федор Левин, Сергей Виноградский, Надежда Добровольская-Завадская, Борис Уваров, Борис Балинский (Сергей Ястребов)
В эмиграции представители разных наук оказывались в несколько неравных условиях. Ученый-гуманитарий зачастую не нуждается ни в чем, кроме доступа к хорошей библиотеке. А вот физику, химику или биологу для серьезной работы, как правило, необходима хорошо оборудованная, достаточно дорогая лаборатория. При прочих равных ему не так просто устроиться на новом месте. Неудивительно, что всякий, кто интересуется предметом, сразу назовет имена, например, крупных историков-эмигрантов: русиста Георгия Вернадского, антиковеда Михаила Ростовцева, византиниста Александра Васильева… А вот крупных биологов-эмигрантов вспомнит не столь легко, хотя и они были, и не один…
Если оценивать вклад русской эмиграции в науку строго объективно (например, по числу публикаций), он, скорее всего, окажется невелик. Это будут в лучшем случае считаные проценты. Но, во-первых, даже 1 % от всей мировой науки в абсолютных величинах очень даже немало. А во-вторых, значение отдельных исследований (или исследователей) может и не соответствовать их вкладу, измеренному количественно. Бывают работы, которые не так уж много цитируются, но служат катализаторами, ускоряющими развитие целых научных направлений.
Убедиться в этом можно на примере центрального события в биологии XX века — открытия генетической роли ДНК. Вся история этого открытия занимает около 80 лет, и ее можно разделить на три этапа: биохимический, биофизический и информационный. Биохимический этап начался с открытия нуклеиновых кислот как химических веществ, биофизический — с первых попыток исследования физической природы гена, а информационный — со знаменитого открытия двойной спирали ДНК, когда ученые догадались о существовании генетического кода. Так вот, для каждого из этих трех этапов можно назвать хотя бы одного ученого российского происхождения, трудившегося за границей, работа которого оказалась в какой-то момент важнейшей. Так уж сложилась история науки. На биохимическом этапе таким ученым был Федор Аронович Левин (1869–1940), на биофизическом — Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900–1981), а на информационном — Георгий Антонович Гамов (1904–1968).
Тимофееву-Ресовскому и Гамову в этой книге посвящены отдельные очерки, поэтому останавливаться на них мы сейчас не будем. Тем более что третьему из этой тройки (а хронологически — первому) с широкой известностью повезло гораздо меньше.
Федор Левин и нуклеотиды
У этого человека было на редкость много имен. При рождении он получил малораспространенное, но встречавшееся у евреев-ашкенази имя Фашель. После переезда из Ковенской губернии в Петербург Фашель превратился в Федора, а эмигрировав в Северо-Американские Соединенные Штаты, Федор переименовал себя в Фебуса. Отчество — Аронович — стало его вторым именем. Потом прибавилось третье имя — Теодор, более близкое к первоначальному Федору. И наконец, написание фамилии наш герой тоже слегка изменил, так что в итоге из него получился Фебус Аарон Теодор Левен (Phoebus Aaron Theodor Levene). Американские друзья звали его Федей, а мы будем называть просто Федором Левиным — для удобства. Вряд ли он был бы против.
Проблема Федора Левина была в том, что он родился в неудачное время. Например, его 12-летие почти совпало с убийством народовольцами императора Александра II, вызвавшим обострение разногласий в обществе. Весной того же 1881 года по югу России прокатилась волна еврейских погромов. Новый император их, разумеется, не одобрил, но одновременно — в пакете готовившихся контрреформ — его правительство само стало принимать меры против евреев, теперь уже сугубо законодательные. Появились, например, процентные ограничения на учебу — сначала в высших учебных заведениях, потом и в средних. Причем полный набор этих ограничений вступил в силу как раз в те годы, когда Федор Левин заканчивал гимназию.
Он везде был отличником и после гимназии поступил не куда-нибудь, а в Военно-медицинскую академию — прекрасное высшее учебное заведение, которое, однако, номинально подчинялось военному министерству и поэтому самым первым в России, еще за четыре года до поступления туда Федора, установило для студентов-евреев процентную норму (не более 5 %). Можно без преувеличения сказать, что над Федором Левиным на протяжении всей юности висела пусть и относительно небольшая, но совершенно реальная угроза пострадать от недоброжелательно настроенного государства.
В Соединенные Штаты он уехал прямо на последнем курсе академии. Вернулся, чтобы получить диплом, и уехал снова, теперь уже навсегда.
Несколько лет Левин работал практикующим врачом, а потом постепенно переключился на научные исследования в области биохимии — это его всегда интересовало, благо в Военно-медицинской академии химию преподавали отлично. Его первая опубликованная научная работа называлась «Роль блуждающего нерва в регуляции уровня сахара». Из названия видно, что эта тема находится на стыке биохимии и физиологии. Такой выбор наверняка связан с влиянием Ивана Петровича Павлова — молодого в ту пору физиолога, интересовавшегося сходными вопросами. Павлов был приват-доцентом Военно-медицинской академии в годы, когда Левин там учился.
Постепенно кругозор Левина расширялся. Его научная карьера, если считать от момента первой публикации, длилась 46 лет, и поработать он за это время успел в самых разных областях биохимии. Его интересовали аминокислоты, белки, липиды, углеводы, гликопротеиды, ферменты, витамины, азотистый обмен, стереохимия… Но в историю он вошел в первую очередь благодаря исследованиям нуклеиновых кислот. К началу XX века эти вещества были известны ученым уже лет 30, но какова их формула, никто не понимал. Во всяком случае, было очевидно, что химия там какая-то запутанная и, чтобы разобраться в ней, потребуются годы работы в хорошей биохимической лаборатории. Не каждый ученый был способен принять этот вызов. Федор Левин его принял. В 1905 году (в год первой русской революции) его, к тому времени уже довольно авторитетного специалиста, пригласили в Рокфеллеровский институт в Нью-Йорке. (В дальнейшем это учреждение было переименовано в Рокфеллеровский университет и в нем работал еще один герой этой книги — Феодосий Добржанский.) Здесь Левину предоставили великолепные условия: лаборатории, которыми он мог распоряжаться, заняли в одном из зданий института два этажа, оборудование он мог туда заказывать какое угодно, сотрудников — подбирать по своему вкусу. Вот этот научный потенциал и был обращен на исследования нуклеиновых кислот (хотя интересы Левина никогда ими не ограничивались).
Федор Левин проработал в Рокфеллеровском институте 35 лет — до самой смерти, продолжив трудиться и после выхода в официальную отставку по возрасту. Именно он показал, что молекулы нуклеиновых кислот состоят из нуклеотидов, и ввел заодно сам термин «нуклеотид». Именно он обнаружил химические различия между рибонуклеиновой кислотой (РНК) и дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). И рибозу с дезоксирибозой — сахарá, которым эти кислоты обязаны своими названиями, — тоже открыл именно он. Каждый современный студент, говоря о нуклеотидах, ДНК или РНК, тем самым вспоминает Федора Левина, хотя в современных работах (кроме работ по истории науки) его обычно не цитируют: слишком уж обиходными стали все эти понятия за последние полвека. Можно без всякого преувеличения сказать, что именно работы Левина заложили фундамент знаний о нуклеиновых кислотах, без которого было бы невозможно никакое их дальнейшее исследование — а значит, была бы невозможна и современная генетика.
И тут мы сталкиваемся с парадоксом. Левин много лет изучал нуклеиновые кислоты, никак не учитывая того, что, возможно, имеет дело с веществом наследственности! Разумеется, он великолепно — лучше всех в мире — знал химию нуклеиновых кислот. Но не имел никакого представления об их биологической функции. А ведь гипотеза о том, что нуклеиновая кислота каким-то образом передает наследственную информацию, тогда уже существовала (например, ее вполне ясно высказал известный физиолог Жак Леб в своей книге, вышедшей в 1906 году). Левин не мог об этой гипотезе не знать — он просто не придал ей значения.
Вот что писал о научных интересах Левина хорошо его знавший биохимик Стюарт Типсон:
Многие химики, видя впечатляющий список работ Левина, не могли понять, скрывается ли за множеством его исследований какой-то общий план. Его не раз спрашивали, почему он занимается такими разными вещами, в отличие от большинства академических исследователей, всю жизнь эксплуатирующих одну-единственную тему. На самом же деле он занимался во всех областях одним и тем же. Он вполне мог бы сказать, что им всегда двигал единственный фундаментальный интерес: химия жизненных процессов, и особенно — химическая основа индивидуальности. Каким образом из одинаковых клеток получаются клетки мозга, или печени, или сердца? Почему одни клетки, группируясь вместе, становятся дрожжами, другие — червями, а третьи — свиньями, обезьянами или людьми? Анализируя биологическое значение разных составляющих живых тканей, он различал три категории веществ. В первую категорию вошли такие вещества, как сульфокислоты, нуклеиновые кислоты и липиды — важные для жизненных процессов, но, очевидно, почти или совсем не влияющие на индивидуальность организмов…
Оборвем здесь цитату и осознаем, насколько примечательную вещь нам сообщили. Федор Левин умер в 1940 году — за четыре года до того, как Освальд Эвери продемонстрировал генетическую роль ДНК, и за 13 лет до того, как Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик установили пространственную структуру этой молекулы. Научной работой Левин занимался почти до самой смерти. Все первые 40 лет XX века он изучал нуклеиновые кислоты, интересуясь при этом химическими основами биологической индивидуальности (которая, как мы сейчас точно знаем, именно молекулами нуклеиновых кислот и определяется). И все это время он сохранял уверенность, что его любимые нуклеиновые кислоты — всего лишь рядовые продукты обмена веществ. Вроде жиров и других липидов, полезных организму, но уж точно не связанных с процессами передачи информации. Важными для этих процессов он считал гормоны и ферменты, но ни в коем случае не ДНК или РНК. Ну прямо как в рассказе Борхеса «Поиски Аверроэса», где великий средневековый философ, комментируя «Поэтику» Аристотеля, так и не может понять, что такое трагедия и комедия, несмотря на то что в тот же день случайно встреченный путешественник подробно рассказывает ему о театре.
Конечно, это не значит, что Федор Левин был плохим ученым. Скорее наоборот. Он был прекрасным ученым, добросовестно исследовавшим живую природу. Ничего удивительного, что он игнорировал гипотезу о генетической роли ДНК, которая в те времена (до 1944 года) мало кем поддерживалась, выглядела спекулятивной и вообще была сомнительна. Наука — не индустрия, а творчество. В ней вполне можно промахнуться, скрупулезно следуя правилам, или попасть в цель, осмелившись все правила нарушить.
В любом случае, «сухой остаток» от работы Федора Левина огромен. Открытия, которые он сделал, вошли в учебники и останутся там навсегда.
Жизнь Левина была не слишком долгой: он умер в 71 год, при этом начав заниматься наукой относительно поздно (несколько лет в молодости были потрачены на работу врачом). Тем не менее сделал он фантастически много. В списке его работ — больше 700 названий. Его предсмертные слова — «Слава Богу!» — были произнесены 6 сентября 1940 года и относились к новости о международном соглашении, по которому Соединенные Штаты передали Великобритании 50 эсминцев. Так Америка, еще в тот момент не воевавшая, поддерживала борьбу против Третьего рейха.
В некрологе Федора Левина, написанном уже упоминавшимся Стюартом Типсоном, есть совершенно чарующие слова: «Он был подлинным художником по части извлечения чистых соединений из смесей, казавшихся безнадежными, и был одарен почти сверхъестественной способностью заставлять кристаллизоваться такие неподатливые вещества, как растворы сахаров». Такой эпитафией мог бы гордиться любой биохимик.
Сергей Виноградский и серные бактерии
Наше восприятие ученых-эмигрантов (и не только эмигрантов, конечно) неминуемо проходит через своего рода селективный фильтр. Мы запоминаем в первую очередь самых успешных — тех, кто сделал выдающиеся работы и остался благодаря этому в истории. Однако Запад вовсе не был универсальным раем для эмигрировавших ученых, особенно для тех, кто покинул Россию вынужденно. Далеко не всем из них в жизни повезло. Были и такие, кому пришлось навсегда оставить науку. А тем, чья научная карьера оказалась по-настоящему удачной, это давалось, как правило, ценой полной интеграции в научную среду своей новой родины. Зарубежных учреждений, охотно принимавших именно русских ученых, было относительно немного.
Одним из них был Пастеровский институт в Париже. Там почти 30 лет проработал Илья Ильич Мечников — крупнейший биолог, герой отдельного очерка в этой книге. Мечников никогда не порывал связей с Россией. Именно благодаря ему украшением Пастеровского института стал другой великий ученый — микробиолог Сергей Николаевич Виноградский (1856–1953), о котором вполне уместно тоже сказать несколько слов.
Главное открытие Виноградского широко известно: он обнаружил, что есть бактерии, получающие энергию за счет окисления сероводорода до серы (или даже до серной кислоты), аналогично тому, как животные и растения получают энергию, окисляя сахар до углекислого газа. Есть и другие бактерии (они называются нитрификаторами), которые получают энергию, окисляя аммиак до азотной кислоты. Ни те ни другие не нуждаются для жизни ни в свете, ни во внешнем источнике органического вещества, последнее им даже мешает. Иначе говоря, по типу питания они не имеют ничего общего ни с растениями, ни с животными. Виноградский открыл совершенно особый способ поддержания жизни, который называется хемосинтезом. Значение этого открытия, по сути, не меньше, чем если бы была открыта жизнь на другой планете. Примерно так современники это и восприняли.
Биография Виноградского — это биография аристократически свободного человека. Он учился в России, но серобактерий изучал, работая в Страсбурге. А бактерий-нитрификаторов — работая в Цюрихе. Эти исследования сразу принесли ему известность. В 1890 году Илья Мечников звал Виноградского, тогда молодого и полного сил, на работу в Пастеровский институт, но тот в конце концов предпочел вернуться в Петербург, чтобы принять предложенную ему должность в Императорском институте экспериментальной медицины. Еще лет через десять, почувствовав творческий кризис, Виноградский не только ушел из Института экспериментальной медицины, но и оставил науку вообще: уехал в семейное поместье на западе Украины, занялся там сельским хозяйством, как истинный просвещенный барин. Так бы все и шло, если бы не Первая мировая война, перешедшая в Гражданскую. Приспосабливаться к наступающему «прекрасному новому миру» Виноградский не стал и в январе 1920 года эвакуировался на пароходе из Одессы в Константинополь. Жизнь надо было начинать заново.
К этому времени Сергею Николаевичу Виноградскому исполнилось 63 года. Все его научные заслуги остались в прошлом — никакими исследованиями он уже лет 15 не занимался. Девяноста девяти людям из ста в такой ситуации осталось бы только доживать на сбережения или пенсию. Но в условиях эмиграции у Виноградского не было ни того ни другого, и он решил вспомнить свою основную специальность — микробиологию. Сразу же выяснилось, что его научный авторитет никуда не исчез. Его приглашали на работу в Софию, в Белград, в Прагу, да и в Пастеровском институте о нем прекрасно помнили, несмотря на то что Мечникова уже не было в живых. Поначалу Виноградский выбрал должность профессора в Белграде. Хорошо оборудованной лаборатории (и вообще никакой лаборатории) там не было, но зато были 50 томов немецких, то есть лучших в тогдашнем мире, бактериологических обзоров. Виноградский сел за стол и за три месяца проштудировал все эти тома. И понял, что его квалификация восстановлена. В Сербии он после этого задерживаться не стал: преподавание его никогда не привлекало, а наладить экспериментальную работу в Белграде было бы слишком трудно. Он связался с Пастеровским институтом, получил приглашение там работать — и в 1923 году переехал во Францию. С момента, когда Мечников в первый раз позвал его в Пастеровский институт, прошло 33 года.
Когда Виноградский окончательно устроился во Франции, ему было уже под 70. Пожалуй, многие современные доктора наук сочтут, что в таком возрасте, да еще и после огромного перерыва, вернуться к исследовательской работе просто невозможно. А Виноградский, получив в свое распоряжение современную лабораторию, планомерно восстановил рабочие навыки, придумал кое-какие новые методы и остался в лаборатории еще почти на 20 лет, причем отнюдь не как пережившая свое время «живая легенда», а как рядовой активный исследователь. Надо заметить, что Сергей Николаевич вообще был исследователем par excellence: он никогда не любил преподавать, почти не имел учеников, очень мало писал на общие темы — его делом была чистейшая, рафинированная наука. Конечно, возраст все же давал о себе знать; после 80 лет Виноградский постепенно перестал ставить эксперименты, но работу над своими научными публикациями прерывать и не думал. Его прославленная книга «Микробиология почвы» вышла в 1949 году, когда автору было 93 года (и вышла она, кстати, при финансовой поддержке Академии наук СССР — даже в мрачные 1940-е Виноградского там не забывали). Пастеровский институт буквально дал ему вторую научную жизнь.
Надежда Добровольская-Завадская и короткохвостые мыши
Мечников и Виноградский не были в Пастеровском институте уникальными фигурами. О его русских сотрудниках вполне можно было бы написать целую книгу. Они исчисляются десятками. Среди них были и ученики Мечникова, переехавшие из России во Францию задолго до революции, и эмигранты первой волны, связанные с Белой армией либо просто не пожелавшие приспосабливаться к власти большевиков. О научных заслугах этих людей вспоминают по сей день — причем не только историки науки.
Например, в современных статьях по генетике развития часто цитируются работы Надежды Алексеевны Добровольской-Завадской (1878–1954), сотрудницы лаборатории, созданной Пастеровским институтом совместно с Институтом Кюри (он же Радиевый институт). Добровольская была дворянкой, родом из-под Киева. Она стала одной из первых в России женщин-хирургов, участвовала в качестве военного врача сначала в Первой мировой, потом в Гражданской и попала в эмиграцию вместе с Русской армией Врангеля. Ее мужем был Вениамин Валерианович Завадский (1884–1944), убежденный белогвардеец и известный писатель, автор цикла замечательных документальных повестей о Гражданской войне (они вышли под литературным псевдонимом Валериан Корсак). Лаборатория, в которую она поступила в Париже, называлась «Пастеровская лаборатория Института Кюри» и занималась прежде всего биологическими эффектами радиоактивности. В 1920-е годы об этом было известно очень мало. Исследования продвигались вслепую. Облучая мышей рентгеном, Добровольская-Завадская получила интересную мутацию, влиявшую на развитие осевого скелета. В зависимости от числа поврежденных копий гена эта мутация или убивала мышиные зародыши в утробе, не позволяя развиться их позвоночнику, или же — в более легком случае — давала мышей с небольшим нарушением развития, признаком которого был короткий искривленный хвостик. Этот ген получил название Brachyury («короткохвостость»). Добровольская-Завадская несколько лет пыталась разобраться в механизмах его наследования и действия. Ей удалось установить, что ген Brachyury — представитель целого семейства близких генов, слегка различающихся по эффекту; это семейство было названо T-генами, от слова tail — хвост.
T-гены — популярнейшая тема в современной биологии развития. Мы лишь в последнее десятилетие толком поняли, какую золотую жилу открыла Добровольская-Завадская 90 лет назад. Ген Brachyury есть у всех многоклеточных животных, его работа очень важна для становления плана строения тела животного на ранних стадиях развития (история с позвоночником мышей — частный случай этого). Этот ген важен именно для зародышей. Например, у человека во взрослом состоянии он «молчит», хотя и может заново включаться в клетках некоторых злокачественных опухолей, ткань которых похожа по своему типу на ткани эмбриона; сейчас это используется в медицинской диагностике. Но самое поразительное обстоятельство выяснилось только в 2010 году. Оказалось, что ген Brachyury есть не только у животных, но и у многих их более или менее отдаленных одноклеточных родственников, которые по внешнему виду могут быть, например, амебами. Зачем одноклеточной амебе ген, способный регулировать развитие позвоночника? Очевидно, что его функция там совершенно другая (скорее всего, она как-то связана с регуляцией взаимного расположения клеток при делении). Но, так или иначе, это означает, что предпосылки для создания сложных и прекрасных планов строения современных животных уходят в глубочайшую — измеряемую миллиардами лет — эволюционную древность.
В 1920-х годах Добровольская-Завадская еще ничего об этих потрясающих глубинах не знала. В конце концов, она была врачом и ее основной темой оставалось действие радиации на опухолевые процессы. Все остальное было «интеллигентской вылазкой», как выразился герой Стругацких по схожему поводу. Тем не менее эти ее работы стали важнейшим камнем, заложенным в фундамент совершенно новой на тот момент науки — генетики развития. Если у выражения «работа, опередившая свое время», есть какой-то реальный смысл, то здесь перед нами именно такой случай.
Нельзя не отметить, что Добровольская-Завадская все же не была единственным пионером этого нового направления. В СССР схожими исследованиями, только не на мышах, а на мухе дрозофиле, занималась в те же самые годы Елизавета Ивановна Балкашина (1899–1981) — ученица великого генетика Сергея Сергеевича Четверикова. Но тут дело не пошло. В 1935 году Балкашина была по политическим причинам выслана из Москвы в Казахстан; перед отъездом она выпустила своих подопытных дрозофил в форточку. В итоге Елизавета Ивановна уцелела и относительно благополучно дожила до 1981 года, но к занятиям генетикой не вернулась больше никогда. Открытия, которые она вполне могла бы сделать, сделал в 1960–1970 годах американский генетик Эдвард Льюис.
Что касается Добровольской-Завадской, то она дожила до 76 лет и умерла в 1954 году по пути на научную конференцию в Италию.
Борис Уваров и саранча
Среди ученых русской эмиграции были отдельные яркие люди, судьба которых сложилась настолько оригинально, что трудно даже поверить, чтобы такое было возможно в XX веке.
Именно таким человеком был знаменитый энтомолог Борис Петрович Уваров (1886–1970). Он родился в незнатной и небогатой семье в один год с Николаем Гумилевым. Происходил, как он сам говорил, из мужиков. Отец его был мелким банковским служащим и состоял на момент рождения сына в невысоком чине титулярного советника (IX класс, соответствует пехотному штабс-капитану). Сам Борис Уваров окончил не гимназию, а реальное училище, из-за чего имел трудности с поступлением в университет: там не мог числиться студентом человек, не сдавший латынь по гимназической программе. Уварову пришлось специально досдавать этот экзамен. Став энтомологом, он работал сначала в Туркестане, потом в Ставрополье, потом в Грузии, где его и застала революция. Как известно, в 1918 году Грузия стала независимым государством и пробыла им около трех лет. Таким образом, при советской власти Уварову жить не пришлось. В 1920 году англичане пригласили его, к тому времени уже известного ученого, на работу в Лондон. Уваров принял предложение и переехал в Англию вместе с семьей (сам переезд, разумеется, оплатили англичане — наука в послереволюционной Грузии денег не приносила). Кабинетными учеными занятиями он не ограничивался. В 1930–1940 годах его много раз приглашали в разные страны Ближнего Востока и Африки (как входившие в Британскую империю, так и находившиеся за ее пределами) для организации борьбы с саранчой, нашествия которой, известные еще по Библии, в XX веке оставались серьезной экономической проблемой. Первый опыт такой работы Уваров получил до революции в Ставрополье — в странах Азии и Африки он потом делал то же самое, но в куда большем масштабе.
Он знал биологию саранчовых лучше всех в мире. Он придумал название для науки о них — акридология. Он описал сотни новых видов и родов. Он получил за свою жизнь великое множество научных (и не только) регалий, включая британский орден Святого Михаила и Святого Георгия, а также французский орден Почетного легиона. Он был членом Лондонского королевского общества и (в 1959–1961 годах) президентом британского Королевского энтомологического общества — наивысшие почести, какие только могли достаться в Великобритании ученому его специальности. А в 1961 году он был произведен в рыцари и стал именоваться «сэр Борис Уваров».
Уваров был поразительно целеустремленным человеком. Всю жизнь он занимался только саранчовыми. Эта область интересов определилась так рано и так четко, что в университете он, по-видимому, даже не стал до конца проходить сравнительно-анатомический большой практикум, охватывавший все основные группы беспозвоночных: к тому времени он уже твердо знал, что ни сравнительная анатомия, ни другие группы животных, кроме насекомых, его не интересуют, и предпочитал тратить время на определение коллекций в Русском энтомологическом обществе. Всю свою жизнь он прожил узким специалистом. Но вместе с тем — и это очень примечательно — в рамках своей специализации его кругозор был предельно широк. Хороший специалист всегда изучает весь мир, только под строго определенным углом зрения. Уваров таким и был. Работа с саранчовыми дала ему возможность заняться проблемами экологии, биогеографии, поведения животных, в какой-то степени и физиологии — в его трудах все это отразилось. Уваров вполне унаследовал характерную для русской зоологии (и сохранившуюся в ней, несмотря на «железный занавес») склонность рассматривать любую тему In Orbis Terrarum, в глобальном масштабе. Историк науки Анастасия Федотова обнаружила письма Уварова 1930-х годов, в которых Борис Петрович высказывался в пользу спорной в ту пору теории дрейфа континентов Вегенера, не видя другой возможности объяснить распространение древних групп животных.
Почему именно саранчовые? По всей вероятности, дело в том, что Уваров провел детство, по словам одного его биографа, «в маленьком провинциальном городе на границе Европы и Азии», а именно в Уральске, и при этом его родители были большими любителями природы, часто выезжавшими вместе с сыном за город. Уральск окружен степями, которые в то время были еще дикими. А в типично степных биотопах прямокрылые, то есть саранча, кобылки и кузнечики, — это, пожалуй, самая привлекательная с точки зрения непредвзятого натуралиста группа насекомых. Они там очень многочисленны, при этом зачастую довольно велики (их не обязательно разглядывать под увеличительным стеклом), живут прямо в траве, у натуралиста под ногами, и отличаются бросающимся в глаза огромным разнообразием, которое так и хочется исследовать. Вот Уваров этим и увлекся — на всю жизнь.
Работая в Англии, Борис Петрович сохранял связь с Россией, консультировал в письмах советских энтомологов и вообще помогал им чем мог. В 1968-м, за два года до смерти, когда в Москве проходил международный энтомологический конгресс, побывал на родине в качестве уважаемого гостя. Был он уже очень не молод, но у таких людей возраст мало влияет на творческую активность («Вы правы, что после моего ухода в отставку у меня дела прибавилось», — писал в 1960 году 74-летний Уваров своему старому товарищу Александру Александровичу Любищеву как о само собой разумеющемся). Умер он у себя дома в Лондоне.
Борис Балинский и тритон с пятью лапами
Вторая волна эмиграции тоже внесла некоторый вклад в зарубежную русскую науку. Самым крупным ее представителем в биологии был, пожалуй, эмбриолог Борис Иванович Балинский (1905–1997). Он родился в Киеве в самом начале эпохи революционных потрясений. Как и у большинства профессиональных биологов, увлечение живой природой началось у него с детства — в данном случае с коллекционирования бабочек, которым он занялся в 11 лет. Окончив школу, поступил в Киевский университет Святого Владимира, к тому моменту уже бывший (большевики переименовали его в Высший институт народного образования). И тут ему очень повезло: он стал учеником Ивана Ивановича Шмальгаузена (1884–1963), по-настоящему великого ученого, одного из лучших биологов-эволюционистов XX века.
Именно Шмальгаузен обратил внимание Балинского на новейшее открытие эмбриологов — явление, получившее название эмбриональной индукции. Попросту говоря, эмбриональная индукция — это физиологическое воздействие одной части зародыша на другую, приводящее к необратимому результату. Индукция может буквально запрограммировать развитие реагирующей ткани, заставив ее сформировать определенный орган. Шмальгаузен поручил Балинскому исследовать пример эмбриональной индукции на классическом объекте — личинке тритона.
Внутреннее ухо тритона, как и любого другого позвоночного, состоит из перепончатого лабиринта, окруженного скелетной ушной капсулой. Зачаток перепончатого лабиринта служит индуктором, запускающим образование этой капсулы (без него она не развивается). А что будет, если пересадить этот зачаток куда-нибудь еще — например, под кожу на боку? Можно было ожидать, что пересадка зачатка перепончатого лабиринта на бок все равно приведет к развитию ушной капсулы, только в необычном месте. На самом же деле в месте пересадки развилась дополнительная — пятая — конечность! Этот опыт, блестяще проведенный Балинским, иллюстрирует важнейшую закономерность: результат любого процесса передачи информации зависит как от содержания сигнала, так и от свойств приемника этого сигнала. Эмбриональная индукция — это тоже процесс передачи информации. Приемником тут служит реагирующая ткань. Индуктор (зачаток перепончатого лабиринта) сообщает реагирующей ткани, что она должна образовать КАКУЮ-ТО скелетную структуру. А вот какую именно — ткань «решает» сама, согласно собственным компетенциям (именно такой термин тут используют эмбриологи). Неудивительно, что посреди бока эти компетенции иные, чем в задней части головы.
Научная деятельность Балинского была очень долгой, но опыт по индукции дополнительной конечности, сделанный, когда он был еще студентом, так и остался его крупнейшим открытием. Недаром он потом использовал изображение пятилапого тритона как экслибрис в своих книгах.
Балинский стал известным ученым очень рано. Он интенсивно работал, многие его статьи выходили не только на русском, но и на иностранных языках — главным образом на немецком, который тогда еще в какой-то мере оставался lingua franca естественных наук. Кстати, занятия Балинского эмбриологией начались со статьи немецкого эмбриолога Отто Мангольда, которую он прочитал для студенческого семинара по совету Шмальгаузена. А вот познакомиться с самим Мангольдом ему удалось только в 1944 году — и то только «благодаря» войне. Советская власть ни разу не выпустила Балинского за границу, хотя он рвался съездить хоть на какую-нибудь международную конференцию. Это было общей политикой: даже Шмальгаузена после 1927 года больше никуда не пускали.
Тем не менее научная карьера Балинского развивалась блестяще. В 1935 году, вскоре после того как советская власть восстановила научные степени, он стал доктором наук — в возрасте 30 лет. В следующем, 1936 году умер учитель Шмальгаузена, знаменитый Алексей Николаевич Северцов, и прославленного ученого пригласили в Москву, чтобы тот занял место Северцова, возглавив крупный институт. А Балинский после этого фактически занял место самого Шмальгаузена в Киеве. Некоторое время он даже числился исполняющим обязанности директора Института зоологии (который возглавлял Шмальгаузен до своего отъезда в Москву). Его авторитет был велик и заслужен.
Но в октябре 1937 года НКВД арестовал жену Балинского, Екатерину Сингаевскую (она тоже была биологом). Обвинения были политическими, результат — типичным для того времени: десять лет по приговору «тройки». Самого Балинского не тронули, хотя должность профессора в университете ему пришлось оставить. Кончилось все далеко не так трагически, как могло бы. Екатерину отправили отбывать срок в лагерь в Архангельской области, где занимались лесозаготовками. Но она избежала общих работ, пристроившись сначала в конторе, потом в медчасти, потом в ветеринарной лаборатории. Кроме того, ее не лишили права переписки: ей можно было отправлять письма, посылки и даже разрешалось приехать навестить. В феврале 1939 года, после известной смены руководства НКВД, знакомый адвокат посоветовал Балинскому обратиться в специальную комиссию. И это помогло — через два месяца его жену освободили. Она вернулась в Киев и была немедленно восстановлена на работе.
Балинский продолжал работать, преподавать (теперь уже в медицинском институте) и публиковаться, но вся эта история обошлась ему дорого. Это проявилось даже внешне: именно в те тяжелые годы он облысел. В момент нападения Германии на СССР Балинский с женой находились на биостанции в Крыму. Уехать оттуда в Киев им не удалось — только в Харьков. Но и к Харькову понемногу приближался фронт. В этот момент Балинский, как он сам потом говорил, принял самое важное решение в своей жизни: он уклонился от эвакуации на восток и остался в Харькове, когда туда вошли немцы.
Возможно, это решение было принято под влиянием Екатерины, которая боялась, что ее вновь арестуют. Никакой политики тут не было — чистая биология, забота о самосохранении.
Из оккупированного Харькова они перебрались к себе на родину, в оккупированный Киев. Жизнь тут была голодная, университет не работал, найти себе применение было очень трудно; Балинскому еще повезло, что его взяли в какую-то лабораторию, занимавшуюся проблемами рыбоводства. Там он мог изучать развитие рыб, то есть работать почти по специальности. В марте 1943 года Екатерина Сингаевская, здоровье которой, надо полагать, было подорвано в заключении, неожиданно умерла от перитонита. А осенью 1943-го немцы оставили Киев, и Балинский, как и многие боявшиеся советской власти гражданские, ушел на запад вместе с ними.
Начались годы скитаний по Европе. Только теперь Балинский встретился с западной наукой вживую (например, познакомился со своим заочным учителем Отто Мангольдом). В конце концов ему удалось найти постоянную работу в Эдинбурге, в лаборатории знаменитого эмбриолога Конрада Уоддингтона. Нелишне заметить, что устроился он туда с помощью другого эмигранта-киевлянина — давно уже работавшего в Америка генетика Феодосия Добржанского. Однако работа в Эдинбурге не во всем устраивала Балинского. Во-первых, там ему пришлось заниматься эмбриологией млекопитающих, методы которой резко отличаются от привычных ему методов эмбриологии амфибий. Во-вторых, они с Уоддингтоном были ровесниками; между тем Балинский не без оснований считал себя ученым того же уровня, и ему не особенно нравилось подчиненное положение. Отличный выход нашелся в 1949 году, когда Балинского пригласили на работу в Йоханнесбург, в известный Витватерсрандский университет. Рекомендовал его туда Уоддингтон.
В Южной Африке Балинский оказался на своем месте. Там он сразу стал профессором и занялся экспериментальными исследованиями, темы для которых выбирал сам. Он активно расширял научный кругозор — например, развернул исследования по эмбриологии морских беспозвоночных, для чего была приспособлена биостанция на острове в Индийском океане. Кроме того, он подготовил знаменитый учебник «Введение в эмбриологию», который, обновляясь от издания к изданию, несколько десятилетий служил отличным пособием по этому предмету для студентов самых разных стран — увы, кроме СССР. На русском языке этот учебник так и не выпустили: он окончательно устарел аккурат к тому моменту, когда исчезли политические препятствия, мешавшие это сделать (сейчас «экологическую нишу» учебника Балинского занимает всемирно известный учебник Скотта Гилберта, написанный в 1990-х годах и тоже постоянно обновляемый).
Не забывал Балинский и о связях с мировой наукой. Получив в 1956 году длительный отпуск, он провел «субботний год» в Соединенных Штатах, где с ним делились опытом два выдающихся специалиста по электронной микроскопии — Джордж Паладе и Кейт Портер. Оба они работали в Рокфеллеровском институте (тогда еще не университете), с которым связаны биографии двух других героев этой книги — Федора Левина и Феодосия Добржанского. Факты требуют признать, что попечительство Рокфеллеров оказалось для биологии XX века воистину полезным.
И наконец, именно Балинский, всегда любивший амфибий, сделал лабораторным животным африканскую шпорцевую лягушку (ксенопуса). Это полностью водное существо, которое очень удобно содержать и разводить в аквариуме. Ксенопус стал для эмбриологов таким же популярным объектом, как муха дрозофила для генетиков. Лягушку ксенопуса видел, наверное, каждый современный биолог — даже тот, кто и не помнит имени Балинского.
В Южной Африке Балинский дожил до 1997 года. Местные коллеги его чрезвычайно уважали. В последние десятилетия своей жизни он вернулся к энтомологии, которой (как мы помним) увлекался с детства, и занялся исследованиями изменчивости африканских бабочек. Кроме того, он интересовался астрономией и был одним из немногих астрономов-любителей, которому дважды — в 1910 и 1986 годах — удалось увидеть комету Галлея.
Невозвращенцы
Русский основатель эволюционной генетики: Николай Тимофеев-Ресовский (Сергей Ястребов)
Одним из главных достижений биологии XX века была синтетическая теория эволюции. «Синтетической» она называется потому, что объединила в себе подходы классического дарвинизма и генетики. Сейчас уже позабылось, что лет 100 назад объяснения механизмов эволюции, предлагаемые этими двумя научными направлениями, считались взаимоисключающими. Настоящая эволюционная генетика начала создаваться в 1920-е годы, и вклад русских ученых в этот процесс был очень велик. Он, несомненно, был бы еще больше, если бы не печальные обстоятельства, резко затруднившие сначала международный научный обмен, а потом и занятия генетикой в самом Советском Союзе. Поэтому неудивительно, что мировую известность на этом поле получили в первую очередь те ученые, которые провели значительную часть жизни за пределами СССР: два великих генетика — Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900–1981) и Феодосий Григорьевич Добржанский (1900–1977).
В отличие от многих других героев этой книги, Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900–1981) никогда не считал себя эмигрантом. Тем не менее он провел на Западе 20 лет, а вернувшись в СССР, стал в советской биологии уникальной фигурой. Не только потому, что был очень крупным ученым (хотя это так), и не только потому, что был великолепным лектором (хотя рассказывал он ярко и артистично). Собеседников зачаровывали не столько эти качества — они встречались и у других, — сколько редкостный жизненный опыт, проявлявшийся во всем, что он делал. Он был накоротке с людьми и явлениями, о которых его молодым слушателям в лучшем случае доводилось только читать в книгах. Он участвовал в создании молекулярной биологии (хотя не любил это словосочетание). Он объездил множество стран. Он лично знал Нильса Бора, Альберта Эйнштейна и датского короля Кристиана X. В общем, он был естественной частью многоцветного, бурно развивающегося мира по ту сторону «железного занавеса», в котором происходили захватывающие научные события, но с которым советские биологи почти не имели возможности непосредственно соприкоснуться. Этакое «окно в Европу», явленное в одном человеке. Живая легенда.
Не столь очевидно было то, что заплатить за такую яркую жизнь ему пришлось очень дорого.
От Киева до Берлина
Николай Тимофеев-Ресовский родился за три месяца до конца XIX века — в сентябре 1900 года. Семья была дворянской. Отец Николая, Владимир Викторович, был крупным инженером-путейцем — весьма престижная в те времена специальность. Он строил в разных местах России железные дороги и дослужился до действительного статского советника (гражданский чин IV класса, соответствующий генерал-майору). Сначала Николай жил и учился в Киеве, а потом — после безвременной кончины отца — переехал вместе с семьей в Москву.
Надо заметить, что в Киеве он учился не где-нибудь, а в 1-й Императорской Александровской гимназии, той самой, которую окончил Михаил Афанасьевич Булгаков и которую пытались оборонять от врагов герои романа «Белая гвардия». Список других учеников этой гимназии впечатляет: писатель Константин Паустовский, артист Александр Вертинский, художник Николай Ге, историк Михаил Ростовцев, биолог Иван Шмальгаузен, инженер Игорь Сикорский… В общем, учили там неплохо. Впрочем, в Москве Николай поступил во Флеровскую гимназию, которая была не хуже.
Фундамент, заложенный в этих учебных заведениях, давал о себе знать всю жизнь. Когда Николай после университета поехал в Германию, ему не пришлось учить немецкий язык — он владел им свободно. Не менее свободно он ориентировался в музыке, живописи, литературе, философии, истории. Спустя много лет советские ученики Тимофеева-Ресовского в один голос говорили, что поражаются его эрудиции, выходящей далеко за пределы науки. Неудивительно: советская система образования строилась по другим принципам и для воспитанных ею людей такой кругозор был скорее редкостью, чем обычным делом.
Отец Александр Мень, которому довелось исповедовать Тимофеева-Ресовского незадолго до его смерти, назвал его «человеком Возрождения». Это — крайне почетный отзыв, но думается, что в нем заключена только часть правды. Николай Владимирович был не столько человеком Возрождения, сколько человеком дореволюционной России, плоть от плоти ее высшего, самого образованного слоя.
Между тем наступило сперва военное, а потом и революционное время. Учеба Николая продолжалась, как сказал бы герой О. Генри, «с разнообразными перерывами», включая работу пастухом в деревне (за это расплачивались провизией) и службу по мобилизации в РККА (в одной из частей 12-й армии, входившей в тот период в состав сначала Западного, а потом Южного фронта). Последнее стоит прокомментировать. Нет ни единого свидетельства, что Тимофеев-Ресовский в какой бы то ни было момент своей жизни симпатизировал коммунистическим идеям. Наоборот, он относился к ним прохладно. Почему же он тем не менее довольно охотно вступил в Красную армию? Насколько можно судить — по сугубо патриотическим соображениям: белогвардейцы, стремившиеся объединить Россию, но волей-неволей фактически рвавшие ее на части, не вызывали у него никакого сочувствия.
Слово «патриотизм» употреблено здесь не случайно: Тимофеев-Ресовский был буквально пронизан русской культурой, с глубоким почтением относился к русской науке (это знали все, кто общался с ним лично или слушал его лекции) и не допустил разрыва с родиной, хотя на некоторых поворотах судьбы реальность его к такому шагу подталкивала. При этом его патриотизм не был ни казенным, ни агрессивным, ни политически окрашенным. В нашем континентальном климате такое, честно говоря, редкость.
Так или иначе, после ряда приключений Николай Тимофеев-Ресовский оказался в Московском университете. Биологией он увлекся давно (как он сам говорил, чуть ли не с рождения). В университете его главными наставниками стали Николай Константинович Кольцов и Сергей Сергеевич Четвериков — выдающиеся ученые, пионеры нового подхода к изучению биологической эволюции. Тимофеев-Ресовский выбрал их в свои учителя вполне обдуманно и воспринял от них идеи, которые развивал потом несколько десятилетий.
Его специальностью стала генетика. В научном кругу Кольцова и Четверикова ее знали великолепно, на уровне главных мировых центров этой науки, первым из которых тогда была школа Томаса Моргана. Тем не менее — и это очень важно — образование, которое Тимофеев-Ресовский получил в университете, было в первую очередь зоологическим. Владение новыми подходами и экспериментальными методами основывалось там на фундаменте классической зоологии, знать которую надлежало безупречно. И Четвериков, и Кольцов изначально были зоологами: один занимался энтомологией (и никогда ее не оставлял), за другим числились блестящие исследования по сравнительной анатомии позвоночных. Сам Тимофеев-Ресовский тоже всегда считал себя зоологом, несмотря на то что заниматься чисто зоологическими проблемами ему в жизни почти не пришлось. Уже пожилым человеком, через полвека после университета, он гордился тем, что до сих пор может перечислить все 12 пар черепных нервов позвоночных («чего кончающие сейчас биофак зоологи обыкновенно совершенно не знают»). Такие вещи в значительной степени определяли его мировоззрение. Занимаясь молекулами и генами, он ни на миг не забывал, что главный объект биологии — это не ген и не молекула, а организм (и имел обыкновение жестко высмеивать тех, кто считал иначе). Связь с зоологией тут очевидна: вряд ли что-нибудь лучше воплощает идею целостного организма, чем организм животного.
В 1922 году Тимофеев-Ресовский женился на Елене Александровне Фидлер (1898–1973), которая была тогда студенткой-старшекурсницей и тоже училась у Кольцова. Николай и Елена были почти ровесниками, людьми одних интересов и одного круга (ее отец, например, был известным московским педагогом). Бывает, что люди находят друг друга сразу и навсегда. Этот брак продлился почти 51 год — пока не вмешалась смерть.
Весной 1925 года Николай и Елена получили неожиданное приглашение — в Институт мозга, находящийся в Германии.
Основатель этого института, известный нейроанатом Оскар Фогт, решил создать там отдел генетики. Вроде бы решение как решение, но воплотить его в жизнь удалось не сразу: генетиков в Германии тогда было мало, а те, что были, по разным причинам не хотели менять место работы. И тут Фогт вспомнил о своих хороших научных связях с советской Россией, где была своя генетическая школа. Почему бы не пригласить каких-нибудь молодых и талантливых исследователей оттуда?
И все устроилось. В конце июня 1925 года Николай Тимофеев-Ресовский с женой и двухлетним сыном выехали из Москвы в Берлин.
Впереди его ждали 20 лет продуктивнейшей работы.
Гены, популяции, молекулы
Институт мозга находился в Берлине. В 1928 году его генетический отдел (а потом и весь институт) переехал в Бух — пригород Берлина, где можно было наслаждаться жизнью на природе, номинально оставаясь на территории столицы.
Оскар Фогт оказался хорошим руководителем: он подсказывал некоторые идеи (в том числе и очень полезные), а в остальном — не мешал работать. Творческая свобода сочеталась с отличным финансированием. С командой сотрудников Тимофеев-Ресовский воплощал в жизнь свои идеи одну за другой. Заодно он много путешествовал — побывал почти во всех странах Европы и в США — и активно общался с коллегами, причем не только с биологами, но и с физиками. К тому времени стало ясно, что общих интересов у них хватает. Постепенно сложилась целая международная группа биологов, физиков, химиков и математиков, которые регулярно собирались, чтобы обсудить проблемы теоретической биологии. Обычно для этого снимали маленькую гостиницу на каком-нибудь пустующем в мертвый сезон европейском курорте. Тут помог уже упоминавшийся в главе про Константина Давыдова американский (а фактически международный) Рокфеллеровский фонд: его распорядители сами были учеными и охотно выделили средства на такое дело. Этот фонд вообще внимательно относился к работе Тимофеева-Ресовского и многих других ученых и охотно ее поддерживал, если, конечно, видел в ней перспективы. В терминах героев Стругацких деятельность этого фонда вполне можно назвать прогрессорством. Между прочим, считается, что словосочетание «молекулярная биология» в свое время пустил в оборот не кто иной, как директор отделения естественных наук Рокфеллеровского фонда, математик Уоррен Уивер.
Но кругозор Тимофеева-Ресовского, как всегда, не ограничивался наукой. Он постоянно искал и находил что-то интересное, прежде всего — в русской культурной среде. Среди его хороших знакомых были историки Георгий Вернадский и Петр Савицкий, философы Семен Франк, Федор Степун, Лев Карсавин.
Все крупнейшие достижения Тимофеева-Ресовского, создавшие ему имя, связаны с генетикой. Эта наука, получившая свое название только в 1905 году, лет через 20 (то есть как раз к тому моменту, когда Николай Владимирович приехал в Германию) вошла в самую бурную фазу развития. К этому времени ее понятийный аппарат успел сложиться, методы были неплохо отработаны, первые ключевые открытия — сделаны. И в то же время нерешенных вопросов было несметное множество — глаза разбегались.
Овладеть сразу всеми областями генетики в это время было уже не под силу никому из смертных. Можно было только пытаться успеть как можно больше. И Тимофеев-Ресовский старался от души. Что же, собственно, он в итоге сделал? Окинув взглядом подборку его работ, мы увидим там три сквозные темы.
Первой темой было изучение того, как именно гены воздействуют на признаки организма, то есть на фенотип. Было известно, что один и тот же ген может в разных ситуациях вести себя по-разному, в зависимости как от своих генных «соседей», так и от факторов внешней среды. В 1920-х годах эти вопросы уже поддавались экспериментальному исследованию, которое и было немедленно начато. При этом Николаю помогала Елена: она прекрасно владела методикой и не ленилась просматривать под бинокуляром тысячи мух дрозофил, фиксируя состояния нужных признаков. Некоторые их статьи были совместными. Накопленный материал позволил Тимофееву-Ресовскому ввести понятия «пенетрантность» (частота самого факта проявления гена в фенотипе) и «экспрессивность» (характеристика силы или степени этого проявления). Понятия эти с тех пор прочно вошли в учебники генетики.
Второй темой, важной для Тимофеева-Ресовского, была микроэволюция. Тогда как раз стало складываться представление, что биологический вид — это замкнутая (или, во всяком случае, относительно замкнутая) система, внутри которой непрерывно идут потоки генов. При этом в разных популяциях вида концентрации генов могут меняться — примерно так же, как меняются концентрации молекул в растворе. Вот эти процессы и называются микроэволюцией. Они могут быть как направленными (под действием естественного отбора), так и случайными. Микроэволюция очень многогранна, так что в ее изучении применимы самые разные подходы: от чисто математических моделей до зоологических и ботанических полевых сборов, сопровождаемых генетическим анализом. Тимофеев-Ресовский в полной мере освоил этот спектр. Одно только комплексное исследование популяций божьей коровки эпиляхны, — проводимое, конечно, параллельно со многими другими, — заняло у него 18 лет. Венцом этого направления работы стала книга «Краткий очерк теории эволюции», которую он выпустил в конце жизни в соавторстве с двумя своими советскими учениками, тоже крупными учеными.
И наконец, третья сквозная тема — это исследование физической природы гена. Вот здесь Тимофеев-Ресовский был настоящим первопроходцем. Как герой Данте, он вступил в воды, «которых не пересекал еще никто».
В классической генетике вопрос «что такое ген?» просто не ставился. Первые генетики считали, что для него еще не пришло время. Это не было таким парадоксом, как может показаться со стороны: в конце концов, многие науки занимаются описанием поведения объектов, природа которых до поры неизвестна. Химики, например, долго обходились без всякого представления о том, как устроен атом, и это не мешало им делать важные открытия. Но в XX веке наука развивалась быстро. В 1926 году Герман Меллер открыл радиационный мутагенез, то есть повышение частоты генетических мутаций под действием электромагнитных лучей. Открытие заставило задуматься: если попадание электромагнитного кванта может изменить структуру гена, значит, ген — это какая-то молекула? А в 1927 году учитель Тимофеева-Ресовского, Николай Константинович Кольцов, произнес в Ленинграде, на III Всероссийском съезде зоологов, анатомов и гистологов, доклад, в котором сформулировал следующую гипотезу: ген — это составная часть гигантской молекулы, способной самокопироваться путем сборки своего аналога из ионов, находящихся в окружающем растворе. Ну примерно как обычный кристалл вырастает из затравки. Каждая молекула, несущая информацию, развивается на основе другой подобной молекулы, уже имеющейся в наличии. А генетическая мутация есть не что иное, как перестановка атомов в такой молекуле. Это было открытие принципа воспроизводства наследственной информации — пока еще «на кончике пера». Сейчас те молекулы, о которых говорил Кольцов, называют репликаторами.
Вот этой идеей и руководствовался Тимофеев-Ресовский вместе с коллегами — немецкими физиками, которых он увлек своей работой. Вокруг него всегда и везде быстро собирался круг единомышленников. Итак, в 1935 году Николай Тимофеев-Ресовский, Карл Циммер и Макс Дельбрюк опубликовали знаменитую большую статью под названием «О природе генных мутаций и структуре гена». Они обработали мух дрозофил рентгеновским излучением, все характеристики которого были точнейшим образом измерены (это обеспечил Карл Циммер). В ответ произошло резкое повышение частоты мутаций, величина которого тоже была точно измерена (это, разумеется, сделал сам Тимофеев-Ресовский). Полученные результаты полностью соответствовали гипотезе о том, что ген — это крупная молекула, структура которой может меняться при попадании в нее рентгеновского кванта. Более того, сопоставляя данные «на входе» и «на выходе» с имевшимися моделями действия рентгеновского излучения на вещество, исследователи смогли приближенно оценить размер этой молекулы. Впервые в мировой истории им удалось физически «пощупать» ген.
В статье, озаглавленной «Биофизический анализ мутационного процесса», Тимофеев-Ресовский сообщил, что, судя по его экспериментальным данным, X-хромосома мухи-дрозофилы содержит примерно 1800 генов. Сейчас, когда геном дрозофилы полностью прочитан, мы знаем, что на самом деле в этой хромосоме 2669 генов (судя по базе данных американского Национального центра биотехнологической информации). Тимофеев-Ресовский ошибся всего-то в полтора раза, еще не зная, что гены представляют собой отрезки ДНК — это доказали несколько позже, — и опираясь исключительно на биофизику.
Макс Дельбрюк, молодой тогда физик-теоретик, под влиянием Тимофеева-Ресовского переквалифицировался в биолога. Потом он стал профессором в Соединенных Штатах и создал там вместе с Сальвадором Лурией исследовательскую группу, в которой в конце 1940-х годов начал свою работу молодой Джеймс Уотсон — тот самый, который вместе с Фрэнсисом Криком раскрыл тайну пространственной структуры ДНК. Получается, что Уотсон был учеником ученика Тимофеева-Ресовского.
Второй участник открытия структуры ДНК, Фрэнсис Крик, оставил физику и стал биологом после того, как прочитал знаменитую книгу Эрвина Шредингера «Что такое жизнь?» (1944), которая, скорее всего, не была бы написана, если бы не работы Тимофеева-Ресовского по биофизической генетике (Шредингер подробно обсуждает его результаты и во многом на них основывается).
Таким образом, Тимофеева-Ресовского вполне можно назвать научным дедушкой молекулярной биологии.
В интервью, опубликованном в журнале «Химия и жизнь» (1988, № 1), Джеймс Уотсон так и сказал: «Если Лурия и Дельбрюк — мои отцы в науке, то Тимофеев-Ресовский — мой дедушка в ней».
В то время, когда Уотсон и Крик открыли свою знаменитую двойную спираль, Тимофееву-Ресовскому было 52 года. Еще далеко не «дедушка», а мужчина в расцвете сил. Увы, судьба сложилась так, что продолжить занятия генетикой (по крайней мере, на прежнем уровне) ему не пришлось.
Нас примет родина в объятья
Работа шла своим чередом, а мир между тем менялся. В 1929 году угодил в ссылку учитель Тимофеева-Ресовского — Сергей Сергеевич Четвериков. Семинары, которые он много лет вел и которые были средоточием самой современной генетической мысли, заглохли — как оказалось, навсегда.
Прекратились визиты коллег и знакомых из Советской России. Первое время они были частыми, Берлин традиционно пользовался у русских популярностью. В 1929 году число таких гостей резко уменьшилось, а начиная с 1930-го их не стало совсем. Выезд за границу для граждан СССР был закрыт.
В мае 1937 года советское консульство отказалось продлить Николаю и Елене Тимофеевым-Ресовским заграничные паспорта. Это означало требование вернуться на родину, что в условиях 1937 года было равносильно самоубийству. Кольцов, никогда не питавший никаких иллюзий относительно советской власти, так и писал в письмах, которые пересылал окольными путями. Репутация Тимофеевых-Ресовских была подмочена как самим фактом долгой жизни за границей, так и тем, что родной брат Николая, Дмитрий, был уже арестован (вскоре будет арестован и другой брат — Владимир). Разумеется, они не вернулись.
Возникает вопрос, почему Тимофеев-Ресовский не уехал с семьей в Соединенные Штаты. Его там готовы были принять с распростертыми объятиями. И время было: между отказом от возвращения в СССР и началом Второй мировой войны, затруднившей перемещения, прошло больше двух лет. Но такой шаг в тогдашних условиях означал бы полный разрыв с Россией. Живя в Берлине с советским паспортом и работая там, куда его направили в командировку, Тимофеев-Ресовский мог продолжать считать себя советским гражданином — пусть нарушившим порядок, но сохраняющим возможность все исправить. А вот в Америке он стал бы эмигрантом. И это его не устраивало. По тем же причинам он отказался принять немецкое гражданство (а такие предложения тоже поступали). В этом случае он вежливо ответил, что принятие нового гражданства — серьезный шаг, предпринимать который ради удобства недопустимо.
В 1940 году, когда отношения СССР и Германии вроде бы наладились, у Тимофеева-Ресовского возобновилась вполне нормальная переписка кое с кем из московских коллег. Но следующий год перечеркнул все.
Летом 1943 года немцы арестовали за участие в антинацистской подпольной организации сына Тимофеевых-Ресовских — Фому. (По крестильному имени он был Дмитрием, но все его звали Фомой, а исправлять документы в этой семье было недосуг.) Попытки добиться его освобождения результата не дали. Как потом выяснилось, он погиб в концлагере Маутхаузен 1 мая 1945 года. Его родители не дожили до официального установления этого факта. Елена Александровна 28 лет надеялась, что сын еще вернется, и вспоминала его даже в самый день своей смерти.
В последние месяцы войны у Тимофеевых-Ресовских, безусловно, была возможность переместиться на Запад и попасть-таки в США. Не исключено, что удалось бы перетащить и всю лабораторию (обсуждался ее перенос в Геттинген, который наверняка должны были занять западные союзники). Николай Владимирович обдумал этот вариант и отказался от него, вполне понимая, что идет на риск. Но это был взвешенный риск. Никакой антисоветской деятельностью он никогда не занимался, вины за собой в этом плане не чувствовал и в то же время рассчитывал, что советские власти оценят его профессиональную квалификацию. И надо сказать, что этот расчет оправдался — хотя и не так, как ему, вероятно, мечталось.
21 апреля 1945 года в Бух вошли разведчики 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова. Тимофеев-Ресовский встретил их и представился. С ним подробно побеседовали, и в итоге Военный совет армии (а потом и 1-го Белорусского фронта) предписал ему продолжать работу — с тем, чтобы лаборатория генетики и биофизики была в дальнейшем включена в состав нового, советского научного учреждения.
Казалось, все обошлось. Тимофеев-Ресовский успешно передал институт советскому командованию, им заинтересовались, ему обещали работу по специальности (в Бухе вскоре побывали разные комиссии, имевшие на то полномочия). Оставалось спокойно работать и ждать приглашения.
Но мир продолжал меняться. В августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Японию. В ответ на это 20 августа возникло 1-е Главное управление при Совнаркоме СССР — таинственная организация с ничего не говорящим названием, перед которой была поставлена одна-единственная задача: создание ядерного оружия. Начальником этого управления стал генерал-полковник Борис Львович Ванников, а первым заместителем начальника — генерал-лейтенант Авраамий Павлович Завенягин. Он-то и принял решение привлечь к работе Тимофеева-Ресовского. Радиационная генетика, которой тот начал заниматься еще в 1930-е годы, плавно переходила в радиационную биологию — науку, ставшую важнейшей для оценки последствий ядерных взрывов. Тут Завенягину повезло. Более компетентного специалиста в этой области в пределах досягаемости — а пожалуй, что и в мире — просто не было.
Однако независимо от 1-го Главного управления Тимофеевым-Ресовским заинтересовалось контрразведывательное управление НКГБ, никакого отношения к атомному проекту не имевшее. Для сотрудников этого управления он был просто человеком с подозрительными связями. Насчет того, что делать с такими людьми, в НКГБ в 1945 году не колебались. Поэтому в сентябре Тимофеев-Ресовский был арестован и отправлен в Москву.
Следствие длилось несколько месяцев. Никакими ужасами оно не сопровождалось, следователи были корректны, но не скрывали, что 10 лет их подследственный получит в любом случае: факта невозвращения для этого достаточно. Обвинений в шпионаже и участии в антисоветских организациях Тимофеев-Ресовский не признал, и они были в конце концов сняты. На суде ему дали возможность выступить, и он, между прочим, сказал: «Когда я остался в Германии, я мечтал в будущем возвратиться в СССР организованно, со своим штатом, со своими научными трудами». Все, что он делал, доказывает, что это было чистой правдой. Тем не менее 4 июля 1946 года он был осужден за измену родине (без дополнительных пунктов) и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
По тем временам это был относительно мягкий приговор. Возникает вопрос: знал ли о нем Завенягин? Да. Сохранилась его рабочая переписка по делу Тимофеева-Ресовского от февраля 1946 года, когда следствие шло полным ходом. Остановить это следствие Завенягин или не мог, или не хотел. К тому же и объект, на котором предполагалось заниматься радиобиологией, сотрудники 1-го управления, до предела загруженные более срочными делами, пока еще не успели подготовить. Для таких, как Завенягин, решающими всегда были соображения целесообразности. То, что ученый, с которым предстоит работать, будет числиться осужденным, его не смущало, он только попросил коллег из НКГБ не затягивать следствие, что они и выполнили.
Однако в приговоре Тимофеева-Ресовского было указано, что он осужден просто на заключение в лагерях — без оговорок. И его этапировали в Карагандинский лагерь, да еще и направили на общие работы. За проведенные там три с лишним месяца он успел организовать среди заключенных междисциплинарный научный семинар (естественное для него поведение!) и тяжело заболеть пеллагрой. Когда Завенягин спохватился и потребовал срочно привезти Тимофеева-Ресовского в Москву, тот был уже в таком состоянии, что врачи сомневались — выживет ли. Советская государственная машина едва не убила человека, который был ей нужен и сумел добиться ее покровительства. И не по чьему-то злому умыслу, а просто потому, что все делалось бюрократически, по безликому распорядку, не зависящему от воли отдельных людей.
Тимофеев-Ресовский поправился, но зрение у него было поражено то ли пеллагрой, то ли побочными эффектами от лечения так серьезно, что до конца жизни он почти не мог читать. Пользовался лупой, а с мелкими предметами вроде спичек (он был курящим) обращался на ощупь. По словам одной коллеги, «наедине с собой он был слепым». Правда, заметить это было не так-то просто. Николай Владимирович оставался все так же энергичен и в любом месте, где оказывался, сразу собирал вокруг себя единомышленников, в первую очередь молодежь. До 1955 года он работал в системе Завенягина — на закрытом объекте на Урале, руководя лабораторией и живя в комфортабельном домике, но при этом первые несколько лет оставаясь по документам заключенным. Потом переехал в Свердловск, а затем в Обнинск, который привлек его хорошими условиями работы и тем, что для Тимофеева-Ресовского, калужского дворянина, это была малая родина.
За границу Николай Владимирович больше никогда не ездил, в академию избран не был, возможности поселиться в Москве не получил. Попытки изменить эти обстоятельства (а их предпринимал, например, хлопотавший за него академик Петр Капица) встречали глухое, но непреодолимое противодействие со стороны невидимых «контрэволюционеров», как назвал таких людей писатель Борис Штерн. В 1969 году Тимофеева-Ресовского вынудили уйти на пенсию из института в Обнинске. Без работы он, конечно, не остался (такие люди никогда без нее не остаются), но проще жить ему от этого не стало.
Вместе с тем последние десятилетия его жизни (1955–1981) отнюдь не были временем бездействия. Совсем наоборот, они были до предела заполнены новой интересной работой. Тут надо учитывать, что Тимофеев-Ресовский получил свободу тогда, когда современная биология в СССР была не просто приведена в упадок, но полностью уничтожена. Однако оставались люди, полные решимости восстановить то, что можно, и начать создавать новое. И в этих условиях Николай Владимирович был предельно востребован. Он был нарасхват. А поскольку этот общий запрос полностью совпадал с его собственными стремлениями, то без дела он не сидел ни дня.
Научные проблемы, которыми он теперь в основном занимался, были ближе к экологии — радиобиология перешла в нее так же естественно, как в свое время сама родилась из генетики. Но, вероятно, не менее важна в этот период была его роль как транслятора научных знаний и связанного с ними мировоззрения. Проще говоря — как просветителя.
Так или иначе, он трудился вовсю. Руководил исследованиями, читал лекции, проводил семинары и выездные научные школы, активно участвовал в текущих дискуссиях, писал обзорные статьи и целые книги по эволюционной теории, биофизике, радиобиологии. Благо вокруг него очень быстро сформировался коллектив учеников, которые счастливы были с ним сотрудничать. Все его книги этого периода написаны в соавторстве с учениками. Последняя из них — сводка по радиобиологии — вышла и вовсе посмертно, он работал над ней, пока мог.
Интересно, что Тимофеев-Ресовский был профессором, который никогда нигде штатно не преподавал. При этом у него был врожденный дар рассказчика и он читал курсы как приглашенный лектор во множестве мест, включая и МГУ. Для него было естественно постоянно делиться мыслями. Только вот на записки на лекциях отвечал не всегда: слишком трудно ему было их читать.
Елена Александровна оставалась рядом с Николаем Владимировичем. Но надо заметить, что при всей их неразрывной связи она была не только «профессорской женой», но вполне самостоятельным исследователем. В 1960-х годах, уже далеко не молодой женщиной, освоила новый для себя модельный объект — цветковое растение Arabidopsis thaliana, по которому выпустила несколько больших статей. По сути это растительный аналог другого заслуженного объекта генетиков — мухи дрозофилы. Сейчас арабидопсис стал очень популярен, о нем пишутся десятки тысяч научных работ (причем это не преувеличение: только статей с названием Arabidopsis thaliana в заголовке поисковик Google Scholar выдает 36 800). Так вот, именно Елена Александровна была пионером исследований арабидопсиса в СССР. Умерла она внезапно, на Пасху 1973 года. Николай Владимирович прожил без нее еще почти восемь лет, принимая поддержку учеников и непрерывно работая. Например, его замечательный «Краткий очерк теории эволюции» вышел в 1977 году.
Один из учеников Тимофеева-Ресовского, Александр Борисов (в прошлом ученый-генетик, а сейчас — настоятель известной московской церкви Космы и Дамиана), видел его за две недели до смерти, после исповеди у отца Александра Меня. Он пишет, что в этот момент лицо Николая Владимировича было заплаканным и совершенно счастливым.
Невозвращенцы
Эволюция с одним неизвестным: Феодосий Добржанский (Сергей Ястребов)
«Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Эти слова знают, пожалуй, все, кто интересуется современной наукой. Но вот автор их — Феодосий Григорьевич Добржанский (1900–1977) — в нашей стране не так уж и известен, несмотря на то что был одним из крупнейших биологов XX века.
Дело в том, что ни одна книга Феодосия Добржанского не была вовремя переведена на русский язык — вероятнее всего, по политическим причинам. И с лекциями в СССР ему приехать не позволили, хотя он и пытался. Правда, само имя Добржанского в позднесоветское время все же не было под запретом: его читали (те, кто мог читать по-английски и имел доступ к нужным библиотекам), на него ссылались, с ним даже переписывались. Специалисты по эволюционной генетике великолепно знали, с кем имеют дело. Но вот в глазах неспециалистов Добржанский, пожалуй, до сих пор остается у нас фигурой отчасти загадочной. Слышали о нем многие, но чем, собственно, он велик — знают далеко не все.
Кто же он такой?
Путь ученого…
Представление о человеке начинается с имени. Судя по работам историков, род Добржанских берет начало в той части Киевской Руси, которая в середине XIV века вошла в состав Королевства Польского (в состав Великого княжества Литовского, расположенного чуть восточнее, эти земли никогда не входили). Существуют разные способы написания их фамилии кириллицей — Добрянские, Добржанские, Добжанские. Переехав в Америку, наш герой стал подписываться Dobzhansky. Несмотря на то что в таком виде эта фамилия похожа на польскую, сам он всегда считал себя русским.
Феодосий Григорьевич Добржанский родился в 1900 году в небольшом городе Немиров, в той исторической области Украины, которая называется Подольем или Подолией. Там он прошел первый класс гимназии, а потом переехал вместе с семьей в Киев. Окончил 6-ю киевскую гимназию (не столь престижную, как 1-я Императорская, в которой учился Тимофеев-Ресовский, но тоже сильную) и поступил в Киевский университет Святого Владимира. Причем поступил он туда в 1917 году, и его курс стал последним занимавшимся по дореволюционным учебным программам.
В университете он специализировался на энтомологии, которой увлекался с детства — типичный случай занятий биологией «чуть ли не с рождения», как и по сей день часто бывает. Окончил университет успешно, несмотря на то что учеба пришлась на годы Гражданской войны, когда вокруг были бесчисленные проблемы и опасности (спустя много лет он с ужасом вспоминал «киевские дни 1919 года, когда летом расстреливали людей десятками „в порядке красного террора“»). Ничего общего с политикой он ни в тот период, ни позже иметь не хотел, призыва как в Красную, так и в деникинскую армию удачно избежал. И рано (с первого курса) начал публиковать свои работы о насекомых.
Однако в Киеве, пострадавшем от войны и растерявшем изрядную часть профессорского состава, окончившему университет Добржанскому было скучновато. К тому же в 1920 году внезапно умерла мать (отец умер еще раньше). Теперь его вообще ничто здесь не держало. И он стал искать способы установить связи с другими научными центрами — чтобы расширить свой кругозор, а при случае и уехать.
Дело осложнялось тем, что в годы непрерывных войн в Россию почти не проникала зарубежная научная литература. Именно «почти»: кое-что все же чудом просачивалось. Например, в двух номерах широко известного уже тогда журнала «Природа» (№ 7–9/1919 и № 10–12/1922) вышли статьи Юрия Александровича Филипченко, в которых квалифицированно и увлекательно излагались основы новой, очень многообещающей науки — моргановской хромосомной генетики. Судя по всему, именно с первой из этих статей интерес Добржанского к генетике и начался.
Дальше помог случай. Устроившись преподавать в вуз, Добржанский получил право на казенное жилье и был подселен в квартиру Григория Андреевича Левитского — крупного биолога, специалиста по цитологии (науке о строении клеток), автора понятия «кариотип» (совокупность признаков хромосомного набора) и книги под названием «Материальные основы наследственности», над которой он как раз в те годы работал. Непрошеного квартиранта Левитский сперва хотел выставить, но, познакомившись с ним, передумал. Беседы с Левитским, протекавшие обычно на кухне общей квартиры, увлекли Добржанского генетикой еще больше.
Зимой 1921–1922 года Левитский съездил в Петроград к Николаю Ивановичу Вавилову, который незадолго до того побывал в Соединенных Штатах и привез оттуда много свежей литературы по генетике. Левитский эту литературу законспектировал, а вернувшись в Киев, прочитал на основе своих записей целый курс по генетике двум слушателям, одним из которых был Добржанский. Вот такими сложными путями тогдашняя наука преодолевала барьеры, возведенные войнами и революциями.
Лекции Левитского были очень интересны, но теперь Добржанский хотел большего. Летом 1922 года он сам поехал сначала в Петроград к Вавилову, а потом и в Москву — к Сергею Сергеевичу Четверикову, который подарил ему подходящие для серьезных генетических исследований культуры мух дрозофил.
Вернувшись в Киев, Добржанский тут же приступил к самостоятельной экспериментальной работе. Примерно через год у него были готовы первые результаты — работа о половом аппарате некоторых мутантов дрозофилы. С рукописью статьи об этих мутантах Добржанский еще раз поехал в Петроград. И поездка оказалась удачной: петроградец Юрий Александрович Филипченко, тот самый автор статей о моргановский генетике и сам крупный генетик, оценив научный уровень Добржанского, пригласил его к себе на работу.
В начале 1924 года Добржанский перебрался в Петроград, как раз в тот момент переименованный в Ленинград, и начал работать на кафедре генетики Ленинградского университета, которую Филипченко возглавлял. Здесь же он вскоре и женился на Наталье Петровне Сиверцевой, своей бывшей студентке.
Теперь специализация Добржанского как генетика определилась окончательно. Он очень быстро перестал считать себя энтомологом (хотя оставшаяся энтомологическая квалификация помогала ему всю жизнь в работе, касавшейся генетики и эволюции насекомых). А уже через пару лет Филипченко написал Томасу Ханту Моргану, признанному лидеру генетиков всего мира, с просьбой взять на стажировку своего подающего большие надежды сотрудника. И Морган ответил согласием. Хлопоты по организации поездки, сочетавшиеся с текущей работой в Ленинграде, заняли некоторое время, но в декабре 1927 года Добржанский с женой отбыли в Соединенные Штаты.
Примечательно, что по дороге в Америку, в поезде, пересекавшем Францию, Добржанский встретил Павла Николаевича Милюкова — крупного историка и одного из самых заметных политиков дореволюционной России, лидера партии кадетов. Молодой биолог и пожилой историк, видимо, заинтересовали друг друга: их общение продолжалось и позже, когда Милюков приезжал в Соединенные Штаты. На общем кругозоре Добржанского знакомство с такой исторической (во всех смыслах) личностью, несомненно, сказалось благотворно.
В Америке его встретили прекрасно. Он мгновенно нашел общий язык и с Морганом, и с коллективом его сотрудников, и вообще попал будто в родную среду (тут не помешало даже то, что Добржанский, как многие выпускники русских гимназий, поначалу знал английский хуже, чем немецкий и французский, — прошло около года, прежде чем он заговорил на нем свободно). Особенно сблизился Феодосий Григорьевич с Альфредом Стертевантом, одним из главных учеников Моргана. Но и с самим Морганом у Добржанского сложились отношения почти дружеские. Никаких бытовых препятствий для работы тут не было, Добржанский мог заполнять все свое время только наукой, не отвлекаясь на преподавание и другие побочные дела. И он работал, делая одно маленькое открытие за другим. Письма Добржанского к Филипченко, написанные в этот период, полны восторженных подробных рассказов о том, что еще ему удалось найти в хромосомном аппарате дрозофилы. Работа у Моргана целиком захватила его. Тут стоит отметить, что Добржанский находился в Соединенных Штатах в качестве стипендиата уже упоминавшегося здесь Рокфеллеровского фонда: его сочли достаточно перспективным ученым, заслуживающим поддержки.
Неудивительно, что в таких условиях Добржанскому хотелось продлить свою командировку и оставаться в Америке подольше — не теряя, однако, связи с родиной. Но это становилось все сложнее. Поначалу считалось, что он уехал на год, потом усилиями Филипченко командировку удалось продлить еще на год. И наконец, в октябре 1929 года Филипченко в письме предупредил: всё. Возможности исчерпаны. В идеале Добржанскому следовало бы вернуться в Ленинград уже к 1 декабря 1929-го, но ценой больших хлопот Филипченко добился продления его командировки до 1 апреля 1930 года (причем даже это советские знакомые рассматривали как великую милость, давшуюся чудом). Дальнейшая задержка означала переход в эмиграцию.
Надо полагать, что поздняя осень 1929 года была для Добржанского временем тяжелых размышлений. Он прекрасно понимал, что его скорого возвращения требуют по сугубо политическим причинам, из-за давления «сверху». Из новостей он, безусловно, знал, как сильно за последние годы изменилась советская жизнь: сворачивание нэпа, коллективизация в деревне, реформа высшей школы… Да и сам Филипченко предупреждал его: «Готовьтесь, дорогой Феодосий Григорьевич, увидеть после Нового света здесь тоже для Вас в некоторых отношениях новый свет, к которому придется привыкать и приспосабливаться».
В декабре 1929-го Добржанский написал Филипченко, что считает свою работу в Америке незавершенной и возвращаться пока не станет. С точки зрения западного ученого это было заурядным деловым решением. С точки зрения советского человека — катастрофой и полным разрывом со своим государством. О последнем Добржанскому говорили, но он не внял.
А потом случилось несчастье. В мае 1930 года Филипченко в полном расцвете творческих сил — ему было 48 лет — внезапно умер от менингита.
Тем не менее Добржанский не оставил надежды вернуться на родину. Уже в декабре 1929-го, сразу после решения самовольно продлить свое пребывание в Америке, он завязал переписку с Николаем Ивановичем Вавиловым, которого просил обеспечить какие-нибудь более приемлемые условия возвращения. Эта переписка, длившаяся больше полутора лет, не имела бы никакого смысла, если бы желание Добржанского вернуться домой не было искренним (дело дошло до отправки через океан заявления о предоставлении ему должности при ВАСХНИЛ). Вавилов тогда был у советской власти в фаворе и мог организовать многое. Он был убежден, что Добржанскому нужно вернуться, и звал его в Россию с большим энтузиазмом. «Начинайте всерьез быть советским патриотом», — советовал Вавилов Добржанскому. «Конечно, надо подковываться диалектикой», — добавлял он летом 1931 года. Он уверял, что в СССР от Добржанского ждут книги по генетике животных, и развивал эту мысль: «Пишите курс классический, но только чтобы не было тенденций, целеустремленности, механизма, идеалистической тенденции, грубого материализма». «Психология советской страны, конечно, совершенно особая, — писал Вавилов еще в одном письме. — Замкнуться в науку нельзя». Сопровождалось это честным признанием бытовых проблем: конечно, жить одной научной работой в СССР сейчас не получится, а особенно плохо там с квартирами. Но в конце концов, так ли уж важны для ученого материальные блага?
Вряд ли кто-нибудь удивится тому, что на Добржанского такой энтузиазм произвел действие, строго обратное ожидаемому. В августе 1931 года он отправил Вавилову из Америки письмо, в котором твердо заявил, что приспосабливаться к советской жизни в той степени, в какой это от него, очевидно, потребуется, он не готов. Заканчивалось это письмо недвусмысленно: «Как бы то ни было, никогда не забуду ни страны, ни того, чем ей обязан». Теперь Добржанский окончательно решил остаться в США.
Его дальнейшая биография — это биография крупного американского ученого. В 1936 году он стал профессором, в 1937-м получил американское гражданство, в 1958-м — престижнейшую в области генетики Кимберовскую премию. Как многие американские профессора, он несколько раз переходил с места на место, работая то в Нью-Йорке (Колумбийский университет, Рокфеллеровский университет), то в Калифорнии (Калифорнийский технологический институт — знаменитый Калтех — и потом, под конец жизни, Калифорнийский университет в Дейвисе). Он много разъезжал по миру — и c экспедициями, и просто в порядке научного обмена. В начале 1952 года, пережив из-за внезапной серьезной болезни определенный кризис, Добржанский составил план работы на остаток жизни, включавший написание нескольких книг; план этот был выполнен с лихвой. Он никогда не забывал цитировать в своих работах русских биологов и вообще старался поддерживать связь с родиной, насколько это было возможно в эпоху «железного занавеса» (Тимофеев-Ресовский в предисловии к своему «Краткому очерку теории эволюции» специально отметил, что его радует положительная рецензия Добржанского на эту книгу). Кроме того, он был великолепным организатором науки — не в советском командно-административном смысле, а в том, который связан с известным понятием «невидимого колледжа», добровольного и неформального объединения ученых. Вокруг Добржанского эти «колледжи» постоянно самоорганизовывались. Его лаборатория вечно была полна коллег и учеников, причем и те и другие легко становились друзьями. А среди его бесчисленных трудов много коллективных монографий (и в некоторых из них Добржанский сознательно отходил на второй план, чтобы дать сотрудникам возможность подробно высказаться).
Последние семь лет (1968–1975) Добржанский был смертельно болен лейкемией и знал это, но на его образ жизни это не повлияло. Менять было нечего: он и без того всегда предельно ответственно относился ко времени, несколько десятилетий подряд ровно и неутомимо занимаясь любимым делом. Его жизненный путь — на редкость цельный.
…и его мысли
Самым крупным вкладом Добржанского в науку, безусловно, стало его представление о биологическом виде.
В основе этого представления лежат две идеи. Первая, принадлежащая Сергею Сергеевичу Четверикову, — о генетической разнородности, которая может таиться внутри вида под покровом внешнего единства. Вторая, на которую Добржанский вышел самостоятельно, — о межвидовой стерильности, то есть о чисто генетическом ограничении на скрещивание разных видов, в отличие от разных популяций одного и того же вида. Сочетание этих идей ведет к пониманию вида как внутренне разнородной (в меру), но единой генетической системы, отделенной от других подобных систем репродуктивным барьером (причем само существование этого барьера поддерживается естественным отбором и может рассматриваться как адаптация). Попросту говоря, вид — это генетический котел, в котором бурлят потоки, циркулируют разные варианты одних и тех же генов, а от других «котлов» он отделен стенкой (иное дело, что не полностью непроницаемой). Если внутри вида возникает репродуктивный барьер, поддержанный механизмами изоляции, то вид делится надвое — причем, при достаточной внимательности, все промежуточные стадии этого процесса, в принципе, можно наблюдать воочию. В общем, вид — это генетически замкнутая система, существование которой поддерживается изолирующими механизмами и которая может распадаться на большее число подобных систем в результате возникновения новых барьеров, препятствующих обмену генами.
Это так называемая биологическая концепция вида. В России ее часто связывают с именем другого известного эволюциониста — Эрнста Майра (автора серии книг, которые, в отличие от книг Добржанского, были вовремя переведены на русский язык). Но Майр был не генетиком, а зоологом. Генетическую основу биологической концепции вида создал Добржанский; с Майром у них есть серия совместных работ. Добавим, что Майр, бывший на четыре года моложе Добржанского, дожил до 100 лет, и даже в своих статьях, написанных в 2000 году и позже, излагая теорию вида, он обильно ссылался на Добржанского. Сотрудничество генетика и зоолога (Майр был специалистом по птицам) дало тут великолепный результат.
Исследования Добржанского на эту тему отнюдь не сводились к теоретическим выкладкам. Совсем наоборот. Они включали в себя и многочисленные лабораторные эксперименты, и исследования природных популяций (в основном насекомых), и сочетание первого со вторым. Добржанский скрещивал мух дрозофил, изучал их географическую изменчивость и механизмы межвидовой изоляции, находя ко всему этому очень изящные подходы. Например, он реконструировал путь эволюции одного из видов дрозофил, проведя тщательное сравнение видимых под микроскопом хромосомных инверсий (инверсия — это мутация, при которой небольшой участок хромосомы переворачивается задом наперед). Все эти работы были трудоемки, но уж труда-то Добржанский не боялся.
Становление его как биолога проходило очень самостоятельно. Он не был самородком, выросшим вне традиций, — вовсе нет. Но каждую традицию, с которой приходилось встречаться, воспринимал критически, что-то отбирая в ней для себя, а от чего-то отказываясь. Если, например, Тимофеев-Ресовский был учеником Кольцова, а Стертевант — учеником Моргана, то Добржанского нельзя считать ничьим учеником вообще. Энтомологию, освоенную в Киевском университете, он рано оставил (уже в 27 лет считал ее не более чем «юношеским увлечением»). Учеником Филипченко его не назовешь, потому что у них всегда были принципиально разные взгляды на эволюционный процесс и на место классической генетики в биологии. Филипченко считал, что эволюция групп организмов рангом выше рода (макроэволюция) определяется особыми, негенетическими факторами; неудивительно, что с этой точки зрения роль генетики в понимании эволюции выглядела довольно скромной. Добржанский же полагал, что в эволюционном процессе «что наверху, то и внизу» и генетика может объяснить его полностью. Это убеждение определило его личную исследовательскую программу — никем не продиктованную, а собственную (он не стеснялся спорить с Филипченко, который был его покровителем и начальником и которого он очень уважал). Наконец, моргановскую генетику Добржанский изучил сам и в лабораторию Моргана прибыл уже сложившимся исследователем. Но и с «морганоидами» (как тогда неформально говаривали) он в конце концов разошелся во взглядах. Ученики Моргана, в частности Стертевант, стремились к экспериментальному изучению всеобщих механизмов наследования, мечтая добраться до физико-химической структуры гена (сходными вещами занимался в Берлине Тимофеев-Ресовский). Добржанскому же это было малоинтересно. Он предпочитал использовать генетику как инструмент исследования эволюционного процесса, протекающего в природе (Тимофеев-Ресовский занимался и этим, но вот тут Добржанский сделал гораздо больше). В общем, в научном плане это был настоящий self-made man. Притом очень последовательный.
Важнейшим для Добржанского аспектом живой природы было внутривидовое разнообразие. Он прекрасно понимал, что изменчивость — источник любой эволюции. Но, кроме того, он понимал, что изменчивость — это парадоксальным образом еще и источник устойчивости. В любом биологическом виде скрыт «мобилизационный резерв» генетической изменчивости, обеспечивающий приспособляемость этого вида к меняющейся внешней среде. Первым, кто об этом догадался, был Сергей Сергеевич Четвериков (Добржанский у него толком не учился, но это не помешало ему отобрать для себя четвериковские идеи и потом всегда на них ссылаться: как говорил один великий писатель, у хорошей хозяйки ничего не пропадает). В результате к 1940-м годам в генетике сложились две гипотезы, по-разному описывавшие структуру популяций.
Разные формы одного гена, как известно, называются аллелями. Так вот, согласно так называемой классической гипотезе, связанной с именем Германа Меллера, в типичной природной популяции почти любой наугад взятый ген представлен у подавляющего большинства особей одним и тем же аллелем, который можно считать «нормальным». Необычные аллели редки, вредны и удаляются отбором. Добржанский же, основываясь на своих исследованиях, пришел к так называемой балансовой гипотезе, предполагающей, что в типичной природной популяции большинство генов представлено наборами из нескольких разных аллелей, частоты которых могут постоянно меняться. Термин «нормальный аллель» здесь просто теряет смысл.
Добржанский предполагал (а современная генетика подтвердила), что балансовая гипотеза применима и к человеку: «Люди прирожденно, генетически и, следовательно, неустранимо разнообразны и непохожи друг на друга». Разнообразие — базовое свойство людей. Оно имеет побочные эффекты вроде генетических болезней, но само по себе неотделимо от нашего вида (и, видимо, необходимо для придания ему адаптивных возможностей). Поэтому привести людей к какому бы то ни было единому идеалу нельзя. Более того, только на основе разнообразия и возможно настоящее равенство: никакие разговоры о равенстве не имели бы смысла, если бы люди были генетически идентичны, как муравьи из одного гнезда. И конечно, только на фоне биологически обусловленного разнообразия смогло возникнуть такое бесценное явление, как человеческая индивидуальность. Все эти рассуждения взяты из статей Добржанского, посвященных природе человека: как видим, узкоспециальными вопросами он не ограничивался. «Генетическое разнообразие — благословение, а не проклятие», — писал он.
Мировоззрение Добржанского было насквозь эволюционным. Он любил цитировать католического мыслителя Тейяра де Шардена: «Что такое эволюция — теория, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она — основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, — вот что такое эволюция». Добржанский не во всем соглашался с Тейяром де Шарденом, но вот с этой позицией был солидарен полностью. Любое биологическое явление он рассматривал как часть эволюционного процесса, любой вид живых организмов — как «почку» эволюционного древа. Более того, с точки зрения Добржанского, нельзя сказать, что эволюция — это всего лишь некий аспект биологической реальности. Скорее наоборот, сама биология погружена в эволюционную реальность и занимается тем, что изучает одну из ее областей. Предмет биологии — составляющая единого эволюционного процесса, который начался с космической эволюции, перешел в биологическую и наконец дошел до культурной.
Как и Тимофеев-Ресовский, Добржанский был глубоко религиозным человеком. Но если у Тимофеева-Ресовского это всегда оставалось личным делом, то Добржанский считал себя обязанным делиться своим мировоззрением со всеми, кому оно могло быть интересно или полезно. В последние 20 лет жизни он выпустил ряд статей, позволяющих с этим мировоззрением познакомиться. Добржанский был убежден, что эволюционная биология (вместе с физической космологией) и христианство прекрасно дополняют друг друга: они совместно формируют нестационарную модель мира, в которой Вселенная необратимо развивается и будущее может быть качественно новым. Для него было очевидно, что христианский эволюционизм — дело совершенно естественное. «Сотворение мира — не событие, случившееся шесть с лишним тысяч лет назад; это не акт, а процесс; оно не завершено и продолжается прямо сейчас, перед нашими глазами; в этом — надежда для человека на лучшую жизнь, и не только в посмертии, но и здесь, на земле».
«Вклад Добржанского в эволюционную биологию, возможно, больше, чем у любого другого ученого со времен Дарвина», — писал его ученик Франсиско Айала, тоже известный генетик. Пожалуй, это слишком категоричное утверждение: XX век был богат мыслителями-эволюционистами. Но, во всяком случае, одним из самых ярких биологов этого века Феодосий Добржанский был точно.
Невозвращенцы
«Вот пример: советский парень Гамов» (Геннадий Горелик)
Георгий Гамов (1904–1968) — первый теоретик, объяснивший загадочное явление в атомном ядре (альфа-распад) как квантовый «туннельный эффект». Он стал самым молодым физиком, избранным членом-корреспондентом Академии наук СССР (1932), из которой шесть лет спустя его исключили вместе с 20 другими учеными, арестованными или уже расстрелянными. Но самому Гамову еще в 1933 году удалось «туннельно-эффектно» ускользнуть за границу, где, став Джорджем, он предсказал реликтовое излучение, оставшееся от взрыва Вселенной, помог разгадать генетический код и написал несколько увлекательных популярных книг о науке.
Взявшись рассказывать о человеке, который науку двигал, историк науки попадает в затруднительное положение. С одной стороны, ему грозит комплекс неполноценности: масштаб научных открытий виден яснее не на страницах учебников и энциклопедий, где все уже написано черным по белому, а на фоне реальных обстоятельств времени, в темноте незнания и тумане непонимания. С другой стороны, историку угрожает мания величия, когда он берется объяснить, как именно великий открыватель сделал свой шаг в неведомое: сам ученый обычно толком не знает, как счастливая мысль пришла ему в голову.
Однако обе эти угрозы отступают, когда изучаешь работу и жизнь Георгия Гамова, невольно заражаясь легкомыслием, которым отличался этот советско-американский физик-теоретик. По той же причине, вероятно, судьба не пожалела для него невероятных приключений.
При этом, как водится в приключенческом жанре, начало его пути в науке выглядело малообещающе. Проучившись два года в Одесском университете, он в 1922 году приехал доучиваться в Петроград. Из одесских лекций по физике ему запомнился более всего их «мелодраматический» характер — мелом и драматическим голосом лектор заменял приборы для демонстрации опытов.
В Петрограде, лишь недавно переставшем быть столицей, учебно-научные возможности были богаче, но к разрухе от только что закончившейся Гражданской войны, к голоду и холоду добавлялась многолетняя изоляция от мировой науки. Особенно чувствительна она была в физике. Во-первых, потому, что последняя в России и так отставала от остального мира — гораздо сильнее, чем математика и химия, в которых русская наука могла гордиться великими именами Лобачевского и Менделеева. А во-вторых, потому, что в те годы в мировой физике происходила подлинная мировая революция.
Отчаянное положение российской физики в 1922 году запечатлел главный физический журнал того времени — немецкий Zeitschrift für Physik — в виде обращения к немецким физикам. Правление Германского физического общества сообщало о трудном положении коллег в России, которые с начала войны не получали немецких журналов. Поскольку лидирующее положение в тогдашней физике занимали немецкоязычные исследователи, речь шла о жестоком информационном голоде. Немецких физиков просили направлять по указанному адресу публикации последних лет с тем, чтобы потом пересылать их в Петроград.
Однако в том же номере журнала, через 20 страниц, была опубликована статья, казалось бы противоречившая призыву о помощи. Работа безвестного тогда автора из Петрограда — Александра Фридмана — стала, можно сказать, самым грандиозным российским вкладом в физику — если иметь в виду размер физического объекта. Речь шла о Вселенной в целом, о том, что она может расширяться и сжиматься. До 1922 года словосочетание «расширение Вселенной» выглядело нелепостью. Даже великий Эйнштейн поначалу решил, что русский автор ошибся, хотя Фридман исходил из недавно разработанной самим Эйнштейном теории гравитации. Только получив письмо от Фридмана, отстаивавшего свою правоту, и проделав вычисления еще раз, Эйнштейн признал результаты русского коллеги правильными и в специальной заметке назвал их «проливающими новый свет». Как ни странно, Александр Фридман не был физиком. Он был математиком, который интересовался физикой и понял математический механизм теории Эйнштейна лучше самого ее автора.
Что же касается странности столь замечательной работы на фоне истощенного Петрограда, то причина не в дурацкой антинемецкой пословице «Что немцу смерть, то русскому здорово», а в спасительной русской «Нет худа без добра». Вихрь Гражданской войны унес Фридмана из Петрограда в Пермь, где из-за недостатка преподавателей в университете он был вынужден читать лекции и по математике, и по физике, что подготовило его к самой знаменитой его работе.
Физика от альфы до омеги
Заслуги Фридмана перед наукой не ограничиваются, однако, его личным вкладом в космологию. Он также преподавал в Петроградском университете. Слушателей у него было совсем немного, и один из них выделялся прежде всего высоким ростом и высоким же голосом. Но именно этому студенту предстояло прославить свое имя в истории и советской, и американской науки. Лучше сказать, «мировой науки», тем более что свою автобиографию, написанную 40 лет спустя, Джордж Гамов назвал «Моя мировая линия». И автор книги был мировым парнем: он не собирался нудно перечислять все, что случилось на его веку, а выбирал лишь самые интересные истории, чтобы позабавить читателей и себя. Последуем его примеру.
Одно из главных мировых достижений Гамова называется теорией Большого взрыва — точнее сказать, Самого Большого Взрыва, поскольку то был взрыв Вселенной. Эта теория Гамова была бы немыслима, если бы Вселенная не расширялась, а о такой возможности студент Гамов узнал от профессора Фридмана. Но в 1920-е годы, при всем уважении к профессору, студент Гамов интересовался другими вещами. То есть он, конечно, интересовался всей физикой — от альфы до омеги, от микрофизики самых малых физических объектов, из которых состоит всякое вещество, до О!мега-физики самого большого физического объекта — Вселенной как целого. Но интереснее была Альфа. Ведь Вселенная всего одна, и с ней особенно не поэкспериментируешь. А загадок мельчайших составляющих ее частиц было хоть отбавляй. Перед теоретиками стояли увлекательные задачи — объяснить странные результаты опытов, предсказать новые, а потом — в результате новых опытов — либо испытать радость разгадки, либо потерпеть честное поражение. И то и другое разжигает азарт исследователя. А в свете истории науки ясно, что для продвижения в области мегафизики Гамову необходима была гораздо более зрелая микрофизика, чем имелась в наличии в 1920-е годы. И в ее «созревании» деятельное участие принял он сам.
Принимая во внимание дореволюционную еще слабость российской физики и послереволюционные тяготы жизни, изучать эту науку в далекий Петроград отправлялись только люди, обладающие явным призванием к ней. Так, в 1924 году в только что переименованном Ленинграде рядом с 20-летним одесситом Гамовым оказались 20-летний Дмитрий Иваненко, прибывший из Полтавы, и 16-летний Лев Ландау из Баку. Сразу же появились студенческие прозвища — Джонни (или Джо), Димус и Дау, а всю троицу называли тремя мушкетерами.
Азартно занимавшиеся наукой и развлекавшиеся мушкетеры стали центром компании юных физиков, которая вошла в историю под именем «джаз-банд». Не желая жить по нотам, они свободно импровизировали, всегда готовые подхватить тему, развить, а еще лучше — опровергнуть, смело пользуясь диссонансами и синкопами. Все как в джазе. Только роль музыки (к которой мушкетеры были совершенно равнодушны) в их жизни выполняли стихи на темы физики и лирики.
Рождение «джаз-банда» совпало с рождением квантовой механики — первой теории микромира. До того были лишь догадки и гениальные прозрения о физике атомов. А в 1925–1927 годах, в череде головокружительных открытий, возникала общая теория. Ее необычные понятия — как звуки джаза — невозможно было принимать равнодушно. Они отталкивали и очаровывали, выводили из себя и вовлекали в новую науку.
Квантовая механика была для преподавателей такой же новостью, как и для студентов. Веселые и находчивые мушкетеры посмеивались над преподавателями — «зубрами», не поспевавшими за стремительным развитием науки, и учились в основном по научным журналам и друг у друга в нескончаемых спорах, объясняя друзьям то, что поняли. Такое самостоятельное освоение науки как ничто другое способствовало развитию талантов и научной смелости.
Дух «джаз-банда» запечатлела его поэтесса-летописица Женя Каннегисер в «Гимне теоретикам», сочиненном по мотивам Николая Гумилева:
Вы все, паладины Зеленого Храма, Над пасмурным морем следившие румб. Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама, Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!Теоретики мечтали об ином море, о котором когда-то сказал их старший коллега Ньютон: «Себе я кажусь ребенком, который нашел пару камешков поглаже и ракушек покрасивее на берегу моря нераскрытых истин». Этим мечтам и посвящен гимн:
Вы все, паладины Зеленого Храма, По волнам де Бройля держащие путь, барон Фредерикс и Георгий де Гамов, эфирному ветру открывшие грудь! Блистательный Фок, Бурсиан, Финкельштейн и жидкие толпы студентов-юнцов, вас всех за собою увлек А. Эйнштейн, освистаны вами заветы отцов. Не всех Гейзенберга пленяют наркозы, и Борна сомнителен очень успех, Но Паули принцип, статистика Бозе В руках, в головах и в работах у всех! Но пусть расползлись волновые пакеты, еще на природе густая чадра, опять не известна теория света, еще не открыты законы ядра.Кому не знакомы упомянутые здесь имена и термины, тот может без них обойтись. А вот последняя строчка имеет прямое отношение к Гамову и его первому мировому достижению.
В 1928 году, когда он опубликовал свою знаменитую работу, теоретики пребывали в оцепенении перед океаном микрофизики, поскольку были убеждены — и не без оснований, — что для дальних путешествий в этом океане необходимо построить какой-то совершенно новый, невиданный корабль, а то и подводную лодку. Речь идет именно о теоретиках. С экспериментальной ядерной физики — с открытия радиоактивности — начался ХХ век и заодно новый век в истории физики. Одним из первых следствий этого стало массовое освоение трех начальных букв греческого алфавита — α, β и γ. Три вида радиоактивности, α-, β- и γ-лучи, при всей непонятности своего происхождения стали могущественным инструментом в физике микромира. Благодаря этому инструменту в 1911 году Резерфорд понял, как устроен атом, — что устроен он в основном… из пустоты, отделяющей крошечное ядро, размер которого в сотни тысяч раз меньше атома, от движущихся вокруг электронов. Сразу стало ясно, что устройство атома не подчиняется известным физическим законам. И спустя два года Нильс Бор открыл первые законы новой — атомной — физики.
Ко времени встречи Гамова с его друзьями новая атомная физика была не такой уж и новой. Коллеги Резерфорда и Бора уже установили, что α-частицы — это ядра гелия, β — электроны, а γ — порции света. Но что такое ядро, оставалось загадкой. Почему из некоторых ядер иногда вылетают α-, β- или γ-частицы, а из других ничего никогда не вылетает? Это был только один из не имевших ответа вопросов. Еще хуже было то, что новооткрытые законы атомной физики считались неприменимыми к ядру.
Ученые полагали, что ядра должны содержать электроны — раз они оттуда иногда вылетают, но, согласно квантовым законам, удержать электрон в ядре труднее, чем утаить шило в мешке. Скорость внутриядерных электронов в очень малом ядре должна была быть очень высокой, близкой к скорости света. А для таких скоростей одной квантовой механики было недостаточно. Возникала необходимость учитывать еще и теорию относительности. Но учитывать обе эти теории сразу физики не умели. Поэтому ждали нового Эйнштейна — Бора в одном лице, который, совершив еще один переворот в микрофизике, открыл бы подлинные законы микромира.
Физики на своих старых лодках плавали потихоньку в прибрежных водах, но не смели отправиться в даль и в глубь микромирового океана. Головоломные парадоксы ядерной физики побудили Гамова сделать печатку «череп и кости», где роль костей исполняли две перекрещенные буквы β, чтобы этой печаткой отмечать на полях своих рукописей все упоминания β-электронов. Пребывать в оцепенении на берегу океана нераскрытых истин было ему абсолютно не свойственно. А свойственно было… легкомыслие. Поэтому, расхаживая по берегу и смело пробуя ногой воду, он обнаружил в океане микрофизики некую отмель, по которой можно было — почти аки по суху — зайти довольно далеко. Эта отмель — альфа-распад ядер. И Гамов не упустил возможности, предоставленной природой и подкрепленной Наркомпросом, как называлось тогда советское министерство образования, на деньги которого в июне 1928 года молодой ученый отправился на полгода на стажировку в Германию. Этого времени Гамову хватило, чтобы написать работу, с которой началась теоретическая ядерная физика. Она принесла ему мировую известность и заграничные стипендии, позволившие продлить стажировку на три года.
Чтобы приобщиться к первому мировому результату Гамова, вспомним классическую сказку о лягушке, попавшей в горшок со сметаной. Она не хотела умирать раньше смерти, начала дрыгать лапками, сбила из сметаны твердое масло и с этой подставки выпрыгнула из горшка. Совет «не падать духом и дрыгать лапками» годится на все случаи жизни. Или почти на все: если в горшке нет сметаны, а лягушачьей прыгучести не хватает, чтобы со дна допрыгнуть до верхнего края, — пиши пропало.
Однако дело меняется, если классический горшок заменить на квантовый, то есть уменьшить размеры горшка и лягушки до масштабов атомного ядра. Тогда даже и без сметаны у прыгучей лягушки, если она не падает духом, появляется шанс выбраться наружу. Чем выше она прыгает внутри горшка, тем более вероятно ее освобождение — сказочно-квантовое проникновение «через» стенки горшка на волю. Это странное свойство квантовой физики, названное впоследствии «туннельным эффектом», обнаружили в конце 1927 года московские теоретики Леонид Мандельштам и Михаил Леонтович.
Гамов, можно сказать, уподобил ядро горшку, а в альфа-частице увидел квантовую лягушку. Он не знал, из чего сделаны стенки ядерного горшка, но обнаружил, что и без этого можно выяснить важные закономерности альфа-распада. Таким образом, квантовые законы оказались применимы не только в мире атомов, но и внутри ядра. Это было замечательное достижение — первое проникновение теории вглубь ядра. Подобно Васко да Гаме — первооткрывателю морского пути в Индию, Георгий Гамов открыл теоретикам путь в ядерные недра. Неудивительно, что это открытие понравилось первооткрывателю атомных законов Бору, который и выхлопотал первую несоветскую стипендию для молодого советского теоретика.
Достижение было сразу замечено и на родине. И воспето пролетарским поэтом Демьяном Бедным в главной пролетарской газете «Правда»:
СССР зовут страной убийц и хамов. Недаром. Вот пример: советский парень Гамов. Чего хотите вы от этаких людей?! Уже до атомов добрался, лиходей!Так автор негодовал от имени буржуя. А от своего имени революционно подытоживал:
В науке пахнет тож кануном Октября.
Из Европы — в крепкие объятия Родины
В августе 1931 года Гамов вернулся на родину, в Ленинград. За его плечами была теория альфа-распада, принесшая ему мировую известность, и три года пребывания в центрах мировой физики. В отчете об этих годах, представленном в Комитет по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР (кратко — Учком), Гамов написал:
Летом 1928 года я по окончании аспирантского стажа при Лен. Гос. Ун-те был командирован на полгода в Германию для научной работы. Находясь в Гёттингене, я начал заниматься в то время еще совершенно не исследованными вопросами строения атомного ядра и причинами радиоактивности тяжелых элементов. Применивши к этим вопросам недавно появившуюся новую квантовую механику, мне удалось построить полную теорию строения атомного ядра и объяснить процесс радиоактивного распада.
Приехавши весной 1929 года в СССР, я получил приглашение из Кавендишской лаборатории в Кембридже, где производятся главные работы по вопросам радиоактивности, приехать на один год для работы на средства, предоставленные Рокфеллеровским фондом содействия науке. Работая в Кембридже у проф. Резерфорда, мне удалось продолжить мои исследования и объяснить вопрос об испускании и спектрах α-лучей.
Второй год работы за границей я провел в Институте теоретической физики в Копенгагене у проф. Бора по приглашению Датской академии наук.
Вернувшись в начале августа в Ленинград, я был зачислен в штат Физико-мат[ематического] ин-та АН СССР, где и собираюсь продолжить свою научную работу.
За мои научные работы по теории ядра мне была предоставлена премия Наркомпроса за 1929 год.
Если, помимо этого послужного списка, учесть совсем иные обстоятельства — нехватку научных кадров в СССР и их небольшие оклады, неудивительным покажется тот факт, что, помимо Физико-математического института (ФМИ), Гамов поступил на работу еще и в Радиевый институт, и в ЛГУ.
Новый доцент ЛГУ, заполняя анкету, в графе о знании языков написал, что «свободно владеет: немецким, английским и датским», а «читает и переводит со словарем: древнеегипетский». Без Европы за плечами он едва ли позволил бы себе такую вольность в обращении с отделом кадров.
На родину Гамов приехал не с пустыми руками, а с приглашением на Первую международную конференцию по ядерной физике, которая должна была состояться в октябре в Риме. Там он должен был сделать один из главных докладов «Квантовая теория строения ядра». В повестке конгресса уже значилось: «George Gamow (Soviet Union)». Большая честь для молодого физика и, казалось бы, для его родины. Но родина почему-то не отпустила Гамова на эту конференцию. Ужасно обидно, хотя еще можно было подумать, что причина — в неповоротливости советской бюрократии: не успели оформить нужные бумаги, что поделаешь…
Научная жизнь, конечно, не сводится к международным конференциям. Важнее повседневный круг общения. Особенно близко, со студенческих лет, Гамов общался с молодыми теоретиками из Физико-технического института — Львом Ландау и Матвеем Бронштейном. Все они уже были самостоятельными исследователями, не нуждались в научном руководстве и занимались физикой на мировом уровне. Творческое свободолюбие плюс молодость (самому старшему, Гамову, было 27) толкали к действиям, от которых маститые коллеги ежились.
Европейский опыт, прежде всего полученный в Институте теоретической физики Нильса Бора (основанном в 1921 году), подсказал идею создать подобный институт и в России, разделив Физико-математический институт на Математический и Физический и «придавши Физическому институту роль всесоюзного теоретического центра, потребность какового резко ощущается в последнее время», как написал Гамов в своей докладной записке в конце 1931 года. Затрат это предложение не требовало — теоретикам для работы достаточно бумаги и карандаша.
Директор ФМИ, академик-математик Алексей Николаевич Крылов, поддержал идею Гамова. Но руководители крупнейших физических институтов академики Иоффе и Рождественский возражали. Оба преданных науке экспериментатора принадлежали к предыдущему поколению. Главный их довод «теорию нельзя отрывать от эксперимента» звучал убедительно, но был совершенно не применим к Гамову и его друзьям-теоретикам, которые и без того всегда помнили, что физика — наука экспериментальная. Однако мнение больших научных начальников возобладало: формирование сталинской вертикали способствовало централизации советской науки. Не помогло даже то, что в разгар обсуждений самого Гамова избрали в Академию наук.
Ощутить, как напирали молодые на академических «зубров», помогает письмо, которое в конце ноября 1931 года Ландау (вернувшийся из европейской стажировки) написал Петру Капице, уже 10 лет работавшему в Англии:
Дорогой Петр Леонидович, необходимо избрать Джони Гамова академиком. Ведь он бесспорно лучший теоретик СССР. По этому поводу Абрау (не Дюрсо, а Иоффе. — Г. Г.) из легкой зависти старается оказывать противодействие. Нужно обуздать распоясавшегося старикана, возомнившего о себе бог знает что. Будьте такой добренький, пришлите письмо на имя непременного секретаря Академии наук, где как член-корреспондент Академии восхвалите Джони; лучше пришлите его на мой адрес, чтобы я мог одновременно опубликовать таковое в «Правде» или «Известиях» вместе с письмами Бора и других. Особенно замечательно было бы, если бы Вам удалось привлечь к таковому посланию также и Крокодила!
Ваш Л. ЛандауКапица ответил неделю спустя:
Дорогой Ландау, что Академию омолодить полезно, согласен. Что Джони — подходящая обезьянья железа, очень возможно. Но я не доктор Воронов и не в свои дела соваться не люблю.
Ваш П. КапицаСудя по ответу, Крокодил (Резерфорд) остался вне этой истории. А все ее участники слышали о гремевших тогда опытах по омоложению, связанных с пересадкой половых желез, которые проводил французский хирург российского происхождения Сергей Воронов.
Уклонившийся от вмешательства «не в свои дела» Капица тем не менее прекрасно понимал, что Гамов — физик мирового уровня. В 1931 году при участии Капицы — редактора международной серии монографий по физике — в Англии вышла первая книга Гамова The Constitution of Atomic Nuclei and Radioactivity («Строение атомного ядра и радиоактивность»).
А «своим делом» выборы в Академию считал отечественный «старикан», 69-летний директор Радиевого института Владимир Иванович Вернадский, который весной 1932 года писал:
Сейчас идет интенсивная работа в области выяснения строения ядра атомов. Это проблема, на решение которой сейчас направляется мысль физиков всего мира. В составе Радиевого института есть сейчас талантливые научные силы, в частности молодой физик Г. Гамов, теоретические искания которого сейчас находятся в центре внимания мировой научной мысли. Гамов не один, но таких и не много. Наш Союз столько потерял талантливой, богато одаренной для научной работы молодежи, что необходимо вообще принять срочные меры для уменьшения этого несчастья и для предоставления настоящих условий работы оставшимся и нарастающим. Таких людей всегда немного, и создавать их мы не умеем. Одаренная для научной работы молодежь есть величайшая сила и драгоценное достояние человеческого общества, в котором она живет, требующая охраны и облегчения ее проявления. Надо учитывать это в каждом частном случае. Имея таких людей в Радиевом институте для такой важнейшей научной проблемы, надо дать свободный простор их работе.
Именно Вернадский выдвинул кандидатуру 27-летнего Гамова в Академию наук. И в феврале 1932 года того избрали членкором.
Тогда же разделили ФМИ, но директором Физического института (ФИАНа) назначили академика Сергея Вавилова и отвергли идею «теоретического центра». Сотрудником ФИАНа оставался и Гамов. К неудаче с Институтом теоретической физики добавилось то, что Гамову не дали воспользоваться приглашением на конференцию в институте Бора и еще несколькими приглашениями. Началась новая эпоха: уже утвердилось сталинское самодержавие и быстро воздвигалась Великая советская стена, надолго отделившая страну от остального мира.
Гамов почувствовал это интуитивно: ощутил себя в клетке — и даже не в золотой. А вольная птица в неволе не поет, даже если ей присвоить почетное звание. Он пытался выскользнуть из клетки, отчаянно «дрыгал лапками» — пробовал то на байдарке по Черному морю добраться до Турции, то на северных оленях — до Финляндии. Увы, клетка была классическая, а не квантовая. На его счастье, о попытках покинуть СССР не узнали компетентные органы.
На еще большее счастье, в 1933 году дверца клетки приоткрылась: Гамова командировали на Сольвеевский конгресс «Структура и свойства атомного ядра». Обратно он уже не вернулся, стал «невозвращенцем», что по тогдашним советским законам было преступлением, каравшимся смертной казнью. Дверью он не хлопал, писал заявления о продлении командировки, и еще целый год ему это удавалось.
Как отнесся к решению Гамова Вернадский? Несомненно, с горечью, но вряд ли с безоговорочным осуждением. Ведь он сам писал:
…Ученый по существу интернационален — для него на первом месте, раньше всего, стоит его научное творчество, и оно лишь частично зависит от места, где оно происходит. Если родная страна не даст ему возможности его проявить, он морально обязан искать этой возможности в другом месте.
Такую возможность Гамов нашел за границей. Хотя в своей автобиографии он не вспомнил российского геохимика и мирового мыслителя Вернадского, второе его знаменитое открытие корнями восходит к тому, что он слышал в Радиевом институте. Одна из проблем, занимавших геохимика Вернадского, — распространенность химических элементов на нашей планете. Эта проблема связана с историей самой планеты Земля и, стало быть, с историей, или космогонией, Солнечной системы.
Как Гамов разгорячил Вселенную
Именно распространенность химических элементов во Вселенной стала для Гамова отмелью в бездонном и почти безжизненном тогда океане космологии. В 1930–1940 годы многим астрономам мертвой казалась и сама космология Эйнштейна — Фридмана. Дело в том, что расширение Вселенной как наблюдательный астрономический факт впервые обнаружил в 1927 году Жорж Леметр. Но измерение скорости расширения, основанное на многоступенчатой шкале межгалактических расстояний, давало возраст Вселенной всего в два миллиарда лет, что слишком мало. Некоторые звезды, и даже Земля, согласно геохронологии, оказывались старше Вселенной. Лишь в 1950-е годы, после уточнения-удлинения шкалы расстояний, эта неувязка исчезла.
В первой статье Гамова по космологии 1946 года есть ссылка на книгу по геохимии, откуда он взял данные о распространенности элементов. Он надеялся теоретически объяснить происхождение химических элементов во Вселенной. В то время считалось, что нынешняя пропорция элементов зафиксировалась в некий ранний момент расширения Вселенной, когда — из-за уменьшения плотности и охлаждения — активные ядерные реакции прекратились. А до того момента, как полагали, имелось ядерно-тепловое равновесие между разными ядрами. Однако равновесные расчеты, вопреки данным геохимии, давали ничтожную долю тяжелых элементов.
Гамов предположил иной — неравновесный — сценарий: в быстро расширяющейся горячей Вселенной из первичного чисто нейтронного вещества при уменьшении плотности начинают образовываться протоны, к которым последовательно прилипают нейтроны, создавая все более тяжелые ядра, пока расширение Вселенной не остановит этот процесс. Он задал содержательный физический вопрос по поводу происхождения Вселенной: каковы были условия в начале расширения, во время Большого взрыва, если его «осколками» стали разные химические элементы в наблюдаемой пропорции? Ответ на этот вопрос Гамов предложил искать в горячем котле взрывающейся Вселенной, в котором варились элементы. Он понял, что вариться они должны были очень быстро, поскольку «вселенский котел» стремительно расширялся и — соответственно — остывал. С космологическим варевом разобраться оказалось непросто, но, независимо от результатов варки, от того горячего времечка, как сообразил Гамов, должно было остаться тепло, распределенное по всему вселенскому пространству, и он предсказал температуру этого теплового излучения.
Идея Гамова оказалась очень плодотворной, хотя и ошибочной. Ошибочной, потому что последовательное добавление нейтронов во вселенском котле обрывается очень рано — не существует устойчивых ядер с массой 5 единиц. А плодотворной стала сама возможность неравновесной физики.
Теоретики предполагали равновесие, в сущности, по той же причине, по которой потерянные ключи ищут под фонарем — там легче искать. Но лучше все же сообразить, где именно ключи могли выпасть, и искать там, хотя бы и на ощупь. Поэтому условия ранней Вселенной лучше не постулировать «для простоты», а извлечь из них следствия, которые после сравнения с наблюдениями скажут нечто о процессах в начале космологического расширения. Так впоследствии получили соотношение легких элементов космологического происхождения — водорода и гелия, подтвердив предположение Гамова о том, что ранняя Вселенная была горячей.
Первыми же пользу из идеи неравновесности извлекли главные оппоненты Гамова — сторонники так называемой стационарной космологии, которые основывались на неизвестной (пока) физике, согласно которой вещество якобы рождается в пустом пространстве из ничего и неизвестно (пока) почему. Но зато эти «нефизические» космологи могли надеяться лишь на то, что тяжелые элементы рождаются в котлах внутризвездных, по законам самой обычной физики. И им удалось создать теорию рождения тяжелых элементов во взрывах звезд. Ныне это — общепринятое представление о происхождении основного вещества планет, включая элементы, необходимые для жизни. Без того чтобы взрывы первого поколения звезд в юной Вселенной произвели эти элементы, известная нам форма жизни была бы невозможна.
Однако сама стационарная космология не выдержала другого следствия идеи горячей Вселенной — космического реликтового излучения. Гамов и его сотрудники несколько раз оценивали температуру этого излучения, хотя и не для того, чтобы озадачить астрономов своим предсказанием. Они желали убедиться в разумности своего сценария: если получилась бы слишком высокая температура, сценарий пришлось бы забраковать. Забраковали его, как уже было сказано, по совсем другой причине, но фоновое космическое излучение с его малой температурой незаметно жило своей жизнью и дождалось случайного открытия в 1965 году!
И Гамов дождался триумфа правильного следствия из его ошибочной, но плодотворной идеи. Эту удачу он заслужил, расширив возможности физического подхода к ранней Вселенной и не отступив от космологии Фридмана в трудное для нее время. Благодаря этому космология из философски-математической и астрономической науки превратилась в физическую. Гамов, можно сказать, проложил туннель от α до Ω, от микрофизики к мегафизике.
Дед водородной бомбы и не герой соцтруда
Титул «отец водородной бомбы» давно и широко используется в ненаучно-популярных сочинениях. Но почему-то о дедушках там не говорят, а ведь без них не было бы и отцов. Джордж Антонович Гамов имеет полное право на титул «деда водородной бомбы» — и даже сразу двух, и американской, и советской. При этом никакой мрачной тени на него не падает, хотя его собственная тень мелькнула в самом начале совершенно секретной хронологии создания водородной бомбы, подготовленной в 1953 году в Конгрессе США в связи с разбирательством по поводу того, кто мешал ее появлению в Америке: «As early as 1932 there were suggestions by Russian scientists and others that thermonuclear reactions might release enormous amounts of energy», или, на родном языке Гамова: «Еще в 1932 году русскими учеными и другими высказывались соображения, что термоядерные реакции могли бы привести к высвобождению огромных количеств энергии».
Это не фальсификация истории, а чистая правда: русский Гамов совместно c австрийцем Хоутермансом и англичанином Аткинсоном первыми занялись теорией термоядерных реакций. Но это еще и политика — напомнить о «русской угрозе», не сказав при этом, что русский пионер исследований термоядерной реакции давно живет в США.
Авторы той историко-политической хронологии не знали о вкладе Гамова в создание советской водородной бомбы. Дело в том, что попытка Гамова сформировать Институт теоретической физики привела к возникновению Физического института Академии наук, который, переехав в 1934 году в Москву, стал прибежищем для научной школы Леонида Мандельштама. А в конце 1940-х годов два питомца этой школы, Андрей Сахаров и Виталий Гинзбург, стали отцами первой советской водородной бомбы.
Зато хорошо известна роль деда-Гамова в истории американской водородной бомбы. Когда в 1934 году ему предложили должность профессора в Университете имени Джорджа Вашингтона в одноименном городе, Гамов поставил условие: пригласить в тот же университет еще одного теоретика, чтобы было с кем говорить о теоретической физике. И пригласил венгра Эдварда Теллера, с которым подружился за несколько лет до того в Институте Бора. Вряд ли надо напоминать, кем стал Теллер для американской водородной бомбы.
В 1996 году я спросил «отца американской H-бомбы» о роли Гамова в этом отцовстве и, чтобы оживить его память, послал ему рисунки Георгия Антоновича, сохранившиеся в только что рассекреченном архиве. В ответном письме Теллер так охарактеризовал своего друга:
Джо Гамов был полон идей, большинство из которых были ошибочными. Однако у него было чудесное свойство не обижаться на критику и даже с готовностью ее принимать. В тех же относительно немногих случаях, когда он не ошибался, его идеи были по-настоящему плодотворны. Присланные Вами картинки связаны с работой Гамова в Лос-Аламосе. Та работа ни к чему особенному не привела, и я забыл почти все. Для меня самая интересная часть деятельности Гамова была связана с источником энергии Солнца, и в эту проблему мы с ним действительно сделали совместный вклад.
А завершил письмо Теллер фразой вполне в духе своего друга: «Надеюсь, все, что я рассказал, будет Вам малоинтересно».
Скажи мне, кто твой друг…
Осталось рассказать о друзьях по «джаз-банду», которых Гамов оставил в СССР. Одного — Дмитрия Иваненко — в 1935 году как «социально опасный элемент» выслали из Ленинграда в Карагандинский лагерь. Другого — Матвея Бронштейна — в 1937 году арестовали и расстреляли в Ленинградской тюрьме. Третьего, Льва Ландау, в 1938 году арестовали в Москве, год продержали в тюрьме, и только благодаря чуду, совершенному Петром Капицей, он уцелел. Ощущая себя ученым рабом, Ландау был вынужден работать над созданием советского ядерного оружия, за что получил звание Героя Социалистического Труда.
Останься Гамов в СССР и уцелей он, внук митрополита, во времена борьбы с социально опасными элементами, его бы, вероятно, тоже подключили к созданию советской водородной бомбы и он наверняка получил бы звание Героя Соцтруда. Но Гамов предпочел менее героическую биографию и, кажется, не жалел об этом.
Не надо жалеть и нам, его соотечественникам. Ведь если бы Гамов остался в СССР, не было бы его прославленной работы по космологии, поскольку эту область физики советско-партийные идеологи запретили на долгие 20 лет. Не сказал бы он свое слово в расшифровке генетического кода жизни, поскольку генетика была объявлена буржуазной лженаукой. Не написал бы он и свои веселые — слишком веселые с партийной точки зрения — научно-популярные книги. А так после окончания советского периода истории России соотечественники Гамова получили возможность читать его книги и смело размышлять над его полной приключений судьбой.
Ну а историков науки эта судьба учит тому, что даже в серьезном деле иногда важно быть не очень серьезным, а также тому, что не надо придавать слишком много значения Нобелевской премии, раз ее не удостоился столь яркий талант, каким был советско-американский физик George Gamow, он же «Искренне Ваш Г. Гамов (Георгий сын Антонычъ)», как он подписал свое письмо в Россию в 1960-е годы, когда его имя стало можно упоминать.
Часть II. После переломов От возникновения социалистического лагеря до его диссоциации
Невозвращенцы
«Без [России] теперь ничто невозможно: ни война, ни мир» (Дмитрий Баюк)
Метафора перелома играет очень важную роль во всей самоидентификации советской жизни. «Великим переломом» назвал Сталин переход от нэпа к мобилизации и закручиванию гаек. «Коренной перелом» случился в Великой Отечественной войне после Курской битвы. О переломе вспоминает и лирический герой Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛаге», когда майор протягивает ему повернутый оборотной стороной лист бумаги: «Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни?» В нашей жизни и в самом деле что-то слишком часто все переламывается. Но не может быть сомнений в том, что взаимоотношения СССР и всего остального мира в ходе Второй мировой войны радикально переменились, что и отражено в цитате, выбранной в качестве заголовка и относящейся к 1948 году.
Если верить Соломону Волкову, Дмитрий Шостакович в середине 1930-х обратился к творчеству Мусоргского, потому что почувствовал, как иссякает доверие людей к власти, и посчитал, что тема смутного времени снова становится актуальной. Трудно сказать, действительно ли Шостакович тогда так думал, а если думал, то насколько был прав. Но если был, то война все изменила. Превратившись для советского народа из Второй мировой в Великую Отечественную, она прилепила этот народ к его руководству, придав последнему новую легитимность.
Возможно, те взгляды, которых, по свидетельству Волкова, придерживался перед войной Шостакович, имели под собой основание — это находит определенное подтверждение в событиях ее начала. Слишком уж быстро отступала Красная армия летом 1941-го, слишком уж большие потери несла. Некоторые историки и сейчас говорят о нежелании советского народа воевать и прежде всего о его отказе защищать свое правительство.
СССР, как известно, понес в этой войне самые большие людские потери. Но это не единственный рекорд. Когда война закончилась, больше всех граждан этой страны оказалось за ее пределами. И больше, чем в любой другой стране, внутри нее оказалось врагов, готовых пойти против своего государства с оружием в руках.
В своем фундаментальном исследовании российской научной диаспоры послевоенного времени, озаглавленном цитатой из письма Екатерины Дмитриевны Кусковой-Прокопович Борису Александровичу Бахметьеву «Дикая историческая полоса», Татьяна Ульянкина приводит такие данные: всего в Европе в мае 1945 года оказалось 10 750 400 беженцев из СССР, и примерно миллион из них сознательно воевали против своей страны.
Началу Второй мировой войны в сентябре 1939 года предшествовали два пролога, которые отчасти объясняют причины небывалой многочисленности второй волны советской эмиграции. Во-первых, в сентябре 1938 года были подписаны Мюнхенские соглашения, получившие в советской историографии определение «мюнхенский сговор». Их частью стало согласие ведущих западных держав на раздел Чехословакии. Во-вторых, летом 1939 года аналогичное соглашение было подписано между Германией и СССР. Уже в позднее советское время его стали называть «пактом Риббентропа — Молотова», а предполагало оно раздел Польши. Кроме того, СССР получал молчаливое согласие Германии на «воссоединение» с некоторыми другими окраинами Российской империи, ставшими независимыми государствами перед Гражданской войной или во время нее. Оба этих пролога к войне вызвали довольно значительные изменения границ внутри Европы, угрожавшие попаданием в СССР тем, кто совсем этого не хотел и даже уже однажды оттуда бежал. Если в начале века для того, чтобы эмигрировать из Российской империи, достаточно было оставаться на месте (разумеется, при правильном выборе этого места), то в середине для иммиграции в СССР, если место было подходящим, достаточно было просто подождать.
Иллюстрацией тому может служить трагическая судьба Льва Карсавина. Попав под подозрение, он был выслан в 1922 году на «философском пароходе» «Пруссия» в Германию, но там не задержался, а переехал в Каунас, где работал до 1940 года. После начала советской оккупации Литвы летом 1940 года гуманитарный факультет Литовского университета был переведен в Вильно (Вильнюс), занятый советскими войсками годом раньше. Еще через год советская оккупация сменилась немецкой. Университет оккупационные власти закрыли, но Карсавин продолжал читать лекции подпольно. Вернувшаяся в 1944 году советская власть снова открыла университет, но Карсавина от преподавания отстранили. А еще через пять лет его арестовали. В обвинительном заключении сказано: «Находясь за границей, издал большое число сочинений, в которых клеветал на советскую власть и В. И. Ленина, пересылал антисоветскую евразийскую литературу, а проживая в городе Вильнюсе, вел антисоветскую пропаганду». Из присужденных ему десяти лет Карсавин провел в лагере только три: в 1952 году он умер от туберкулеза.
Михаил Бойцов, известный российский историк-медиевист, исследовавший судьбу своего коллеги Льва Карсавина, задается вопросом, мог ли тот спастись от «настигающей родины». И отвечает на него так:
Вряд ли почти шестидесятилетний профессор всерьез думал о бегстве. Его конфликт с революционными властями казался эпизодом почти столь же давней истории, как средневековье: двадцать второй год и год сороковой принадлежат как бы к разным эпохам. Любое государственное злопамятство могло уже вполне выветриться за прошедшие восемнадцать лет. Да и куда, собственно, было Карсавину бежать из ставшей второй родиной Литвы? В Европе разгоралась вторая мировая война, и вряд ли в ее пламени нашелся бы хоть где-либо спокойный уголок для стареющего профессора — дважды изгнанника.
Однако для многих других такое решение было отнюдь не очевидно. В своей монографии Татьяна Ульянкина упоминает о тех, кто просто запирал дом и уходил, бросив все. Уходил на Запад. Среди воспользовавшихся этим новым «бурным потоком», чтобы выехать из СССР, несмотря на его многочисленность, ученых было мало. А тех, кто смог, выбравшись, прославиться, и вовсе почти нет. Выше рассказывалось о Борисе Балинском, авторе выдающихся исследований по биологии, проведенных в Южной Африке, а далее будет глава о химике Александре Знаменском, имя которого было извлечено из небытия совсем недавно. В отличие от Балинского, встретившего окончание войны в Мюнхене, в американской зоне, Знаменский после депортации отступающими немцами в Германию оказался в Австрии, на территории, контролируемой советскими войсками, и его препроводили в лагерь для беженцев. Чтобы избежать репатриации, ему надо было доказать правдивость на ходу выдуманной биографии.
Через такие лагеря пришлось пройти многим ученым, покинувшим СССР за десятилетия или по крайней мере за годы до начала войны. Над всеми ними нависала угроза депортации, и успешное избавление от этой угрозы позволяет причислить и этих людей ко второй волне. Таким образом они оказывались дважды эмигрантами.
О крепких объятиях родины
Роль СССР с окончанием войны сильно изменилась. Причастность советского правительства к клубу победителей не позволяла долее игнорировать его существование и отрицать его легитимность, даже если бы такое желание у кого-то и сохранялось. Поэтому, когда на совещании в Ялте были приняты условия депортации, договорившиеся стороны начали выполнять их довольно рьяно. Одно из этих условий заключалось в том, чтобы все советские граждане, оказавшиеся за пределами своего государства, могли вернуться на родину.
Это не было какой-то специфической проблемой. Еще в 1943 году в Вашингтоне собрались представители 44 стран, правительства которых беспокоились о судьбе своих насильно перемещенных граждан. Были там и представители СССР, хотя именно в тот момент судьба пленных советскому правительству была безразлична. Правда, всего год спустя позиция руководства СССР изменилась: в октябре 1944 года была создана Советская репатриационная комиссия, или Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. Этим уполномоченным стал генерал-полковник Филипп Иванович Голиков. Уже в апреле 1945 года он говорил корреспонденту ТАСС: «Около двух миллионов советских граждан вызволено из немецкого рабства. Из них свыше 1600 тысяч чел. уже возвращено на Родину и самоотверженно трудится на заводах, на колхозных полях и т. д.» (орфография сохранена).
Примерно в то же самое время на совещании в НКВД Лаврентий Берия разъяснял, что «между пленными, вывезенными или уехавшими добровольно, нет разницы […] каждый из них, оставшись в руках противников СССР, может принести больше вреда, чем тысячи вредителей внутри страны». В обязанности уполномоченного входило разыскивать повсюду советских граждан и добиваться их репатриации независимо от их желания. Для этого в одной только Восточной Германии было создано шесть групп для работы в провинциях, общей численностью 76 человек, и управление представителя уполномоченного численностью 35 человек. В оккупационных зонах союзников в группах представителей уполномоченного работало еще более 100 человек. Они требовали особого отношения к советским военнопленным, поскольку те «оказывали фашистам героическое сопротивление и силой были захвачены в плен». С осени 1944-го до осени 1945 года представители уполномоченного обладали неоспоримым правом доступа во все лагеря беженцев.
Генерал Голиков пояснял читателям газеты «Правда»:
…Не везде к освобожденным советским гражданам относятся как к гражданам союзной державы. Имеются случаи, когда наши люди находятся в совершенно неудовлетворительных условиях. […] Так, недавно в Англии представителями управления по делам репатриации были обнаружены три лагеря, в которых находились 1712 советских граждан. О существовании этих лагерей нашим представителям ничего не было сообщено. Лагерями ведала американская полиция. […] Люди работали на земляных работах по 10–12 часов. Были очень плохо обмундированы. Когда в лагерях появился советский генерал, люди плакали от радости и просили немедленно отправить их в Советский Союз.
Только в 1990-е годы при открытии архивов выяснилось, что 4 200 000 репатриантов, вернувшихся в СССР с оккупированных территорий или из плена, прошли через фильтрационные лагеря НКВД. По мнению современных историков, столь резкий переход от полного небрежения к проблеме пленных и угнанных на принудительные работы в Германию при фактическом приравнивании их к изменникам и дезертирам к тщательному выявлению и возвращению их в страну объясняется многими причинами; одна из них, возможно самая главная, заключалась в стремление предотвратить возникновение новой волны эмиграции. И в какой-то мере это удалось.
Главным инструментом тут служили ялтинские договоренности. И хотя в соответствии с ними выдавать советским властям следовало только тех, у кого было советское гражданство к 1 сентября 1939 года, в общей суматохе военного и послевоенного времени представителям уполномоченного нередко сдавали всех «русских». Даже тех, кто успел сменить подданство задолго до начала войны. Именно так случилось с Сергеем Прокофьевичем Тимошенко. И не окажись у него такого знаменитого и заботливого брата, его судьба могла бы сложиться совсем иначе.
У проблемы между тем обнаружилась и другая сторона. Игра репатриирующих с репатриируемыми носила откровенно антагонистический характер: чем больше первые старались распространить свою заботу даже на тех, у кого не было на нее права, тем больше от нее старались уклониться даже те, у кого такое право было. Не желавшие возвращаться бывшие советские граждане старались фальсифицировать документы и скрыться за ложными биографиями, доказывая, что покинули родину значительно раньше того срока, что был указан в договоренностях.
Эти фальсификации создадут потом немало проблем для историков, пытающихся реконструировать биографии своих героев. Случалось, что они порождали сложности и для самих играющих, когда фальсификации всплывали наружу спустя много лет после, казалось бы, успешного устройства судьбы. По американским законам недостоверные сведения, указанные при заполнении иммиграционных форм, могли служить поводом для выдворения из страны.
Власти союзников на протяжении целого года хладнокровно поддерживали представителей уполномоченного и никак не противились их действиям. Скрывать данные о некоторых лагерях, где содержались русские беженцы, было, пожалуй, единственной мерой в их арсенале. Обычно называют две причины такого хладнокровия: во-первых, союзников беспокоила судьба их военнопленных, оказавшихся в лагерях на территории советской зоны оккупации; во-вторых, готовилась заключительная фаза войны — на Дальнем Востоке, и союзникам не хотелось давать СССР повод уклониться от своих обязательств.
Но к сентябрю 1945-го оба этих фактора уже утратили свою актуальность. К тому же количество русских беженцев, заявивших о своем нежелании отправляться в СССР, превысило миллион человек и продолжать не замечать их было попросту невозможно. Поэтому командующий американским экспедиционным корпусом в Европе Дуайт Эйзенхауэр отдал распоряжение: препятствовать советским оккупационным властям репатриировать своих граждан, которые этого не хотят. Поначалу распоряжение было «негласным», но 5 октября его прокомментировала газета The New York Times, и вопрос попал в повестку Госдепартамента США. Новая политика была выработана быстро, и уже 20 декабря того же года американским командующим в Германии и Австрии был передан документ, известный теперь как директива Мак-Нарни — Кларка. В нем говорилось, что обязательной репатриации подлежат только те граждане СССР, оказавшиеся в лагерях беженцев, которые явно и недвусмысленно выступали на стороне Германии либо, будучи советскими военнослужащими на момент начала войны, подпадали под международное определение дезертиров. Во всех остальных случаях они признавались эмигрантами и могли остаться на Западе.
Путь из эмиграции в иммиграцию
Статистика тех лет весьма ненадежна. Количество советских граждан, репатриированных между 1944 и 1947 годами, оценивается по разным методикам от 4,5 млн до 5,5 млн человек. По-видимому, еще менее достоверны оценки количества оставшихся за границей. Обычно говорят о 250 000 эмигрантов второй волны, но при этом, вероятно, не учитываются те, кому после очередного передела границ в Европе пришлось искать новое пристанище.
После Фултонской речи Черчилля, произнесенной 5 марта 1946 года, над Европой все с тем же «скрежетом и лязгом» опустился «железный занавес», и теперь самое время завершить розановскую цитату:
Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать (sic! — Д. Б.) шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось.
Дело не только в том, что теперь «железный занавес» закрывал более обширную часть Европы, чем в довоенное время. Кардинально изменилось политическое и историческое положение СССР. Ни о каком «новом смутном времени» говорить больше не приходилось. Вопреки надеждам некоторых «империалистическая война» на этот раз не превратилась в гражданскую: народ не обратил оружие против своего правительства, а добровольно сдал его. Надежды на «скорое падение большевиков», которыми жила эмиграция в 1920–1930-е годы, больше не имели права на существование. СССР стал обладателем ядерного оружия и быстро двигался по пути превращения в сверхдержаву. Он почти целиком вернул себе территории Российской империи и даже смог окружить себя целым облаком сателлитов, социалистическим лагерем.
Теперь также самое время привести полностью цитату из упомянутого выше письма Екатерины Кусковой-Прокопович Борису Бахметьеву от 18 ноября 1948 года:
…Вот и приходится нянчиться с остатками русской интеллигенции, кот[орая] все еще как-то держится, но умирает […] Картина более чем жуткая. Дикая историческая полоса. Впрочем, скоро и она изживется, и мы все отправимся туда, где уже никаких отелей не нужно.
А за полгода до этого, 15 января того же года, тому же адресату она поясняла, как изменилась роль России: «К ней теперь все тянутся […] Без нее теперь ничто не возможно: ни война, ни мир».
По мнению некоторых исследователей, Петр I, объявив себя в 1721 году императором, а свою державу — империей, не столько зафиксировал свершившийся исторический факт, сколько cформулировал интенцию, программу на будущие столетия, реализованную только Сталиным к середине XX века. На мой взгляд, это глубоко ошибочная точка зрения: СССР не был и не мог стать империей, как ни союзные республики, ни страны социалистического содружества не были и не могли быть его колониями. Я полагаю, что и Ленин, и Александр Зиновьев были правы, говоря, что это государство нового типа, точно описываемого его самоназванием — Союз Советских Социалистических Республик. Только последнее слово может вызывать некоторые сомнения, но вспомним, что именно республиками назывались большинство итальянских тираний раннего Нового времени. В любом случае, обсуждать здесь этот вопрос было бы неуместно. Факт тот, что в политическом плане руководство СССР, несмотря на достигнутые успехи, было явно не удовлетворено исходом войны и даже имело определенные основания для этой неудовлетворенности. В воздухе запахло новой войной.
Симона де Бовуар в своих послевоенных воспоминаниях описывает эти ожидания:
Во время одного обеда руководитель управления по связям с общественностью Форда довольно непринужденно упомянул о скорой войне против СССР. «Но у вас нет общих границ, где же будет вестись сражение?» — спросила журналистка компартии. «В Европе», — преспокойно ответил он.
Логика послевоенного политического развития требовала, чтобы эмигранты, как старые, так и новые, перебирались через океан. Известный американский историк русского происхождения Марк Раев в своей книге о русской диаспоре пишет, что эмиграция перестала существовать еще в довоенное время. Спорное утверждение. Но в послевоенное время она действительно перестала быть эмиграцией в том смысле, что шансов на возвращение у нее уже не было. Стать народом-скитальцем тоже не удалось бы по очень многим причинам, одна из которых — слишком неоднородный этнический состав эмиграции. Изгнанникам оставалось лишь идти по пути ассимиляции. Встреченный мною в Нью-Йорке бывший одноклассник так и говорил мне: «Первые два года я старательно забывал русский язык. Не думал, что он когда-нибудь мне еще понадобится».
Между тем эмиграции в США препятствовали внутриполитические изменения, произошедшие в этой стране в предвоенные годы и вызванные той неслыханной экономической катастрофой, которая разразилась там после банковского кризиса 1929 года. По этой причине в годы войны и по ее окончании въезд иностранцев на постоянное жительство был очень ограничен. И даже после того как проблема с беженцами российского происхождения стала очевидной и были приняты некоторые законодательные послабления, в течение всего президентского срока Гарри Трумэна в год могли въезжать не более 2700 человек. При этом закон устанавливал различие между беженцами (refugees) и перемещенными лицами (displaced persons), на котором я сейчас останавливаться не буду и о котором еще будет сказано позже, когда речь пойдет о людях, оказавшихся в таком положении.
Ситуация изменилась только тогда, когда президентом США стал Дуайт Эйзенхауэр — 24 июля 1948 года конгресс принял «Закон о перемещенных лицах», снявший для российских эмигрантов почти все ограничения. Благодаря этому закону большая их часть смогла иммигрировать в Америку, хотя насколько большая — по-прежнему неясно. Оценки историков варьируются от 450 000 до 504 000 человек к лету 1951 года.
Европейская война и американский мир
Вопрос о необходимости спасения европейской науки путем предоставления ученым и профессорам европейских стран убежища в США был поднят американским политическим деятелем Элвином Джонсоном в 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти. Таким образом, Джонсон, пользуясь выражением Карла Поппера, «поплыл против течения» в тот самый момент, когда Америка, измученная Великой депрессией, крайностями абстиненции и гангстерскими войнами, все больше погружалась в пучину изоляционистских иллюзий. Призыв Джонсона был обращен к частным благотворительным организациям, и нет ничего удивительного в том, что среди первых откликнувшихся был Рокфеллеровский фонд, уже знакомый читателю по его участию в судьбах Левина, Балинского, Давыдова, Гамова, Капицы, да и многих других героев этой книги. Несколько позже деньги на инициативу Джонсона стали поступать из Фонда Карнеги и от некоторых других благотворителей.
Речь шла о создании при Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке самостоятельного учебного заведения, получившего название University in Exile, то есть «университет в изгнании», хотя в русскоязычной литературе его принято называть Беженским университетом. Английское название по политическим причинам пришлось почти сразу заменить на The Graduate Faculty of Political and Social Sciences, но по-русски его продолжали называть по-прежнему. Сбор средств на его работу начался в апреле 1933-го, а к октябрю в нем уже стали проводить занятия.
За первые шесть лет существования университета в него прибыли 60 европейских профессоров. Поскольку они ехали на работу и по грантам, им не требовалось получать иммиграционные визы и, следовательно, они не учитывались в иммиграционных квотах. Русских среди первых 60 оказалось немного, но все же они были. Само название этого учебного заведения предполагало, что места в нем предназначались в основном специалистам в гуманитарных и социальных науках, однако привлечение на работу ученых естественных специальностей также не исключалось. Именно для работы здесь Фонд Карнеги направил в 1936 году приглашение Тимофееву-Ресовскому, которым он, как рассказывалось в посвященном ему очерке, не счел возможным воспользоваться.
Начавшаяся в Европе война многократно подстегнула и готовность Новой школы расширять список дисциплин для своего нового подразделения, дополнив его физикой, медициной и искусствознанием, и настойчивость Джонсона в поиске новых профессоров, и щедрость благотворителей, увеличивших ассигнования на их переезд и содержание. Летом 1940 года, обеспокоенная тем, что этот поиск лишь в самой незначительной мере охватывает российскую академическую диаспору, в переписку с Джонсоном вступила Александра Львовна Толстая, проходившая в 1920-м по одному делу с Михаилом Новиковым и Николаем Кольцовым и, в отличие от них, осужденная на три года. Она уже с 1929 года жила в США, где в 1939-м при поддержке международных общественных и американских государственных организаций, а также просто частных лиц (в их числе были инженер Игорь Сикорский, музыкант Сергей Рахманинов, летчик Борис Сергиевский, химик Владимир Ипатьев) создала Фонд имени Льва Толстого. Его первым почетным президентом согласился стать экс-президент США Герберт Гувер. За время своего существования фонд оказал помощь десяткам тысяч беженцев из СССР и перемещенных лиц. Никаких разногласий между Джонсоном и Толстой, в принципе, не было, вопрос заключался лишь в том, чтобы собрать достаточно полную информацию об ученых, рассеявшихся по Европе после бегства из охваченной Гражданской войной России и пришедших в непредсказуемое броуновское движение после начала Второй мировой войны.
Существование подобных специализированных программ отнюдь не означало, что ученые больше заслуживали участия и помощи, чем неученые — скажем, вагоновожатые или шахтеры. Разумеется, ни тем ни другим не место в концлагере. Но помощь этим разным категориям людей организовывалась по-разному. Если спасать, например, узников концлагерей, невзирая на их образование и профессию, то велика вероятность того, что ни один из попавших туда профессоров не окажется среди спасенных просто в силу исключительной малочисленности этой социальной группы. Та же Александра Толстая была обеспокоена судьбой не только ученых, но и оказавшихся в Западной Европе православных. В своих письмах она обращала внимание самых разных корреспондентов на то, что американские благотворительные организации занимались вызволением из беды католиков или лютеран, но ни одна из них не участвовала в судьбе православных.
Российская эмиграция все время своего существования (теперь мы уже можем так говорить) была крайне разобщена — по этническим, конфессиональным, политическим и даже сугубо эстетическим причинам. Мемуарная и художественная литература этого периода полна разнообразных эмигрантских дрязг. Начиная с определенного момента споры активно и небезуспешно подогревались советскими спецслужбами. Последствий у такого прискорбного положение вещей было довольно много, и не обо всех из них тут уместно вспоминать, но об одном, пожалуй, все же стоит. Когда после памятного решения Объединенных наций (то есть стран-союзниц) 1943 года о «перемещенных лицах» была создана комиссия, получившая название UNRRA (UN Relief and Rehabilitation Administration, Администрация помощи и восстановления Объединенных наций), в качестве принципа, по которому определялся сам факт «перемещения» лица, был выбран национальный, Natio — в исходном значении слова, то есть страна рождения. Тем самым UNRRA признавала только пространственные, но не временные границы, и для всей российской диаспоры принимала в качестве законного представителя только СССР, который уже достаточно ясно дал понять, что хотел бы для всех этих людей превратить место их рождения в место смерти. А если говорить о смерти, то, как писал уже в 1950 году Михаилу Новикову Федор Степун, попасть под советскую атомную бомбу в Америке все же предпочтительнее, чем попасть в советскую тюрьму:
Умирать все равно надо, но разговаривать с советским следователем не обязательно. Да ведь может статься, что посадят тебя (накормив духоразорительной химией) в концентрационный лагерь и заставят писать апологию сталинизма.
Появление организаций вроде Фонда Толстого, не только сумевших консолидированно представить интересы академического мира российской диаспоры, но и нашедших способы привлечь на свою сторону поддержку сначала крупных американских благотворителей, а потом и американского правительства, сыграло в нашей истории очень большую и важную роль.
Судьба «железного занавеса»
После 1946 года «железный занавес» стал почти непроницаемым. Поступившее в АН СССР официальное обращение Нобелевского комитета, в котором предлагалось назвать достойных кандидатов на Нобелевскую премию по медицине и физиологии, осталось без ответа. Эксперты Нобелевского комитета полагают, говорилось в письме, что советская медицина в годы войны показала свой безусловный потенциал и обнаружила выдающиеся успехи, однако сведений о том, каким именно ученым СССР обязан этими успехами, у них нет. Поэтому Нобелевская премия будет присуждена тому или тем, на кого укажет Академия. Но академики не решились взять ответственность на себя и передали письмо в отдел науки ЦК КПСС. Год оно путешествовало по разным инстанциям и вернулось в президиум Академии с резолюцией о нецелесообразности ответа. А несколько позже «компетентные органы» разослали по первым отделам академических институтов письма, прямо запрещающие их сотрудникам отвечать на любые обращения Нобелевского комитета или его экспертов.
Переход «с той стороны» итальянского физика Бруно Максимовича Понтекорво остается загадочной акцией, по сей день поражающей историков своей абсурдностью и уникальностью. Бруно Максимович словно отстал от жизни лет на двадцать.
Эмиграция превратилась в мечту. Во времена оттепели железный занавес стал только прочнее, и мечта приобрела потустороннюю сладостность и несбыточность. По удивительно точному и, возможно, апокрифическому замечанию Леонида Ильича Брежнева, СССР превратился в «неприступную крепость, осажденную изнутри». Но, как говорил герой О'Генри, всякий трест должен лопнуть. Причем происходит это непременно изнутри, как в случае с куриным яйцом, когда из него проклевывается цыпленок. Первые дыры в железном занавесе стали возникать благодаря евреям и существованию Израиля, за создание которого в Палестине в 1948 году СССР активно выступал.
Опять же, едва ли есть смысл подробно останавливаться здесь на этом вопросе. Ему посвящена обширная литература; кроме того, о нем еще будет сказано в соответствующих разделах книги. Вслед за еврейской диаспорой включились и многочисленные другие — армянская, украинская, прибалтийская… Дело тут не в том, что кто-то когда-то совершил какую-то ошибку: по неизбежной логике истории запущенное когда-то красное колесо в определенный момент обернулось столь же неудержимым качением антикрасного. Когда-то Карл Маркс сформулировал это на языке соответствия производительных сил производственным отношениям: производительные силы, развившись, неумолимо заставляют измениться и производственные отношения. Другое дело, что в истории следствие может отставать от причины на десятилетия.
Но, возвращаясь к российской академической диаспоре и воссоединению российской науки с мировой, надо заметить, что удивляться приходится не тому, как активно советские ученые стали просачиваться в образовавшиеся в «железном занавесе» бреши, а, скорее, тому, что они вовсе не торопились делать это. Та же рефлексия, что мешала им устремиться из послевоенной Европы в Америку, удерживала их в СССР. Воспользуюсь случаем, чтобы продолжить здесь цитату из письма Степуна Новикову другой, написанной им же и тому же адресату, но полутора годами позже:
…Устроиться в Америке так, чтобы иметь возможность продолжать свою научную работу, мне будет нельзя. […] Я же сейчас нахожусь в творческом запале. Пишу довольно много и собираюсь писать еще больше. […] Конечно, оставаясь здесь, мы рискуем попасть в лапы к большевикам, но совсем без риска жить сейчас нельзя. Оставаясь здесь, я, быть может, все же выиграю свою жизнь, с переездом в Америку я ее оборву, но никак не закончу.
На мой взгляд, эти слова, столь понятные любому человеку творческого труда, объясняют, почему многие ученые, имевшие возможность выехать из СССР, не сделали этого, но дождались его крушения и поехали за границу не в эмиграцию, а жить. Жить за границей так, как жили там Ковалевские или Капица, Мандельштам или Штернфельд, Стравинский или Шаляпин до того момента, пока они вдруг не поняли, что по некоторым необъяснимым причинам вернуться домой они уже не могут — «ни шуб, ни домов не оказалось».
Колесо, неважно какого цвета, совершило свой оборот, и космополитические идеалы снова взяли верх над национальными интересами. Надолго ли? Покажет время. Пока же некоторые российские ученые в списках своих аффилиаций (мест работы) указывают по пять-шесть разных университетов и исследовательских организаций в разных частях света. Тем более что есть организации вроде ЦЕРН, национальная принадлежность которых не определена или двусмысленна.
Статьи и очерки, собранные во второй части книги, относятся к послевоенному и постсоветскому времени. И по содержанию, и по структуре вторая часть заметно отличается от первой. Очень часто речь идет о выдающихся ученых — наших современниках. Их подлинная роль в истории науки станет ясна гораздо позже, а сейчас задача историка — следить за происходящим и описывать его. Мы выбрали несколько человек из разных областей знания и дали им возможность самим рассказать о себе. Я надеюсь, этим дело не закончится и у нашей книги будет продолжение, в котором такая же возможность будет дана другим. Очерки организованы по предметным областям и по хронологическому принципу внутри каждой области.
Завершают эту часть социологическое исследование и научная статья Александра Аллахвердяна, написанная, впрочем, исключительно простым и легким языком. В ней дается предельно беспристрастный и объективный анализ статистических данных об «утечке умов» в современной России. Холодная научная беспристрастность и предельная объективность — это главные условия при обсуждении столь деликатного и болезненного вопроса.
Перемещенные лица
Из бухгалтеров — в биологи: Михаил Новиков (Андрей Ваганов)
Накануне прихода в Словакию советских войск профессор Братиславского университета Михаил Михайлович Новиков (1876–1965) перебрался вместе с семьей в американскую зону оккупации Германии, в Баварию. Пять лет он провел на положении «перемещенного лица», Ди-Пи, и все это время над ним висела угроза насильственного возвращения в СССР, откуда он уехал задолго до 1939-го. Если бы не Толстовский фонд… Но обо всем по порядку.
Магистерская диссертация Новикова называлась «Исследования о хрящевой и костной тканях». Она была с успехом защищена в Московском государственном университете в 1910 году, а уже в январе 1911-го здесь же, в МГУ, приват-доцент Михаил Михайлович Новиков защитил докторскую диссертацию с названием, мало что говорящим неспециалисту, — «Исследования о теменном глазе ящериц», после чего стал доктором зоологии и сравнительной анатомии. (Заметим в скобках, что этот третий, теменной глаз у ящериц несет на себе функцию предупреждения пресмыкающегося о приближающейся опасности.) В биографических справочниках про Новикова так и пишут: «Труды посвящены исследованию сравнительно-анатомических и гистологических особенностей строения зрительных органов беспозвоночных животных, действию гормонов на жизнедеятельность простейших организмов». И труды эти уже в ХХ веке опубликованы были на девяти языках. Одним словом — «выдающийся ученый биолог с мировым именем, зоолог-морфолог, сравнительный анатом, теоретик-эволюционист…»
Ничто, казалось бы, не предвещало того, что 26 сентября 1922 года Михаила Новикова вместе с семьей — женой Валентиной Николаевной, дочерью Еленой и сыном Владимиром (кстати, дети тоже станут биологами) — вышлют в Германию, запретив им возвращаться под страхом смертной казни. Они оказались на том самом «Обербургомистре Гакене», одном из «философских пароходов», где компанию зоологу Новикову должны были составить другие московские профессора — философ Николай Бердяев, историк и, как бы мы назвали его сегодня, политолог Александр Кизиветтер, экономист Николай Кондратьев, доставленный на пароход прямо из внутренней тюрьмы ВЧК философ и литератор Сергей Трубецкой, правовед Михаил Фельдштейн… В так называемом «московском списке» на административную высылку из страны числилось 67 человек. Всех их признали враждебно настроенными по отношению к советской власти. И это был первый случай, когда «профессуру» выделили в специальную группу подследственных. Но не все из перечисленных оказались на борту вместе с Новиковым. Кондратьев и Фельдштейн написали прошения об отмене высылки, и эти прошения были удовлетворены — по словам Фельдштейна, за него походатайствовал сам Бухарин, «любимец партии», как называл его Ленин. Они остались… Кондратьева расстреляли всего через полгода и два дня после «любимца партии» на том же самом подмосковном полигоне «Коммунарка». Фельдштейна расстреляли еще полгода спустя — в феврале 1939-го. Увы, человек не обладает третьим глазом и редко когда может предвидеть грозящую ему опасность. Особенно когда эта опасность носит идеологический характер… По порядку все равно не получается — сделаем еще один шаг назад.
Отец Новикова происходил из богатого семейства скотопромышленников. Не желая вести самостоятельное дело, он стал скромным торговым служащим, перейдя из сословия купцов в сословие мещан. Некоторые исследователи утверждают, что причиной такого социального «дауншифтинга» стало разорение.
Как бы то ни было, в 1886 году десятилетнего Мишу Новикова определили в Московское коммерческое училище. Предполагалось, что его воспитанники в дальнейшем станут экономистами, промышленниками, торговцами или хозяйственниками. Училище было богатым, преподаватели в нем — исключительно высококвалифицированными. Особый упор делался на естественно-научные дисциплины — физику, химию, биологию, и на живые иностранные языки — немецкий, английский, французский. Латынь и древнегреческий из программы исключили, а жаль: будущему биологу латынь как раз очень пригодилась бы.
Как особо отличившийся выпускник Коммерческого училища в 1894 году Михаил Новиков получил титул кандидата коммерции и после этого семь лет работал рядовым клерком в страховом обществе, в банке. Чтобы содержать родителей, а вскоре и собственную семью, он репетиторствовал и преподавал бухгалтерию в реальном училище Мазинга, в торговых классах Общества распространения коммерческого образования. Только полученное женой наследство дало Новикову возможность пойти в университет. В 1901 году, уже имея дочь, Новиков стал студентом естественного отделения знаменитого Гейдельбергского университета в Германии. Как ни удивительно, но аттестата Московского коммерческого училища для поступления оказалось вполне достаточно!
В Гейдельберге Новиков спешил наверстать упущенное за семь лет, проведенные за конторкой банковского клерка. Особое внимание Михаил Михайлович уделял зоологии, ботанике и палеонтологии. У него были очень хорошие учителя. Выдающиеся, можно сказать. Зоологию ему преподавал Отто Бючли — глава известной физиологической школы; химию и биохимию — будущий Нобелевский лауреат (1910) Альбрехт Коссель, прославившийся работами в области химии белка, нуклепротеидов и биохимии клеточного ядра.
В 1904 году, успешно окончив университет и получив степень доктора натурфилософии, Новиков вернулся на родину. По рекомендации профессора Николая Константиновича Кольцова он начал работать в Институте сравнительной анатомии Московского университета, который возглавлял профессор Михаил Александрович Мензбир. В общем, с учителями ему повезло и тут. Осенью 1906 года приват-доцент Новиков снова отправился за границу, на стажировку. Два года он провел в Гейдельберге, Париже и на биологических станциях в Виллафранке, Триесте и Ровиньи. Вернувшись в Россию, в 1908–1909 учебном году читал курс общей гистологии в Московском университете.
Но тут — снова скачок: он увлекся политикой. Вскоре Новикова избрали гласным в Московскую городскую думу, и 10 лет он провел в ее стенах. Но и серьезные занятия наукой не оставил. Вскоре после защиты докторской диссертации — той самой, про теменной глаз у ящериц — молодой доктор наук получил должность ординарного профессора в Московском университете. Странным, прихотливым образом вся его дальнейшая судьба будет связана с МГУ.
В 1911 году Новиков в знак протеста против нападок царского министра народного просвещения Кассо на Московский университет подал в отставку — как и еще более сотни других профессоров и доцентов. Этот беспрецедентный массовый уход историки назовут впоследствии «разгромом» Московского университета. Сам Новиков отзывался об этом так: «жесточайшая катастрофа на почве защиты университетской автономии». Тут надо заметить, что решение Новикова покинуть университет было принято накануне его утверждения на посту экстраординарного профессора. Возросший в связи с этим моральный авторитет Новикова выразился не только в уважении к нему со стороны коллег, но и в политическом доверии со стороны партии конституционных демократов. От кадетов Новиков стал членом Государственной думы IV созыва (1912–1917). В Думе он был товарищем председателя Комиссии по народному образованию. По его инициативе реформировали некоторые учебные заведения и основали новые вузы — Киевский и Харьковский коммерческие институты, Тифлисский университет.
В 1916-м Новиков вернулся в МГУ. В конце сентября ученый совет физико-математического факультета избрал его ординарным профессором по кафедре зоологии, а в 1918-м — деканом физико-математического факультета. Его пребывание на этом посту было непродолжительным, около года. Однако оно ознаменовалось важным событием: Новиков ввел на факультете так называемые предметные комиссии, которые стали заниматься учебными программами и методикой преподавания. Такие комиссии были созданы и в других вузах страны.
Ничего удивительного, что в марте 1919 года Новикова избрали ректором Московского университета. Он стал первым и единственным в истории МГУ ректором, избранным советом университета демократическим путем, — всех остальных назначали. Его деятельность на этом посту была относительно недолгой — около 20 месяцев. Но за это время он успел заметно расширить состав Московского университета. Согласно постановлению Наркомпроса РСФСР, в него влились все кафедры и кабинеты Высших курсов и Университета им А. Л. Шанявского. На базе юридического факультета был организован факультет общественных наук. Удалось достроить Геологический корпус и провести под руководством художника Игоря Эммануиловича Грабаря реставрационные работы по восстановлению фасада старого здания университета на Моховой улице. Помогло личное знакомство Михаила Новикова с народным комиссаром просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским.
Ректор создал специальный хозяйственный отдел, который отвечал за обеспечение коллектива топливом и продовольствием, а также ведал проведением необходимых строительных работ. Все это позволило в годы Гражданской войны, голода и тотальной разрухи сохранить основные университетские кадры. И опять же вполне логично, что человека с такими организаторскими способностями летом 1919 года назначили председателем научной комиссии при научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Комиссия занималась планированием и экспертизой в области науки и техники. Казалось, вот оно — мощное начало советского этапа карьеры Новикова.
Но нет, порядок снова нарушился: 23 апреля 1920 года Новикова неожиданно арестовали. Через 13 дней он уже был на свободе, но на этом неожиданности не закончились. Во второй половине того же 1920 года Наркомпрос объявил ревизию профессорского состава вузов. Университетская автономия ликвидировалась, как и традиционная система управления через советы университетов и избиравшихся ими ректоров. Взамен были введены коллегиальные органы — временные президиумы, большинство голосов в которых принадлежало лицам, назначенным правительством и партийными организациями. В вузах разгорелась настоящая борьба между «белой» и «красной» профессурой. Все это вынудило Михаила Михайловича в ноябре 1920-го оставить пост ректора «в связи с реорганизацией управления университетами». Как будто чувствовал… В начале 1922-го Наркомпрос принял новый устав для всех вузов страны. Этот документ принципиально ухудшал положение профессорско-преподавательского состава. Зарплата резко понижалась, научные лаборатории перестали обеспечиваться всем необходимым. Все это вызвало волну профессорских забастовок по стране. Тем не менее около двух лет Новиков еще продолжал работать на физико-математическом факультете университета…
Как напишет в 1923 году философ Федор Степун:
Большевикам, очевидно, мало одной только лояльности, т. е. мало признания советской власти как факта и силы; они требуют еще и внутреннего приятия себя, т. е. признания себя и своей власти за истину и добро. Как это ни странно, но в преследовании за внутреннее состояние души есть нота какого-то извращенного идеализма.
Признать власть большевиков за «истину и добро» Михаил Новиков никак не мог, это было противно его природе. В итоге 16 августа 1922 года его арестовали вторично, по обвинению в антисоветской деятельности. А уже 25 августа по решению Коллегии ГПУ в составе большой группы русской интеллигенции выслали «из пределов РСФСР за границу». (Кстати, Федор Степун отправился с Михаилом Новиковым на том же пароходе.) Терпение вождей большевизма иссякло, «роман» между советской властью и интеллигенцией завершился деловой ленинской фразой: «Всех их — вон из России» (письмо Ленина Сталину). Как бы в подтверждение такой оценки Лев Троцкий в интервью американской корреспондентке International News Service Анне-Луизе Стронг, напечатанном в газете «Известия» 30 августа 1922 года, подчеркивал:
Вы меня спрашиваете: чем объясняется постановление о высылке враждебных советской власти элементов за границу? И не означает ли, что мы их внутри страны боимся больше, чем по ту сторону границы?
Мой ответ будет очень прост. […] Те элементы, которые мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они — потенциальные орудия в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений — а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены — все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политической агентурой врага. И мы будем вынуждены расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочитаем сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту пред общественным мнением…
Вот под эту волну «гуманизма» и попал профессор зоологии Михаил Михайлович Новиков.
После недолгого пребывания в Германии (Берлин и все тот же хорошо ему знакомый Гейдельберг) в 1923 году Новиков переехал в Прагу. Там он участвовал в организации Русского народного университета, стал председателем его отделения естественных наук, а чуть позже (до 1939 года) — и ректором.
В 1930 году Новиков принял участие в организации торжеств за рубежом по случаю 175-летия Московского государственного университета. В посвященном этому событию сборнике Михаил Михайлович обратился к профессорско-преподавательской корпорации МГУ:
…Хочется нам свободным, но оторванным от родной почвы, от созданных нами лабораторий, от библиотек, копившихся трудом жизни, от наших коллег и учеников, к тому славному дню, когда наша дорогая Alma mater достигнет 175-летнего возраста, направить свой горячий братский привет всем друзьям, трудящимся в России на поруганной академической ниве, и от всей души послать им старое, но вечно необходимое пожелание: «Не угашайте духа!»
Перед началом Второй мировой войны в связи с оккупацией Праги немецкими войсками Новиков переехал в Братиславу, столицу нового независимого, но дружественного нацистской Германии государства, Словакии. Здесь он получил должности профессора и заведующего кафедрой зоологии Братиславского университета, директора Зоологического института университета. Накануне взятия Словакии советскими войсками Новиковы перебрались в американскую зону оккупации Германии, в баварский городок Регенсбург. Новиков получил статус «перемещенного лица», а это означало, что в соответствии с Ялтинским протоколом его могли в любой момент передать советским представителям для насильственной репатриации. Когда-то, еще при царе, Новикову уже доводилось сравнивать жизнь московского профессора с дамокловым мечом… История повторялась, только теперь Новиков преподавал не в Москве, а в Мюнхенском университете и Высшей философско-теологической школе Регенсбурга. Большинство его студентов в Мюнхене имели тот же статус и говорили по-русски.
В августе 1949 года благодаря поддержке Фонда имени Льва Толстого и Всемирной организации церквей (США) Новикову удалось переехать в Америку. Михаилу Михайловичу было уже 73 года. С ним в Новый Свет прибыли четыре поколения большой семьи Новиковых. Последние 16 лет Новиков прожил в городке Найак штата Нью-Йорк, на реке Гудзон. Он разрабатывал проект создания Русского свободного университета имени М. В. Ломоносова в США. Его целью было объединить ученых-эмигрантов и сохранить лучшие традиции русской академической науки. Лишь недостаток средств не позволил ему довести этот интересный проект до конца.
Помимо этого Михаил Михайлович руководил деятельностью Русской академической группы в США, участвовал в деятельности Пироговского общества и вел просветительскую работу, выступал с публичными лекциями, занимался литературным трудом.
В 1954 году Гейдельбергский университет наградил Новикова Золотым дипломом доктора наук в честь 50-летия его научной деятельности, а еще спустя три года Американская академия искусств и наук избрала его своим членом.
В 1954–1955 годах Новиков возглавлял Организационный комитет по празднованию в США 200-летнего юбилея Московского университета. Оглядываясь на четверть века своей жизни, проведенные за рубежом, он писал:
…Хотя звезда моя продолжала светить мне и меня всюду встречали с достаточной приветливостью и гостеприимством, но жизнь без Родины и Московского университета, несмотря на все последующие успехи ее, ощущалась мною как надломленная и неполная.
Михаил Михайлович Новиков скончался 12 января 1965 года на 89-м году жизни. Его личный архив хранится в Бахметьевском архиве отдела редких книг Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).
Перемещенные лица
Правда и вымысел в жизни одного Ди-Пи: Александр Знаменский (Елена Зайцева (Баум), Ирина Пономарева)
Нельзя сказать, чтобы судьба к Александру Васильевичу Знаменскому (1876–1955) благоволила. В отличие от всех остальных героев этой книги, он не построил успешной научной карьеры за рубежом, и даже после смерти признание к нему так и не пришло. По крайней мере, пока. Тем не менее он вызывает пристальное внимание историков. Тому есть две причины. Во-первых, написанные им книги обнаруживают человека исключительного таланта и глубоких идей. Во-вторых, он целенаправленно стремился покинуть Советский Союз и в конце концов добился этого, хотя в соответствии с ялтинскими соглашениями его должны были еще в 1945-м вернуть в СССР, после чего наверняка немедленно отправили бы в Сибирь. Он один из тех немногих, кому удалось успешно фальсифицировать свою биографию.
Вторая волна русской эмиграции не дала миру таких ярких имен, какими отличилась первая. Никто из тех, кому удалось покинуть СССР в годы Второй мировой войны и проскользнуть сквозь узкие ячейки сети фильтрационных лагерей, не стал лауреатом Нобелевской премии или известным инженером, не открыл нового класса соединений и не изобрел телевидения. Отчасти это связано с малочисленностью второй волны.
Трагедия этих людей состояла в том, что они пережили страшное военное время, как и многие сотни тысяч их собратьев, а потом были вынуждены нести свой крест скитания по миру при невыносимых условиях жизни. Но за их плечами были годы жизни в России, где они успели сполна ощутить все «радости» тоталитарного рая, поэтому в каждом теплилась надежда на счастливый исход из него. Именно это чувство придавало им стойкости и мужества в испытаниях, связанных с особенностями послевоенного периода эмиграции.
Их успех «исхода» из СССР зависел от того, насколько убедительно удавалось поменять «легенду» своей биографии, подделав документы. Иван Елагин, известный поэт русского зарубежья второй волны, также прошедший через фильтрационные лагеря, описал эту ситуацию кратко, всего в нескольких фразах:
Чтобы избегнуть жребия Этого проклятого, Вру, что жил я в Сербии До тридцать девятого.Если человек мог доказать, что к 1 сентября 1939 года он не был гражданином СССР, с нацистами не сотрудничал, а в Германию на работы его привезли против воли, то ему удавалось избежать депортации. Но каждого могли поймать на «просеиваниях», которые проводили офицеры разведки. Обычно около половины людей, проходивших эти проверки, разоблачали, лишали статуса Ди-Пи и в соответствии с Ялтинским протоколом депортировали в СССР, где они пополняли ряды узников ГУЛага. Лишь к 1947 году союзники прекратили практику репатриации бывших граждан СССР, оказавшихся на Западе. Но и те, кому удавалось избежать «жребия этого проклятого», попадали в новый для себя мир уже искалеченными реалиями тоталитарной утопии, измученными перипетиями военного времени и жизнью в лагере для перемещенных лиц после установления мира. Так и случилось с героем этого очерка.
Александр Васильевич Знаменский родился в городе Любим Ярославской губернии в семье помощника бухгалтера в уездном казначействе. Первоначальное образование юноша получил в ярославской гимназии, которую окончил в 1895 году. Он чувствовал свое влечение к науке, поэтому нисколько не сомневался, подавая документы на физико-математический факультет Московского университета и намереваясь специализироваться по химии. Счастью молодого человека не было предела, когда он был зачислен в студенты. Но уже в 1896 году «за участие в студенческих организациях и волнениях» его арестовали и отправили на три года в ссылку при неопределенных последствиях: как оказалось позднее, его также пожизненно лишили права службы в ведомстве народного просвещения. На тот же год пришлась внезапная смерть отца.
Но в конце концов эта черная полоса в его жизни закончилась. После освобождения он поехал учиться в Казанский университет, вновь выбрав специализацию в области химии. Почти сразу начал вести самостоятельные исследования, и уже первые результаты оказались многообещающими. В 1901 году его работа, связанная с изучением вопросов о растворах и растворимости и посвященная изучению криогидратов солей и кислот — специфических конгломератов, когда кристаллы химического соединения оказываются вмерзшими в окружающий их лед, — получила золотую медаль Казанского университета. Но по окончании вуза ему пришлось отказаться от надежд на научную карьеру: слишком плохо было его финансовое положение, и Знаменский вернулся поближе к родным пенатам, чтобы работать в костромской земской управе. Деятельность там оказалась довольно бурной — шла оптимизация крестьянских хозяйств в рамках аграрной реформы Столыпина, и его финансовые дела, по-видимому, значительно улучшились. Однако вожделенная мечта посвятить себя науке не отпускала, и Знаменский решил еще раз попытать счастья на научном поприще, не оставляя при этом карьеру землемера. В 1914 году он начал готовиться к профессорскому званию в Казанском университете под руководством Александра Яковлевича Богородского, крупного российского, а затем и советского термохимика, известного, в частности, тем, что он стал первым применять спаренные сосуды Дьюара, заменявшие дорогую часть калориметра, его оболочку, в термохимических исследованиях для определения теплоемкости разнообразных неорганических солей. Именно это стало темой исследований Александра Знаменского.
Октябрь 1917-го не вызвал у него ярких эмоций. Можно предположить, что уже тогда он выработал ту самую форму протеста, скрытого за показной аполитичностью, которую десятилетия спустя будут называть «внутренней эмиграцией». Позже в своих статьях, написанных во время отсидки в лагерях Ди-Пи, он объяснял это тем, что к «роковой схватке» с большевизмом надо было тщательно подготовиться. Действительно, трагический опыт жизни в СССР, как показывают его публицистические статьи конца 1940-х, способствовал формированию внутреннего неприятия сталинской политики, приведшей к появлению гнетущей атмосферы лжи.
Каждый боится не только что говорить, — писал он в статье «О преодолении большевизма», опубликованной в 1948 году в газете «Обозрение» (Мюнхен), — а даже сосредоточенно думать на известные запретные темы из боязни, чтобы во время сна или в припадке безудержного отчаяния он как-нибудь не открыл своей души какому-нибудь официальному или неофициальному осведомителю.
При этом надо сказать, что смена общественно-политического строя на какое-то время принесла Знаменскому даже некоторые плюсы. Теперь он мог быть зачислен в штат учебных заведений и участвовать в обучении студентов, что и не преминул сделать.
В течение пяти лет Знаменский преподавал в Костромском государственном университете, а в 1923 году перебрался в Ярославль и в течение учебного года читал курсы физической и аналитической химии в местном университете. Но в 1924 году университет закрылся, и Александр Васильевич перешел на должность доцента в Ярославском педагогическом институте, а в 1929 году там же стал профессором.
Все это время Знаменский активно участвовал в научных конференциях, писал научные статьи, используя результаты своих еще дореволюционных термохимических экспериментов. Параллельно вел работу и в Костромском управлении по землеустройству. Именно это направление его деятельности дало повод к аресту ученого в 1930 году.
В обвинительном приговоре указано, что его судили как члена «кулацко-эсэровской группы Кондратьева — Чаянова». Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) знаменит своими исследованиями российского крестьянства. Он полагал, что фермерские хозяйства американского типа не могут быть эффективны в России по целому ряду причин — как культурных, так и сугубо физико-географических. Положительные плоды, по его мнению, могло принести только сочетание семейных хозяйств с крупными кооперативами. В принципе, его идеи хорошо укладывались в схему, обозначенную Лениным в его работе «О кооперации», но уже к началу 1930-х придерживаться ленинских идей стало небезопасно. Чаянова обвинили в подготовке крестьянского восстания и приговорили к пяти годам ссылки. По прошествии пяти лет ссылку продлили еще на три года, а потом «заменили» расстрелом.
Вина Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938) была еще более очевидна. В 1925 году он создал и опубликовал свою знаменитую теорию экономических циклов, которые уже много десятилетий иначе как «кондратьевскими» и не называют. В его теории экономика страны уподобляется живому организму, для которого механические меры ускорения развития могут оказаться губительными. Кондратьевская идея циклов вошла в вопиющее противоречие с идеей государственного планирования. А тут еще и подготовка крестьянского восстания… Итог: восемь лет ссылки, а потом расстрел.
Знаменскому повезло: 10 лет строго режима без каких-то особых последствий, хотя и на свободу его не выпустили. В одной из своих статей, опубликованных уже в Германии, он описывал допросы в ОГПУ:
…Обвиняемому (Знаменский пишет о себе в третьем лице. — Е. З. (Б), И. П.) предъявляются показания одного из ленинградских профессоров, заявившего, что «в городе Н. имеется член возглавляемой им контрреволюционной организации». «Вот видите — говорит следователь, — это вы». — «Да почему же, собственно, я? — удивляется обвиняемый. — Ведь моей фамилии здесь не названо, и в Н. более 250 000 населения». — «Ну, это пустяки, — отвечает следователь. — Кому же там быть кроме вас?» […] И в окончательном решении коллегии ГПУ ссылка на показание этого профессора с обозначением номера тома и страницы дела является основанием для признания обвиняемого виновным в принадлежности к контрреволюционной организации и заключения на 10 лет в концентрационные лагеря.
Именно таким образом Знаменский получил свои 10 лет лагерей. В одном из вариантов его автобиографии говорится, что в 1932 году он был освобожден, но это, очевидно, не совсем так, поскольку до 1937-го он по каким-то причинам возглавлял химическое отделение производственной лаборатории при строительстве канала Москва — Волга в Дмитрове. Скорее всего, работа в лаборатории была для него не вполне добровольной, так что сообщение об освобождении может быть несколько преувеличено.
Задача лаборатории заключалась в проведении анализов воды Москвы-реки. В организованной позже Центральной бетонной лаборатории под руководством Знаменского исследовались свойства различных цементирующих материалов, вяжущих компонентов для изготовления бетонов и строительных растворов, битумов и других материалов, использовавшихся при строительстве канала. В 1935 году им был запатентован разработанный в лаборатории способ изготовления плит и искусственных камней. Его работы и в прямом, и в переносном смысле легли в основание строящегося канала.
По обыкновению Знаменский сочетал в Дмитрове исследования с преподаванием: в 1934 году там были организованы курсы по подготовке специалистов основных строительные профессий, и Александр Васильевич в течение четырех лет читал на этих курсах химию. Пять лет, проведенные на великой стройке социализма бок о бок с заключенными ДмитЛага, стали для Знаменского окончательной «школой прозрения». Через всю оставшуюся жизнь он пронес ненависть к сталинскому режиму, который, как он писал, принес множество страданий его соотечественникам — «молчаливому, изнывающему от боли и негодования русскому народу». Он воочию видел, ценой скольких человеческих жизней создавался канал.
Весной 1937 года состоялось заполнение всей трассы канала водой. Знаменский наконец-то был свободен и мог покинуть его берега, хотя в это верилось с трудом. А всего несколько месяцев спустя, в августе 1937-го, началось известное расследование, по итогам которого почти все заключенные ДмитЛага и его начальство, больше 20 000 человек, были расстреляны. Но Знаменский к этому времени уже находился в Ростовской области, поскольку его пригласили заведовать кафедрой общей, аналитической и коллоидной химии Азово-Черноморского сельскохозяйственного института (ныне Донской государственный аграрный университет) в поселке Персиановка (Персиановский), и против него никаких обвинений не выдвигалось.
В Персиановке ученый проработал до начала 1943 года. Здесь он переключился на агрохимические исследования. По-прежнему читал лекции и был любим студентами. Летом 1942 года Персиановку оккупировали немецкие войска. Но, несмотря на это, институт продолжал работать. Исследованиями Знаменского заинтересовался профессор Института агрономии и селекции растений Бреслауского университета Эдуард фон Богуславски (1905–1999). Во время Второй мировой войны фон Богуславски руководил в Херсоне одним из четырех исследовательских учреждений, созданных нацистами для организации сельскохозяйственных работ в оккупированных восточных областях. Еще в довоенные годы на одной из совместных русско-немецких испытательных станций на Северном Кавказе он приобрел опыт сотрудничества с советскими учеными и теперь хотел его, так сказать, развить для изучения влияния различных факторов на продуктивность растений. Со временем работы фон Богуславски получили признание коллег, и до сих пор в агрохимии есть модель функции продуктивности, носящая его имя. К этим исследованиям он и привлек сотрудников института, оставшихся в Персиановке.
В 1943 году, когда стало ясно, что поселок скоро возьмут части Красной армии, Александр Знаменский был депортирован в Австрию. Его поместили, согласно его автобиографии, в «русский лагерь в Хальбтурне», где ученый продолжал исследования по заданиям фон Богуславски, связанные с проращиванием семян подсолнечника и высадкой его рассады. Эксперименты в этом направлении оказались успешными. По результатам этих работ Знаменский написал научную статью «О силе всасываемости семян», а фон Богуславски анонсировал разработку им нового сорта подсолнечника, долгое время носившего его имя (сорт «фон Богуславски 19/39»). Скорее всего, где-то в окрестностях Хальбтурна находилась опытная сельскохозяйственная станция, с которой сотрудничал фон Богуславски, и ему было удобно держать Знаменского на положении остарбайтера в числе других, пользуясь его исследовательскими талантами.
В мае 1945 года Знаменский уже был в Германии, в Баварии, в американской зоне оккупации. Сначала он попал в лагерь для перемещенных лиц в Фюссене, затем — в Зонтгофен, Иммерштадт и другие. Безусловно, его страшила перспектива быть выданным советским оккупационным властям. От насильственной депортации мог уберечь только статус Ди-Пи — для него самого и для жены, которая сопровождала его во всех перемещениях по западным землям. А для этого надо было доказать, что они покинули СССР до 1939 года. Каким-то образом Знаменскому удалось обзавестись документами, свидетельствующими о том, что его семья эмигрировала в Польшу в 1932 году, а в Германию была депортирована в 1943-м из Вильно. Проверки следовали одна за одной, но в остальном жизнь в лагерях была сносной — питание хоть и однообразное, но обильное, крыша над головой имелась, общение с внешним миром не ограничивалось: они могли свободно в любое время выходить из лагеря, а к ним могли приходить гости. На какое-то время Знаменский устроился аптекарем при лагерном госпитале. Небольшие деньги удавалось регулярно выручать за публикации статей в русскоязычных местных газетах — платили четверть марки за строчку.
Были возможности и для занятий наукой. В Германии Знаменский завершил книгу «О рефракции у природных минералов» — дело всей его жизни. Сразу после этого приступил к новой — «О молекулярной прочности у минералов». Основная теоретическая идея Знаменского заключалась в том, что, имея информацию о таких известных физических константах, как молекулярная и атомная рефракция, можно сделать выводы о кристаллической структуре природного минерала.
Согласно Знаменскому, именно молекулярная и атомная рефракции заключают в себе ценнейший материал для разрешения многих вопросов строения материи на микроуровне. При этом его удивляло, что даже такие известные ученые, как Уильям Брэгг и Лайнус Полинг, занимавшиеся в то время изучением природы химической связи и применением ее к объяснению строения разнообразных молекул, в своих расчетных работах в области структурной химии и кристаллографии игнорировали использование такой простой физической величины, как молекулярная рефракция, хотя все необходимые данные для ее вычисления для соединений имеются априори (химический состав, плотность и показатель преломления).
В своей работе он показал, как его новая концепция работает на практике. Знаменский вычислил молекулярные рефракции для 700 минеральных соединений и атомные рефракции для элементов, для которых они еще не были установлены. Полученные результаты подтвердили, что молекулярные рефракции обладают аддитивностью для индивидуальных веществ. При этом атомные рефракции не зависят от положения элемента в периодической системе, а только от номера группы или периода. Ученый наглядно продемонстрировал для многих классов соединений, каким образом данные величины позволяют нам разобраться в вопросах изучения внутренней архитектуры кристаллов, предсказать, «как одиночные молекулы связываются между собой при образовании кристаллических агрегатов». В дополнение к основному материалу Знаменский предложил новую систему единиц измерения рефракции, позволяющую выражать их целочисленно. Гениальность подхода Знаменского к расшифровке структур состоит в чрезвычайной его простоте, что важно для повседневного рутинного анализа кристаллических структур, причем не только минералов.
Но все попытки издать книгу по рефракции минералов на немецком языке не увенчались успехом. К счастью, Знаменскому удалось установить связь с мюнхенским отделением Фонда имени Льва Толстого, который оказывал помощь ученым по переезду в США, и у него появилась надежда перебраться за океан. В конце концов это произошло: в 1952 году при поддержке технического директора завода Superchrome Engineering Company в Лос-Анджелесе Николая Троицкого, выступившего в качестве поручителя, семья Знаменского эмигрировала в США, а самого ученого даже пригласили работать на этот завод в качестве химика. В это же время он стал членом Русского инженерного общества в Лос-Анджелесе. Вроде бы жизнь начала налаживаться, однако на заводе ученый проработал всего полгода и был уволен в связи со сменой дирекции. После этого ему лишь изредка удавалось устроиться на временные низкооплачиваемые работы. Его попытки установить отношения с американской академической средой приносили плоды крайне медленно. Первые положительные отклики Знаменский получил только в 1955 году, накануне смерти…
Его похоронили на кладбище в центре Голливуда, а о его идеях надолго забыли. К счастью, не навсегда: применение этих идей, раздвигающих границы в описании кристаллического состояния, в современной кристаллографии выглядит многообещающим.
Математика
Карты и границы: Израиль Гельфанд, Владимир Арнольд, Юрий Манин (Владимир Губайловский)
Французский математик Александр Гротендик писал: «Я все же понял „нутром“, так сказать, что я — математик: тот, кто занимается математикой в полном смысле этого слова, так, как „занимаются“ любовью. Математика стала для меня возлюбленной, всегда благосклонной к моим желаниям». Сравнение математики с возлюбленной не только метафора: математика захватывает человека едва ли не в младенчестве и притягивает, как «странный аттрактор». Но благосклонна она далеко не ко всем, кого «притянула». Иногда любовь остается неразделенной. Однако к Израилю Моисеевичу Гельфанду, Владимиру Игоревичу Арнольду и Юрию Ивановичу Манину она всегда была — и остается — благосклонна.
Чтобы заниматься математикой, нужно немного: ручка и лист бумаги, мел и доска, а главное — свободное сознание самого математика. Ручка или мел стоит недорого, а вот свободное сознание и, в частности, право распоряжаться своим временем по собственному усмотрению и не отвлекаться, например, на зарабатывание денег каким-то посторонним математике занятием — это уже стоит немало, хотя и значительно меньше, чем Большой адронный коллайдер.
Есть и еще одна важная составляющая работы математика — круг профессионального общения. Когда писатель Дмитрий Быков общался с нобелевским лауреатом Джоном Нэшем незадолго до гибели этого легендарного математика, в беседе прозвучал вопрос: «Вам не странно заниматься вещами, которые в мире могут понять, ну, может быть, три человека, кроме вас?» Нэш ответил: «Меня могут понять по крайней мере три человека, да. У нас есть систематизированный язык для этого общения. А другого человека — например, вас — вообще никто не может понять, именно потому, что вы не можете себя формализовать».
Иногда очень нужно, чтобы эти «три человека» были физически доступны — и желательно, чтобы была возможность с ними встретиться, а не только писать им письма или звонить по телефону.
В Советском Союзе математик получал и ручку, и мел, и свободное сознание — по советским меркам у ведущих математиков зарплата была довольно высокая и времени для размышлений тоже оставалось достаточно. А вот с теми «тремя, которые тебя понимают» было сложнее. Потому что далеко не всегда они жили по эту сторону границы, и чтобы встретиться с ними, нужно было выехать из страны.
В 1920-е годы советские математики могли достаточно свободно ездить на Запад (даже на многие месяцы), принимать участие в конференциях, публиковаться в ведущих математических журналах. К середине 1930-х все «окна в Европу» оказались наглухо заколочены и общение свелось к редким письмам и чтению журнальных статей. Причем советские математические журналы печатали статьи в основном на русском языке, а значит, иностранные коллеги не всегда могли их читать. Знание иностранных языков тоже становилось все большей редкостью. Многие математики, если и знали язык, то какой-нибудь мертвый, вроде латыни, на котором пишут, но не говорят. Так продолжалось до последней трети 1950-х, когда наступила оттепель и начались некоторые послабления.
Математика, конечно, самая интернациональная из наук. Ведь, даже не зная языка, на котором написана статья или книга, их можно как-то прочесть, ориентируясь на формализованный или, говоря словами Нэша, «систематизированный» язык — просто читая формулы. Они одинаково понятны и французскому математику, и русскому. Формула состоит из определенных символов, но сама она представляет собой скорее картину, чем слово или фразу. Иногда эта картина прекрасна, иногда — чудовищна. Ее не столько читают, сколько рассматривают, размышляя над длинными цепочками «причин», которые привели к ее появлению, и бесконечными (потенциально) цепочками «следствий». Но язык формул, как правило, сжат и краток, и чтобы понять его смысл, иногда необходимо вернуться далеко назад — к началам. Николай Работнов писал:
…Нередки случаи, когда итогом жизни гения являются всего несколько символьных строчек […] Уравнения электромагнитного поля (уравнения Максвелла) […] в самой компактной, так называемой тензорной, форме содержат всего 15 символов.
Чтобы достаточно быстро понять смысл, заключенный в формуле, иногда нужен тот, кто его уже понял, а лучше всего тот, кто формулу написал. Он ведь наверняка написал не все, о чем думал в процессе работы, и у него есть интересные идеи, как ее можно развивать. Поэтому, в частности, математики так любят устраивать совместные обсуждения и семинары. Это существенно ускоряет процесс понимания. Статья — это результат, а как говорил Гегель: «Результат — это мертвое тело, которое оставило за собой живую тенденцию». Статья — это уже вчерашний день, а «живая тенденция» — это день нынешний или даже завтрашний. И этого советские математики были 20 с лишним лет почти полностью лишены.
В 1960-е никакое «окно в Европу» не открылось, разве что форточка. Поездки в западные университеты, тем более длительные, по-прежнему были редкостью, но они все-таки были. В Советский Союз смогли приезжать западные коллеги, которые охотно такой возможностью пользовались. Пусть и не такие частые, но плодотворные контакты возобновились. К сожалению, ненадолго.
После вторжения в Чехословакию в 1968 году Советский Союз снова закрылся «железным занавесом». Не таким плотным, как в сталинском время, но все равно труднопреодолимым. У властей оказалась еще и дополнительная причина «не выпускать» именно математиков.
В 1968 году логик и правозащитник Александр Есенин-Вольпин был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Правозащитник Юрий Айхенвальд написал письмо в защиту Есенина-Вольпина. Первыми подписали письмо Игорь Шафаревич и Израиль Гельфанд, а потом и многие другие. Это письмо по числу подписавших получило название «Письмо девяноста девяти». Владимир Арнольд и Юрий Манин тоже были среди «подписантов». Их подписи оказались особенно важны, потому что рядом с их фамилиями стояло «лауреат Ленинской премии».
Власти освободили Есенина-Вольпина и в 1972 году фактически вынудили уехать из страны. А математики остались. Времена были «вегетарианские». Никого не посадили. Но многие лишились преподавательской работы, и выезд за рубеж стал для большинства большой проблемой. Даже на проходящие раз в четыре года Международные конгрессы математиков (МКМ) советских ученых выпускали с явной неохотой.
А ведь по публикациям их хорошо знали в западных университетах, их ждали, им присылали приглашения, были готовы оплатить поездку за счет принимающей стороны, а они раз за разом оказывались «больны».
Исследователь советского математического сообщества Вячеслав (Слава) Герович пишет, что в Советском Союзе возникла «параллельная социальная инфраструктура математического образования и научных исследований». Эта инфраструктура включала в себя систему специализированного школьного образования (матшколы), математические кружки и открытые научные семинары, в которых участвовали и способные школьники, и студенты, и крупные математики. Говоря о семинарах Гельфанда, Арнольда и Манина на мехмате МГУ, Герович отмечает, что эта инфраструктура носила «полуприватный» характер: в ней особую ценность имели личные связи — дружба математиков, которые встречались не только в аудиториях. Научные дискуссии продолжались во время долгих прогулок, на дачах, на кухнях… Все это привело к возникновению «широкой и плотной ткани», охватывавшей математическое сообщество Москвы и Ленинграда.
Эта «параллельная инфраструктура» привлекала молодых талантливых людей: многие выбирали математику еще и потому, что другие карьерные пути были или вовсе закрыты, или выглядели сомнительно с этической точки зрения — не все хотели становиться «комсомольскими вожаками», вступать в КПСС и делать вид, что они разделяют официальную идеологию.
Профессор Института перспективных исследований в Принстоне Роберт Макферсон, посещавший семинар Гельфанда, назвал московское математическое сообщество «математическим раем».
Математическое высшее образование снимало интеллектуальные сливки с огромной страны. И мехмат МГУ, и матмех ЛГУ, и физтех постоянно пополнялись одаренными молодыми людьми, хотя откровенно антисемитские порядки не позволяли поступать в ведущие вузы евреям, а тем, кто все-таки просачивался туда, не давали продолжить занятия в аспирантуре.
В 1986–1987 годах в СССР произошла резкая либерализация (перестройка), условия выезда из страны были сначала облегчены (парткомы вдруг стали странно сговорчивы), а потом выездные визы и вовсе отменили.
К этому моменту ситуация в математическом сообществе напоминала «перегретый котел». В среде советских математиков за время «заморозков» 1970-х — начала 1980-х накопилось раздражение, а во внешнем мире — ожидания. Но в 1990-х, когда случился экономический кризис, многие математики в России оказались на грани нищеты. Арнольд в своей речи в Папской академии наук (Национальной академии деи Линчеи) в 1997 году с горечью говорил, что на берлинский МКМ 1998 года многие математики из России не смогли приехать из-за финансовых трудностей: «В России математики зарабатывают в 100 раз меньше, чем в США».
И вот тогда произошел взрыв. Русская математическая диаспора приобрела качественно новый характер.
Страна Гельфандия: Израиль Гельфанд
Израиль Моисеевич Гельфанд родился 20 августа (2 сентября) 1913 года в городке Окны (ударение на первом слоге — от молдавского слова «ручейки»), недалеко от Одессы. Его отец был мельником. О годах учебы в школе Гельфанд вспоминал:
Моим преподавателем был очень добрый, хотя с виду и суровый человек по фамилии Титаренко. У него были большие запорожские усы. Лучшего учителя я не встречал, хотя я знал больше него, и он это понимал. Он очень любил и всячески ободрял меня.
Главной проблемой для одаренного мальчика в Окнах было отсутствие книг. В 15 лет Гельфанда повезли в Одессу на операцию по удалению аппендицита, и он заявил родителям, что не ляжет в больницу, если они не купят ему книгу по высшей математике. Родители купили курс высшей математики Беляева на украинском языке. Правда, только первый том — дифференцирование. На интегрирование денег не хватило. Книга была прочитана за те 12 дней, которые вундеркинд провел в больнице.
В 16 лет Гельфанд приехал в Москву. Он жил у дальних родственников, перебивался любой работой, но в основном сидел в «Ленинке» и читал. Там Гельфанд познакомился со студентами-математиками и стал ходить в университет на семинары. В 19 лет, не окончив ни школы, ни университета, он стал аспирантом Андрея Николаевича Колмогорова и сам начал преподавать в университете. А в 1940 году в возрасте 27 лет Гельфанд защитил докторскую диссертацию.
В 1953 году он стал членом-корреспондентом Академии наук. Гельфанд участвовал в обсчетах водородной бомбы, а за такие работы советская власть расплачивалась щедро. Но потом в течение 30 лет, несмотря на огромный научный авторитет и членство во многих и многих академиях по всему миру, советским академиком Гельфанд стать не мог. Происходило это по причине дремучего антисемитизма, которым страдали (да полно, разве страдали? у них-то, похоже, все было отлично) академик Лев Понтрягин, занимавший в Академии важные посты, академик Иван Виноградов — бессменный директор Математического института Академии наук имени Стеклова, да и многие фигуры помельче.
Надо сказать, что ЦК КПСС в этом затянувшемся на 30 лет процессе «неизбрания» поддерживал скорее Гельфанда, чем Понтрягина, — Гельфанд регулярно получал ордена Ленина. Третий ему был вручен к 60-летию, наверное, в качестве дополнения или, наоборот, в противовес оксфордской докторской шапочке. Но академики стояли насмерть. Они устояли даже в год гельфандовского 70-летия. И только в 1984 году после смерти Виноградова дали наконец слабину. Гельфанд стал академиком. А в речи на свое 90-летие назвал среди своих учителей и Понтрягина, и Виноградова.
Что же касается пребывания за «железным занавесом», завкафедрой логики мехмата МГУ Владимир Андреевич Успенский приводит высказывание академика Мстислава Всеволодовича Келдыша, в то время президента АН СССР: «Вред от невыпускания Гельфанда уже превзошел весь мыслимый вред, который мог бы произойти от его выезда».
Нельзя сказать, что Гельфанда не выпускали совсем. Он делал доклады на МКМ в 1954 году в Амстердаме, в 1962-м в Стокгольме, в 1970-м в Ницце. Но после 1968 года выезжать было все труднее.
Американский математик Изадор Зингер (Абелевская премия, 2004) вспоминает, как в 1973 году Гельфанду было присвоено звание почетного доктора Оксфорда, а у него возникли проблемы с выездом. Разрешились эти проблемы довольно неожиданным образом: английская королева попросила советского посла посодействовать приезду Гельфанда. И советские власти не смогли отказать в этой скромной королевской просьбе.
После перестройки, в 1989 году, Гельфанд читал лекции в Гарварде и Массачусетсе. В 1987–1989 годах в Springer-Verlag в Берлине вышел трехтомник его статей общим объемом почти 3000 страниц.
В том же 1989 году Гельфанду была вручена премия Киото, которую финансирует Фонд Инамори. Награда очень почетная во многих отношениях и, кроме того, весьма существенная в денежном выражении — 50 млн иен (около 450 000 долларов). Наконец, в 1989-м прекратил работу Математический семинар Гельфанда на мехмате МГУ, который регулярно собирался с 1943 года. В октябре 1990 года Гельфанд покинул Советский Союз.
Уехал он отнюдь не в чистое поле. Его имя было известно каждому, кто хоть сколько-нибудь соприкасался с математическими исследованиями (не только в Америке, но и в мире). Но так сложилось, что, когда Гельфанд эмигрировал в Америку, он стал профессором не Гарварда (чьим почетным доктором был с 1976 года) или Массачусетского технологического института (МТИ), а несколько более скромного, хотя тоже широко известного Ратгерского университета. В этот университет Гельфанда пригласил известный математик Феликс Браудер, который был в тот момент вице-президентом университета по научным исследованиям. (В 1999 году президент США Билл Клинтон наградил Браудера Национальной медалью науки — высшей наградой США за научные достижения.)
В интервью The New York Times Браудер сказал, что приглашение Гельфанда он считает своим высшим достижением на посту вице-президента университета.
Должность Гельфанда называлась distinguished professor, что дословно можно перевести как «выдающийся профессор» — в некоторых американских университетах она предусмотрена для особых случаев и ее получают только самые ценные для университета преподаватели и исследователи.
Вероятно, причиной того, что Гельфанда не засыпали приглашениями ведущие университеты Америки, были определенные опасения университетского начальства по поводу довольно преклонного возраста кандидата. На тот момент Гельфанду было 77 лет. Отчасти их можно понять: редко когда ученому в таком возрасте удается резко сменить и научное окружение, и среду обитания, а потом долго и плодотворно работать. Но Гельфанду было отмерено судьбой еще 19 лет (он умер 5 октября 2009 года), и за эти годы он успел принести Ратгерсу много пользы — далеко не только тем, что его имя значилось в списках преподавателей университета (что и само по себе совсем немало). В Ратгерсе он и остался до самого конца, развернув там бурную деятельность — и педагогическую, и научную, а в другие университеты приезжал только как приглашенный профессор.
Первое, что Гельфанд сделал в Ратгерсе, — построил модель той «параллельной инфраструктуры», к которой привык в Москве: открыл программу для школьников — Gelfand Correspondence Program in Mathematics (почти точный аналог Всесоюзной заочной математической школы) и семинар — The Gelfand Mathematical Seminars, воспроизводившие во всей возможной полноте работу его знаменитого московского семинара.
Об этом семинаре написано немало, и все мемуаристы отмечают его своеобразную атмосферу. Вот что говорил о ней Владимир Арнольд:
…Я помню огромный семинар И. М. Гельфанда, оказавший решающее влияние на математическую жизнь в Москве — несмотря на его крайнее бесчеловечие (разносы были тем более резкие, чем выше был социальный статус охаиваемого, будь он докладчиком или слушателем, указавшим докладчику контрпример).
Гельфанд нарушал все возможные академические нормы — переходил на личности, говорил очень обидные вещи. Так почему же каждый понедельник в лекционной аудитории 14–08 был настоящий аншлаг? Там творилась наука, и творцом ее был Гельфанд. И люди, для которых математика была важнее, чем обидные слова в их адрес, уходили вдохновленные, хотя часто обескураженные и расстроенные. Но главное — многие участники семинара, даже не самые подготовленные, понимали, о чем же идет речь. Гельфанду удавалось этого добиться, несмотря ни на что, ни жалея никого.
Что-то подобное тому, как Гельфанд обращался со своими докладчиками и семинаристами в Москве, на семинаре в Ратгерсе трудно представить. Хотя, по свидетельству одного из его студентов, обстановка и там была довольно напряженной:
Семинар, который находился под его полным контролем, был высшей точкой жизни факультета. Его манера обращения часто вызывала раздражение, но его личность и удивительная математическая интуиция были настолько увлекательны, что перед ним было трудно устоять.
Григорий Рыбников (Высшая школа экономики, Москва), вспоминая свою работу с Гельфандом, заметил:
В математических обсуждениях меня поражало виртуозное умение Гельфанда не понимать того, что ему пытаются объяснить. Постепенно собеседник убеждался, что сам недостаточно это понимает, а «непонимание» Гельфанда как раз проясняет предмет обсуждения.
Не всегда Гельфанду удавалось это свое «непонимание» продемонстрировать. Однажды, когда доклад на его семинаре делал Юрий Манин, Гельфанд обратился к нему: «Можно задать глупый вопрос?» На что Манин мгновенно ответил: «Нет, Израиль Моисеевич, я не верю, что вы на такое способны».
«Непонимание», «глупые вопросы» могут быть разрушительны, но могут и вести к уяснению истины. Все зависит от того, чего же мы хотим добиться — истины или поражения собеседника. Ученица Гельфанда Татьяна Хованова (МТИ) вспоминает: «Я была на многих семинарах, где сразу было ясно, что никто не понимает ничего», — и замечает: на семинарах Гельфанда было очевидно, что по крайней мере один человек понимает все — это он сам.
Этому «пониманию одного человека» приносились в жертву и докладчики, и слушатели семинара. Но это «личное понимание» Гельфанда при его страстном желании учить, объяснять, добиваться понимания любой ценой становилось инструментом и развития математики, и просвещения. Этим пониманием Гельфанд пробивал стену, а за ним в образовавшийся пролом могли последовать другие. Его ратгерский ученик пишет:
Как учитель он мог быть добрым, но мог быть и жестким и даже страшным […] Он говорил: «Вы ничего в этом не понимаете, но потом это будет очень важно для вас», — и его предсказание странным образом сбылось.
Опыт Гельфанда не масштабируем. Он создал в Москве и воссоздал в Ратгерсе свою собственную страну — Гельфандию, где был и королем, и солдатом. Он говорил: «Арнольд и Манин работают только со звездами, а я могу быть и учителем физкультуры». У этой страны был центр — сам Гельфанд — и бесконечно ломаная, ветвящаяся граница, которая соприкасалась едва ли не со всей современной математикой.
В день своего 90-летия на конференции в Ратгерсе, посвященной этой дате и названной «Единство математики» (Unity of mathematics), Гельфанд сказал: «…Сочетание красоты, простоты, точности и безумных идей, я думаю, — это то общее, что есть и в математике, и в музыке». И продолжил:
Мне очень полезно напоминать себе, что, когда в двадцатом веке стиль музыки изменился, многие люди говорили, что музыка утратила гармонию, не следует привычным правилам, звучит диссонансом и так далее. Однако Шенберг, Стравинский, Шостакович и Шнитке были так же точны в своей музыке, как Бах, Моцарт и Бетховен.
В своей юбилейной лекции Гельфанд «сыграл» неклассическую тему некоммутативного умножения и разработал ее в квазидетерминантах, чтобы показать, что новая математика — это не потеря гармонии, а новая гармония. А еще рассказал о своей встрече с великим физиком и математиком Полем Дираком, предсказавшим открытие позитрона — существование позитрона следовало из выведенных Дираком уравнений. Гельфанд спросил Дирака, почему же он продолжил заниматься своими уравнениями даже после уничтожающей критики Паули. И Дирак ответил: «Потому что это красиво».
Человек, говоривший на адекватном миру языке: Владимир Арнольд
Владимир Игоревич Арнольд родился в Одессе 12 июня 1937 года. Семья его жила в Москве, а в Одессу мать приехала к родителям, и там на свет неожиданно появился новый одессит. Его отец Игорь Владимирович Арнольд — математик, академик Академии педагогических наук РСФСР. Брат бабушки по материнской линии — академик Леонид Исаакович Мандельштам. В своих воспоминаниях Арнольд пишет: «Среди гостей… бывали то К. И. и Л. К. Чуковские, то И. Е. Тамм или М. А. Леонтович, да и А. Д. Сахаров был учеником моего отца и другом тетки». В этом коротком списке — два нобелевских лауреата и один «просто академик» (Леонтович). В доме была прекрасная библиотека на многих европейских языках. Вот уж в чем Арнольд не испытывал недостатка, так это в книгах.
Володя был вундеркиндом. Он не только читал, но прямо-таки впитывал научные познания из окружающего пространства:
Николай Борисович Житков (сын брата моей бабушки, писателя Бориса Житкова, инженер-буровик) за полчаса объяснил двенадцатилетнему подростку математический анализ (иллюстрируя его параболической формой поверхности чая, вращающегося вокруг оси в стакане).
В доме говорили на французском, английском и немецком, свободно переходя с одного языка на другой. По этому поводу Арнольд вспоминает:
По-французски я научился читать немного раньше, чем по-русски, и, между прочим, когда после мозговой травмы я месяц пролежал в больнице без сознания, то, придя в себя, вначале понимал только французский и только по-французски говорил, позже присоединился английский, и лишь затем русский.
Это было похоже на какой-то восхитительный научный пир, оказавшись в центре которого юный Владимир осознал несколько истин: что мир науки — един, а значит, и физики, и математики, и инженеры должны работать вместе; что «геометрия» важнее «алгебры», потому что геометрические понятия и даже доказательства можно «увидеть», а алгебраические — только вычислить; что наука — даже решение школьной задачи — может приносить радость.
В 1954 году Арнольд поступил на мехмат и, еще будучи студентом, добился выдающегося результата:
Учение у Колмогорова заключалось для меня в том, что он сформулировал к семинару десяток задач — и уехал в Париж. Когда он вернулся, я показал ему свои решения — и он объяснил мне, что я, не зная об этом, решил Тринадцатую проблему Гильберта (доказав противоположное предположению Гильберта утверждение).
В 1963 году в возрасте 26 лет Арнольд защитил докторскую диссертацию. А в 1965 году был удостоен (совместно с Андреем Колмогоровым) Ленинской премии и стал профессором МГУ.
Отсутствие языкового барьера и, конечно, исключительные результаты, полученные Арнольдом, привели к тому, что он довольно много контактировал с иностранными коллегами, которые в начале 1960-х стали приезжать в Советский Союз. Арнольд познакомился и подружился со Стивеном Смейлом (Филдсовская премия, 1966), Джоном Милнором (Филдсовская премия, 1962) и многими другими замечательными математиками.
В 1965 году министерство образования по рекомендации ректора МГУ Ивана Петровского (высокая должность не помешала ему оставаться прекрасным математиком) направило Арнольда на год в Париж. Там он и сам читал лекции, и посещал семинар по сингулярностям, который вел Рене Том (Филдсовская премия, 1958) в Институте высших научных исследований (IHES). Владимир Игоревич писал, что этот семинар во многом обогатил его математические исследования: в частности, именно там он увлекся теорией сингулярностей. Кроме того, в Париже Арнольд имел возможность общаться с лучшими французскими математиками: он познакомился с Анри Картаном (премия Вольфа, 1980 — в тот же год премии был удостоен и Андрей Колмогоров), Жан-Пьером Серром (Филдсовская премия, 1954; премия Вольфа, 2000; Абелевская премия, 2003) и со многими другими.
Но по возвращении в Москву его ждало суровое наказание: «Министерство образования считало эту мою поездку поощрением, которое необходимо отработать. Так в 1966 году я попал на месяц в Гвинею, в 1967 году — также на месяц в Индию». В какой именно из «Гвиней» ему пришлось побывать, Арнольд не уточняет. В любом случае для какого-нибудь другого советского человека такая поездка — и уж тем более командировка в Индию — была бы наградой. Но не для него.
После того как Арнольд подписал «Письмо девяноста девяти», его отношения с властью резко ухудшились. В 1974 году он был номинирован на Филдсовскую премию, однако это решение неожиданно было отозвано: причиной стало заявление члена Филдсовского комитета Льва Понтрягина: «…Если присуждение медали Арнольду состоится, то СССР выйдет из Международного математического союза». Премию Арнольд не получил, но на МКМ 1974 года в Ванкувер приехал и сделал там доклад.
Советский математический антисемитизм стал причиной того, что очень долго Арнольд не мог стать сотрудником Математического института имени Стеклова. И только после смерти Ивана Виноградова (в 1983 году) он был принят в «Стекловку» — в 1986-м.
Сотрудником «Стекловки» Арнольд оставался и после того, как в 1993 году получил должность профессора Университета Париж-Дофин. В интервью журналу «Наука и жизнь» на вопрос: «Вы больше времени проводите в Париже или в Москве?», он ответил: «Есть правило: по-моему, на один день больше я должен быть здесь». — «Вы не чувствуете себя эмигрантом?» — «Вовсе нет! Кроме всего прочего, мои парижские студенты приезжают в Москву, а московские — в Париж».
До своей смерти в 2010 году Арнольд успел провести «немало семестров в университетах и колледжах Парижа и Нью-Йорка, Оксфорда и Кембриджа, Пизы и Болоньи, Бонна и Беркли, Стэнфорда и Бостона, Гонконга и Киото, Мадрида и Торонто, Марселя и Страсбурга, Утрехта и Рио-де-Жанейро, Конакри и Стокгольма».
Что он получил, сделав центром своей деятельности не Москву, а Париж? Ведь ездить по всему миру он мог бы и оставшись в Москве. Возможно, это дало Арнольду возможность почувствовать себя полномочным представителем всей страны Математики — и географически, и, так сказать, «иерархически» — по всем ступенькам математического образования: от начальной школы до научных семинаров и премиальных комитетов. В 1996–1998 годах он был вице-президентом Международного математического союза.
Его заботой стала математика всего мира, и всюду, где только можно, он объяснял политикам необходимость математического образования и недопустимость сокращения его преподавания в школе. Арнольд говорил о проблемах математического образования и на семинаре при Президентском совете РФ в 1997 году (там он прочитал лекцию «Жесткие и мягкие модели», которая стала потом широко известной книгой), и на встрече с папой римским Иоанном Павлом II, и в Национальном комитете Франции по науке, и в Государственной Думе РФ на заседании Комитета по образованию.
Российская математика до конца оставалась для него приоритетом, но она была только одной из провинций огромной страны Математики.
Арнольд не любил слово «глобализация» и часто переводил его как «американизация». Но сам он был человеком глобального мира. И конечно, не только потому что призывал к спасению науки и считал обязательным для человека навыком умение складывать дроби.
В своей киотской речи Израиль Гельфанд говорил, что глобализация — неизбежный мировой процесс и некогда далекие — и географически, и ментально — области стремительно сближаются, а значит, чтобы мы не погрузились в штормовой океан непрерывных конфликтов, совершенно необходим адекватный язык описания действительности, который могли бы понять все люди. По мнению Гельфанда, наиболее близка к такому языку математика.
Арнольд был математиком — а значит, человеком, говорившим на адекватном миру языке.
Математика как метафора: Юрий Манин
Юрий Иванович Манин родился в Симферополе в 1937 году. Его родители были студентами Крымского педагогического института. Отец учился на географическом факультете, мать — на филологическом. С началом войны семья оказалась в эвакуации в Средней Азии, в Чарджоу. В 1942-м отец ушел на фронт и через год погиб.
В последний день, который они провели вместе, он предложил Юре пойти на рыбалку. Отец сделал удочки из прутьев, лески из ниток и крючки из булавок. Юра не поверил, что в глинистом арыке может быть рыба. Позже Манин вспоминал:
В меня начало заползать страшное подозрение: рыба проглотит эти булавки, ей будет очень больно, а мы ее вытащим, ей будет нечем дышать, и она умрет […] Отец забросил удочки. Ничего не происходило, нитки шевелились в мутной воде. Наконец отец со вздохом сказал, что пора домой, вытащил «лески» и посмотрел на хлебные шарики. Они были слегка обкусаны! Значит, рыба в арыке жила, а мы никого не убили! Счастье, которое я испытал, сделав два этих открытия, и осталось главным уроком моего отца, и я не забыл его до нынешнего дня. Сочиняя свой личностный миф, я решил, что это был мой первый онтологический опыт, «доказательство существования» по косвенным признакам.
Юра был вундеркиндом. Двенадцати лет он читал учебник математического анализа Лузина, а в пятнадцать выполнил свою первую математическую работу, которую отправил на всесоюзный конкурс старшекурсников математических вузов. Статья получила вторую премию. Ее заметил Александр Гельфонд (ему принадлежит полное решение Седьмой проблемы Гильберта).
В 1953 году Манин поступил на мехмат. Он стал учеником Игоря Шафаревича (в 1958 году в возрасте 35 лет Шафаревич был избран членом-корреспондентом Академии наук). Свою первую научную статью Юрий Манин опубликовал в 1956 году, еще студентом.
В 1963 году в возрасте 26 лет он защитил докторскую диссертацию. В 1967 году был удостоен Ленинской премии и стал профессором мехмата МГУ.
В том же 1967 году Манин получил возможность поехать в Париж и принять участие в семинаре, который в Институте высших научных исследований вел Александр Гротендик. В то время Гротендик был признанным лидером новой школы алгебраической геометрии, а его семинар — мировым центром этой науки. В своих воспоминаниях Гротендик писал, что за время работы семинара — с 1959 по 1970 год — в нем было подготовлено больше 1000 работ. В семинаре принимали участие все ведущие французские математики и многие ученые из других стран. На Манина Гротендик произвел сильное впечатление. Особенно его поразила щедрость Гротендика: он писал сотни страниц комментариев для каждого своего ученика, обдумывая и развивая темы их работ. При прощании Гротендик подарил Манину на память роман Раймона Кено и подписал: «Hommage affectueux. R. Queneau» — «Приношение с любовью. Р. Кено».
Свое «приношение» Гротендик сделал как бы от имени Кено, который не только был романистом и поэтом-сюрреалистом, но и состоял членом Французского математического общества, а в конце жизни выпустил книгу Les fondements de la littérature d'après David Hilbert («Основы литературы после Давида Гильберта», 1976), где попытался вывести литературное творчество из «аксиом текста» и отталкивался от классической книги Давида Гильберта «Основы геометрии». О том, что такая книга у Кено появится, Гротендик в 1967 году знать не мог, но получилось удивительно точно: он выступил посредником между поэзией и геометрией. И подарил эту книгу именно Манину.
Манин участвовал в семинаре Гротендика в эпоху самого его расцвета, которая уже подходила к концу. В 1968 году Париж взбудоражила студенческая революция. Гротендик резко критиковал профессоров Сорбонны, которые, на его взгляд, недостаточно активно поддержали студентов. Еще через год он прекратил занятия математикой, а в 1970-м покинул Институт высших научных исследований и уехал из Парижа.
В своих мемуарах Гротендик писал:
По правде сказать, я не так уж много и подробно раздумывал над гипотезами [Андре] Вейля. Иная, широкая панорама уже начинала разворачиваться передо мной. Я старался уловить взглядом все, что мог, и изучить тщательно, ничего не упустив. То, что я видел перед собой, выходило далеко за пределы […] нужд доказательства […] С появлением теорий схемы и топоса мне вдруг открылся новый, неожиданный мир. «Гипотезы», бесспорно, занимали в нем центральное положение: как столица обширной империи, где не счесть провинций. Но, как правило, между этим почтенным, великолепным городом и отдаленными областями огромной страны нет настоящей связи: дальние дороги, ненадежная почта […] Мне предстояло исследовать огромный, неведомый мир: изучить его географию, вплоть до самых удаленных границ […] И все свои находки нанести на карту.
Гротендик формулирует (точнее даже — рисует) свой способ математического мышления: оттолкнувшись от проблемы (гипотезы Вейля) и разработав в процессе решения новые инструменты, он открывает страну — она огромна и дана вся сразу. Ее очертания неясны, но уже понятно, куда идти и как действовать, чтобы открытие стало возможным. Это совсем иной — не «экспериментальный» подход Арнольда, а скорее «художественный»: художник ведь тоже сначала угадывает целое (Бахтин говорил об «интуиции целого») и только потом начинает постепенно открывать его, сначала для себя, а потом и для других. И опору он ищет не во внешнем мире, а в самом языке, в тех внутренних связях, которые постепенно реализует.
После подписания «Письма девяноста девяти» Манин до середины 1980-х стал почти невыездным. Но работа с западными коллегами продолжалась. Письма сквозь «железный занавес» проходили. В 1978 году Манин написал письмо Майклу Атья (Абелевская премия, 2004), в котором рассказал о работе, выполненной им совместно с Владимиром Дринфельдом (Филдсовская премия, 1990). Работа была посвящена классификации решений нелинейных дифференциальных уравнений, так называемых «инстантонов». Оказалось, что очень близкий результат был только что получен Майклом Атья и Найджелом Хитчином. В результате совместной работы всех четырех соавторов появилась статья, описывающая знаменитую «ADHM-конструкцию», названную по первым буквам фамилий первооткрывателей. Работа четырех математиков, разделенных границей и имеющих только редкие письменные контакты, шла параллельно. Но кажется, что в каком-то «интеллигибельном пространстве», как называл древнегреческий философ Прокл то место, где и существует математическая реальность, они шли рядом.
Поездки были редкостью, но все-таки были: Манин принимал участие в МКМ в Ницце (1970) и в Хельсинки (1978).
Семинар Манина, который он много лет вел на мехмате, отличался от семинаров Арнольда и Гельфанда. Манин сосредоточивался на одной теме иногда по несколько лет, но когда его интересы менялись, а менялись они радикально (он называл это «математическим донжуанством»), то и основная тема семинаров тоже менялась. Манин охватывал широкий спектр математических направлений — от теории чисел до алгебраической геометрии или математической физики, но, в отличие от Гельфанда, вовсе не собирался охватить всю математику. И смена его интересов происходила последовательно, он не занимался сразу всем, как Гельфанд. Кроме того, Манин не старался сделать тему доступной любому, кто заглянул на огонек: от участников семинара требовались серьезные познания и высокий уровень технических навыков, которыми за час овладеть невозможно. Это делало его семинар гораздо менее демократичным, чем у Гельфанда. Так что хотя случайного гостя и не выгоняли, но делать ему там было особо нечего. А от семинара Арнольда манинский семинар отличался сосредоточенностью на теме, а не на задаче.
Был у Манина и еще один семинар — домашний, и как раз о математике там говорить не рекомендовалось. Здесь были другие темы — лингвистика, филология, психология, поэзия. Все эти темы были насущно важны хозяину дома. Манин был близко знаком с братьями Стругацкими и с Владимиром Высоцким. Его друг юности — Владимир Захаров (академик РАН) — не только физик, но и поэт. Манин и Захаров студентами входили в литобъединение МГУ «Высотник». Манин свои стихи и переводы очень долго не печатал. Они появились только в его книге «Математика как метафора» (2008) — в ее русском издании. В английское стихи не вошли, что вполне объяснимо, но вызвало сожаление у западных читателей.
Первой большой опубликованной работой Манина, не имеющей прямого отношения к математике, стало эссе «Тынянов и Грибоедов. Заметки о „Смерти Вазир-мухтара“». Статья была опубликована в Париже в журнале Revue des études slaves (1983, 55, 3) на русском языке. В ней Манин пишет о карте и границе.
Внутренняя карта человека (и государства) — самое потаенное, что у него есть; человек (и государство) до конца не знает ее границ и рельефа.
На внутренней карте русского государственного сознания Сибирь была несколько мифологической страной, вроде берегов Стикса.
Чтобы прочертить границу и завершить карту, нужно сначала через границу переступить. Грибоедов переступил и погиб.
Итак, на карте установлены новые границы. Поэтов они продолжают влечь неудержимо. Вслед за Вяземским будет сказано: «Читая шинельную оду о свойствах великой страны…» и повторено: «Империя — страна для дураков».
Первая цитата — из Александра Кушнера, вторая — из Иосифа Бродского. Стихи Бродского в Советском Союзе ходили тогда только в самиздате. Тоже своего рода трансграничный переход.
В 1980-е Манин опубликовал статьи о происхождении языка и о фигуре «трикстера», а в 1992-м вышла его работа об «архетипе пустого города», которую можно было бы назвать дополнением к Карлу Юнгу.
В конце 1980-х границы (государственные) открылись, и Манин начал регулярно принимать участие в международных конференциях, читать лекции в самых известных университетах мира и получать заслуженные премии. В 1987 году Голландское математическое общество наградило его золотой медалью Брауэра.
В 1991 году Манин получил приглашение от МТИ и год провел в Бостоне. А в 1992-м принял предложение Математического института Общества имени Макса Планка в Бонне и стал его содиректором, сменив на этом посту Фридриха Хирцебруха (премия Вольфа, 1988).
В Бонне Манин начал две исследовательские программы по арифметической алгебраической геометрии и отдал много сил разработке «квантовых когомологий», где идеи квантовой теории поля неожиданно оказались очень полезны для алгебраической геометрии. Результатом этой работы стали статьи, написанные совместно с Максимом Концевичем (Филдсовская премия, 1998).
Начиная с 2002-го каждый год Манин проводит два семестра в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, где работает с аспирантами и молодыми учеными.
В 1990-е он трудился не только над собственно математическими статьями, но написал целый ряд эссе, которые вошли в его уже упоминавшуюся книгу «Математика как метафора». В них Манин рассуждает о математике как о целом и пытается увидеть ее будущее. Несмотря на то, что, по словам Манина, он «довольно замкнутый человек и ненавидит навязывать свои взгляды общественности», в этих эссе он обращается именно к общественности, но не «широкой», а напротив — довольно узкой, научной. Дело не в том, что их трудно понять неспециалисту — вовсе нет, Манин говорит доступно для любого заинтересованного человека, с математикой не связанного (за исключением, может быть, некоторых деталей, которые, как говорят в математических учебниках, «при первом чтении можно опустить»), но далеко не всякому «неспециалисту» понятно, почему то, что Манин говорит, действительно важно. Зато для более подготовленного читателя (даже для математически мотивированного школьника старших классов) эти эссе становятся своего рода спутниками долгих размышлений и приводят к пониманию математики как «призвания и профессии», как части культуры, как особого языка, на котором только и может говорить наука.
Свои идеи Манин в сжатой форме сформулировал в интервью, которое он дал изданию The Berlin Intelligencer во время Берлинского МКМ в 1998 году. Приближался не только конец века и тысячелетия, но и столетие Парижского конгресса 1900 года, на котором Давид Гильберт сформулировал список своих знаменитых проблем. Многие издания (и не только математические) задавались вопросом: как этот список повлиял на развитие математики ХХ века?
Манин ответил: никак. «Настоящая проблема воплощает в себе видение великого математического ума, который еще не распознал пути, ведущие вверх, но уже видел, что перед ним поднимается гора». Решение проблемы может иметь «спортивный» смысл, но это не главное в математике.
Я вижу процесс математического творчества как своего рода распознавание пресуществующего образца (preexisting pattern). Когда вы изучаете что-то — топологию, теорию вероятностей, теорию чисел, что угодно, — сначала перед вами открывается обширная территория, потом вы сосредоточиваетесь на ее части и пытаетесь распознать «что там?» и «что уже видели другие люди?» […] И, наконец, начинаете различать то, что никто до вас не видел.
Это очень похоже на взгляд Гротендика. И здесь важно, что «пресуществующий образец» именно распознается, его не изобретают, а открывают. Это — математический платонизм.
По мнению Манина, математику двигают не проблемы (задачи), а программы, иногда осознанные, как, например, программа «развития математической логики и оснований математики в начале XX века». А иногда совершенно неожиданные, которые никто явно не формулировал:
Эта программа может рассматриваться как квантование математики. Когда вы посмотрите на то, сколько математических понятий изменилось за последние 20 лет таким образом, что новые понятия являются квантовыми версиями старых, — это потрясающе: посмотрите на квантовые группы, квантовые когомологии, квантовые вычисления — и я думаю, что еще многое ждет нас впереди.
Манин нечасто приезжает в Москву, но в 2013 году на конференцию, посвященную 100-летию Израиля Гельфанда, приехал.
О математической моде
Можно задаться таким вопросом: что лучше не для отдельного математика, а для всей математики — замкнутое сообщество, вроде советской «параллельной инфраструктуры», или свободное «академическое кочевье»? Гельфанд говорил: «Самый консервативный народ — молодые математики, их только мода интересует». Арнольд, в свою очередь, заметил:
Значение российской математической школы для мировой математики всегда определялось оригинальностью российских исследований и их независимостью от западной моды. Чувство, что занимаешься областью, которая станет модной лет через 20, чрезвычайно стимулирует.
И Гельфанд, и Арнольд рассматривали «математическую моду» как фактор, скорее мешающий развитию науки. В пользу этой точки зрения говорит такой пример: в последние 20 лет две знаменитые проблемы (доказательство Великой теоремы Ферма и гипотезы Пуанкаре) были решены не в процессе работы крупных математических коллективов, а в результате размышлений одинокого математика — в первом случае Эндрю Уайлса, во втором — Григория Перельмана. Оба они «удалились от мира в монашескую келью», чтобы как следует подумать. Причем и гипотеза Пуанкаре, и Великая теорема Ферма вовсе не были «модными» темами — для этого они слишком давно поставлены и слишком много было неудач при попытках их решения. А результат в обоих случаях оказался очень сильный, повлиявший на многие области математики.
Если мы посмотрим на математику как на живую, растущую экосистему, то можно сказать, что ее процветание зависит от двух параметров.
Первый — это «рост биомассы»: рост количества статей, прочитанных лекций, утвержденных премий, полученных грантов… Этот рост определяется во многом внешними факторами: размерами государственного и частного финансирования, притоком молодых талантов и ростом приложений. И всему этому «мода» внутри математики и на саму математику среди других интеллектуальных проектов очевидно способствует.
Но есть и другой не менее важный параметр, определяющий устойчивость развития, — это «видовое разнообразие». Если слишком большие силы брошены на одно направление, самой крупной «неудачей» может стать как раз решительное продвижение в «модном» направлении, потому что победа оставит за собой чистое поле. Надо менять приоритеты, а альтернатив слишком мало.
Манин пишет: «…В предыдущую эру биологической эволюции зарождающееся сознательное мышление служило тормозом инстинктивных действий и замещало их планируемым поведением». Чтобы выйти на новый уровень, надо уметь тормозить. Иногда нужно просто останавливаться и замыкаться. Поле не должно быть насквозь продуваемым последним модным поветрием. Чтобы «видовое разнообразие» не вырождалось, математики должны заботиться не только о взаимопонимании, но и о взаимонепонимании, как бы странно это ни звучало. Это взаимонепонимание — не только конкуренция за университетские позиции, это конкуренция за ту «моду», которая придет через 20 лет.
Советский «математический рай» сегодня вряд ли возможен, но герои этого очерка привнесли в математический мир свои формы не только продвижения идей и расширения карты действия, но и формы торможения и установления границ. Это — московская и ратгерская Гельфандия, это арнольдовские задачи и это манинское «умное зрение», способное различать миры, которые больше не видит никто.
Математика
Непрерывное восхождение: Федор Богомолов (Ольга Орлова)
«Представьте, что вам надо залезть на лошадь. Вы должны затянуть крепко седло. Но лошадь не хочет, чтобы ее сильно затягивали, и она надувается. Вы ее оседлали, поехали, а лошадь сдулась. И вы вместе с седлом съехали на бок, но вынуждены галопировать. Вот так выглядит вся моя жизнь в Америке — скачки на боку на сдувшейся лошади».
Так говорит профессор Федор Алексеевич Богомолов после 23 лет жизни и работы в США. И продолжает:
А если серьезно, то я, конечно, всегда предпочитал и предпочитаю ученых советской математической школы, прежде всего потому, что американцы считают, что выбирать нужно долго, поэтому они приходят в математику уже поздновато, пройдя другие специальности и попробовав другие траектории. А советские ученые моего поколения не заботились о том, какая у них будет зарплата и пенсия, хотели заниматься наукой во многом из романтических соображений и потому начинали постигать математику довольно рано, в 12–13 лет, и в университеты и в аспирантуру, как правило, приходили уже широко мыслящими специалистами.
Разница в подходах к математическому образованию отчасти объясняет не только, чем «те» математики отличаются от «этих», но и специфику, результативность самого Богомолова в науке. То, что вызывает уважение коллег, — необычайная широта математического мышления, умение войти в далекую область, увидеть проблему с неожиданного ракурса, применить нестандартный подход.
Конечно, далеко не все, кто прошел путь советского математика (кружки, олимпиады, малый мехмат, математическая школа, взрослый мехмат/матмех) и становился обладателем солидного математического аппарата и инструментария, смогли воспользоваться этим в науке. Но уж те, кто обладал талантом и выбирал путь ученого, получали такой набор знаний, умений и подходов, который позволял двигаться в любом интересующем направлении.
Я пришел в науку, когда делать карьеру было уже трудно, но еще возможно. Не так много студентов после окончания вуза продолжали научную деятельность. А как это происходит в Америке, я до конца не понимаю до сих пор.
Так говорит Богомолов, сидя в своем рабочем кабинете на шестом этаже математического Института имени Куранта Нью-Йоркского университета. Тем не менее его научная судьба складывалась в России исключительно успешно. И так же сложилась в США.
«Математика — это непрерывное восхождение. Занимаясь ею, ты должен уметь непрерывно усваивать, „переваривать“ понятия все нового и нового уровня», — считает Богомолов.
Свое собственное восхождение он начал очень рано, так как научная среда окружала его с детства. Федор был сыном известного радиофизика, академика Алексея Богомолова, который входил в так называемый Совет главных конструкторов, неофициальное объединение под эгидой ОКБ-1, которым руководил академик Сергей Королев. Это были главные конструкторы ракетно-космического комплекса. Первые спутники, первая система спутникового телевидения «Орбита» — все это происходило при участии Алексея Богомолова. И сама обстановка в семье предопределила широкое образование сына, которое включало не только физику и математику, но и английский с ранних лет. Впоследствии знание языка помогло Федору войти в международную среду чуть легче и быстрее, чем это происходило у его коллег.
В средней школе у Федора Богомолова появился одноклассник Семен Вишик, сын известного математика Марка Вишика. У Семена было твердое представление, что математика — это самое важное в жизни, именно то, чем нужно заниматься. И вместе с ним Федор пошел на математический кружок мехмата МГУ, а потом поступил в знаменитую математическую школу № 444 в Измайлово. Ее научному руководителю Семену Исааковичу Шварцбурду принадлежала идея создания в СССР специализированных физико-математических школ, за что позже он стал первым лауреатом премии имени Ушинского. С 1959 года эта школа стала первой в СССР готовить выпускников по специальности «вычислитель-программист», для чего требовался серьезный уровень математической подготовки. Поэтому и возникла идея школы со специальной программой. Старшеклассник из 444-й, Богомолов не только начал побеждать на школьных олимпиадах, но и одновременно участвовал в семинаре профессора Евгения Дынкина в МГУ, а также посещал кружок знаменитого педагога Николая Константинова. А потом вместе с Дынкиным, учась в последнем классе, вел семинар для учеников знаменитой Второй школы — физико-математической школы № 2.
Евгений Дынкин оказался не просто крупным ученым, но и тонким педагогом. Именно он стал для Богомолова проводником в мир настоящей математики. Многие из ярких ровесников, с которыми Богомолов познакомился в школьные годы, — Дмитрий Каждан, Виктор Кац, Аскольд Хованский, Иосиф Бернштейн — позже разлетелись по университетам всего мира, но по-прежнему входят в круг общения Федора Богомолова.
Семинар Дынкина, как и многие другие семинары мехмата того времени, был неформальным объединением свободно мыслящих людей.
Богомолов замечает:
Большинство западных математиков говорят аккуратно и стараются не ошибиться, и это делает беседу не столь интересной. Когда хочешь что-то понять, когда идет обмен мнениями, иногда лучше сказать интересно, чем точно. Да, не совсем правильно, зато ярко. И мы тогда не боялись ошибиться.
Научная жизнь бурлила, зайти на мехмат тех времен, до антиеврейской и антидиссидентской чистки, было легко. Советские «секьюрити» сквозь пальцы смотрели на проскакивающих без всяких пропусков молодых людей, которые стремились на семинары к математическим звездам. Такую обстановку Богомолов до сих пор считает идеальной для математического творчества.
Это напоминало древнегреческую традицию школ: наставники с готовностью делились идеями с учениками, и мы, ученики, очень многому могли научиться в бесконечных разговорах с умными людьми.
Так, под влиянием блестящего Сергея Новикова, лауреата Ленинской премии, третьекурсник Богомолов стал заниматься модной дифференциальной топологией и позже — космологией. После дипломной работы по топологии по рекомендации Новикова Богомолов поступил в аспирантуру в Математический институт имени Стеклова. С одной стороны, потому, что в академическую аспирантуру было намного легче сдать общественные дисциплины, чем в университетскую. А общественные дисциплины в советском варианте представляли некоторую проблему для многих мыслящих людей того времени, так как не каждому было по силам убедительно произнести на экзамене положенные мантры марксистско-ленинской идеологии и назвать по памяти важные партийные даты.
С другой стороны, к 1970 году обстановка на мехмате ощутимо изменилась. Победа Израиля в Шестидневной арабо-израильской войне 1967 года возродила антиеврейскую кампанию в СССР. Последовали многочисленные ограничения для советских евреев на работу, учебу, выезд за границу, и они начали бороться за право эмигрировать в Израиль. Затем советские власти испугались событий в Чехословакии 1968 года, и началось «закручивание гаек». Интеллигенция в целом оказалась под пристальным вниманием КГБ. А дело известного диссидента Александра Есенина-Вольпина особенно сильно изменило именно математический «ландшафт».
Сын Есенина был не только поэтом, но и известным математиком. В сталинские времена он провел в ссылке три года как социально опасный элемент, а во время оттепели стал основателем правозащитного движения, так называемым «законником», призывающим советские власти соблюдать советскую же Конституцию. Во многом именно с истории Есенина-Вольпина началась традиция советской карательной психиатрии. В 1968 году он был принудительно помещен в спецбольницу, что вызвало глубокое возмущение коллег-математиков, которые подписали обращение в адрес министра здравоохранения СССР, генерального прокурора СССР и главного психиатра города Москвы с призывом освободить Есенина-Вольпина. Знаменитое «Письмо девяноста девяти». О нем тут же стало известно на Западе, его обсуждали «вражеские голоса» — «Голос Америки», «Радио „Свобода“», Би-би-си. Кроме того, в письме была сделана приписка: «Ответ просим присылать по адресу: Москва-234, Ленинские горы, Московский государственный университет имени Ломоносова, механико-математический факультет, на имя любого из числа подписавших это письмо».
По мнению некоторых свидетелей тех событий, эта приписка подставила под удар властей мехмат МГУ, выведя из-под него академические институты. Во всяком случае, созвездие свободных гениев на мехмате было разгромлено, а академические институты, в частности «Стекловка» и Институт проблем передачи информации (ИППИ), остались нетронуты. Кому-то из «подписантов» удалось уехать в Израиль, а кто-то, напротив, стал безнадежно невыездным.
В «Стекловке» Богомолов попал в аспирантуру как раз к тем самым «подписантам», в отдел выдающегося математика, основателя алгебраической геометрии в России Игоря Шафаревича. С 1960-го по 1995-й он заведовал отделом и собрал в нем алгебраистов мирового уровня и разного стиля мышления — Андрея Тюрина, Алексея Паршина, Юрия Манина, Алексея Кострикина, Сергея Демушкина.
Мы вместе ходили в походы, проводили выездные семинары на дачах, привозили туда и иностранцев, — вспоминает Богомолов, — обсуждалось все, у нас в отделе была абсолютная свобода мнений, формальностей практически никаких, отчеты были минимальные. Ценилась хорошая идея, а мелочи были неважны. Лучшую обстановку для работы и представить было трудно.
Богомолов осознавал, что в таком диссидентском окружении о формальной карьере советского математика и речи быть не может. Но зато оставалась свобода заниматься наукой. Люди, регулярно приходившие на семинар Шафаревича, работали в разных, зачастую странных для математика местах, вроде ИНФОРМЭЛЕКТРО или ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ. Они были профессионалами высочайшего уровня, но традиционная академическая научная карьера для них была закрыта. Уходя от официальных способов организации научной деятельности, эта группа математиков перешла к частным семинарам и мини-конференциям на подмосковных дачах, в Литве, Ярославле, Львове.
Первые же три года в таком окружении оказались для Богомолова очень продуктивными: он получил результат, который формально стал его кандидатской диссертацией, а в истории науки получил известность как «теорема Богомолова о разложении». В ней речь шла о разложении многообразий определенного класса, которые потом стали применяться как в алгебраической геометрии, так и в математической физике для теории струн.
После успешной защиты Богомолова Игорь Шафаревич и Сергей Новиков обратились к директору «Стекловки» академику Ивану Виноградову с просьбой оставить талантливого аспиранта научным сотрудником в отделе. Иван Виноградов, известный своим непримиримым специфическим антисемитизмом, отличавшимся от государственного идеологического антисемитизма тем, что Виноградов не любил советскую власть и считал революцию делом рук еврейских большевиков, строго следил за кадровым составом института и отбирал на работу каждого сотрудника лично. Богомолова он взять согласился, и так Федор оказался самым младшим — в прямом смысле — научным сотрудником отдела алгебры.
Именно в этот период сложился специфический характер математического мышления Богомолова — интуитивное вторжение. Не зря Андрей Тюрин, математик с более строгим аналитическим подходом к изложению материала, в процессе обсуждения на семинаре часто обращался к Богомолову: «Ну ты скажи просто, как тебе кажется? Детали не важны, просто скажи, как ты видишь?»
Владимир Данилов и Андрей Тюрин тогда оказали на меня очень большое влияние, от них я очень много почерпнул в алгебраической геометрии. А также благодаря Андрею я познакомился с Майлсом Ридом, который распространил мои результаты на Западе.
Действительно, британский профессор из Уорикского университета Майлс Рид сыграл большую роль в том, что о молодом московском математике узнали ведущие ученые Англии и Америки. Рид дружил с Андреем Тюриным, приезжал в Москву, подолгу жил у него, даже выучил русский язык и стал активным участником алгебраического семинара в «Стекловке». Послушав в 1975–1976 годах доклады недавно защитившегося Богомолова, Рид рассказал о его работах коллегам на Западе, после чего Федора Алексеевича в первый раз пригласили в зарубежную командировку в Италию с докладом. Там его встречали как сформировавшегося известного ученого. А уже в 1978 году Богомолов — приглашенный докладчик на математическом конгрессе в Хельсинки.
Математические традиции в этом смысле очень специфичны и несколько отличаются от научной культуры в других областях. Самое главное событие в мире математики — Международный конгресс математиков — происходит раз в четыре года. Статус его намного выше, чем у любой главной конференции по физике или биологии, к примеру. Ученый, получивший приглашение выступить с докладом на таком конгрессе, получает признание коллег, и это событие становится важным этапом его научной карьеры.
Сам Богомолов ключевым моментом в своем профессиональном становлении считает участие в доказательстве теоремы Белого.
События этого 1978 года я помню с точностью до дней. Это было как удар молнии. Гена Белый рассказал тогда одну вещь. И я догадался, что из нее есть серьезное следствие, и начал заниматься вопросами теории чисел. Меня поразили парадоксальные результаты на стыке комплексной геометрии и теории чисел, оказалось, что там есть исключительно глубокая и неожиданная связь. Некоторые задачи теории чисел можно решать, исходя из геометрической интуиции.
Тогда же, видимо, Богомолов осознал себя именно геометром:
Я по духу геометр, а не алгебраист. Первый понимает все в мягких терминах, а алгебраист — в формулах. Люди думают по-разному, я в формулах не думаю. Это вопрос внутренних аксиом. Ты хочешь все свести к тому, что ты четко понимаешь. И этот базис разный. Алгебраисты оперируют формулами, а геометры формами. Мне трудно понимать то, для чего у меня нет геометрической картины.
По этой же причине самый яркий пример в истории математики для Богомолова — Анри Пуанкаре, потому что он не боялся создавать новые методы, думал смело и геометрично.
Мне как-то привели метафору, что всех ученых условно можно разделить на «крестьян» и «артистов». Первые вспахивают усердно свой участок и выращивают урожай. А вторые гастролируют от поля к полю, способствуя подъему настроения и сбору урожая в целом. И мне, конечно, всю жизнь просидеть на одном поле было бы не очень интересно, я всегда предпочитал судьбу «артиста».
По советским меркам Богомолов часто ездил за границу, ведь он был одним из немногих выездных в своем отделе. Шафаревичу, Тюрину и Манину выезжать было запрещено. Только в 1989 году изоляция закончилась, и многих «подписантов» впервые выпустили за границу. Большая группа алгебраических геометров встретилась со своими западными и эмигрировавшими из СССР коллегами в Чикаго на конференции в июне 1989 года.
К моменту, когда распался СССР, Богомолов был уже широко известен за рубежом, успел объездить много стран. До распада страны мыслей об отъезде у него не возникало. Но первые три года в новой России оказались для ученых особенно мучительны. Они были подавлены безденежьем и неясным будущим. Разгром Академии наук в ГДР при объединении двух Германий продемонстрировал один из возможных вариантов развития событий для АН СССР.
В 1993 году Богомолов получил предложение от одного из ведущих университетов мира. Нью-Йорк, Манхэттен, прекрасное место и условия для работы, совсем небольшая по сравнению с российской преподавательская нагрузка. И все равно решение принималось с трудом, мучительно. Даже в обстановке полной безнадежности середины 1990-х трудно было поверить в то, что «советский академический рай» потерян навсегда…
1 сентября 1994 года Богомолов стал профессором Института Куранта Нью-Йоркского университета. С тех пор он добирается от дома до работы за пару минут пешком по скверу одного из престижнейших районов Нью-Йорка Гринвич-Виллидж. Здесь он уже больше 20 лет осваивает образ жизни американского гражданина: налоги, бумаги, законы.
На другом языке ты другая личность. Моя личность точно зависит от языка. Я на английском стал жестче, — признается Богомолов. — Научился помнить о своих интересах и реально понимать, в чем заключается мой интерес. Я даже умею побеждать в жестком споре на английском.
Богомолов ведет жизнь классического американского профессора, у которого большую часть времени занимают занятия со студентами, экспертные советы, написание рекомендательных писем, руководство аспирантурой, редакторское руководство в научных журналах, организация математических премий.
Но математическую жизнь он не делит на «до отъезда» и «после» и по-прежнему старается заниматься фундаментальной математикой:
Когда решаешь фундаментальную задачу, все равно есть ощущение, что имеешь дело с реальностью, но другого рода, не физического свойства. Хотя, например, вся теория чисел, вопросы эллиптических кривых используются в приложениях к компьютерным наукам. И это поразительно, потому что долгое время считалось, что теория чисел максимально далека от приложений и не найдет полезного прикладного применения.
Параллельно Богомолов продвигается в разных областях теории чисел, объясняя это особенностями работы своего мышления:
Когда в одной области упираешься в стену, надо пойти параллельным путем, и там можно найти решение другой задачи. Мой мозг работает сам по себе и утром обязательно все исправит. То, что вечером казалось верным, утром оказывается химерой. Мне всегда казалось, что я лучше догадываюсь, чем могу доказать, как именно дело обстоит на самом деле. Я лучше решаю чужие проблемы, когда на меня не давит груз ответственности перед поставленной проблемой. Я всю жизнь любил помогать другим в решениях математических задач. Поэтому люблю слушать ход чужой мысли и реагировать, находить ошибки и альтернативные подходы, хотя, конечно, это лучше проходит в Москве, в Америке люди могут обидеться. В Америке люди крутятся всю жизнь в одной теме, и поэтому считается, что узкому специалисту ошибаться нельзя. А в России можно легко перескакивать с одного на другое и быть широким.
Тем не менее именно в Америке у Богомолова появилось много соавторов и учеников, чего в российский период почти не было. Уже больше 20 лет он плодотворно сотрудничает с целой плеядой математиков со всего света — Юрием Чинкелем, Майклом Макквилланом, Кристианом Бенингом, Бруно де Оливейро, Паоло Кассини, Тони Пантевым, Людмилом Кацарковым и многими другими.
В последние годы к ним присоединились студенты и коллеги из новой лаборатории алгебраической геометрии математического факультета Высшей школы экономики в Москве. Богомолов стал одним из первых «мегагрантников» — руководителей российских научных проектов во главе с зарубежными учеными. Он часто бывает в России. И не только в Москве — стараясь как можно чаще организовывать школы и проводить конференции в разных университетах, чтобы молодые люди далеко от столицы тоже могли начать свое восхождение на вершину большой математики. «Математика слишком велика для одного человека», — замечает Федор Богомолов. И потому не устает ею делиться.
Математика
Математика как предчувствие: Андрей Окуньков (Ольга Орлова)
«Может ли косинус равняться двум?» — за правильный ответ на этот вопрос Андрей Юрьевич Окуньков, будущий филдсовский лауреат, профессор Колумбийского университета, член Национальной академии США, а тогда призывник после второго курса экономического факультета МГУ, был определен в артиллерийскую разведку военной части в Чебаркуле.
В середине 1980-х было несколько лет, когда студентов забирали в армию даже с дневных отделений. Сослуживцы недобро относились к москвичам, призванным из вузов. Это был тяжелый период в жизни благополучного московского молодого человека, но кто знает, как сложилась бы судьба Андрея Окунькова, не пройди он тогда через дедовщину, госпиталь и прочие «тяготы и лишения», упомянутые в первой главе «Дисциплинарного устава Вооруженных сил СССР». Захотел бы он покинуть экономический факультет или, быть может, окончил бы его с отличием, стал бы финансистом, поднялся бы в 1990-е и сейчас сидел бы в правлении солидного банка, а в родную Московскую экономическую школу, где занимался в юности, приходил бы с лекциями на тему «Как достичь успеха»? Возможно, так бы все и было. Ведь в детстве Андрея Окунькова ничто не предвещало того, что его имя войдет в историю мировой математики. В математических олимпиадах он не участвовал, зато побеждал на олимпиадах по немецкому языку и экономике, а однажды даже стал призером олимпиады по музыке за сочинение «Музыка в жизни Ленина». Только вот в армии он оказался в полку единственным, кто разобрался, как пользоваться старым стереоскопическим дальномером.
«До армии я интересовался людьми и обществом в целом, поэтому пошел изучать экономику, — вспоминает Окуньков, — а после армии решил, что лучше не буду изучать общество, а займусь чем-то более отвлеченным, далеким и прекрасным…»
Поскольку до армии Окуньков учился на кафедре экономической кибернетики, где была сильная математическая группа и работали известные математики, его подготовки хватило на то, чтобы после службы перевестись на механико-математический факультет, досдать «хвосты» и уйти в другой мир.
Этому необычному для математика такого уровня началу не перестают удивляться его наставники и коллеги. Анатолий Вершик, выдающийся петербургский математик, чьи идеи сильно повлияли на тематику работ Окунькова, отмечает:
Математическая биография Окунькова не совсем обычна для лидера, он шел к лидерству постепенно, он единственный лауреат Филдсовской премии, служивший в армии и учившийся сначала на экономическом, а не математическом факультете.
Академик РАН Александр Кулешов, который, будучи директором ИППИ, познакомился с Окуньковым, когда тот уже работал в США, удивляется:
Судьба Окунькова была нарушением моей личной аксиомы: я думал, что если человек родился Ньютоном, то он им станет всегда и везде. Андрей это почти опроверг, у него все в жизни было иначе.
А сам Окуньков вспоминает:
Самым большим откровением на мехмате стало то, что я встретил людей, которые мыслили как настоящие математики — глубоко и просто. Помню, как на втором курсе меня поразил Владимир Игоревич Арнольд — тем, как наглядно он мыслил. Я даже притаскивал своих друзей с экономического факультета на его лекции, чтобы они просто его увидели и услышали.
Таким же откровением стали семинары, и особенно семинар Александра Кириллова «для маленьких», а также семинар, который вел Алексей Рудаков. В поисках того, чем заниматься, Окуньков словно примерял к себе то, что слышал вокруг; так, например, остро срезонировала сама идея матричной группы, о которой он узнал еще на первом курсе экономического из учебника Стрэнга по линейной алгебре.
Старт в науке у Андрея Окунькова пришелся на 1993 год — в стране политический и экономический кризис, в семье маленький ребенок, родители резко обеднели, жена-аспирантка занялась поставками китайской обуви, чтобы прокормить семью. О том, чтобы идти в очную аспирантуру, не могло быть и речи. Но зато Окуньков попал в неформальные ученики к Григорию Ольшанскому, и это было необыкновенное везение. По его совету и при его содействии Андрей Окуньков стал младшим научным сотрудником ИППИ.
ИППИ занимал на математической карте Москвы особое место. Поскольку официальный главный математический институт страны — МИАН имени Стеклова, «Стекловку», — сформировал его первый директор Иван Виноградов, известный в математике своим антисемитизмом, сотрудники туда отбирались по определенному принципу. И этот кадровый принцип не шел на пользу науке. В ИППИ подобного фильтра никогда не было. Ни его основатель Александр Александрович Харкевич, ни последующие директора не боялись брать в институт сотрудников любых национальностей и убеждений, благодаря чему в ИППИ сформировался ярчайший математический коллектив с замечательными традициями и школой.
Несмотря на название, институт собрал под своей крышей очень широкий спектр математиков разных стилей и направлений. Так, лаборатория № 4, которая теперь носит имя Роланда Львовича Добрушина и куда попал Окуньков, объединяла специалистов как по теории вероятности и статистической физике, так и по алгебре и теории чисел. Семинар Добрушина с постоянным участием Минлоса, Синая, Шлосмана и многих других был главным вероятностным семинаром столицы. Подробнее об истории института можно узнать из воспоминаний одного из его основателей Иосифа Абрамовича Овсеевича:
…В институт пришли талантливые ученики Андрея Николаевича Колмогорова, который одним из первых оценил значимость работ основоположника теории информации Клода Шеннона. Он стал читать соответствующий спецкурс на мехмате МГУ, вошел в редколлегию журнала «Проблемы передачи информации» и в его первом номере опубликовал статью «Три подхода к определению понятия „количество информации“», а затем, в 1969 году, статью «К логическим основам теории информации и теории вероятностей». Эти работы привели к созданию нового раздела математической науки — алгоритмической теории информации. Среди пришедших в институт учеников Колмогорова назову Роланда Львовича Добрушина, Марка Семеновича Пинскера, Рафаила Залмановича Хасьминского, Леонида Александровича Бассалыго, а затем их учеников — Михаила Борисовича Невельсона, Вячеслава Валериевича Прелова, Юрия Михайловича Сухова, Семена Бенционовича Шлосмана, получивших мировую известность, а также рано ушедших из жизни Леню Либкинда и Мишу Кармазина. И. М. Гельфанд, который одним из первых в России опубликовал в 1956 году в «Трудах 3-го математического съезда», вместе с А. Н. Колмогоровым и Акивой Моисеевичем Ягломом, а в 1957 году в «Успехах математических наук», совместно с А. М. Ягломом, статьи по теории информации, рекомендовал для работы в институте замечательных математиков, будущих филдсовских лауреатов, Григория Александровича Маргулиса и Максима Львовича Концевича и постоянно поддерживал тесные контакты с институтом на неформальном уровне. Отмечу весьма почетное избрание Максима Концевича действительным членом Французской академии наук и затем награждение его орденом Почетного легиона за научные заслуги перед Францией.
Впоследствии эта группа математиков пополнилась прекрасными специалистами: Робертом Адольфовичем Минлосом, Сергеем Израилевичем Гельфандом, Михаилом Анатольевичем Цфасманом, Сергеем Георгиевичем Влэдуцем, Григорием Иосифовичем Ольшанским, Александром Николаевичем Рыбко, Фридрихом Израилевичем Карпелевичем, внесшими существенный вклад в развитие теории передачи информации; также следует назвать Сергея Васильевича Фомина, Александра Александровича Кириллова, Андрея Юрьевича Окунькова.
Про свою жизнь сейчас Андрей Окуньков говорит:
Трудно сказать, какая область в математике — моя, где тот кол, вокруг которого я хожу. Как, собственно, и не могу сказать, где — географически — мой дом. Конечно, мой дом — это моя семья, но ни к какому почтовому индексу и ни к какой единственной области математики я вроде бы не прикреплен.
А тогда математическим домом и математической семьей для него стала лаборатория № 4 Роланда Добрушина:
Институт проблем передачи информации меня приютил и поддержал. Социально скромное положение младшего научного сотрудника было все же куда лучше положения аспиранта в университете. Научно, если бы не внимание Гриши и Роланда Львовича, то из меня никакого математика не вышло бы. Люди разъехались, семинары опустели. Только благодаря Грише мои первые робкие математические шаги приобрели и направление, и какую-то уверенность.
В ноябре 1995 года Роланда Львовича не стало. Но и за короткое время от него можно было очень многому научиться. Для Добрушинa физическая картина, интуиция могли быть ценнее, чем формулы. Да, есть тип математиков, которые интуитивный физический аргумент не признают, и если утверждение формально не доказано, то оно для них мало стоит. Но, наверное, правы те, кто верит, что цель науки — понимание, а не доказательство. И поэтому труд тех, кто выделил феномен и понял его суть, не менее важен, чем труд тех, кто смог кристаллизовать логику доказательства. Когда Добрушин обсуждал задачи, в поисках утверждения, которое надо доказывать, он пользовался физическим интуитивным аппаратом. Физика многослойна, она отражает очень разные возможные размеры систем и масштабы энергий. Любое формальное рассуждение или вычисление в ней всегда будет ограничено пределами применимости, за которыми неизбежен полет интуиции.
Впервые Андрей Окуньков заявил о себе очень веско уже в кандидатской диссертации, в которой блестяще решил поставленную Ольшанским трудную задачу из области теории представлений. Защита прошла в 1995 году с большим успехом, но, как это всегда бывает с молодыми кандидатами наук, встал вопрос: что делать после? Обычный «постдиссертационный синдром» осложнялся тем, что молодому ученому надо было не только продолжать полноценно заниматься математикой, но и кормить семью.
Проблему решал отъезд за границу. Хотя бы на время. По приглашению Виктора Гинзбурга Окуньков с семьей уехал на месяц в Чикаго, а потом попал на полгода в одно из лучших на земле мест для любого математика — IAS (Принстонский институт перспективных исследований), тот самый, где с момента приезда в Америку и до самой смерти работал Альберт Эйнштейн, где несколько десятилетий работали Джон Уилер, Поль Дирак, Джон фон Нейман, Фримен Дайсон и другие научные звезды первой величины. Там, в прекрасных условиях, на окраине леса, в двух километрах от Принстонского университета можно было заниматься только наукой: «Это был почти что рай, где у меня впервые в жизни появился рабочий кабинет, а у моей семьи — просторная квартира».
Работа в IAS давала свободу не только в материальном смысле, но и в творческом. Молодой ученый сам ставил перед собой задачи и выбирал дальнейший путь, хотя формально ему в менторы был назначен ни много ни мало Роберт Макферсон, а «перекинуться словом» можно было с такими величайшими математиками, как Александр Бейлинсон, Пьер Делинь, Владимир Дринфельд, Том Спенсер (тем более что кабинет Окунькова находился прямо внутри библиотеки).
Пока Окуньков работал в IAS, ему поступило предложение о контракте на три года от Чикагского университета. И этот момент стал переломным как в научной карьере, так и в личной биографии Окунькова. Его жену Инну приняли в Чикагскую школу бизнеса, одну из лучших в мире (для оплаты учебы Виктор Гинзбург стал гарантом кредита в банке). Стало понятно, что Окуньковы остаются в Америке надолго.
В эти же годы эволюционировали математические интересы Окунькова. Классическая теория представлений — это лишь своеобразный базовый лагерь, а расходящиеся от него пути находятся на стыке с другими разделами математики. Одно такое направление идет по краю теории вероятности мимо представлений растущих или бесконечно больших групп. Истоки этого направления лежат в работах Вершика, Керова, Ольшанского, а сейчас оно очень успешно продвигается Алексеем Бородиным и его сподвижниками. Но можно было двигаться и в сторону алгебраической геометрии. Хотя Москва была и остается крупнейшим центром алгебраической геометрии, в свой московский период жизни Окуньков в нее втянуться не успел. А в Чикаго работала знаменитая группа алгебраических геометров под началом Спенсера Блоха и Билла Фултона. Там же, в метре от кабинета Окунькова, находился кабинет молодого Рахула Пандхарипанде, который стал его близким другом и соавтором важнейших работ.
Вот что говорит об этом Анатолий Вершик:
Андрея отличает чуткий слух. Он чувствует глубокие взаимоотношения частей математики и физики. Именно поэтому он двинулся в новые для себя области, не очевидным, но глубоким образом связанные с первой тематикой. Это помогло ему в работах с Пандхарипанде, Некрасовым и другими, когда он перешел к занятиям фактически алгебраической геометрией и физикой (теорией Громова — Виттена). В то же время его работы этого периода не только решают известные задачи, но и привносят новые методы в эти области.
Первый опыт преподавания в Америке для Окунькова, в отличие от многих его коллег, не стал ни потрясением, ни тяжким бременем. Он считает, что ему помогли лучшие традиции преподавания математики в России. В частности, на него сильно повлияли наставники — Григорий Ольшанский и Анатолий Вершик, которые требовали он него думать о том, как точно выразить математическую мысль.
Гёте сказал: «Кто не знает иностранного языка, тот не знает и своего собственного», — а я сказал бы наоборот: кто не умеет ясно выражать себя на своем собственном языке, тот и иностранным не овладеет. Надо, чтобы в каждом предложении был точный смысл, пусть и неочевидный. Когда я слышу или читаю звучащую складно лапшу из слов без смысла, я печалюсь.
После Чикаго были еще три года в Калифорнийском университете в Беркли, а в 2002 году Окуньков прошел по конкурсу на должность постоянного профессора Принстонского университета.
Он поясняет:
Американский университет — это большой отлаженный бизнес, и традиционно математические факультеты играют в нем не ключевую роль. Но в Принстоне считают иначе: математика и физика — это драгоценные камни в короне их принстонского величества, там математиков администрация поддерживает.
В это время в Принстоне появилось поколение блестящих аспирантов, будущих лидеров американской математики, и преподавательская и научная карьера Окунькова пошла на взлет. Уже через два года, в 2004-м, он стал пленарным докладчиком на Европейском математическом конгрессе, что очень почетно для любого математика. А еще через два года, в 2006-м, в Мадриде ему вручили высшую математическую награду мира — Филдсовскую медаль — «за работы, соединяющие теорию вероятностей, теорию представлений и алгебраическую геометрию». Как отметил Филдсовский комитет:
Труды Андрея Окунькова выявили глубокие новые связи между различными областями математики и открыли новый взгляд на проблемы, возникающие в физике. Хотя его работы трудно классифицировать, потому что они затрагивают такие разнообразные области, можно выделить две четкие темы — использование понятий случайности и классических идей из теории представлений. Эта комбинация доказала свою силу в решении проблем из алгебраической геометрии и статистической механики.
Звонок из Филдсовского комитета застал ученого на конференции в Нью-Йорке. Весть о присуждении главной математической награды мира оказалась для Окунькова настоящей неожиданностью. Джон Болл, президент Международного математического союза, проинструктировал лауреата о том, как будет происходить вручение на международном математическом конгрессе в Мадриде. До торжества оставалось несколько месяцев, и поэтому было строжайше запрещено кому-либо говорить об этом. Кроме жены, разумеется. Супруги Окуньковы честно держали слово, но в последний момент сдались: старшая дочь Маша, следуя подростковой моде, отказывалась надевать классическое платье. Пришлось рассказать ей, что семью ждет встреча с королем Испании Хуаном Карлосом.
Коллеги, ученики, аспиранты в Принстоне — все восприняли награду Андрея с большой радостью, как общую победу университета. А в медийном пространстве математический конгресс 2006 года затмила история с Григорием Перельманом, который отказался приехать в Мадрид и принять Филдсовскую медаль. Об этом событии писали все издания, включая желтую прессу, а имя Окунькова осталось в тени, о нем было лишь несколько кратких новостей.
Людвиг Фаддеев, академик-секретарь математического отделения РАН, пошутил тогда по этому поводу:
Ну, он же не отказался от медали, у него есть жена, дети, он легкий, приятный в общении человек — зачем о нем писать? Он не интересен прессе! А если серьезно, то я с не меньшим удовольствием радуюсь и этой награде. Профессиональную деятельность Андрея Окунькова я знаю достаточно хорошо, поскольку его область мне довольно близка: Андрей долгое время сотрудничал с одним из моих учеников Николаем Решетихиным, у них есть общие работы. Окуньков — представитель московской математической школы, окончил МГУ, затем работал в Независимом математическом университете. Сейчас он самый молодой профессор Принстонского университета. Филдсовскую медаль он получил, как официально сформулировано, за вклад, который соединяет теорию вероятности, теорию представлений и алгебраическую геометрию. Как я понимаю, здесь речь идет о той части теории вероятности, которая связана с теоретической физикой. У вас есть системы с различными конфигурациями, которые имеют свои вероятности, надо суммировать вклад этих конфигураций, а затем с помощью полученной суммы находить наиболее вероятное состояние системы. Сходная задача возникает в теории представлений групп в связи со схемами Юнга. Можно переписывать эти же задачи в терминах алгебраических кривых. Окуньков знает все эти вещи, и ряд его конкретных результатов стал очень известен. А мне особенно импонирует то, что теперь он хочет больше понимать физику. В одной из бесед он заметил, что взаимодействует с физиками не «с закрытыми глазами», а старается видеть мир их глазами. Он справедливо считает, что математика и теоретическая физика происходят из одного корня и хотя у них не простые взаимоотношения, но именно физика ставит сложные и красивые проблемы в математике и дает некоторые намеки на их решение. В этом мы единомышленники.
После получения почетной награды математическая жизнь Андрея Окунькова продолжает быть насыщенной и разнообразной. Он старается «видеть мир глазами физиков», и его работы последних десяти лет — блестящее тому подтверждение. Окуньков много ездит с выступлениями по миру. Анатолий Вершик говорит о нем:
Андрей располагает к себе людей естественными манерами, простотой и открытостью. Интересно смотреть, как он делает доклады, спокойно, плавно, почти лениво. Но их глубокое содержание привлекает широкую аудиторию.
Сам Окуньков так рассуждает в одном из интервью:
Когда я вижу глубоко усвоенную идею, для меня это гораздо убедительнее, чем если бы даже какая-то компьютерная программа проверила ее и сказала бы, что все правильно. Цель математики — как и науки в целом — не узнать ответ «да» или «нет» на все мыслимые вопросы, а понять наш мир. Предположим, прилетели бы какие-то инопланетяне и сказали: «Да, гипотеза Римана верна, и вот доказательство. Вы можете проверить на своей машине». Ну и чему бы мы, собственно говоря, научились от этого? Ничему. Потому что доказательство — это не цель математики. Доказательство — это мера нашего понимания.
Коллеги отмечают, что сильная сторона математика Окунькова — умение мыслить и алгебраически, и геометрически, и физически. И это позволяет ему не бояться вторгаться в разные области и применять в них разные подходы.
В 2010 году Окуньков перешел из Принстона в Колумбийский университет, с его традиционным фокусом на геометрии и математической физике. При этом связь с российской математикой он считает не просто фактом личной биографии, а важной частью профессиональной деятельности. Окуньков поддерживает родной ИППИ, участвует в семинарах, конференциях.
Александр Кулешов вспоминает:
Когда я стал директором ИППИ в 2006 году, Андрей приехал в Москву, и его научный руководитель и мой же однокурсник Гриша Ольшанский привел его со мной познакомиться. Мы проговорили несколько часов, и меня поразило, насколько Андрей солнечный человек, который находится в необычайной гармонии с собой и окружающей средой. С тех пор мы общаемся регулярно, и я стараюсь его привлекать к научной жизни не только ИППИ, но и Сколтеха.
А в последние годы в московской жизни Андрея Окунькова появилась новая математическая точка опоры — Международная лаборатория теории представлений и математической физики в Высшей школе экономики. С 2014 года Окуньков — ее научный руководитель и в этом качестве очень много общается с молодежью. В одном из недавних интервью он признался:
Мне бы хоть одним глазком заглянуть в будущее… Я уже сейчас понимаю, что молодежь сильнее, быстрее и глубже. Нет никакого сомнения, что ученики с годами меня перерастут. Так всегда бывает. Я только мечтаю о том, чтобы мне подольше понимать, о чем они будут говорить, мои ученики, чтобы подольше это не превращалось в инопланетное доказательство гипотезы Римана.
Физика твердого тела
Решетки и узлы как путь к свободе: Алексей Абрикосов, Андре Гейм, Константин Новоселов (Андрей Ваганов)
В XXI веке физики с российскими корнями получали Нобелевские премии только в одной области — физике конденсированного состояния. И это не случайно. В советской науке это было одним из самых мощных направлений, которое развивалось сразу в нескольких научных центрах, о чем свидетельствуют места работы нобелиатов. Некоторые из них, например Виталий Гинзбург или Жорес Алферов, никогда Россию не покидали. Некоторые, как Алексей Абрикосов, Константин Новоселов и Андрей Гейм, уехали на Запад. Впрочем, работы последних можно считать скорее «реликтовым излучением», ибо сделаны они были уже за рубежом, но их авторы профессионально сформировались еще в России.
В тени Ландау
29 марта 2017 года в возрасте 88 лет в калифорнийском городе Пало-Альто скончался советско-американский физик-теоретик Алексей Абрикосов. Впрочем, в одном интервью, данном после получения Нобелевской премии по физике в 2003 году, Алесей Алексеевич специально и настоятельно подчеркивал: «Я — прежде всего (first and foremost) американский гражданин». Тут надо кое-что пояснить. Уехав из СССР в 1991 году в исследовательский центр Министерства энергетики США — Аргоннскую национальную лабораторию, в 1999-м Абрикосов принял американское гражданство…
Казалось, изначально само провидение позаботилось о том, чтобы судьба Алексея Абрикосова сложилась счастливо. Его отцу, известному советскому ученому-патологоанатому, Герою Социалистического Труда, лауреату Сталинской премии I степени, академику Алексею Ивановичу Абрикосову доверяли руководить работами чрезвычайно важными и сверхответственными — вскрытием тел Ленина (1924), Ногина (1924), Фрунзе (1925), Бехтерева (1927), Куйбышева (1935). Мать, Фаня Давидовна Вульф, заведовала патологоанатомическим отделением и была главным прозектором Лечебно-санитарного управления Кремля. Может быть, поэтому и не удивительно, что их сын, Алексей Абрикосов, был человеком сложным, амбициозным, самолюбивым, высоко ценившим себя и сделанное им в науке. А сделаны им, надо признать, работы первоклассные…
В 1943 году Алексей Абрикосов поступил в Московский энергетический институт, затем перевелся на физический факультет МГУ, который окончил с отличием в 1948-м. Сам себя Абрикосов всегда ассоциировал со школой Льва Давидовича Ландау. Но чтобы заниматься наукой под руководством гениального ученого, нужно было сдать специальные экзамены — теоретический минимум, составленный самим Ландау. До сих пор люди, прошедшие через этот «фильтр», считают необходимым упомянуть об этом факте своей биографии как о некоем знаке качества и свидетельстве своей научной профпригодности. Абрикосову, тогда 19-летнему студенту МГУ, удалось сдать терминимум в 1947 году. Фактически это означало, что он уже вошел в научную элиту страны. Затем он поступил в аспирантуру к Ландау в Институт физических проблем. «Школа у Дау была суровая, но я, во всяком случае, своими успехами в основном обязан ему и никогда этого не забуду», — отмечал Абрикосов в 2005 году.
Научная карьера Абрикосова развивалась стремительно. В 1951 году — защита кандидатской диссертации по теории термодиффузии в ионизованной и частично ионизованной плазме. В начале 1950-х он переключился на теорию сверхпроводимости Гинзбурга — Ландау. Работал в паре с экспериментатором Николаем Заварицким по тематике сверхпроводников второго рода. Они и обнаружили этот новый класс сверхпроводников, которые сохраняют свои свойства даже в присутствии сильного магнитного поля.
Докторская диссертация, защищенная в 1954 году, была посвящена получению уравнения состояния водорода при сверхвысоких давлениях с переходом из молекулярного в атомарное состояние (металлический водород).
Абрикосов создал теорию перехода из сверхпроводящего в нормальное состояние (1957), при котором в промежутке между двумя критическими значениями магнитного поля формируется регулярная структура из квантовых магнитных нитей, окруженных вихревыми токами («абрикосовские вихри» и «абрикосовская решетка»).
Любопытные подробности о начале научного пути Абрикосова сообщает его близкий друг, академик Исаак Маркович Халатников:
В то время [1951 г.] был у нас молодой аспирант (ныне академик) — Алеша Абрикосов. Ландау хотел оставить в институте этого талантливого молодого человека и пошел к А. П. Александрову, чтобы договориться. Алеше предстояло через полгода или год защищать диссертацию. Но вскоре А. П. сообщил Ландау: «Абрикосова оставить нельзя, возражает Бабкин» [генерал-лейтенант министерства госбезопасности, уполномоченный Совета Министров в Институте физических проблем. — А. В.]. Дело в том, что у матери Абрикосова было отчество Давидовна. Отец Абрикосова — академик, известный патологоанатом. Мать — тоже патологоанатом, но не столь высокого ранга. Бабкин объяснил Александрову, что раз отчество матери — Давидовна, то из этого следует, что Абрикосов, по-видимому, племянник Льва Давидовича Ландау, и поэтому оставлять его в институте никак нельзя. Абрикосов стал устраиваться в Институт физики Земли и даже успел сделать хорошую работу по внутреннему строению планеты Юпитер — классическое исследование по металлическому водороду. Но тут вдруг в газете «Правда», на первой странице, появляется огромный некролог с портретом маршала Чойбалсана, вождя монгольского народа. Некролог, естественно, подписан вождями нашего народа. И, как было принято, дополнялся медицинским заключением.
Если вы доберетесь до подшивки «Правды» за 1952 год, то узнаете, что 14 января в СССР прибыл маршал Чойбалсан. Маршал был очень болен и спустя две недели после приезда скончался. Под медицинским заключением о смерти стояли, среди многих других, подписи обоих патологоанатомов Абрикосовых. Мать Абрикосова допустили к исследованию трупа Чойбалсана! Это произвело такое впечатление на Бабкина, что назавтра он дал разрешение взять сына Абрикосова в институт. Таким образом, газетная публикация повлияла на развитие советской теоретической физики.
В 1964 году Абрикосова избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1987 году — академиком. Абрикосов — один из организаторов Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау (1964). Лауреат государственных премий, профессор многих институтов и университетов по всему миру, член самых престижных научных обществ.
Ученик Абрикосова, профессор Римского университета Тор Вергата Андрей Варламов, узнав о смерти своего учителя, его достижения подытожил так:
Ушел великий человек. Ушел человек, которому не нужно ставить памятники, потому что он сам себе поставил памятник. Магнитно-резонансные томографы в больницах, скоростные поезда на магнитной подушке работают благодаря Алексею Алексеевичу Абрикосову.
В личной жизни Алексей Абрикосов был человеком не менее решительным, чем в науке. В 1968 году он отбил жену у французского физика-теоретика Филиппа Нозьера и женился на ней, несмотря на противодействие властей СССР. Их брак продлился 13 лет. Но путь в капиталистические страны для Абрикосова оказался закрыт. Говорят, в его кабинете висела карта мира, на которой были отмечены города, откуда он получал приглашения и куда его не выпустили из СССР.
Судя по всему, приглашение из Аргоннской национальной лаборатории пришлось как нельзя кстати: Абрикосов оставил Институт физики высоких давлений, директором которого его избрали в 1988 году, и в апреле 1991 года уехал в США. В Америке он занял уникальную должность, ранее созданную специально для выдающегося физика Энрико Ферми, — «исключительный научный сотрудник Аргоннской лаборатории» (acclaimed physicist at the U. S. Department of Energy's Argonne National Laboratory). В общем, жизнь удалась…
Но еще в 1970-е он успел выступить с упреками в адрес своего учителя — Льва Ландау. Страсти разгорелись вокруг самого значимого, пожалуй, теоретического достижения Абрикосова — обоснования существования сверхпроводников второго рода и разработки теории их промежуточного состояния и магнитных свойств. В этой теории как раз и введено представление о вихрях. В 1978 году Абрикосов в одной из своих статей фактически обвинил Ландау в том, что, не поддержав его идею о вихрях в сверхпроводниках, он лишил Абрикосова права претендовать на приоритет.
По его словам, в 1953 году он пришел к Ландау со своей идеей о квантовых вихрях в сверхпроводниках. Ландау с ней не согласился, и потому Абрикосов не стал развивать эту идею и публиковать свои теоретические соображения и расчеты. Но через два года вышла статья Ричарда Фейнмана о вихрях в сверхтекучем гелии. В этот раз Ландау принял идею вихрей. Когда Абрикосов указал ему на это, Ландау признал свою ошибку. Но статья Абрикосова о вихрях в сверхпроводниках второго рода была опубликована только в 1957 году.
Такого рода споры в науке — самые болезненные, и тянутся они годами, десятилетиями и даже столетиями. Некоторые историки науки находят и тысячелетние примеры (скажем, кто же был автором «теоремы Пифагора» — сам Пифагор или какой-то безвестный вавилонский мудрец)… Спор, перешедший в плохо скрываемую обиду Алексея Абрикосова на Льва Ландау, — из этой же категории. Сейчас уже вряд ли возможно установить и рассудить, кто был прав в этом споре о научном приоритете. Похоже, что ближе всего к истине оказался сын Льва Ландау — Игорь:
Что же — Ландау зажимал своих учеников? Нет, конечно. Существуют разные подходы к изучению физики. Подход школы Ландау был достаточно строгим и требовал, чтобы идеи, особенно идеи новые, были достаточно обоснованы. Идея, пока она не обоснована, это не результат, а лишь отправная точка для начала работы. Не удалось обосновать идею, пусть даже правильную, — нет работы. Как я думаю, это и был случай с вихрями Абрикосова. У Алексея Алексеевича была идея и идея совершенно правильная, но он не смог убедить Ландау в ее обоснованности. У него оставалась возможность работать над этой идеей дальше и таки найти ее обоснование, но он решил иначе и занялся другими, не менее интересными для него вещами. Не надо забывать, что в 1952 году Абрикосову было всего 24 года, а авторитет Ландау был огромен…
Как бы то ни было, именно за свои исследования, результаты которых были опубликованы в «Журнале теоретической и экспериментальной физики» в 1957 году (статья называлась «О магнитных свойствах сверхпроводников второй группы»), в 2003 году Абрикосов и получил свою Нобелевскую премию. Формулировка Нобелевского комитета — за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей». Эту авторитетную награду Алексей Абрикосов разделил еще с двумя учеными — российским академиком Виталием Гинзбургом и американцем Джеймсом Леггеттом. Очевидцы отметили, что за нобелевским ужином Абрикосов и Гинзбург сидели за одним столом, почти отвернувшись друг от друга.
А когда после присуждения Нобелевской премии Абрикосова и Гинзбурга пригласили на встречу с президентом России Владимиром Путиным, американец Абрикосов не захотел ради этого приехать на родину. В интервью «Радио Свобода» он заявил:
Говорят о демократии, говорят о рыночной экономике, на самом деле все идет прямо в обратную сторону. В России в свое время, когда я там был, я натерпелся достаточно. И по этому случаю я горжусь тем, что эта премия считается за Америкой. Я этим горжусь.
Нобелиаты новой волны, или Полет лягушки
Возможно, будущий историк науки, изучая наше время, отметит занятный социальный феномен: первое десятилетие XXI века вполне можно идентифицировать как «апофеоз Большой советской физики». Такого в обозримом будущем не предвидится. Три Нобелевские премии по физике, доставшиеся пяти ученым, — это по любым меркам серьезное достижение. Вот этот нобелевский список:
2000 год — академик Жорес Алферов (гражданство — Россия, место работы — Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург);
2003 год — академик Виталий Гинзбург (гражданство — Россия; Физический институт имени П. Н. Лебедева, Москва); академик РАН Алексей Абрикосов (с 1999 года — гражданин США; Аргоннская национальная лаборатория, Аргонн, США);
2010 год — кандидат физико-математических наук Андре Гейм и Константин Новоселов…
Но если говорить о гражданстве и месте работы героев этого очерка Гейма и Новоселова, одной строчкой не обойдешься. Этнический немец Андрей Константинович Гейм родился в 1958 году в Сочи, высшее образование получил в Московском физико-техническом институте, сейчас — подданный Королевства Нидерландов, работающий в Англии, в Манчестерском университете. С Константином Сергеевичем Новоселовым тоже не без интриги: уроженец Нижнего Тагила (1974), имеющий двойное гражданство — Великобритании и России, работает все в том же Манчестерском университете. Оба возведены королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство. Какие еще нужны доказательства реальности глобализации?..
Гейм категорически просит не ассоциировать его с российской наукой. Он даже имя свое «подредактировал» — теперь он Андре, а не Андрей. Новоселов вроде бы от российской половины своего гражданства не открещивается. Впрочем, две его дочки-двойняшки, Виктория и София, родились уже в Англии. Но дело, как говорится, не в штампе в паспорте.
Физический Нобель 2010 года, который разделили на двоих Гейм и Новоселов, — это знаковое событие для всей российской науки. Вернее, для российского способа заниматься наукой. По многим причинам.
Во-первых, Гейм и Новоселов — это новое, постсоветское поколение нобелевских лауреатов, получивших эту награду за работы, уже не имеющие никакого отношения ни к атомной бомбе, ни к Советскому Союзу вообще. Новоселов даже не имеет ученой степени, присуждаемой в России. Да и Гейм «всего лишь» кандидат наук. Все российские академики, которые могли, уже получили свои Нобелевские премии. Похоже, фундаментальный задел, созданный в СССР, исчерпан. Академик Виталий Гинзбург был последним из могикан.
Во-вторых, Нобелевская премия Гейма и Новоселова получена за работы в области, которую мы долго считали чуть ли не национальной российской гордостью, — физика твердого тела. Уж что-что, а физика твердого тела — это наше! И мы законно этим гордились: нобелевское лауреатство академиков Жореса Алферова и Виталия Гинзбурга (да и Алексея Абрикосова) — блестящее тому подтверждение.
И вдруг — бац!
Бывшие сотрудники Института физики твердого тела Российской академии наук в Черноголовке, учитель и ученик, Гейм и Новоселов, получают Нобеля за исследования, которые потенциально могли бы быть проведены в России… Но — проведены в Англии.
В 2004 году они экспериментально обнаружили (лучше сказать — создали; буквально на коленке — отслаивая графит, слой за слоем, с помощью липкой ленты-скотча) невозможное, казалось бы, соединение углерода в виде сверхтонкой пленки толщиной всего в один атом — квазидвумерный (2D) кристалл с упорядоченной гексагональной сеткой (в виде пчелиных сот). Закономерно возникло название нового материала — графен. «Невозможность» существования 2D-кристаллов за 70 лет до Гейма и Новоселова обосновывали такие тяжеловесы теоретической физики, как Лев Ландау и Рудольф Пайерлс. Причина, по их мнению, — смещение атомов под действием тепловых флуктуаций… Но ошиблись выдающиеся теоретики. «Графен вблизи дираковской точки — это исключение, то есть теория ферми-жидкости Ландау там не работает», — объяснил их ошибку российский физик-теоретик Михаил Иосифович Кацнельсон, профессор Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (Нидерланды).
Обратите внимание — опять Нидерланды. И здесь впору говорить, что, несмотря на бесконечное количество авторитетных заявлений, мол, наука интернациональна, она, по-видимому, остается сугубо и глубоко национальной. Только национальность ее определяется уже не составом крови творцов, а способностью того или иного государства создать для них лучшие условия. Где такие условия есть — на той территории творцы и живут, и творят, и платят налоги. Выгоды государства очевидны. Представьте только, как подскочил рейтинг Манчестерского университета — со всеми вытекающими отсюда экономическими бонусами. Кстати, не случайно Михаил Кацнельсон остается также профессором Уральского федерального университета. «Симбиоз», выгодный обеим сторонам, — рейтинги университета, дополнительное финансирование в виде грантов, попадание в библиографические базы и проч., и проч. Это новый и принципиальный момент. И это отличает Кацнельсона от Гейма и Новоселова.
Весьма показательно одно интервью Гейма, данное уже в статусе нобелевского лауреата. Закончив в 1975 году в Нальчике школу с золотой медалью, Андрюша Гейм подал документы в Московский инженерно-физический институт.
При попытке поступить в МИФИ, — вспоминает Гейм, — меня завалили на экзаменах. Через несколько лет мне объяснили (и это было для меня шоком), что для поступления в этот вуз человеку с немецкой фамилией нужны особые рекомендации. Я этих тонкостей не знал. Вернулся домой, устроился на электровакуумный завод слесарем-электротехником. После второго провала на экзаменах в МИФИ понял, что ситуация непробиваемая, забрал документы и в тот же год поступил в МФТИ, где, как оказалось, не было системы деления на тех, кого нужно и кого не следует принимать. Печально все это. Лет через 10–15, похоже, тут останутся только такие ученые, доктора и академики, как Шойгу, Кадыров, Жириновский, Грызлов и мегаакадемик Петрик. (À propos: «Новоселов и Гейм украли у меня Нобелевскую премию», — утверждает автор ряда лженаучных исследований Виктор Петрик.)
Проблема именно в том и состоит, что, даже если бы работы по графену были выполнены, допустим, в Черноголовке, а не в Манчестере, Гейм и Новоселов почти наверняка никогда не получили бы за них Нобелевскую премию.
И это действительно обидно…
Между тем графен оказался уникальным материалом. Электропроводность на порядок выше, чем у меди; теплопроводность — на несколько порядков выше, чем у той же меди; коэффициент жесткости в 200 раз больше, чем у стали. Добавьте к этому исключительно большую удельную поверхность графена — 2675 кв. м на грамм! И что принципиально важно: каждый атом в этом двумерном кристалле химически активен, может вступать в разнообразные химические реакции. Дух захватывает от возможностей технического и технологического применения этого «плоского» кристалла. И уж совсем интригующим выглядит тот факт, что вскоре после работ Гейма и Новоселова космическая обсерватория «Спитцер» зафиксировала следы графена в планетарной туманности Улитка (созвездие Водолея, 650 световых лет от Солнца).
Тот же Михаил Кацнельсон, говоря об удивительных свойствах графена, подчеркивает, что они «описываются уравнениями, похожими на уравнения таких вот релятивистских частиц в ускорителях, с той только разницей, что скорость света там играет величина в 300 раз меньше [скорости света]. Иными словами, такая вот модель Вселенной, где мировые константы другие, а законы физики, в общем, такие же. Поэтому-то так важен взгляд со стороны релятивистской квантовой механики».
Недаром физики отмечают еще одну уникальную особенность графена: в нем в лабораторных условиях можно наблюдать экзотические явления фундаментальной физики, для чего иначе необходимы огромные энергии, а значит — большие ускорители. В этом смысле графен по праву называют «ЦЕРНом на столе».
В общем, ничего удивительного, что Нобелевский комитет так быстро среагировал на достижение Гейма и Новоселова: шесть лет с момента открытия в 2004 году графена до вручения премии в 2010-м — временной отрезок просто спринтерский в истории самой авторитетной научной награды.
Есть в этом, однако, некое противоречие. Его очень точно сформулировал академик Виталий Гинзбург (еще до того, как в 2003 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физике):
…Роль случая, удачи может быть огромной. Для титанов типа Эйнштейна это не так, слишком большой «запас» и отрыв от других. Талант Максвелла, Бора, Планка, Паули, Ферми, Гейзенберга, Дирака тоже вряд ли сильно зависел от флуктуаций удачи, случайной мысли и т. п. Но другое дело, мне кажется, де Бройль, даже Шрёдингер, не говоря уже о многочисленных нобелевских лауреатах. Макс фон Лауэ был вполне квалифицированным физиком, но, как утверждают, мысль о дифракции рентгеновских лучей в кристаллах была «пивной идеей» (Bieridee). Брегги, Рентген, Зееман, Штарк, Ленард, Джозефсон, Пензиас и Вильсон, Хьюиш и Райль, Черенков, Басов и Прохоров — да три четверти всего списка — это в значительной мере удачи, а не «божественные» откровения. И это не обесценивает большинства работ и премий. Я хочу лишь подчеркнуть, что шансы на удачу зависят как от случая, так и от кучи факторов, среди которых и здоровье, и вовремя прочитанная статья или книга, и активность, и честолюбие (как стимул), и, вероятно, многое другое.
Понятно, что любые рейтинги ученых — дело не только очень сложное, но и чрезвычайно щекотливое. Вряд ли можно найти какой-то объективный критерий, который строго ранжировал бы, скажем, общую теорию относительности Эйнштейна, соотношение неопределенностей Гейзенберга и теорию цепных химических реакций Семенова. Как бы то ни было, исследования Гейма и Новоселова — простые, изящные, физически наглядные. Последнее немаловажно.
Наука вообще трудно визуализируемая область человеческой деятельности. В лучшем случае речь может идти о внешней атрибутике научной лаборатории, портретах ученых. Хотя, как это ни парадоксально, на протяжении всей своей истории Наука (с большой буквы) стремилась именно к тому, чтобы наглядно представить объекты и результаты своих исследований. Недаром эллины не различали понятий «видеть» и «знать». Поэтому неслучайно, что в сознание рядового, но любознательного гражданина глубже всего вошли научные понятия, которым был найден какой-либо образный эквивалент: яблоко Ньютона как иллюстрация закона всемирного тяготения; Луиджи Гальвани, заставляющий дергаться под воздействием электрических разрядов лягушачьи лапки; змея, кусающая себя за хвост, как образ бензольного кольца, открытого Кекуле; периодическая таблица химических элементов Менделеева; собаки академика Ивана Павлова; двойная спираль молекулы наследственности — ДНК, открытая Уотсоном и Криком; шотландская «овечка Долли» Иэна Уилмута как символ клонирования; астрофизическая «черная дыра» Стивена Хокинга…
Графен — из этой же серии примеров. Вот и российский историк химии Александр Смолеговский отмечает:
…Нанохимия не является новой наукой или новым разделом химии. Но она «принесла» новое мировоззрение — этап визуализации молекул. И хотя в принципе не наблюдается и новых соединений, факт получения известных веществ в новом состоянии не подлежит сомнению. Именно в этом отношении интересно открытие графена и понимание его структуры.
Кстати, еще до открытия графена Андре Гейм сумел создать в общественном сознании очень запоминающийся научный символ. И это была левитирующая, то есть парящая в воздухе без всяких механических приспособлений, лягушка. Знаменитое земноводное животное, внесшее выдающийся вклад в развитие естествознания (привет Луиджи Гальвани, а заодно и тургеневскому Базарову!), было подвешено Геймом в сильном магнитном поле — в миллион раз сильнее, чем естественное магнитное поле Земли. В 2000 году Андре Гейм и сэр Майкл Берри из Бристольского университета получили за это достижение так называемую Шнобелевскую премию — пародию на настоящую Нобелевскую награду. Шутки шутками, но ученые доказали, что всё — даже люди и уж точно лягушки — обладает магнитными свойствами. Правда, если у вас есть достаточно большой магнит…
Космология
Черные дыры и рябь пространства-времени: Рашид Сюняев (Андрей Ваганов)
Карьеру академика Рашида Сюняева можно назвать звездной во всех смыслах. Главной темой его исследований со студенческих лет и на протяжении более чем полувека был и остается Космос — нейтронные звезды, галактики, метагалактики, черные дыры…
Самый цитируемый в мире астрофизик Рашид Алиевич Сюняев родился 1 марта 1943 года в Ташкенте. Фамилия Сюняевы происходит от пензенских мурз (князей), переселившихся затем на Урал и в Центральную Азию. Среди них встречались «служилые татары», торговцы и духовные лица. Один из дедов Рашида Сюняева был муллой, отец ученого, Али Абдрахман улы Сюняев — инженером. С детства Рашид свободно говорил на татарском и узбекском языках.
После окончания школы наш герой поступил одновременно в Московский физико-технический институт и на механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. А уже через два года после окончания этих двух, вероятно, самых престижных в СССР вузов защитил кандидатскую диссертацию в Институте прикладной математики Академии наук СССР. Руководителем его дипломной и кандидатской работ был замечательный ученый с мировым именем, трижды Герой Социалистического Труда, академик Яков Борисович Зельдович.
Сюняеву повезло учиться у самогó гениального Я. Б., как называли Зельдовича люди, работавшие с ним. Это дорогого стоит! Однажды Зельдович признался своему талантливому ученику:
Я много раз и радикально менял не только тематику исследований, но практически и специальность: был почти химиком, а в итоге стал почти астрономом. […] Трудно, но интересно освоить 10 процентов информации и специфических методов в любой области естественных наук, что необходимо для того, чтобы начать самостоятельно работать либо хотя бы спокойно ориентироваться в ней. Дальше путь от 10- до 90-процентного понимания — это одно удовольствие и истинное творчество. А вот пройти следующие 9 процентов — бесконечно тяжело и далеко не каждому под силу. Последний процент безнадежен. Разумнее вовремя взяться за новое дело…
Но Сюняев определился со сферой своих научных интересов сразу. Впрочем, сфера эта оказалась в буквальном смысле бесконечного радиуса…
В 1965 году, еще будучи студентом выпускного курса МФТИ, он предсказал существование в галактиках зон, ионизированных внешним излучением. Сюняев вычислил и доказал, что наблюдения водорода в периферийных областях галактик могут дать богатейшую информацию о потоке ионизирующего фонового излучения.
Когда в начале 1970-х годов не достигший еще и 30 лет ученый совместно со своим коллегой Николаем Шакурой опубликовал статью о модели падения вещества на черные дыры и нейтронные звезды, он сразу стал восходящей звездой мировой астрофизики. Эта публикация и до сих пор остается одной из самых цитируемых в этой области. Понять коллег-физиков можно: черная дыра, астрофизический объект, состоящий только из искривленного пространства (!), вдруг стал доступен для моделирования. Согласно этой модели вещество, падающее на черную дыру или нейтронную звезду, образует быстро вращающийся диск (аккреционный диск). Двигаясь в нем, вещество разгоняется и начинает излучать фотоны высоких энергий. Был сделан однозначный теоретический вывод: «Проглатывающие огромный объем материи черные дыры становятся наиболее мощными источниками излучения во Вселенной». Все это получило в физике название «стандартной теории аккреции» (падения вещества) на черные дыры и нейтронные звезды.
Рискуя создать некоторую хронологическую турбулентность, скажем все-таки, что в 2016 году Рашид Алиевич Сюняев стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий именно «за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры». Премия почти полувековой «выдержки»! Под стать нобелевской традиции. Кстати, уже не первый год авторитетные мировые эксперты и организации называют Рашида Сюняева одним из очень вероятных претендентов на получение Нобелевской премии по физике…
Но теоретические расчеты «стандартной теории аккреции» черных дыр нужно было доказывать экспериментально. Вскоре и такая возможность Сюняеву представилась. В 1974 году директор Института космических исследований АН СССР (ИКИ), академик Роальд Сагдеев, пригласил Якова Зельдовича и Рашида Сюняева на работу. Уже по инициативе Сюняева в ИКИ был создан отдел астрофизики высоких энергий. Тогда и произошло плавное вхождение Сюняева-теоретика в экспериментальную рентгеновскую и гамма-астрономию.
В 1970–1980-х годах совместно с Я. Б. Зельдовичем Рашид Сюняев исследовал реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва, что позволило провести пионерские проверки космологических моделей, которые используются до сих пор. И это остается одной из наиболее интересных областей современной космологии.
Примерно в это же время, в 1970-х годах, коллектив астрономов (В. Лютый, Р. Сюняев, А. Черепащук) измерил массу двойной системы в созвездии Лебедя. Масса невидимой компоненты показала, что она является черной дырой. Об этом результате было доложено впервые на семинаре Зельдовича.
Вместе со своим учителем Сюняев впервые математически точно описал рассеивание реликтового излучения под воздействием электронов. Этот эффект получил в науке название «эффект Сюняева — Зельдовича» (SZeffect). За последние десятилетия привлекательная теоретическая идея Сюняева — Зельдовича превратилась в чрезвычайно продуктивный, долгоиграющий метод наблюдательной космологии. Неслучайно в 2002 году Рашид Сюняев был удостоен Премии имени А. А. Фридмана РАН за серию работ «Эффект понижения яркости реликтового излучения в направлении на скопления галактик». А вскоре американский зонд WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe — американский космический аппарат, запущенный 30 июня 2001 года специально для изучения реликтового излучения) экспериментально подтвердил существование этого эффекта. И это не осталось незамеченным мировым научным сообществом: в 2008 году Рашид Сюняев стал лауреатом самой почетной награды Американского астрономического общества — премии Рассела, а также премии Крафорда Королевской академии наук Швеции. Впрочем, все это произошло несколько позже…
А в 1984 году Сюняева избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению общей физики и астрономии (астрономия, космические исследования). Научная карьера шла по нарастающей…
В 1988 году Американское астрономическое общество присудило Сюняеву премию Бруно Росси — за оригинальные работы, внесшие значительный вклад в астрофизику высоких энергий… 1990 год — премия по фундаментальным наукам Международной академии астронавтики… В 1992 году его избрали академиком РАН.
Но именно в этот период, как и у многих его коллег, у Сюняева произошел серьезный поворот в судьбе. Причины, его вызвавшие, очень эмоционально, но точно определил в сентябре 1993 года академик Владимир Фортов, тогда только назначенный председателем Российского фонда фундаментальных исследований, а в 2013–2017 годах — президент Российской академии наук.
Процессы, происходившие в научной сфере страны, он обрисовал так:
…Сейчас ситуация в нашей науке вне всякого преувеличения является коматозной. Мы катастрофически резко теряем наши научные позиции, школы, падает уровень научных исследований, нет журналов, книг. Молодежь уходит из науки и техники в бизнес или за границу. […] Я считаю, что одна из самых тяжелых болезней нашего времени — равнодушие, если не сказать — отрицательное отношение некоторых госструктур к науке. […] Российская наука имела и имеет очень сильные стороны. За исторически короткий срок в относительно отсталой стране, какой была Россия, была создана совершенно фантастическая наука! Наш научный уровень по многим направлениям превосходит западный (в частности, по моей специальности — физике экстремальных состояний). И все это благодаря научным школам: Колмогоров, Вернадский, Ландау, Сахаров, Зельдович и многие другие. А сейчас мы теряем эти школы. Это — катастрофа. Тем более что сокращение денег на науку никакой реальной экономии не дает. Ведь на нее и так тратится всего два-три процента национального бюджета. […] У нас в России в силу ряда причин сложилось совершенно уникальное научное сообщество. И мы его сейчас вот так бездарно теряем. […] Для большинства ученых возможность интересной работы — выше всего остального. И никогда ученые не были денежными магнатами. Ученые — это средний класс во всех странах. Среди моих знакомых зарубежных коллег нет ни одного, кто бы ездил на «мерседесе». Но когда у ученых отбирают возможность работать, это вызывает очень резкую отрицательную реакцию. При этом ученые не склонны к активным протестам, они не устраивают демонстраций — собирают чемоданы и уезжают на Запад. Соответствует ли это национальным интересам России?
Ничего удивительного, что ученый с мировым именем, каковым к тому времени был академик Рашид Сюняев, решил уехать работать за границу. Он принял предложение стать директором Института астрофизики Общества им. Макса Планка в Гархинге (Германия). Занимается своей любимой космологией, теоретической астрофизикой высоких энергий. И по-прежнему остается главным научным сотрудником Института космических исследований в Москве. Так и живет на два дома — между Россией и Германией. Его биограф Юлдуз Халиуллин это состояние определяет так: «Местонахождение ученого — Москва, Мюнхен, далее везде — там, где есть соответствующая научная аудитория, готовая абсорбировать его идеи и концепции. Для него не менее важно выслушать доводы и добрых оппонентов, и критически настроенных сторонников, особенно молодых ученых — дерзких и трудолюбивых».
За это время Рашид Сюняев стал руководителем крупных космических экспериментов, которые привели к важным открытиям. Среди них — детальные карты центральной области Галактики, выявление нескольких десятков рентгеновских источников, в том числе первого в Галактике микроквазара, открытие жесткого рентгеновского излучения от сверхновой звезды в Большом Магеллановом Облаке…
Но, возможно, самым значительным достижением академика Рашида Сюняева стало участие в экспериментальной фиксации гравитационных волн, родившихся от слияния двух нейтронных звезд. Теоретики предсказывали, что при столкновении нейтронных звезд должны излучаться не только гравитационные волны, но и гамма-лучи, а также извергаться мощные струи вещества, сопровождающиеся излучением электромагнитных волн в широком частотном диапазоне. В момент столкновения основная часть двух нейтронных звезд слилась в один ультраплотный объект, испускающий гамма-лучи. Уже первые измерения гамма-излучения в сочетании с детектированием гравитационных волн подтвердили предсказание общей теории относительности Эйнштейна — что гравитационные волны распространяются со скоростью света.
А вот обнаружен этот гамма-всплеск был с помощью орбитальной обсерватории гамма-лучей «Интеграл», являющейся проектом Европейского космического агентства с участием России и НАСА. Со стороны России научным руководителем проекта является Рашид Сюняев. Официальное сообщение о фиксации гравитационных волн от слияния нейтронных звезд появилось на всех мировых информационных ресурсах 17 октября 2017 года.
Космология
Античный герой космологии: Сергей Шандарин (Ольга Орлова)
Шестой этаж, комната 6070 в здании Мэлотт-холл на территории Канзасского университета в Лоуренсе, в 20 милях от Канзас-Сити. Здесь профессор факультета физики Сергей Шандарин принимает студентов уже 27 лет. Такое бывает очень редко: получить первую работу за границей и ни разу не поменять адрес. Если пользоваться старыми советскими понятиями, можно сказать, что в новой американской жизни у Шандарина всего одна запись в трудовой книжке. Только нет таких книжек у профессуры Университета штата Канзас. Но есть форумы студентов, где они пишут, что профессор Шандарин слишком строг, не любит разжевывать материал, что им мешает его русский акцент, который никуда за эти годы не делся, но им нравится, когда он рассказывает об опыте жизни в СССР. Им это кажется забавным, а иногда и непостижимым…
Действительно, как передать современному молодому американцу опыт советского ребенка, выросшего в общежитии семейного типа на окраине Москвы, в проезде Соломенной Сторожки, сына маляра и работницы фабрики учебных пособий, собиравшей гербарии, который попал сначала в одну из самых известных школ столицы, потом в самый лучший физический институт страны и, наконец, в теоретическую группу к одному из самых выдающихся физиков своего времени? Как рассказать им о нищете, тотальном контроле партийных органов и служб госбезопасности и о самых быстрых социальных и интеллектуальных лифтах для талантливого молодого ученого в СССР? Разве что метафорами. Сам Сергей Федорович Шандарин говорит, что его жизнь напоминает похождения героя античной мифологии, который периодически попадает в схватку между богами и которому в критических ситуациях приходят на помощь «волшебные помощники»[3].
Первым таким «помощником» стал школьный друг Андрей Илларионов (будущий научный сотрудник ИКИ и Астрокосмического центра Физического института имени П. Н. Лебедева), который позвал его с собой на приемное собеседование в знаменитую Вторую школу.
Мы с Сережей тогда учились в 216-й школе, — вспоминает Андрей Илларионов, — и по настоянию нашей учительницы Ирины Эльханановны Киссиной ездили в восьмом классе в МГУ на математический кружок на Моховую. Благодаря этим занятиям мы уже умели решать некоторые сложные задачи, поэтому собеседование во Вторую школу прошли довольно легко. И там у нас началась насыщенная жизнь. Например, нам блестяще преподавал математику Исаак Яковлевич Танатар. Но кроме занятий были многодневные походы, футбольные матчи, диспуты… Мы очень много времени проводили с Сережей вместе после школы, но никогда не ссорились и не дрались, характер у него был спокойный, сдержанный. Это было счастливое для нас время.
О драматической истории, развернувшейся во Второй школе с 1956 по 1971 год, когда большое количество прекрасных педагогов были по идеологическим причинам отстранены от преподавания, написано множество воспоминаний и даже снят фильм. Ее выпускники стали знаменитыми учеными, бизнесменами, артистами. И все они вспоминают Вторую школу как лучшую и единственную. Ученикам девятого класса «З» Шандарину и Илларионову повезло застать ее расцвет.
Еще из воспоминаний Илларионова:
В десятом классе мы с Сережей как-то немного отшатнулись от математики, потому что отправились в МГУ на кружок по физике. Там возникло ощущение, что физика шире и разнообразнее, чем разгадывание математических загадок без понимания их природы. И тогда мы вместе с целой командой из нашей школы решили поступать в Физтех.
Из воспоминаний Шандарина:
Андрей Илларионов познакомил меня с физтеховскими студентами, и от них мы уже знали, что надо идти на лучший факультет — общей и прикладной физики. Нашей подготовки хватило, чтобы туда поступить. На собеседовании меня спросили, кем я хочу быть. Я сразу ответил, что теоретиком. Чуть позже уже студентами мы с Андреем стали ходить на общемосковский семинар Шкловского, Зельдовича и Гинзбурга в ГАИШе [Государственном астрономическом институте им. П. К. Штернберга].
Увидев там блестящего академика Зельдовича, студенты решили попасть к нему на базовую кафедру. Но Яков Борисович Зельдович тогда работал в Институте прикладной математики (ИПМ), и у него не было своей базовой кафедры в Физтехе. А заведующий теоротделом ФИАНа академик Гинзбург также возглавлял кафедру проблем физики и астрофизики в МФТИ. И Шандарин с Илларионовым пришли сдавать Гинзбургу экзамен. Гинзбург спросил, чем они хотят заниматься и у кого. Оба ответили, что хотят быть в группе Зельдовича в Институте прикладной математики. И оба после этого экзамен не сдали. Но после вмешательства Зельдовича были зачислены на кафедру проблем физики и астрофизики.
Как шутит сам Шандарин, Зельдович всегда играл в его судьбе роль бога. Иначе как объяснить, что он отправился к ректору МФТИ просить выделить две позиции в аспирантуре Физтеха для двоих выпускников с тем, чтобы они писали диссертации в Институте прикладной математики? А когда судьба студентов была решена и они стали участниками группы Зельдовича, пришло понимание того, что такое настоящая физика. Состав этой теоргруппы через некоторое время станет звездным в буквальном смысле — их имена узнает весь астрофизический мир. Помимо Шандарина туда вошли Геннадий Бисноватый-Коган, Андрей Дорошкевич, Андрей Илларионов, Анатолий Клыпин, Игорь Новиков, Александр Полнарев, Алексей Старобинский, Рашид Сюняев, Николай Шакура…
Алексей Старобинский вспоминает:
…Среди всех учеников Зельдовича было два человека, про которых все понимали, что они к нему ближе всех, — это Рашид Сюняев и Сергей Шандарин. Это было не только научное сотрудничество, но и очевидная человеческая теплота и близость.
Однако у Шандарина отношения с Зельдовичем сложились не сразу. В первый год аспиранту Шандарину было поручено написать компьютерную программу и провести численную оценку точности теперь знаменитого «приближения Зельдовича», которое автор называл «теорией блинов». Одно из следствий этой теории — ячеисто-сетчатая крупномасштабная структура ранней Вселенной, или «космическая сеть», образуемая пересекающимися «блинами». Хотя на ФОПФе (факультете общей и прикладной физики МФТИ) и преподавался начальный курс численных методов, но отдельного курса программирования еще не было. Как работать на новом, только что установленном в ИПМ компьютере БЭСМ-6, пришлось постигать самостоятельно.
Машинного времени постоянно не хватало. У отделов, которые занимались математическим обеспечением нужд космонавтики или ядерной энергетики, был приоритет, а космологии выделялся примерно один час в неделю — в основном ночного времени. Поэтому доступ к компьютеру временами был возможен только раз в сутки: приходилось оставлять колоду перфокарт диспетчеру в конце дня перед уходом из института и следующим утром получать результат счета, а в период отладки — сообщение об ошибках. Раз в две недели Зельдович вызывал к себе аспиранта и задавал вопрос: что с программой? Ответ был один и тот же: идет отладка. Зельдович был очень недоволен тем, что дела идут слишком медленно. И только позже, уже после защиты диссертации, Шандарин и Зельдович стали работать теснее.
«У Шандарина была прямая счастливая научная дорога», — замечает Старобинский. Это подтверждает и сам Шандарин:
Моя научная работа в Институте прикладной математики началась со статьи Зельдовича, которая дала начало теории образования крупномасштабных структур Вселенной, так называемой «теории блинов», чем я и занимался всю жизнь. Зельдович поставил мне задачу: «Вы должны доказать всему миру, что это правильная теория».
Вся дальнейшая научная жизнь Шандарина показала, что ученик с задачей учителя справился. Вот как пишет об этом знаменитый популяризатор астрофизики Владимир Сурдин в книге «Астрономия: век XXI»:
До начала 1980-х годов крупнейшими объектами Вселенной считались галактики и их скопления. Но оказалось, что иерархия космических систем на них не заканчивается. Открытие сверхскоплений галактик — основы так называемой крупномасштабной структуры — стало первым шагом к построению Стандартной космологической модели. Крупномасштабная структура Вселенной была предсказана в работах выдающегося советского ученого академика Я. Б. Зельдовича, а также его учеников — А. Г. Дорошкевича и С. Ф. Шандарина. Анализируя законы эволюции малых возмущений плотности в расширяющейся Вселенной, Я. Б. Зельдович сделал любопытный прогноз: если в молодой и почти однородной Вселенной малые возмущения плотности и скорости не обладали сферической симметрией (а в природе идеальной симметрии не бывает!), то по мере их роста отклонения формы от сферической под действием гравитации возрастали. В конце концов образовались объекты в виде трехмерных структур с тремя неравными поперечными размерами, причем один из них значительно меньше двух других. Такие структуры напоминают блины. Свою теорию Зельдович так и назвал — «теория блинов». Ее предсказания блестяще подтвердились наблюдениями.
Важное развитие эта теория получила как раз в начале 1980-х, с новыми наблюдательными данными от американских астрономов, на основе которых Зельдович, Шандарин и эстонский астроном Яан Эйнасто опубликовали статью в Nature. Дело в том, что из Эстонии было значительно легче ездить за границу, чем из Москвы, и Эйнасто, съездив на зарубежную конференцию, получил разрешение от американских коллег на использование данных каталога из приблизительно 600 галактик и расстояний до них. Зельдович с Шандариным предложили статистически-перколяционный метод анализа этих данных, с помощью которого стало понятно, что эти галактики образуют сети. Об этом упоминает Чернин в своем очерке об Яане Эйнасто:
Яан Эйнасто первым среди астрономов обратил внимание на войды как на базовый элемент крупномасштабного устройства Вселенной. Яков Борисович Зельдович заметил важную роль сверхскоплений и войдов в физическом процессе формирования космических структур самого большого масштаба. Зельдович, ЯЭ и Сергей Федорович Шандарин (сотрудник Якова Борисовича) опубликовали в Nature в 1982 году статью под названием «Гигантские войды во Вселенной», которая вызвала необычайно большое число откликов. Но это был только первый шаг к главной цели исследования, достижение которой потребовало еще 15 лет упорного труда. В итоге тщательного анализа наблюдательного материала, многочисленных дискуссий (временами весьма острых) с коллегами в разных странах, где активно работали группы энергичных космологов (космология стала к тому времени уже почти что массовой профессией), в том же журнале в 1997 году появилась статья ЯЭ и еще девяти авторов, которая называлась «Периодичность масштаба 120 мегапарсек в трехмерном распределении сверхскоплений галактик».
Войдам была посвящена первая совместная статья Шандарина и Зельдовича. В русскоязычной традиции войды принято называть «гигантскими черными областями». Эти образования загадочны как с физической, так и с математической точки зрения. Их размеры превышают среднее расстояние между галактиками в десятки раз, достигая сотен мегапарсек. Было ясно, что их образование связано с какой-то особой причиной. Такая причина легко нашлась в популярной в начале 1980-х космологической модели, предполагавшей, что темное вещество состоит из нейтрино с массой около 30 электрон-вольт. В этой модели, известной под названием «модель горячего темного вещества», практически отсутствуют начальные возмущения в масштабах менее нескольких десятков мегапарсек. Это сразу объясняет отсутствие галактик в войдах.
«Теория блинов» очень хорошо описывала крупномасштабную структуру в нейтринной Вселенной, включая образование войдов с нужными размерами. Однако к концу 1980-х годов стало ясно, что масса нейтрино значительно меньше, чем нужно, и нейтринная модель Вселенной была отвергнута. Большинство западных космологов, отказавшись от нейтринной Вселенной, в очередной раз отвергли и «теорию блинов», тем самым выплеснув с водой и ребенка. Модель, пришедшая на смену горячему темному веществу, получила название «модель холодного темного вещества». В ней начальные неоднородности присутствовали в галактических и более мелких масштабах. Последнее обстоятельство и послужило главным аргументом против «теории блинов».
Работы Шандарина с соавторами в 1990-е годы показали безусловную применимость «теории блинов» и в модели холодного темного вещества. Более того, довольно простая модификация в использовании «теории блинов», а также модель слипания показали, что присутствие мелкомасштабных неоднородностей придает войдам более сложный, но и более интересный иерархический вид. Оказалось, что большие войды, ограниченные массивными двумерными и линейными образованиями — стенами и филаментами, или галактическими нитями, состоят из большого числа войдов поменьше, очерченных более тонкими стенками и филаментами, которые, в свою очередь, также структурированы.
В расчетах с десятками и сотнями миллиардов частиц иерархия достигает трех и более уровней, и это, конечно, не предел. С ростом вычислительной мощности применяемых компьютеров масштаб моделей будет расти, и следует ожидать дальнейшего усложнения структуры войдов.
Но не будем забегать вперед: в начале 1980-х для молодого научного сотрудника Шандарина исключительно полезной оказалась совместная с математиком Владимиром Арнольдом работа над статьей, в которой Арнольд отвечал за математическое описание «теории блинов».
Шандарин вспоминает:
Мне кажется, что на Зельдовича глубокое впечатление произвел рисунок, который я сделал в 1975 году на основе численного расчета предсказаний «теории блинов» в более простом двумерном случае. О трехмерном расчете тогда можно было только мечтать.
Этот рисунок отчетливо и недвусмысленно показал, что кроме «блинов» в теории также возникают и другие, геометрически более сложные структуры. Эти структуры нетривиальным образом соединяются друг с другом в процессе эволюции, образуя единую конфигурацию, вызывающую ассоциацию с паутиной или сетью с неодинаковыми ячейками. Вероятно, Зельдович почувствовал, что за всем этим может стоять красивая математика, и поэтому обратился к Арнольду. Пообщавшись с Арнольдом, Зельдович отправил к нему Шандарина с теми самыми рисунками и инициировал оптический эксперимент («единственный эксперимент в моей жизни», как заметит потом Шандарин), моделирующий «теорию блинов» в двумерном случае. Итогом стала статья, опубликованная в журнале «Успехи физических наук» в разделе «Методические заметки».
Арнольд, в отличие от многих математиков, блестяще владел физическим языком и физическим мышлением, — говорит Шандарин, — Я как-то стал свидетелем такой сцены во время одной из конференций в Таллине, когда сотрудник ГАИШ Леонид Грищук высказал утверждение математического характера, а Арнольд тут же среагировал: нет, это не правильно. Грищук предложил написать уравнение. Арнольд возразил: «Зачем тут писать уравнение, когда и так из физики ясно, что этого не может быть». И он был прав. Но услышать такое от математика было невероятно.
Вот как Арнольд охарактеризовал «теорию блинов» в статье «ЯБ и математика» в сборнике «Знакомый незнакомый Зельдович»:
Построенная Яковом Борисовичем «теория блинов», в сущности, эквивалентна теории простейших, так называемых лагранжевых, особенностей в симплектической геометрии […] Ее математические трудности так велики, что многие вопросы остаются до сих пор нерешенными, а достигнутые (уже в последние годы) результаты были получены лишь вследствие осмысления ряда экспериментов лазерной оптики и компьютерного моделирования. Переход от локально-аналитического исследования к анализу глобально-топологических и статистически-перколяционных свойств возникающих структур в работах ЯБ не может не вызвать восхищения математиков. В этих работах скорее физика становится служанкой математики, чем наоборот.
Если внутри СССР кооперация с ведущими учеными строилась довольно легко, то взаимодействовать с иностранцами было тяжело. Первые контакты с иностранными учеными у группы Зельдовича начались на симпозиуме Международного астрономического союза (МАС) в Таллине в 1977 году. Там Шандарин познакомился с астрофизиком из Кембриджа Бернардом Джонсом. Джонс хотел, чтобы доклады о «теории блинов» услышали коллеги на Западе. Однако сам Зельдович и его ученик и соавтор Шандарина Андрей Дорошкевич в то время были невыездными, и тогда Джонс в конце того же 1977 года прислал приглашение Шандарину — в Астрономический институт Кембриджского университета, да еще на целых три месяца. Дорошкевич, узнав о приглашении, просто рассмеялся, так как считал, что глупо пытаться получить заведомо невозможное.
Когда мне пришло первое приглашение в Англию, — говорит Шандарин сейчас, — Зельдович пошел к Келдышу, который был тогда директором его института и президентом АН СССР, просить отпустить меня на три месяца. Келдыш согласился, только срок пребывания сократил до одного месяца.
Однако «высшие инстанции» не разрешили научному сотруднику ехать в Англию даже на месяц, и выходило, что Дорошкевич прав. Но Джонс не сдался и прислал приглашение вновь. В 1979-м Шандарин предпринял еще одну попытку получить разрешение на поездку в Кембридж. Правда, политическая обстановка ухудшилась: СССР ввел войска в Афганистан, отношения со странами Запада обострились и шансов на выездную визу почти не было. И вдруг — неожиданность: Шандарину позвонили из управления внешних сношений Академии. «Забирайте, — говорят, — паспорт и билет. Вы завтра летите в Лондон».
Командированному молодому ученому также выдали на расходы пять фунтов, но велели после возвращения вернуть. Отъезжающий был в недоумении. Надо было предупредить принимающую сторону, ведь Джонс уже не надеялся, что советского ученого когда-нибудь выпустят. Институт прикладной математики был секретным, звонить оттуда в Англию было нельзя. Шандарин поехал на Центральный телеграф на улице Горького и позвонил оттуда из автомата.
Джонс встретил его на машине в Хитроу и повез на первое время к себе домой, потому что оформить гостиницу в Кембридже неожиданному гостю из «советского зазеркалья» за ночь он, конечно, не успел. Из-за этой недели в гостях у британца Шандарину потом пришлось давать объяснения в 1-м отделе своего института. И как все эти реалии жизни советского ученого теперь объяснять американским или российским студентам? Человека могли ждать с визитом годами, а потом все решалось за несколько часов и отказаться или отложить поездку уже было нельзя.
По возвращении счастливый сотрудник стал рассказывать коллегам, какое ошеломляющее впечатление на него произвел Кембридж: получил ключ от собственного кабинета, демократичная дружелюбная атмосфера, свобода во всем, прекрасная библиотека… Вскоре Андрей Дорошкевич вызвал его на улицу и предупредил: «Ты языком больше не трепи, а то уже ходят слухи, что ты уедешь». Шандарина это очень удивило, так как в то время мыслей об отъезде не было и в помине. Кембридж представлялся чем-то вроде прекрасного замка, куда герой попадает в пути, но права остаться у него нет.
К 1984 году у Шандарина накопилось достаточно результатов для защиты докторской диссертации. В начале 1980-х, через 11 лет после публикации «теории блинов», наконец удалось донести до молодых западных космологов по крайней мере одно ее полезное приложение, которое с тех пор неизменно используется во всех численных расчетах структуры Вселенной. По приглашению Джонса Сергей Шандарин выступил с докладом в Центре научной культуры имени Этторе Майорана в городе Эриче на Сицилии и рассказал о результатах первого трехмерного численного эксперимента по образованию структуры с полным расчетом гравитационного взаимодействия, проведенного им с Анатолием Клыпиным. Были и другие успехи.
История защиты Шандариным докторской диссертации тоже красочно иллюстрирует случайное влияние «добрых и злых сил», сталкивающихся в научной среде. Прежде всего, надо было выбрать подходящий докторский совет. Докторские защиты в те времена были куда более «политизированы» в научном смысле, чем кандидатские. Считалось, что новый доктор будет принадлежать к определенной научной группировке и тем самым несколько сдвинет существующий баланс сил. (Как потом скажет об этом периоде Алексей Старобинский, «считалось, что тогда в Москве боролись между собой разные школы. Но когда основатели умерли, выяснилось, что серьезных научных противоречий между их учениками нет, потому что это были в основном человеческие конфликты и межличностные противостояния».)
Но существовали и другие проблемы при выборе совета: в одном была очередь на пару лет, в другом — не очень дружелюбный председатель, третий не вполне подходил по профилю, четвертый не годился потому, что диссертации, защищенные в нем, направлялись на утверждение в ту секцию Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, которой правил враждебный председатель. При этом враждебность, нейтральность или дружественность рассматривалась главным образом по отношению не к диссертанту, а к его опекуну.
Зельдович предложил докторский совет физфака МГУ. Однако, когда там посмотрели автореферат докторской, стало ясно, что все придется перепечатывать. Деканом физфака тогда был Василий Степанович Фурсов, который не переносил Зельдовича и о котором ходили слухи, что он связан с КГБ. Коллеги предупредили: если Фурсов увидит в реферате или диссертации имя Зельдовича, он может завалить защиту. Диссертанту пришлось сменить именные ссылки в тексте на безличные номера в надежде, что Фурсов не станет выяснять, кто за каким номером стоит, и таким образом замаскировать имя учителя в тексте. Главным оппонентом диссертации был Исаак Халатников, ученик и соавтор Льва Ландау. Однако по рассеянности Халатников забыл про защиту, и диссертанта чуть не провалили из-за нарушения процедуры. И тут роль «волшебного помощника» сыграл Рашид Сюняев, который немедленно был утвержден дополнительным оппонентом и тут же написал положительный отзыв. Такой процессуальный трюк удовлетворял всем формальностям и был возможен только потому, что совет уже располагал положительным письменным отзывом Халатникова. После удачной защиты Шандарина стали выпускать за границу все чаще.
Спустя несколько лет он перешел из ИПМ, где опять же из-за межличностных конфликтов, непосредственно к нему имевших мало отношения, все это время оставался на должности младшего научного сотрудника, в Институт физических проблем, знаменитый «Капичник». В конце 1982 года умер академик Илья Лифшиц, заведующий теоретическим отделом «Капичника», и директор института академик Капица пригласил на его место Зельдовича, но поставил условие, чтобы других астрофизиков или космологов в институте не было. В 1984 году Капица умер и в Институт физических проблем пришел новый директор — Андрей Боровик-Романов. И вот теперь Зельдович смог выбить для любимого ученика, новоиспеченного доктора, ставку старшего научного сотрудника. Но проработали они в Институте физпроблем вместе недолго — в декабре 1987 года Зельдовича не стало.
В последние два года перед отъездом в Канзас я оказался словно в изоляции, разговаривать стало не с кем, — вспоминал то время Шандарин. — Раньше мы беседовали с Зельдовичем почти каждый день, а после его смерти наступила пустота. Я жил одновременно в тени и при свете Зельдовича. Никто из тех, с кем я потом близко столкнулся в своей жизни, не достигал его уровня. Я задавал себе вопрос: что я смогу дальше сделать сам?
С 1987 до 1992 года Шандарин продолжал работать в «Капичнике». Он числился его сотрудником даже после отъезда в США летом 1989 года. Но для Института физпроблем космология была непрофильной областью — тут не было не только коллег с близкой тематикой, но даже необходимых книг и журналов в институтской библиотеке. Компьютер — один на институт, и тех программ, которые были нужны Шандарину для расчетов, на нем установлено тоже не было. Поэтому, когда пришло приглашение год поработать в Канзасском университете в статусе visiting professor, Шандарина отпустили легко. Приглашение поступило от Эдриана Мелотта, который раньше приезжал в Москву, встречался с Зельдовичем и много общался с его сотрудниками. Он также был одним из немногих тогда на Западе космологов, кто всерьез заинтересовался «теорией блинов».
Но возникло неожиданное препятствие со стороны американцев. Оказалось, что по закону штата Канзасский университет, который финансируется из местного бюджета, не имеет права тратить деньги на перелет через океан. И университет отказался покупать Шандарину билет. В свою очередь, в Управлении внешних сношений президиума Академии наук (УВС) ему сказали, что у них тоже для рядовых сотрудников денег на билет нет, а купить его самому тогда было невозможно. Почему? Попробуй объясни теперь студентам.
И тогда на помощь Шандарину пришел еще один «волшебный помощник» — Дэвид Уилкинсон, тот самый, в честь которого назван эксперимент WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). За год до этого Уилкинсон и Шандарин встретились на конференции в городе миллионеров Аспене в штате Колорадо. И тогда, словно предчувствуя надвигающиеся перемены, Уилкинсон сказал: «Если у тебя возникнут проблемы в Америке, дай мне знать». И вот теперь пришлось обращаться к великодушному коллеге с просьбой помочь пересечь океан. Уилкинсон прислал Шандарину билет с приглашением от Принстонского университета сделать у них доклад.
Шандарин был одним из первых советских ученых, кому разрешили выехать со всей семьей. То, что сегодня молодому человеку в России покажется невероятной экзотикой, тогда было обыденным: если один член семьи ехал на работу в капиталистическую страну, остальные оставались на родине почти в заложниках. Получить выездную визу всей семьей было непростой задачей. И Шандарин решил, что если семье не дадут выездную визу, то он просто откажется ехать. Однако в УВС вдруг согласились начать оформление документов для всей семьи. Правда, для того чтобы выпустили дочь, тогда студентку психологического факультета МГУ, Шандарину пришлось обращаться в партком факультета. Но и тут благодаря новым временам, «перестройки и гласности», сказали, что препятствий чинить не будут и отпустят студентку Шандарину с отцом на год. Никто тогда не знал, что статус visiting professor уже через год превратится в постоянную позицию.
Мы думали, что едем на год, а оказалось, что навсегда. У меня всегда была мечта жить в башне из слоновой кости, но когда я соглашался на постоянную позицию в Америке, решение давалось мне очень тяжело… Я ведь не хотел уезжать на всю жизнь, но я и не понимал, куда возвращаться.
Обстановка в научных институтах в начале 1990-х в Москве была тяжелой. Проблемы были не только с зарплатами и научной литературой, но и с оборудованием. Не хватало обычных компьютеров.
Вспоминает Андрей Илларионов:
В 1993 году я был в командировке в Балтиморе, и Сережа в своем Канзасе раздобыл для нашего отдела в ИКИ компьютер, переправил его мне в Балтимор, а я его повез в Москву. Так у нас появился в отделе свой собственный компьютер, нам очень повезло.
На этом фоне условия в Канзасском университете выглядели если и не башней из слоновой кости, то по крайней мере очень привлекательными. Достойная жизнь, отличная научная библиотека, минимум бюрократии, возможность публиковаться в любых журналах без согласований и ездить на конференции без всяких разрешений Первого отдела. И лишь чуть позже стало понятно, что у этой жизни есть и обратная жесткая сторона, которая требует от ученого быть в тонусе, уметь отстаивать свои интересы и при необходимости идти на компромиссы. Но дело было не только в новой среде. Наступала новая эпоха.
В одном из своих интервью Шандарин замечает:
Сейчас в научных подходах становится меньше романтики, а больше прагматики. Уже нет одиночек-исследователей, которые совершают прорывы, а основные достижения вырабатываются коллаборациями. Да и статьи подписываются порой сотнями авторов — проявляется в некотором смысле индустриальный подход. Мы начинали заниматься астрофизикой в романтическую эпоху, когда многое рождалось на бумаге и в обсуждении. Сейчас эксперименты планируются на много лет вперед.
В 2001 году Сергей Шандарин был избран почетным членом Американского физического общества — «За инициирующие работы в теории гравитационной неустойчивости, в особенности способствующие нашему пониманию образования сверхскоплений галактик во Вселенной».
В эту новую эпоху Шандарин сделал все, чтобы «теория блинов» вошла в контекст мировой астрофизики и была признана западными космологами-астрофизиками. Почему на это ушло больше 20 лет упорного труда, статей, докладов? Сам Шандарин считает, что причина кроется отчасти в специфике образования космологов на Западе и как следствие — в некоторой узости их понимания:
В подавляющем большинстве университетов США гидродинамика — как специальный курс — не входит в программы подготовки физиков и тем более космологов и астрономов. Гидродинамика относится к инженерным курсам. А приближение Зельдовича требует глубокого знания и понимания уравнений Лагранжевой гидродинамики и, в частности, Лагранжевых координат.
Интересно, что еще в 1946 году именно на это указал Лев Ландау в отзыве к трудам Зельдовича во время выборов в члены-корреспонденты АН СССР:
Характерно для работ Зельдовича широкое использование им, наряду с методами «обычной» теоретической физики, также и гидродинамики. Такое параллельное владение обеими областями — крайне редкое среди физиков-теоретиков — является характерной и очень ценной особенностью Зельдовича, делающей для него доступными вопросы, недоступные ни для гидродинамиков, ни для физиков-теоретиков «обычного» типа.
Конечно, немногие ученые в Америке могли понять и оценить работу Зельдовича, тем более не слыша и не зная его лично. Недаром Стивен Хокинг, пока не увидел Зельдовича своими глазами в Москве, был уверен, что это — коллективный псевдоним, вроде «Бурбаки» в математике.
«Когда я поехал в Америку, я поставил перед собой задачу популяризировать и развить „теорию блинов“, и думаю, что с этой задачей справился», — считает Шандарин, автор более чем 140 публикаций в ведущих журналах по астрофизике и космологии. Его научная жизнь в Америке оказалась не менее плодотворной, чем в Советском Союзе.
По мнению Шандарина, работая в США, он получил неизмеримо бóльшие возможности для развития теории. Если за первые 10 лет после опубликования на нее было сделано менее двух десятков ссылок, 12 из которых принадлежали советским авторам, то за последние 10 лет их более 600.
Но, конечно, еще важнее было добиться более глубокого понимания ее следствий, а также дальнейшего развития. Расчет начальных условий для численного моделирования возникновения и эволюции крупномасштабной структуры вселенной, то есть скоплений и сверхскоплений галактик, хотя и полезное, но самое тривиальное следствие «теории блинов». На качественно более высоком уровне, чем в начале 1970-х, была численно исследована точность математической формулы, лежащей в основании теории. С помощью высокоточных численных расчетов с полным учетом гравитационного взаимодействия удалось доказать, что первыми возникают именно «блины», как и предсказал Зельдович.
В обновленной теории эволюции Вселенной, учитывающей как темную материю, так и темную энергию, было показано, что «блины», или, как их часто называют, «стены», не разбивают пространство на изолированные индивидуальные войды. Вместо этого существует один гигантский войд, занимающий около 90 % всего пространства Вселенной. В сотрудничестве с индийскими космологами Шандарин разработал новый метод расчета параметров «космической сети», основанный на использовании функционалов Миньковского, — еще один пример очень красивой математики.
Осенью 2012 года Сергей Шандарин предложил своему соавтору Рину ван де Вейгарту сообща обратиться в Международный астрономический союз (МАС) с идеей проведения симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения Зельдовича. МАС это предложение одобрил. Симпозиум «Вселенная Зельдовича: происхождение и развитие космической сети» (The Zeldovich Universe: Genesis and Growth of the Cosmic Web) прошел с большим успехом в Таллине в июне 2014 года. Этому успеху в значительной мере способствовал энтузиазм Яана Эйнасто и Энна Саара — последовательных сторонников теории Зельдовича, а также всей Тартуской обсерватории, где они продолжают работать. Это было особенно символично, учитывая, что именно в Таллине в 1977 году состоялся тот знаменитый симпозиум МАС-79, на котором космологическая школа Зельдовича впервые встретилась с ведущими западными космологами. Там впервые столкнулись два различных представления о крупномасштабной структуре Вселенной — восточное и западное, как их именовали в последующие годы. Их борьба во многом определила развитие одной из самых активных областей современной космологии. Само название симпозиума подчеркивает триумф «теории блинов» и других космологических идей Зельдовича, который стал возможен во многом благодаря многолетним усилиям и упорству Сергея Шандарина.
Из обстоятельств академической жизни, не связанных непосредственно с научными исследованиями, пожалуй, самым тяжелым испытанием, как и для большинства коллег, уехавших в 1990-е, для Шандарина стало преподавание в незнакомой образовательной системе и на чужом языке. Попытки транслировать опыт МФТИ в американский вуз выглядели иногда как «перенос чуждых нам явлений на непригодную для этого почву».
Так, после первого же семестра профессор Шандарин объявил, что студентов ждет устный экзамен. Заметив их испуг, он поделился с американскими коллегами своим удивлением. Оказалось, что устный экзамен для американского студента — это почти психологическая травма, ведь там исключительно редко сдают экзамены устно и поэтому просто не знают, как себя вести и что делать в этом случае.
Но и сам Шандарин болезненно адаптировался к правилам поведения со студентами. Есть вещи, к которым выпускнику физтеха привыкнуть невозможно. Если студент дает неверный ответ и при этом упорствует — мол, «таково мое мнение», то в ответ от Шандарина слышит, что наука — совсем не политкорректная штука. Вслед за Зельдовичем, который утверждал, что «правда всегда одна», его ученик и сегодня настаивает:
Если я делаю одно научное утверждение, а вы — другое, то они не могут быть оба верными. Только один из нас прав. Чтобы выяснить, кто именно, нам могут потребоваться годы. Но это будет только один из нас.
К счастью, в науке, в отличие от античной мифологии, «последних героев» нет и торжествует не сила или успех, а истина, которая принадлежит всем.
Космология
Спаситель инфляции: Андрей Линде (Ольга Орлова)
«Моя дорожка могла пойти чуть-чуть в ином направлении, но едва ли это было так уж реально», — размышляет сегодня Андрей Линде. Сейчас и правда кажется невозможным, чтобы он занимался чем-то другим, кроме космологии. Можно ли представить современную историю рождения Вселенной без имени Линде? Едва ли. И никакие истории про любовь к геологии в детстве не изменят наши устойчивые ассоциации: мы говорим «вечная инфляция и множество вселенных» — подразумеваем Линде.
Школьником я хотел стать геологом. Специально таскал на себе рюкзак с камнями — тренировался для будущих экспедиций. Но однажды мы с родителями поехали на машине на юг и ехали долго, целую неделю. Я тогда только что окончил седьмой класс. Мои родители были физиками. Они дали мне две книжки: одна — Сергея Вальдгарда «О Земле и Вселенной», про астрофизику, другая — популярная книжка о специальной теории относительности, по-моему, написанная Ландау и Лифшицем. Я сидел на заднем сиденье машины, неделю мне делать было нечего, и я был вынужден читать эти две книжки. Когда мы доехали до места, до Черного моря, я уже был конченым человеком. Я понял, что, когда приду осенью в школу, в восьмой класс, моя репутация будет подорвана, ведь она отчасти основывалась на том, что я, совсем еще мальчик, уже знал о своем будущем — я стану геологом. А я все уже — я не могу быть геологом, мне физика так интересна, что мое будущее изменено. И я ничего с собой поделать не смог. Пришел в школу и сказал: «Ребята, я изменщик».
С тех пор таких развилок в жизни Андрея было немного. Следующая ждала его уже на физфаке МГУ, где он учился в одной группе с Алексеем Старобинским. Когда, завершая учебу в университете, Линде захотел опубликовать свой диплом по физике нейтрино, его проницательный научный руководитель Давид Киржниц сказал: «Забудьте про это, наступают новые времена». И они начали работу над теорией космологических фазовых переходов.
К тому моменту в космологии прочно утвердилась теория горячего Большого взрыва, предсказанная Фридманом и Гамовым на основе общей теории относительности Эйнштейна и подтвержденная наблюдениями Хаббла и измерениями Пензиаса и Вильсона. Оказалось, что Вселенная крайне однородна и удивительно плоская, хотя общей теории относительности Эйнштейна не противоречила бы Вселенная любой геометрии. Теоретики искали ответ на вопрос, почему Вселенная такая, или, выражаясь словами автора термина «инфляция» Алана Гута, — что взорвалось, как взорвалось и что послужило причиной взрыва.
Необходимо было объяснить, почему энергия Большого взрыва выверена с немыслимой точностью: «Ничтожное отклонение приводит к космологической катастрофе: либо огненный шар коллапсирует под действием собственного тяготения, либо Вселенная оказывается почти пустой».
В 1980 году Линде попал на семинар Валерия Рубакова, где участники пытались найти объяснения, почему Вселенная такая плоская, используя теорию с фазовыми переходами.
Инфляции тогда еще не было и близко, — вспоминает Валерий Рубаков. — До того как появилась работа Гута, у нас с Володей Лапчинским и Лешей Веряскиным возникла мысль, близкая к инфляционной теории. И мы в Институте ядерных исследований решили провести семинар, чтобы обсудить, как организовать Вселенную, похожую на современную, из другого начального состояния. Идея эта была основана на работах Давида Киржница и Андрея Линде о том, как устроена среда при очень высоких температурах. Поэтому мы и позвали Киржница и Линде на семинар. Я к Андрею тогда относился почти как к классику науки. Он был молодой человек, но уже известный ученый. А еще через пару недель Андрей мне позвонил и сообщил, что пришел препринт Алана Гута, в котором уже был термин «инфляция». Я поехал к нему в ФИАН читать этот препринт. В тот момент я осознал, что мы много чего недодумали и наука развивается еще интереснее, чем мы предполагали.
Об этом препринте Линде уже рассказывал Лев Окунь. В нем американский астрофизик Алан Гут предложил объяснить проблемы плоской Вселенной с помощью расталкивающей гравитации необычного первичного (ложного) вакуума, который, распадаясь, образует горячую Вселенную. Энергетические характеристики ложного вакуума определял профиль скалярного поля. Гут предложил назвать этот процесс инфляцией, потому что ложный вакуум расширяется очень быстро, в геометрической прогрессии, сохраняя при этом свою плотность (что никогда не делает нормальное вещество нашей вселенной).
Космологи в Москве уже знали, что за год до Гута идею расталкивающей гравитации для объяснения рождения Вселенной, исходя из общей теории относительности, предложил Алексей Старобинский. Но Линде решил развивать модель Гута, так как идея скалярного поля показалась ему более перспективной, хотя в подходе Гута был один серьезный изъян: в его уравнениях Вселенная не получалась однородной.
Гут быстро понял, что это не работает, и в этой же статье написал, что было бы хорошо, если бы кто-нибудь объяснил, как сделать, чтобы она работала. А год спустя совместно c Эриком Вайнбергом он написал статью размером 100 страниц, в которой доказывалось, что теорию исправить нельзя. Но, по счастью, почта между Америкой и Россией работала очень медленно, и к моменту, когда они написали свою статью, я эту теорию уже исправил. Вместо того чтобы у нас были пузырьки, как в воде, и все кончалось столкновением пузырьков, Вселенная внутри каждого пузырька расширялась тоже. И поэтому все, что вас интересует, образуется внутри одного пузырька. Увидев это, я понял, что если мы все живем внутри одного пузырька, то можно решить все проблемы, которые были у Гута. Это было летом 1981 года. Я не хотел будить жену и детей, пошел в ванную, втащил туда телефон, закрыл дверь, сел на пол, позвонил Валерию Рубакову и выяснил, что он об этом механизме не думал. Тогда я выскочил из ванной, пошел будить жену и сказал, что я знаю, как родилась Вселенная.
Так Линде понял, как спасти теорию инфляции. Он назвал эту версию новой инфляцией.
Статья Линде появилась только в феврале 1982 года, так как в СССР публикациям в международных журналах предшествовала длинная процедура одобрения в Главлите. А через три месяца статью с похожими идеями опубликовали американские космологи Андреас Албрехт и Пол Стейнхардт.
В течение года после выхода первой статьи Гута по новой теории было опубликовано почти 40 работ, — вспоминает Александр Виленкин. — Еще через год их количество еще выросло и составляло до 200 статей в год в течение всего последующего десятилетия. Казалось, будто люди бросили все, чем они занимались, и принялись работать над инфляционной теорией.
С одной стороны, этот невероятный интерес к инфляции был объясним необыкновенной плодотворностью и красотой этой теории, с другой — тем, что теория порождала все больше и больше важных вопросов. По мнению Виленкина, теория инфляции была похожа на теорию эволюции Дарвина, поскольку обе теории объясняли то, что прежде считалось необъяснимым, и тем самым расширяли поле исследований.
Со всей очевидностью это проявилось на этапном Наффилдовском симпозиуме, который в 1982 году собрал в Кембридже Стивен Хокинг. Линде как научный сотрудник ФИАНа был выездным и потому смог вместе с Алексеем Старобинским принять в нем участие. После симпозиума Линде понял, что новая инфляция не объясняет некоторых важных вещей. В частности, в ней предполагалось, что поле, ответственное за раздувание Вселенной, должно быстро прийти в термодинамическое равновесие. А уравнения показывали, что термализация не успевает произойти, а это значит, что надо отказаться от идеи изначально горячей Вселенной. К этому большинство космологов было психологически не готово. И тогда Линде в 1983 году выдвинул модель хаотической инфляции, которая была гораздо проще предыдущей модели, но поначалу оказалась куда менее популярной, чем предшествующая версия.
Я помню, как летел с этой теорией на конференцию в Америку в 1983 году, и вдруг самолет из Канады до Нью-Йорка повернул назад в Канаду. Как будто Бог не хотел, чтобы я рассказал людям про хаотическую инфляцию. Но все было проще: самолет ушел из Нью-Йорка, потому что там были грозовые дожди и он не мог сесть. Он развернулся, долетел до Канады, потом снова развернулся и полетел обратно в Нью-Йорк. И нас стали поить вином за то, что мы потеряли много времени впустую. Когда нам стали давать вино, я подумал: нет, оказывается все в порядке, теория, наверное, правильная.
Через три года Линде понял, что хаотическая инфляция иногда приводит к очень неожиданному результату. В некоторых частях Вселенной квантовые флуктуации могут локально увеличить плотность энергии скалярного поля. И хотя вероятность таких событий очень мала, каждая такая часть расширяется гораздо быстрее, чем ее соседи, становится экспоненциально большой и, в свою очередь, создает новые части Вселенной. Таким образом, инфляционная вселенная входит в вечный режим самовоспроизводства и становится мультивселенной, вечно растущим фракталом. Эта теория обеспечивает научную интерпретацию космологического антропного принципа: инфляция постоянно создает новые части Вселенной, но мы можем жить только в тех частях мира, где законы физики позволяют наше существование.
«Когда я это осознал, это было одним из самых больших эмоциональных потрясений в моей жизни», — признавался потом Линде.
За три года до этого в Америке Александр Виленкин опубликовал статью «Рождение инфляционных вселенных», где понятие вечной инфляции обсуждалось в последнем разделе. Однако Виленкин встретил равнодушие коллег и перестал развивать эту идею. Теория, развитая Линде в 1986 году, была более общей, и ее связь с антропным принципом позволяла решить много проблем, которые прежде казались трудными или метафизическими. Пути назад не было.
Вот как сам Виленкин описывает эту ситуацию:
Статья Линде о вечной инфляции вызвала не больше интереса, чем моя, опубликованная тремя годами раньше. Однако его реакция была иной. Он не сдавал позиций, продолжал исследования в этом направлении и неоднократно выступал с докладами о своих результатах. Тем не менее физическое сообщество не поддавалось его нажиму. Понадобилось почти 20 лет, чтобы удача повернулась лицом к вечной инфляции.
В 1989 году Андрей Линде с женой, физиком-теоретиком Ренатой Каллош, уехал на год в ЦЕРН в отдел теоретической физики, а уже в 1990 году Линде и Каллош с сыновьями переехали в США, где оба супруга стали профессорами Стэнфордского университета. Таким образом, их зарубежная научная география довольно проста — постоянная работа в Северной Калифорнии, в одном из лучших университетов Америки, уже более 27 лет. Но научная биография зарубежного периода Линде далека от простоты и однообразия. За это время Андрей Линде стал лауреатом большинства премий по астрофизике и космологии, среди которых медаль Оскара Клейна (2001), медаль Дирака (2002), премия Грубера по космологии (2004), премия по фундаментальной физике Мильнера (2012), премия Кавли (2014).
В середине 1990-х Линде, Лев Кофман и Алексей Старобинский вместе развили теорию разогрева Вселенной после инфляции. Это процесс, во время которого была создана вся окружающая нас материя. Без него огромная Вселенная, возникшая после начального раздувания, была бы пустой и жизнь в ней была бы невозможна.
В 2003 году Линде и Каллош совместно с физиками Шамитом Качру и Сандипом Триведи разработали механизм стабилизации вакуума в теории суперструн. Этот механизм может приводить к распаду всего мира на множество экспоненциально растущих частей с разными значениями физических констант. Каждая из этих частей растет так быстро, что наблюдатели, живущие в одной из них, не могут видеть остальные части мультивселенной, и потому им кажется, что мир всюду устроен одинаково. Но в действительности, как было показано рядом других авторов, количество разных вариантов в теории суперструн может быть огромно, достигая 10 500. Новые части вселенной разного типа постоянно возникают в процессе вечной инфляции, но мы можем жить только в тех частях мультивселенной, где законы физики это допускают. И, согласно теории суперструн, таких частей должно быть много.
В последнее время идея вечной инфляции стала очень популярной не только в среде физиков и математиков, но и в среде гуманитариев. Она меняет не только картину мира в ее физическом понимании, но и требует иной метафизики. Правда, многие коллеги Линде считают, что расстояния между разными вселенными так велики, что узнать о них принципиально невозможно, а значит, и рассуждать о них бессмысленно, ведь проверить мы это никогда не сможем. Однако скепсис коллег не останавливает автора идеи о множестве вселенных.
Разум, — считает Линде, — нельзя ограничить тем, что мысль не способна распространяться со скоростью, большей скорости света. Если мы чего-то не можем увидеть, это не означает, что мы об этом чем-то не можем подумать.
Теория множественной вселенной все еще находится в процессе разработки, но сейчас она дает единственное существующее объяснение целого ряда наблюдательных фактов. Сам Линде предлагает использовать в этом отношении знаменитый принцип Шерлока Холмса: после того как устранено невозможное, то, что остается, каким бы невероятным это ни казалось, должно быть верно.
Космология
Что было, когда ничего не было: Александр Виленкин (Владимир Губайловский)
Начало 1960-х было временем романтического увлечения наукой и особенно физикой. Неудивительно, что еще школьником Александр Виленкин почувствовал «роковую тягу космологии» (так он позднее сформулировал единственную причину, по которой только и стоит космологией заниматься).
Александр Виленкин родился 13 мая 1949 года в Харькове в интеллигентной еврейской семье. Его отец Владимир Львович Виленкин — географ, доцент геолого-географического факультета Харьковского государственного университета (ХГУ), увлеченный исследователь горных ландшафтов, фронтовик.
Саша отлично окончил 27-ю физматшколу, которая в 1963 году была создана на базе Украинского физико-технического института (УФТИ) и ХГУ. Одноклассник Виленкина Александр Песин вспоминает:
Прекрасно помню, как мы ходили на экскурсию в легендарный УФТИ, который тогда был сверхсекретной организацией. Сам Антон Вальтер, один из основоположников научной школы ядерной физики, встречал нас тогда в своем кабинете, водил по институту, все рассказывал и показывал.
В 1930-е Антон Вальтер участвовал в одном из первых мире экспериментов по расщеплению атомного ядра, и «сверхсекретным» УФТИ был именно потому, что активно участвовал в советском атомном проекте.
Сам Виленкин в интервью Валентине Гаташ рассказывал:
Еще во время учебы в последнем классе школы я изучал теорию относительности Эйнштейна вместе с моим другом […] Мы читали книгу «Математическая теория относительности» Артура Эддингтона […] Я был очарован красотой теории и в особенности тем обстоятельством, что она может быть использована для изучения Вселенной в целом, начиная от ее зарождения и Большого взрыва. Я думал, что возможность участвовать в этом изучении и способствовать созданию чего-нибудь нового — это и есть предел счастья.
После окончания 27-й школы почти весь класс поступил на физфак ХГУ. Виленкин и здесь был старательным отличником и занимался теоретической физикой под руководством Эммануила Канера, специалиста по физике твердого тела. Сокурсник Виленкина, физик-теоретик, профессор ХГУ Владимир Гвоздиков вспоминает, что работа, которую выполнил Виленкин, была посвящена «эффекту рассеяния электронов на поверхности металла и в соавторстве была опубликована в ЖЭТФ». ЖЭТФ — «Журнал экспериментальной и теоретической физики» — настоящее научное издание, и статья, опубликованная в нем, — серьезное достижение для студента. Но надо сказать, что физика твердого тела — далекая от космологии область науки.
На физфаке Виленкин познакомился с Петром Фоминым, астрофизиком и специалистом по квантовой теории поля, и вот это было уже куда ближе к тому, что интересовало его по-настоящему. Много лет спустя, разбирая статью 1973 года, написанную американским физиком Эдвардом Трайоном, Виленкин напишет:
Примерно в то же время идею, очень похожую на трайоновскую, высказал Петр Фомин из Харьковского государственного университета на Украине… К сожалению, Фомин не смог найти журнал, который опубликовал бы его работу. В итоге он напечатал ее в малоизвестном украинском физическом журнале.
Статья Фомина прошла незамеченной. А Трайон опубликовал свою статью в престижном Nature.
Когда Виленкин оканчивал ХГУ, казалось, что все у него будет отлично. Он получил сразу несколько предложений от научных институтов, а его научный руководитель предложил Виленкину пойти к нему в аспирантуру. Но вдруг все застопорилось.
Гвоздиков вспоминает: «Удивительным образом перед Виленкиным закрывались все двери! Позже, в одном из своих интервью для зарубежной прессы, Саша говорил, что таким образом ему мстил КГБ, поскольку он отказался стать осведомителем».
В 2007 году в интервью радиожурналисту Дженни Аттье на вопрос, почему он попал в черный список КГБ, Виленкин ответил: «Конечно, я не был ни диссидентом, ни борцом за свободу. Может быть, я неудачно пошутил в плохой компании, и КГБ мной заинтересовался». Но возможно и другое объяснение.
В университете Виленкин серьезно занялся английским. Гвоздиков вспоминает:
Саша хорошо знал английский язык, что не совсем тривиально для того времени. Дело в том, что в нашей компании был тогда некий Боб Тенсор. Его отец Джек Тенсор, коренной американец, в 30-е годы по идейным соображениям уехал из США в Союз, осел в Харькове и стал преподавать здесь на курсах английского языка.
На этих курсах Виленкин и занимался английским с настоящим носителем языка, что для Советского Союза было большой редкостью. Гвоздиков продолжает: «Любопытно, что „идейный коммунист“ Джек Тенсор вскоре захотел вернуться на родину, но сделать это ему удалось только в конце 70-х, уже пожилым человеком».
Если ситуация была такой, как ее описывает Гвоздиков, то интерес наших доблестных органов к Виленкину понятен: им просто нужен был осведомитель на этих курсах. Джек Тенсор наверняка поддерживал регулярные связи с Америкой и находился под наблюдением. Это только предположение, но то, что любые контакты с иностранцами отслеживались, а имевших такие контакты советских граждан приглашали «для беседы», имеет многочисленные подтверждения. Отказ от «сотрудничества» мог привести к неприятным последствиям.
А ситуация только ухудшалась. Снова обратимся к воспоминаниям Гвоздикова:
Из-за перенесенной в детстве болезни Саша был освобожден в университете от занятий на военной кафедре, и, соответственно, когда его призвали в армию, ему пришлось служить не офицером, как остальным, а рядовым. Причем и здесь его преследовал злой рок — он попал в стройбат. Не надо вам, наверное, объяснять, что за публика бывала обычно в стройбатах. Когда мы узнали, что Саша на себе испытывает все «прелести» армейской дедовщины, то… поехали к нему в часть, под Конотоп.
Для занятий на военной кафедре у Виленкина было слишком слабое здоровье, а для стройбата — в самый раз.
Но и после армии легче не стало. По словам Гвоздикова, Виленкин «работал где придется, например сторожем в зоопарке […] Я приходил к нему. Он сидел среди клеток со зверями и писал формулы […] Так получалось, что все обстоятельства жизни просто выталкивали его из страны».
Виленкин женился, в 1974 году родилась дочь. Виленкину вполне можно было официально эмигрировать в Израиль. Но был риск попасть в «отказники» и просидеть «в отказе» много лет. Отец Виленкина его решение эмигрировать не поддержал. После подачи документов на выездную визу работу потеряла и жена. Положение было отчаянным. Фактически эмиграция выглядела единственной возможностью продолжить нормально жить и работать. В 1976 году 27-летний будущий космолог получил разрешение на выезд.
Дорога в Тафтс
Но до Израиля Виленкин не доехал. Первоначально он и его семья оказались в Италии. Если в советском Харькове Виленкину хронически не везло, то стоило пересечь границу — и ему стала сопутствовать удача. Он получил приглашение от Университета штата Нью-Йорк в Буффало, уже в 1977 году защитил диссертацию и получил докторскую степень. За этим последовало приглашение в Университет Кейс Вестерн Резерв. Здесь он занимался физикой металлов, но «роковая тяга космологии» взяла свое, и Виленкин обнаружил гораздо более интересную для себя тему — черные дыры.
В 1978 году он начал работать в Университете Тафтса, и на этом его недолгое — всего два года — кочевье по американским университетам закончилось. Тафтс оказался тем местом, с которым Виленкин связал свою жизнь надолго (он работает там и по сей день), а космология стала главной темой его исследований. С 1987 года Виленкин — профессор Тафтса, а с 1989-го — директор Института космологии Университета Тафтса. Виленкин пишет: «Кампус Тафтса, стоящий на пологом склоне холма и окруженный тенистыми вязами, наполнен атмосферой изящества и покоя». После стройбата под Конотопом это был рай.
Попав в Тафтс, Виленкин наконец смог посвятить себя нормальной работе ученого, которая внешне выглядит довольно скучной: занятия с аспирантами, конференции, доклады, статьи, книги… Но эти «скучные» занятия сделали Виленкина настоящей звездой научных ток-шоу и привлекли к его работе внимание огромного числа людей во всем мире.
К рубежу 1980-х было общепринято, что Вселенная родилась в результате Большого взрыва. Это подтверждали и наблюдаемый разлет галактик, который был открыт американским астрономом Эдвином Хабблом, и микроволновой фон, который был предсказан Георгием Гамовым и в 1960-х обнаружен американскими радиоастрономами. Но оставался вопрос, который Виленкин формулирует так:
Окружающий нас огромный мир, полный галактик, образуется только при том условии, что энергия первичного взрыва выверена с немыслимой точностью. Ничтожное отклонение приводит к космологической катастрофе: либо огненный шар коллапсирует под действием собственного тяготения, либо Вселенная оказывается почти пустой.
Казалось, задаваться вопросом, почему Большой взрыв был именно таким, бессмысленно. Но…
…В самый обычный зимний день 1980 года, около полудня, я сидел в тесно набитой гарвардской аудитории, слушая самый поразительный доклад из всех, что мне довелось услышать за много лет. Молодой физик из Стэнфорда Алан Гут рассказывал о новой теории происхождения Вселенной, — пишет Виленкин.
Алан Гут и еще целая группа талантливых американских и советских астрофизиков предприняли исследование «начала мира». Оказалось, что при разумных теоретических предположениях и без всякого противоречия с астрономическими наблюдениями можно построить теорию самого Большого взрыва. Причем такую теорию, которая способна объяснить и «немыслимую точность» энергии первичного взрыва, и изотропность Вселенной (Вселенная почти одинакова в любом направлении), и то, что геометрия Вселенной очень близка к «плоскому» евклидову пространству, и то, что вокруг нас существуют галактики и звезды, и даже то, почему в этой Вселенной можем существовать мы сами. И не только объяснить, но и предсказать некоторые эффекты, которые могут быть наблюдаемыми.
Подробно описывать теорию инфляции здесь нет необходимости. На сегодня существует больше десятка отличных научно-популярных книг, написанных самими космологами, в которых они рассказывают и о самой теории, и о своем участии в работе над «инфляцией». Но два момента необходимо отметить: теория инфляции предполагает, что «началом мира» был не Большой взрыв, а некоторое состояние материи, которое Виленкин называет «небольшим кусочком ложного вакуума». Этот «ложный вакуум» экспоненциально расширяется и распадается, и в момент его распада происходит Большой взрыв и рождается вселенная. А в процессе расширения «ложный вакуум» переживает «квантовые флуктуации» — случайные микровозмущения, и эти возмущения создают неоднородность Большого взрыва, достаточную для рождения звезд и галактик.
Виленкин пишет:
Летом 1982 года… по приглашению Стивена Хокинга съехались около 30 космологов со всего мира. Они собрались на трехнедельный симпозиум по очень ранней Вселенной, который проводился на средства Фонда Наффилда.
Виленкин участвовал в Наффилдском симпозиуме еще не как космолог, а как специалист по теории струн. Но здесь он услышал доклад Андрея Линде, который построил «работающую» модель инфляции, и узнал о работах своих советских коллег — Алексея Старобинского и Вячеслава Муханова, которые тоже внесли немалый вклад в теорию инфляции.
Всего за несколько последующих лет теория инфляции окрепла и перестала быть занятием нескольких фриков. Многие физики (специалисты по теории струн, по элементарным частицам) почувствовали: здесь все по-взрослому.
В 1983-м Виленкин опубликовал статью «Рождение инфляционных вселенных», в которой обратил внимание, что в модели, предложенной Линде, инфляционное расширение ложного вакуума происходит быстрее, чем этот вакуум распадается. Поскольку распад — это и есть Большой взрыв, при котором рождается вселенная, таких вселенных будет бесконечно много, и все они будут погружены в расширяющееся инфляционное море.
В более поздних работах Виленкин называет такие вселенные «островными» и сравнивает возникающий таким образом мир (который потом стали называть Мультиверсом, в отличие от Универсума — единственной Вселенной) с архипелагом, где вселенные — это острова, которые окружает море инфляции. Эти острова непрерывно рождаются и со скоростью, близкой к скорости света, удаляются друг от друга (из этого, в частности, следует, что наблюдателю из одной островной вселенной другие принципиально недоступны). Американский физик-теоретик Брайан Грин привел более прозаический образ: он назвал такую модель Мультиверса «швейцарским сыром»: если мы «сфотографируем» Мультиверс, то дырки в сыре — это «островные вселенные» Виленкина, а сам сыр — это море инфляции.
Термин «вечная инфляция» появился в 1986 году в статье Андрея Линде «Вечно существующая самовоспроизводящаяся хаотическая инфляционная вселенная». Но ни статья Виленкина, ни статья Линде в 1980-е не привели к признанию «вечной инфляции» — слишком экзотически она выглядела. Только в конце 1990-х, когда «заговорили небеса» и сразу две группы астрономов обнаружили, что наша Вселенная не просто расширяется, а расширяется ускоренно, что и было предсказано теорией инфляции, к ней, наконец, отнеслись всерьез люди практического склада — экспериментаторы и астрономы, и инфляция обрела черты респектабельной, проверяемой теории.
Сreatio ex nihilo
В 1982 году Виленкин опубликовал свою, вероятно, самую знаменитую статью: «Создание вселенных из ничего». «Творение из ничего», или, на латыни, creatio ex nihilo — один из главных постулатов христианской теологии. И ничего удивительного, что эта статья так заинтересовала теологов.
В своей Витровской лекции (Whitrow Lecture, 2011) Виленкин так прокомментировал свою концепцию: «Есть такой математический факт: полная энергия замкнутого универсума равна нулю. В таком универсуме положительная энергия материи точно компенсируется отрицательной энергией гравитационного поля». Точно так же компенсируются положительный и отрицательный электрический заряд. Но почему из состояния «ничто», то есть полного отсутствия материи и пространства-времени, родился универсум? Виленкин говорит:
В квантовой механике любой процесс, который не является строго запрещенным законами сохранения с ненулевой вероятностью, обязательно происходит […] Вы можете спросить: «Что же стало причиной появления универсума из ничего?» Удивительно, но в причине нет необходимости. Если вы возьмете радиоактивный атом, он обязательно распадется, и квантовая механика может определить вероятность распада за определенный интервал времени. Но если вы спросите: почему атом распался именно в этот момент времени, а не в какой-то другой? Ответ будет: никакой причины нет, это полностью случайный процесс. Точно так же нет никакой необходимости в причине квантового рождения универсума.
В интервью Дженни Аттье Виленкин говорит: «Моя теория не имеет отношения к теологии — это нормальная научная теория, которая опирается только на наблюдения и законы природы». Впрочем, убедил он далеко не всех, и теологи до сих пор любят обсуждать теорию Виленкина.
Звездное небо над головой
Так что же мы видим, когда поднимаем глаза к звездному небу? Может быть, нашу «островную вселенную»? Виленкин отвечает: нет, мы видим несравнимо меньший объект, который космолог называет «О-регион» или просто «пузырь».
Виленкин пишет:
…В классическом смысле наш вакуум стабилен и имеет постоянную плотность энергии, но квантово-механически он может распадаться, образуя пузырьки. Те из них, в которых вакуум имеет отрицательную энергию, однажды появившись, будут расширяться с околосветовой скоростью. Стенка пузыря может надвигаться на нас прямо сейчас. Мы не узнаем о ее подходе: она движется так быстро, что свет не намного ее опережает. Приход стенки приведет к полному уничтожению нашего мира. Даже частицы, составляющие звезды, планеты и наши тела, не смогут существовать в новом типе вакуума. Все знакомые объекты мгновенно разрушатся и превратятся в сгустки какой-то неизвестной нам материи. Так или иначе, но энергия вакуума станет в конце концов отрицательной в нашей области Вселенной. Тогда здесь начнется уплотнение с последующим коллапсом большого сжатия.
Когда это случится? «Не исключено, что пройдут гуголы лет […] а может, и довольно скоро, всего, например, через 20 миллиардов лет». Наша островная вселенная кипит и будет кипеть вечно, а вот у нашего «пузыря» обязательно будет конец.
Картину, очень похожую на «островную вселенную», нарисовал Лев Толстой в «Войне и мире»:
И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию… И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею…
— Vous avez compris, mon enfant[4], — сказал учитель.
Конечно, это чистое совпадение, но напомню: отец Виленкина — географ.
Бесконечность конечных миров
Теория Мультиверса приводит к очень любопытному выводу: вселенных бесконечно много, но количество различных вселенных конечно, а значит, одинаковые или очень похожие вселенные будут бесконечно повторяться. Причем будут реализованы все возможные варианты этих вселенных и их историй.
То, что в каждой из вселенных только конечное число различимых разных состояний, следует из основного принципа квантовой механики — принципа неопределенности Гейзенберга: чем точнее мы измеряем положение частицы, тем менее точно мы можем измерить ее скорость. Вселенная (или пузырь) состоит не из геометрических точек с бесконечно малыми размерами, а из своего рода «прямоугольников» состояний. Эти «прямоугольники» очень малы, но их «площадь» не может быть меньше половины постоянной Планка — очень маленькой, но конечной величины. То есть любая вселенная в Мультиверсе представляет собой конечный набор состояний, а любая ее история — это своего рода пошаговая стратегия, пусть и с очень большим количеством шагов, но главное: количество таких шагов конечно. Этому посвящена статья Виленкина и его соавтора и друга Жауме Гарриги «Много миров в одном» (2001).
В бесконечном Мультиверсе обязательно найдутся вселенные, подходящие для развития звезд, галактик, живых организмов и людей, — и таких вселенных бесконечно много. И среди них будут такие универсумы, в которых по каким-то причинам Солнечная система распалась, и такие, где Солнце взорвалось 13 мая 1949 года. В интервью Валентине Гаташ Виленкин сказал: «Есть такая вселенная, где я до сих пор охраняю зоопарк».
А в нашей Вселенной в 2006 году вышла книга Виленкина «Много миров в одном» (Many Worlds in One: the Search for Other Universes), и он получил всемирную известность. Как сказано в предисловии: «…Скромный, даже застенчивый профессор физики неожиданно стал знаменитым. Его участие в ток-шоу расписано на полгода вперед, ему пришлось нанять четырех телохранителей и скрываться от папарацци в неизвестном месте».
Виленкин продолжает работать, его статьи по космологии регулярно появляются в журналах и на сайте arXiv.org. Вместе с Аланом Гутом он ведет в Тафтсе семинар по космологии для аспирантов (в 14:30 по вторникам). И хорошо, что мы живем в той вселенной, где Виленкин стал космологом, а не охраняет до сих пор зоопарк.
Согласно теории Виленкина мир рождался из ничего, но космолог иногда берет слово «ничего» в кавычки:
[Рождение Вселенной] управляется теми же фундаментальными законами, которые описывают последующую эволюцию Вселенной. Следовательно, законы должны быть «на месте» еще до того, как возникнет сама Вселенная. Означает ли это, что законы — не просто описания реальности, а сами по себе имеют независимое существование? В отсутствие пространства, времени и материи на каких скрижалях могут быть они записаны? Законы выражаются в форме математических уравнений. Если носитель математики — это ум, означает ли это, что ум должен предшествовать Вселенной?
Юрий Манин так формулирует главную идею математического платонизма: «Многие математики по-прежнему считают, что математика имеет дело непосредственно с платоновским миром смыслов, в котором действительные числа существуют независимо от своих моделей».
Теория Виленкина дает математикам-платоникам новый аргумент: где-то в «платоновском мире смыслов» (а больше просто негде, потому что еще нет ни материи, ни пространства-времени!) «написаны» и уравнение Эйнштейна, и принцип неопределенности Гейзенберга, а может быть, и теорема Борде — Гута — Виленкина, в которой космологи доказывают, что Мультиверс бесконечен в будущем, но обязательно имеет начало в прошлом.
Космология
Черные дыры в квантовой пене: Вячеслав Муханов (Ольга Орлова)
«Однажды в детстве я возвращался с отцом домой. Взглянув на ночное небо, которое в тот момент выглядело особенно прекрасным, я спросил отца: „А что там?“ Он ответил: „Никто не знает. И никто никогда не узнает“. Если бы сегодня он был жив, я бы с ним сильно поспорил».
Отцу этого мальчика, к сожалению, не суждено было узнать, что его сын вырастет и станет одним из тех, кто дал несколько внятных ответов на вопросы, что же там на самом деле и откуда все это взялось. Имя Вячеслава Федоровича Муханова вошло в историю научных открытий, соединивших микрокосм и макрокосм.
Среди 40 000 жителей города Канаш Чувашской АССР школьник Слава Муханов был в местном магазине чуть ли не единственным покупателем книг по физике и математике, написанных Джоном Уилером, Рихардом Курантом, Яковом Зельдовичем. Сейчас это кажется дважды невероятным. Во-первых, потому что тогда и в столичных городах, где потенциальных читателей этих авторов нашлось бы куда больше, такие книги были в дефиците. А во-вторых, потому что этот книжный магазин, как и тысячи других по всей России, сегодня закрыт. Нерентабельно.
Но тогда никто ничему не удивлялся. Жители СССР знали, что в провинциальных книжных магазинах можно найти запрещенную цензурой поэзию и философию, редкие детективы и выдающиеся научные издания. И у кого-то, как в случае с Мухановым, эти книги меняли судьбу. Иначе как объяснить все, что произошло с ним потом?
Родители Славы не имели высшего образования и еще в раннем детстве сказали ему, что в университете он учиться не будет, поскольку в семье «нет денег на взятку». К тому же ни одного вуза в Канаше не было и до сих пор нет — ближайший университет находится в Чебоксарах. Поэтому ребенок читал научные книги просто из любознательности, и именно они, а не школьные уроки, которые были довольно слабыми и скучными, позволили ему пройти собеседование, чтобы попасть в Колмогоровский физико-математический интернат.
Впрочем, Колмогоровским он тогда не назывался, поскольку его основатель академик Андрей Николаевич Колмогоров был еще жив и даже спас школьника Муханова на вступительном экзамене. Свирепые аспиранты, задававшие каверзные вопросы, уже собирались поставить парню двойку и отправить его восвояси, когда вмешался сам Колмогоров и попросил Муханова сформулировать теорему Дезарга. И после верного ответа, к изумлению и гордости родителей, велел принять абитуриента в московский интернат.
Эта система физико-математических интернатов, которая приказом Совета Министров СССР была создана в нескольких крупнейших городах страны — Ленинграде, Москве, Киеве и Новосибирске, а позднее в Ереване, Тбилиси и Чебоксарах, — ежегодно вывозила на большую научную землю сотни талантливых детей из городков и поселков Советского Союза. Многие из них сегодня работают в крупнейший университетах России и мира.
Вот и для Муханова физико-математическая школа № 18 (сегодня Специализированный учебный научный центр — СУНЦ) стала той отправной точкой, в которой началось формирование не только его научной биографии, но и мировоззрения.
В ФМШ приходили преподавать аспиранты, и многие из них были настроены антисоветски. Когда Слава Муханов, прежде отвечавший в Канашском райкоме комсомола за работу с молодежью, услышал от них, что «держать на Красной площади в мавзолее мумию Ленина — дикость из каменного века», он был несказанно удивлен. А еще через несколько месяцев про их класс уже передали репортаж по «вражеским голосам».
Скандал произошел в самом начале 1973 года. Старшеклассники интерната собрались на новогоднюю вечеринку. Им хотелось потанцевать подольше, но учителя — точнее, их женская половина, этому противились, требуя дискотеку побыстрее прекратить. Тогда дети запели «Интернационал», забаррикадировали двери в жилой корпус, развели прямо в здании костер и продолжили танцевать до утра. Более того, ребята собрали забастовочный комитет, сформулировали требования и решили объявить голодовку. Утром на завтрак никто не пришел. В полу зияла прожженная дыра. К обеду дети в столовой тоже не появились. Администрация начала переговоры с забастовщиками. Они требовали улучшения обращения и качества еды. А тут еще и «Голос Америки» сообщил, что забастовали «привилегированные мальчики Колмогорова».
Из МГУ приехала специальная комиссия во главе с самим академиком Колмогоровым. Конфликт уладили, никого выгонять не стали. Но поступать на мехмат зачинщикам так и не дали. Муханов был тогда участником событий, правда скорее как свидетель, чем организатор. В забастовочный комитет он не входил, в МГУ поступать не собирался, но некоторые выводы относительно советской системы на всю жизнь для себя сделал. «Видимо, в Советском Союзе, — скажет он позже, — существовало только два способа психологически выжить — стать либо алкоголиком, либо ученым. Я выбрал второй вариант».
В 1973 году Муханов поступил на факультет химической физики МФТИ, но довольно быстро начал пытаться перевестись на факультет общей и прикладной физики — знаменитый ФОПФ. «Я понял, что я теоретик, потому что все эксперименты у меня проваливались».
Однако попасть в теоретическую группу на кафедру к Гинзбургу было непростой задачей. Проректор Кузьмичев без всяких формальных объяснений стоял насмерть. Вскоре настырный студент отловил в коридоре ректора Белоцерковского и стал уговаривать: я хочу заниматься настоящей наукой, переведите меня к Гинзбургу! Белоцерковский сдался и написал декану ФОПФ Игорю Радкевичу записку: «Если да, то готовьте приказ». Радкевич опять ссылался на Кузьмичева: без его согласия никак, поэтому ни да ни нет. И вновь все по кругу целый месяц. Студент Муханов знал, что сейчас решается его судьба, и чтобы не сойти с ума, с утра до ночи читал Джека Лондона. Пока наконец, профессор ФОПФ Владимир Сазонов не сказал: «С тебя ящик пива», — и показал приказ, на котором очень неразборчиво Кузьмичев написал: «Согласен». Так что плата за открытую дверь в большую науку оказалась невелика.
На теоретической кафедре руководителем Муханова поначалу был Леонид Моисеевич Озерной, который дал ему тему образования галактик. Но вскоре Озерной засобирался в эмиграцию. Об ученике он побеспокоился заранее и передал руководство над ним Виталию Лазаревичу Гинзбургу. Академик тут же заявил, что его главная задача — не мешать Муханову работать. Эту задачу учитель честно выполнил. А ученик, как в итоге выяснится, его не подвел. Пройдет 20 лет, и Муханов станет для Гинзбурга авторитетным экспертом в области космологии. Вот какой эпизод пересказывает Артур Чернин, профессор ГАИШ:
Москва, Физический институт РАН, зима 1999 года. Виталий Лазаревич Гинзбург самым длинным ключом из большой связки отпирает висячий замок на дверях его рабочего кабинета:
— Пришлось повесить амбарный замок после того, как из этой комнаты украли принтер (ксерокс?).
Он пригласил к себе для разговора трех физиков, занимающихся космологией:
— Время от времени слышу об инфляции, но все не могу понять толком, что в ней такого. И почему она необычайно популярна? В чем там дело, если по сути?
Виталий Лазаревич слушал ответы на эти вопросы, задавал новые, но к концу беседы был разочарован, едва ли не рассержен:
— В общем, я мало чего нового усвоил. Хочу поговорить еще со Славой Мухановым, он квалифицированный человек, я ему тоже доверяю.
Между первыми работами по теории квантовых космологических возмущений и 1999 годом, который описывает Чернин, когда уже были получены первые экспериментальные подтверждения этой теории, целая эпопея, одну из основных глав в которую впишет как раз Муханов.
У меня никогда не было слишком высокого мнения о моих собственных способностях, — вспоминает Муханов, — и сначала я решил выбрать поле, которое не требовало сложной математики и где уровень высокомерия был не таким высоким, как, например, в физике частиц. Поэтому я стал астрофизиком, мечтая, что со временем смогу перейти к общей теории относительности и космологии. Однако даже в мечтах я не мог себе представить, что теоретическая космология станет моей главной профессией в будущем. Более того, я думал, что хорошие времена могут скоро закончиться и вскоре я могу попасть в какой-то военный институт, чтобы там заняться полезной, но дерьмовой скучной работой. Поэтому я старался не думать о будущем, я жил полностью настоящим, наслаждаясь физикой, насколько мог.
В начале аспирантуры Муханов уже опубликовал две астрофизические работы по образованию галактик, которые были непосредственно связаны с наблюдениями. Но тут Геннадий Чибисов, научный сотрудник теоротдела ФИАН, который был старше Муханова на 10 лет, предложил Вячеславу совместно проанализировать, нельзя ли из квантовых возмущений образовать галактики, чтобы объяснить происхождение структуры Вселенной. Когда Муханов спросил его, почему же этого никто не делал раньше, Чибисов пожал плечами: видимо, никто не озаботился.
Действительно, задача требовала нетривиальных вычислений и знания теории квантовых полей. Однако в то время большинство физиков-теоретиков предпочитали либо делать формальные вещи, либо работать в физике частиц, потому что космология — наука о Вселенной в целом и ее происхождении — при полном отсутствии эксперимента и убедительных наблюдений не воспринималась многими физиками серьезно. Как ее только ни называли — «наука о ненаблюдаемом», «ненаучная фантастика»… Однако эта всеобщая ирония не сбивала с толку нескольких упрямцев, в число которых входили Чибисов и Муханов.
В течение целого года я проводил расчеты, которые выглядели ужасно. Много раз я думал о том, чтобы прекратить счет. Возможно, если бы я знал о знаменитой речи Уинстона Черчилля 1941 года «Никогда не сдавайтесь!», мне было бы не так тяжело… Не знаю почему, но я все равно не бросил работу и весной 1980 года с удивлением заметил, что длинные формулы внезапно стали короткими и теория квантовых космологических возмущений была по существу закончена. Следующие два месяца я пытался применить формальный метод и найти определенную модель, где эти вычисления могли бы быть полезны. Выяснялось, что ничего не работает, и казалось, что год был потрачен впустую. Но через два месяца мы начали обсуждать с Чибисовым единственный оставшийся вариант: что произойдет, если мы предположим, что в очень отдаленном прошлом (сразу после Большого взрыва) гравитация действовала как отталкивающая сила (антигравитация). И это сработало! Таким образом, в середине 1980 года мы однозначно знали, что квантовые флуктуации могут в принципе быть полезными только в том случае, если Вселенная прошла стадию ускоренного расширения.
Этот результат был представлен в препринте ФИАН имени П. Н. Лебедева на английском языке в 1980 году. Подходящая модель, где можно было применить эту теорию, уже существовала: в 1979 году Алексей Старобинский, который пытался решить проблему сингулярности (когда все физические величины стали немыслимыми и выходили из-под контроля), нашел модель, в которой поляризованный физический вакуум имитировал требуемое состояние антигравитации. В середине 1980 года Чибисов и Муханов выполнили расчеты в этой модели. А в конце 1980 года смогли получить конечный результат:
Лешина модель оказалась именно той моделью, которая была нам нужна, и позволяла посчитать детальную картину неоднородностей (флуктуаций), без которых сегодняшнего мира не было бы. Идея состояла в том, что первоначальные неоднородности, какими бы они ни были, на этой стадии полностью сглаживались. Чего эта стадия не могла устранить, так это квантовых флуктуаций, существование которых неизбежно благодаря самому фундаментальному принципу квантовой физики — принципу неопределенности Гейзенберга. Мы показали, что на стадии ускоренного расширения Вселенной фундаментальные неизбежные квантовые неоднородности усиливаются ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы впоследствии из них получились галактики и другие структуры во Вселенной. Без них наша Вселенная напоминала бы пустыню.
О том же Муханов вспоминал, беседуя с Борисом Штерном:
В декабре 1980 года я решил посмотреть, что происходит с квантовыми флуктуациями в модели, которую предложил Старобинский, с тем, чтобы решить проблему начальной сингулярности. В этой модели предполагалось, что вселенная бесконечно долго находилась в деситтеровском состоянии, а уже потом образовалась наша Вселенная. В результате наших расчетов оказалось, что квантовые флуктуации разрушают деситтеровскую вселенную за довольно короткое время, и таким образом проблему сингулярности оказалось решить нельзя. Так что если иметь в виду первоначальную цель этой модели, то мы ее закрыли. С другой стороны, мы нашли, что если предположить, что по каким-либо причинам Вселенная все же прошла в течение короткого времени через такую стадию, то проблема образования галактик решена. Квантовые флуктуации действительно усиливаются и ведут в дальнейшем к галактикам и в конечном итоге к жизни. На этот раз я не рискнул послать статью за границу, и она была опубликована в «Письмах в ЖЭТФ» в мае 1981 года. В этой статье нам удалось полностью предсказать спектр возмущений, который удалось померить только спустя 30 лет в экспериментах WMAP и Planck. Наблюдения блестяще подтвердили наши с Чибисовым предсказания 30-летней давности.
Тот памятный 1981 год аспирант второго года Муханов уехал встречать к родителям в Канаш и, отказавшись от встречи с друзьями детства, всю новогоднюю ночь посвятил вычислениям. В Москву он вернулся с основой для гипотезы возникновения крупномасштабной структуры Вселенной (галактик) из квантовых флуктуаций. Теперь публикации Муханова и Чибисова тех лет стали классикой современной космологии.
С 1982 по 1991 год Муханов работал в Институте ядерных исследований РАН под руководством Моисея Маркова и занимался интерпретацией квантовой механики, а также разработкой квантовой теории космологических возмущений, применимой для вычисления неоднородностей в различных инфляционных моделях Вселенной.
Что касается инфляции и квантового происхождения галактик, то это в высшей степени удивительно, что единственное предположение о том, что наша Вселенная прошла в прошлом через стадию темной энергии, которая усилила квантовые возмущения, привело к пяти четким предсказаниям:
1. Вселенная с высокой точностью «плоская».
2. Возмущения плотности — чисто адиабатические.
3. Они же — гауссовы.
4. Начальный спектр возмущений слегка (логарифмически) растет с масштабом.
5. Существуют первичные гравитационные волны.
Тогда еще никто не знал, что уже через несколько лет в космологии начнется новая эра — эра экспериментального подтверждения квантового происхождения структуры Вселенной.
В 1988 году благодаря протекции Маркова Муханов первый раз выехал за границу в Международный центр теоретической физики в Триесте, которым руководил нобелевский лауреат Абдус Салам. И вопреки своим ожидания был не особо впечатлен научной атмосферой.
Большая теоретическая физика в Советском Союзе, — вспоминает Муханов, — в наши дни была сосредоточена главным образом вокруг нескольких ключевых академиков, таких как Гинзбург, Зельдович, Марков, Сахаров, Халатников, Мигдал и другие. Все они считались равными среди равных без доминирующего человека и имели довольно дружеские отношения. Поэтому научная атмосфера была гораздо более демократичной и здоровой по сравнению с той, которую я нашел после отъезда из Советского Союза. Должен сказать, что после переезда на Запад я не нашел ни одного места на земном шаре, которое могло бы конкурировать с Москвой 80-х годов относительно концентрации интеллекта и научной атмосферы.
Первая поездка в Америку состоялась тоже в 1988 году, уже благодаря содействию Андрея Линде, который на Фридмановской конференции попросил Майка Тернера, знаменитого чикагского космолога, автора термина «темная материя», пригласить Муханова на семинар по космологии.
А в 1992 году Муханову, тогда уже доктору физико-математических наук, поступило предложение поработать два года в Швейцарии. Деньги были по швейцарским меркам не очень большие, но для любого советского ученого начала 1990-х — сумасшедшие. Целых 57 000 швейцарских франков в год. Чтобы купить билеты всей семье, пришлось продать компьютер. А через два года швейцарцы продлили контракт еще на три года. И наконец, в 1997 году Муханов получил предложение возглавить кафедру астрофизики и космологии в одном из лучших университетов Германии — Мюнхенском университете имени Людвига IX и Максимилиана I.
Свой первый доклад на немецком я просто выучил наизусть. Мой приятель из Цюриха Натан Полянски помог мне его написать, расставил правильно ударения и помог отрепетировать произношение.
Впоследствии, в конце 1990-х, Муханов совместно с известным израильским ученым Яаковом Бекенштейном разрабатывал теорию излучения квантовых черных дыр. Вместе с французским ученым Тибо Дамуром предложил теорию к-инфляции. Также вместе с американским космологом Полом Стейнхардом была предложена модель объяснения темной энергии в сегодняшней Вселенной, широко известная как k-essence.
Не так давно совместно с французским математиком Аленом Коном и ливанским физиком Али Шамсидином Муханов попытался объяснить существование темной материи с точки зрения некоммутативной геометрии.
За те 25 лет, что Муханов живет и работает в Европе, случилось то, что редко случается в течение одной человеческой жизни: космология превратилась в полноценную науку, потому что целый ряд экспериментов подтвердил предсказания космологов.
Спутник COBE (1989–1992) показал, что мы действительно живем в горячей расширяющейся Вселенной и даже видим галактические зародыши, которые существовали, когда Вселенной было всего 380 000 лет.
В экспериментах Saskatoon, TOCO и Boomerang (1996–2003) удалось установить плоскостность нашей Вселенной с точностью до 2 % — в блестящем соответствии с предсказанием теории инфляции.
В эксперименте WMAP (2001–2009) найдены указания на логарифмический спектр возмущений, предсказанный Мухановым и Чибисовым в 1981 году.
В эксперименте Planck (2009–2013) достоверно установлено наличие этого логарифмического спектра и подтверждены другие свойства космологических возмущений, которые однозначно свидетельствуют об их квантовом происхождении.
Эти невероятные по масштабам события в истории мировой науки произошли с такой скоростью благодаря теоретической смелости нескольких научных гипотез 1970-х и невероятному технологическому прогрессу начала 2000-х.
В Мюнхенском университете кабинет № 327 профессора Муханова, расположенный на третьем этаже, найти легко — по устойчивому табачному запаху. Среди его аспирантов по-прежнему много выпускников физтеха, словно он и не покидал Россию. Хотя на родине на самом деле бывает не так уж часто — раз в год навещает родных в Канаше и иногда участвует в московских конференциях.
Муханов — лауреат премий Тамалла, Блеза Паскаля, Фонда Грубера и BBVA Foundation, награжден медалями Амальди и Макса Планка. И нет сегодня ни одной популярной книги о происхождении Вселенной, в которой не упоминалось бы его имя. Он по-прежнему делает предсказания. Не только о прошлом Вселенной, но и о будущем.
Будущее Вселенной, — размышляет Муханов, — зависит от природы темной энергии. Если эта темная энергия не будет распадаться, то через миллиарды миллиардов лет ни одной галактики не будет видно на небе. Они все убегут за горизонт видимости, то есть небо в этом смысле обеднеет. Но и звезды к тому времени тоже погаснут. И ничего вообще не будет. С другой стороны, что за проблемы создать новую Вселенную… Одна исчезнет, другие появятся.
И в другой, новой Вселенной кто-то тоже начнет вглядываться в ночную темноту, чтобы понять: что там?..
Космология
Измерять Вселенную, не покидая Землю: Лев Кофман (Ольга Орлова)
Однажды в беседе Кофман сравнил себя с героем комедии Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», который, будучи на войне, получил приказ измерить параметры вражеской крепости. Дон Жуан не стал рисковать жизнью под вражескими пулями, а решил поставленную задачу геометрическим способом. «Такова судьба любого космолога, — заметил Лев, — измерять Вселенную, не покидая земной поверхности». И он продолжал это делать до тех пор, пока болезнь не остановила его.
Он мужественно продолжал заниматься физикой на протяжении своей болезни — таков был его характер. Чем бы он ни занимался — лямбда-космологией, темной энергией, инфляционной теорией в ее гауссовских или негауссовских аспектах, гравитационными волнами, — его вклад всегда оказывался фундаментальным. Он заложил основы теории предварительного нагрева, показывая, как вся материя может возникнуть из когерентной энергии вакуума в конце инфляции, своего космического младенца, а со временем и развил ее. Он был классическим лидером и для Канадского института теоретической астрофизики (CITA), и для Канадского института перспективных исследований (CIFAR) в целом, и для яркой группы ранних вселенных, которую он создал, вдохновляя своим руководством поколения молодых исследователей. Физика была для него всем. И одновременно он обладал неукротимым, веселым, глубоко философским духом, был гурманом жизни во всех ее проявлениях. Мы будем по нему бесконечно скучать.
Так заканчивалось письмо, которое 12 ноября 2009 года получили сотрудники Канадского института теоретической астрофизики, а также космологи в университетах по всему миру.
Лев Кофман занимал пост исполнительного директора CITA совсем недолго, чуть больше года. Но прожил и проработал он в Торонто в общей сложности около 10 лет и был искренне уважаем и любим коллегами и учениками. Его научная карьера начиналась еще в советской Эстонии, формировалась в Москве и состоялась в Канаде. Однако за свою жизнь Лев Кофман жил в стольких городах и странах, что если про кого-то и можно сказать «гражданин мира», так это про него. Его кочевье началось еще в детстве и продолжалось почти до самого конца, за исключением последнего «острова стабильности» в Торонто.
Родился Лев Кофман в 1957 году на Таймыре в поселке Дудинка, куда его родители-врачи попали по распределению. За первые 10 лет он успел из Красноярского края перебраться в Среднюю Азию, в Андижан, куда родители переехали, чтобы укрепить здоровье сына — сказалась нехватка солнца на Крайнем Севере, потом пожить в белорусской деревне Калинковичи и поучиться в начальной школе в мордовском Саранске.
С 1967 года семья осела в Таллине, где Лева начал ходить в обычную школу, не проявляя особых склонностей к науке. Но по счастливому стечению обстоятельств мать Левы отправили на целый год на учебу в Москву, и она взяла с собой сына. Поселились они у родственников на «Комсомольской», неподалеку от площади трех вокзалов, где оказалась очень хорошая школа. И именно в тот год родители заметили, что их семиклассник на глазах превращается сначала в читателя журнала «Квант», а вскоре и в победителя математических олимпиад.
После возвращения в Таллин стало понятно, что нужно идти в математическую школу. И понятно в какую. Среди русскоязычных школ в то время в Таллине такая была одна — № 15. После школы Лев Кофман стал студентом физического факультета Тартуского университета.
В интеллектуальной и научной жизни Советского Cоюза Тартуский университет играл особую роль. Помимо легендарного филолога Юрия Лотмана там работали блестящие лингвисты, литературоведы, историки и философы, с которыми тесно общался студент Кофман, и, кроме того, сформировалась замечательная научная среда в области наблюдательной астрономии и теоретической физики.
Близость к Западу, отдаленность от Москвы и Ленинграда и концентрация профессиональных ученых создавали необычную атмосферу, где зачастую можно было то, что в столицах не допускалось. Главный научный сотрудник ГАИШ астроном Артур Чернин приводит, к примеру, такой эпизод из биографии известного космолога Эраста Глинера:
В 1960-е гг. Э. Б. опубликовал — помимо уже упомянутой статьи в ЖЭТФ — несколько работ по релятивистской физике и космологии; одну из них Сахаров представил в журнал «Доклады Академии наук СССР». По этим работам Э. Б. подготовил кандидатскую диссертацию и представил ее в ученый совет Физтеха.
Тем временем вокруг космологических идей Глинера разгорелся нешуточный спор на «академическом» уровне. Академик Яков Борисович Зельдович был резко против этих идей. Академики Андрей Дмитриевич Сахаров и Владимир Александрович Фок решительно их поддержали. Сахаров и Фок заявили, что диссертацию Глинера можно защищать как докторскую, и были готовы оппонировать. Это стало известно в Физтехе, и институтское начальство (по собственной ли инициативе?) поставило Э. Б. перед выбором: или имя Сахарова как оппонента снимается и тогда — невзирая на позицию Зельдовича — диссертация защищается (возможно, как докторская), или не защищается вообще даже как кандидатская. Э. Б. выбрал второе.
На диссертацию был наложен негласный запрет. Тем не менее она была благополучно защищена в 1972 году, и это произошло так. Гуревич позвонил эстонскому академику Харальду Петровичу Кересу, автору фундаментальных работ по общей теории относительности, рассказал о результатах Глинера, о ситуации, которая сложилась вокруг его диссертации, и попросил поставить доклад Э. Б. на релятивистском семинаре в Тарту. Доклад прошел успешно, и Керес охотно принял диссертацию к защите в Тартуском университете. Но диссертационные документы Э. Б. хранились в администрации Физтеха. И тут милейший Георгий Васильевич Скорняков, тогдашний ученый секретарь Физтеха, тайком взял эти документы и позволил переправить их в Тарту.
Это не единственный пример подобных вольностей в Тарту, однако за передовыми идеями в области космологии Кофман все-таки решил отправиться в Москву, хотя, как вспоминает ученик, коллега и соавтор Кофмана Дмитрий Погосян, они не ощущали и не называли себя космологами, а считали себя физиками-теоретиками, которые могут решать астрофизические вопросы. И Кофман искал того, кто поставит перед ним действительно важную задачу.
В одном из своих немногочисленных интервью Кофман вспоминал:
Я помню, будучи молодым студентом, задумывался: как бы мне попасть к такому-то профессору? А сейчас я понимаю, что все наоборот — зрелый ученый задумывается о том, где бы ему найти талантливого молодого ассистента.
Учитель Кофмана, один из создателей инфляционной теории Вселенной, выдающийся космолог, академик РАН Алексей Старобинский подтверждает: так оно и было. «Лева сам ко мне пришел в 1981 году, будучи сотрудником астрофизического института в Тарту, и сказал, что хочет стать моим учеником». Формально организовать это было довольно сложно. Кофман продолжал оставаться в Тарту, но наездами бывал в Москве у Старобинского. Новый шеф тут же предложил ему и еще одному своему аспиранту, индусу Варуну Сахни, тему про связанные частицы в полях черных дыр. Именно этому была посвящена их первая совместная публикация в 1982 году.
Лев Кофман сразу проявил себя как самостоятельный ученый. Старобинский вспоминает:
Я больше знал и был более опытным, но в остальном общение было на равных. Я советовал обратить внимание на ту или иную вещь, а дальше Лева работал сам. И у него, конечно, было невероятное чутье на мои предложения, он мне доверял, а это очень важно в науке. Он не ждал от меня доказательств, подразумевалось, что доказательства он найдет сам. Он хотел заниматься не наблюдениями, а теоретической работой. Ему хватало математического аппарата, он знал квантовую теорию поля, и ему была близка тематика, связанная с квантовыми эффектами, этому были посвящены его первые работы. А от меня Лева усвоил, что надо работать и на уровне ранней Вселенной, и на уровне современной Вселенной. Потому что на математическом уровне они похожи — инфляция в ранней Вселенной и темная материя и энергия в современной Вселенной: много новых вещей и там и там.
Сам Кофман говорил: «Есть наука живая и есть мертвая. Термодинамика, скажем, создана в XIX веке, и ничего в этой области не сделаешь. А интересно заниматься тем, что живо». Он называл космологию «домом для всей физики». И еще аспирантом, под влиянием докладов Андрея Линде и Алексея Старобинского, поняв, что наступает «эпоха инфляции», начал организовывать в местечке Тыравере, где находилась Тартуская обсерватория, группу современной инфляционной космологии. Тогда отделом космологии в обсерватории руководил доктор физико-математических наук Яан Эйнасто. Он одобрил инициативу молодого ученого, и уже скоро в Тарту стали проводить школы по современной космологии. Эстонские коллеги довольно быстро оценили Льва Кофмана как передового космолога.
На одной из таких школ в 1982 году аспирант Лев Кофман познакомился со своим будущим соавтором и другом Андреем Линде. Линде рассказывает:
Вдруг среди всех довольно рядовых докладов вылезает мальчишка с копной на голове, и я удивляюсь: откуда у них в Тарту такая звезда? По некоторым людям видно, что человек понимает больше, чем ты. Вот по Леве тогда это было сразу видно. Когда все разъехались по домам, мы продолжили с Левой общение по телефону. И вдруг я заметил, что у меня появился новый способ работы: мы с ним что-то обсуждали в телефонных разговорах, а потом переносили это на бумагу. И так начали появляться публикации.
Вместе они написали 27 статей, часть из них — в соавторстве с Алексеем Старобинским, и именно они стали наиболее цитируемыми. Кофман сыграл в них роль не только соавтора, но и «научного дипломата». Старобинскому и Линде всегда было тяжело вместе что-то обсуждать, а тем более писать. У них были разные подходы, разные способы мышления. Старобинскому требовался тот уровень строгости, который сковывал Линде. И Кофману в процессе работы над совместными статьями приходилось играть роль «переводчика» между двумя непохожими типами интеллекта. По признанию обоих соавторов, Лев с этой ролью справлялся блестяще. Сначала он разговаривал с Линде, потом со Старобинским и пересказывал каждому на его языке идеи друг друга. Кофман стал своеобразным соединительным звеном между теоретиками разного стиля. Таким необычным способом они написали четыре работы по разогреву Вселенной после конца инфляционной стадии.
Вот впечатления Старобинского:
Позже была у Левы и тематика, которая пошла от Зельдовича и Шандарина, — нелинейная эволюция неоднородностей распределения материи в современной Вселенной. Лева к ней пришел через Сергея Шандарина, а потом продолжил работать с Диком Бондом. Лева как-то умел объединять в совместные работы научных конкурентов.
В 1991 году Дик Бонд — будущий директор Канадского института теоретической астрофизики (1996–2006), а тогда профессор — отправил Льву первое приглашение на целый год в Торонто. Он хотел вытащить его из Эстонии и добился для него позиции постдока, хотя Кофман к тому времени уже шесть лет как защитил кандидатскую и был вполне зрелым ученым. Но другого способа Бонд тогда не нашел.
Я познакомился с Левой в Венгрии на симпозиуме Международного астрономического союза в 1987 году, — рассказывает Бонд. — Для многих из нас это была первая возможность встретиться с нашими советскими коллегами, потому что личные контакты были сильно ограничены. Довольно быстро мы со Львом сблизились не только как ученые, но и по-человечески. На нашей следующей встрече в 1988 году в Ленинграде на конференции, посвященной 100-летию Александра Фридмана, Лев провел меня тайно в гостинице из комнаты в комнату, где мы отпраздновали вечеринку вместе с советскими учеными. Каждая встреча была наполнена интенсивной дискуссией по физике и добрыми товарищескими отношениями. Затем мы поехали в Москву на знаменитый семинар Якова Зельдовича и собирали «кухонные столы», которые включали в себя всю интеллектуальную физику в целом. Всю свою последующую карьеру на Западе он импортировал этот идеал — интерактивный семинар и веселую социально-научную встречу на конференциях, переговорах и лекциях.
После первого года в Торонто у Кофмана был короткий, но чрезвычайно интенсивный период в Принстоне. И затем уже приглашение на пять лет на Гавайи. Таким образом, резкого прыжка в эмигрантскую жизнь не было: сперва забег на год, потом еще на полгода, потом еще. Самым тяжелым испытание в новой жизни стало преподавание в университете в Гонолулу. Уровень английского не позволял ему легко шутить, а без специфического юмора Кофмана не представляли не только друзья — он сам себя не представлял. Но мысли о возвращении в Эстонию его не посещали. Было желание постоянно двигаться дальше.
Там же на Гавайях в соавторстве с Дмитрием Погосяном и Диком Бондом была написана одна из самых значительных и наиболее цитируемых статей Кофмана, посвященная так называемой cosmic web — принципу, по которому организована структура Вселенной. Это была не профильная тема. Но на Гавайях было много астрономов-наблюдателей, они постоянно обсуждали полученные данные, и Лев невольно вовлекся в эту тему и переключился на проблему того, как распределены галактики во Вселенной. А когда в 2000 году он окончательно переехал в Торонто, в CITA, то вновь вернулся к инфляционной теме. Хотя и в CITA Кофман часто выступал в роли переводчика между теоретиками и экспериментаторами.
Работа в CITA могла начаться в два часа дня, а заканчивался рабочий день зачастую поздно вечером в пабе, атмосфера была неформальная, творческая и при этом чрезвычайно продуктивная.
Позже, когда Дик Бонд ушел на пенсию, новым директором стал Норман Мюррей. Но вскоре Мюррею пришлось уехать в длительную деловую поездку, и тогда Кофман стал директором института. Тогда еще никто не знал, что он уже был тяжело болен.
После его смерти выяснилось, что в CITA больше нет теоретика такого уровня. «Лева всегда приходил с собственными идеями, — замечает Андрей Линде, — он был ученым такого масштаба, что всегда мог отличить хорошее от прекрасного».
Всего в списке публикаций Кофмана 128 статей, некоторые из них вышли три года спустя после его смерти.
«Я как-то был на могиле Конфуция и узнал, что он пережил своих любимых учеников», — с грустью заметил Алексей Старобинский, вспоминая свою последнюю встречу со Львом Кофманом в Москве в 2008 году на конференции, посвященной своему 60-летию. Кофман делал тогда пленарный доклад о разогреве Вселенной после конца инфляционной стадии.
Он и правда был одним из самых любимых учеников, из тех, с кем связь ощущается всю жизнь, невзирая на годы и континенты. Впрочем, расстояния длиной в одну человеческую жизнь и радиус одной планеты космологи преодолевают мгновенно. Не тот масштаб, чтобы это стало преградой для тех, кто продолжает измерять Вселенную, уже покинув земную поверхность.
Приложение. Научный подход
Причины и масштабы утечки научных кадров из России (на материалах статистики науки)[5] (Александр Аллахвердян)
На рубеже 1980–1990-х годов процесс адаптации российской науки к условиям рыночной экономики сопровождался существенными трансформациями в социальном положении ученых. Сфера научно-технических исследований за последние четверть века превратилась из высокопрестижной и хорошо оплачиваемой в область деятельности, которую властные структуры «представляли обществу, образно говоря, в виде с трудом терпимой в доме нахлебницы»[6], средства для осуществления которой ими же выделялись по остаточному принципу[7]. Вопреки Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году[8] и гарантирующей свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (статья 44), и принятому в 1996 году федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике»[9] в реальности права ученых на творческий труд оказались недостаточно социально защищенными. Это противоречит не только российской Конституции, но и международным документам о правах и обязанностях научных работников, в частности «Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников», принятой ООН 20 ноября 1974 года[10].
Хотя «Рекомендация» и другие правовые документы со времени их принятия вносят значительный вклад в защиту прав научных работников, необходимо отметить, что их цели не во всех странах реализуются в полном объеме. При этом особая ответственность в области защиты прав ученых и создания благоприятных условий для проведения научных исследований ложится на правительства государств. В указанных международных и российских документах содержится перечень прав и свобод ученых, необходимых для успешной научной деятельности. Отметим наиболее значимые из них:
• свобода научного творчества;
• свобода научных дискуссий в условиях отсутствия идео¬логического давления;
• обоснованный риск в научно-технической деятельности;
• свободное общение и обмен научной информацией;
• перспектива кадрового роста, свобода выезда за границу для повышения научной квалификации;
• вознаграждение в соответствии с образованием, научным статусом и результатами труда;
• право на публикацию результатов научных исследований;
• право использовать результаты исследований в сфере практики;
• достойное социальное обеспечение научных работников;
• право на свободу научных дискуссий в условиях отсутствия идеологического давления;
• право свободно общаться и обмениваться научной информацией;
• право свободно выезжать за границу для продолжения своей научной работы;
• право на участие в открытых конкурсах научных проектов;
• право на вознаграждение в соответствии с образованием, положением и результатами труда;
• право на публикацию результатов научных исследований;
• право использовать результаты исследований в сфере практики;
• право на осуществление научной деятельности в благоприятных условиях.
Ограничения профессиональных прав научных работников в СССР
В Советском Союзе некоторые из вышеперечисленных прав не соблюдались в должной мере вопреки тому, что декларировалось партийно-государственными органами управления наукой. Историк науки М. Г. Ярошевский отмечал, что под непосредственным контролем этих органов доминировала установка на противопоставление советской науки западной как враждебной по своей классовой природе. Культивировавшаяся в этом социально-идеологическом контексте подозрительность по отношению к западным коллегам существенно препятствовала реализации учеными права на свободное общение. Вся корреспонденция, хотя бы и носившая сугубо научно-профессиональный характер, перлюстрировалась. Всячески поощрялись доносы, открывавшие путь к научной карьере и позволявшие посредственностям компенсировать интеллектуальное бесплодие. Этой категории научных работников предоставлялась возможность ездить за рубеж, где, участвуя в научных симпозиумах, конференциях, конгрессах, они фактически выполняли функцию надзора и контроля за другими членами делегации, с тем чтобы по возвращении в Россию представлять отчеты о результатах своих наблюдений.
К важнейшим факторам успешной деятельности относится обеспечение права ученых на свободное, критическое обсуждение воззрений, принятых сторонниками различных теорий и исследовательских программ. Но именно этого важнейшего права лишались люди науки в условиях тоталитарного общества. Неизменно находились ученые, которые в интересах самоутверждения, а порой в надежде занять административный пост в науке и получить связанные с ним привилегии сразу же дискредитировали попытки своих мужественных коллег при любой возможности сопротивляться тому, что было предписано заранее готовым «сценарием», апробированным органами руководства идеологией.
Таким образом, в течение многих лет развитие научных исследований в бывшем Советском Союзе происходило в условиях, когда права ученых, признанные в свете исторического опыта развития научного познания непременным условием реализации этими учеными своего творческого потенциала, не только систематически нарушались, но и рассматривались органами власти в качестве опасных для господствующего режима[11].
Со второй половины 1980-х годов, в особенности после распада Советского Союза в 1991 году, положение с правами ученых изменилось, поскольку партийно-государственные органы не удерживали более научное сообщество «в узде» идеологического контроля и манипулирования. Однако на смену прежнему диктату пришел финансово-экономический, который обусловил существенное нарушение иных прав ученых. Резко ограничились возможности осуществления эффективной научной деятельности из-за неблагоприятных материально-технических условий, права на адекватную оценку и вознаграждение труда ученого в соответствии с уровнем его образования, квалификации и научной результативности. После распада СССР правительство постсоветской России, столкнувшись с острым дефицитом бюджетных средств, резко снизило ассигнования на науку. И это не удивительно, ибо в предшествующий советский период не были разработаны законодательные акты, четко регулирующие взаимоотношения между органами власти и сферой, именуемой «наука и научное обслуживание». В частности, законодательно не был зафиксирован определенный минимально допустимый процент госбюджетных средств, выделяемых на науку.
Трудности реализации профессиональных прав ученых в постсоветский период
Следует отметить, что в СССР размер ассигнований на науку фиксировался в зависимости от идейно-политических установок, предопределяющих разработку очередного пятилетнего плана. Но если в рамках плановой экономики, несмотря на отсутствие законодательных нормативов, призванных социально защитить научное сообщество, материальные интересы ученых учитывались в достаточной мере, то в условиях перехода к рыночной экономике картина изменилась в негативном направлении. Наука оказалась на периферии государственных приоритетов. Ей негласно было предложено, как и другим бюджетным отраслям, «кормить себя». В условиях отсутствия развитой рыночной инфраструктуры это не дало, да и не могло дать позитивных результатов.
Законодательный вакуум в развитии постсоветской науки был заполнен лишь 13 июня 1996 года, когда вышел президентский указ «О доктрине развития российской науки», где, в частности, отмечалось, что «государство рассматривает науку и ее научный потенциал как национальное достояние, определяющее будущее нашей страны, в связи с чем поддержка развития науки становится приоритетной государственной задачей»[12]. Уже через месяц, 12 июля 1996 года, впервые в истории России ее законодательный орган — Государственная дума — принял специальный федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», призванный регулировать отношения между органами государственной власти[13] и субъектом научной деятельности — научным социумом. В законе о науке декларировалось, что государство обязуется финансировать НИОКР гражданского назначения «в размере не менее четырех процентов расходной части бюджета». Если Конституция России — высший закон российского общества, то закон «О науке» — это высший закон научного сообщества, его своеобразная «отраслевая конституция», которая должна неукоснительно выполняться.
Однако и после принятия в 1996 году базовых документов финансирование науки явно недотягивало до законодательных нормативов. Например, в 1997 году уровень бюджетных расходов на науку составлял всего 2,02 %, зато расходы на различные государственные органы возросли. В связи с хроническим недофинансированием российской науки лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алферов писал, что в советские времена на науку тратилось гораздо больше (например, в 1988 году — 3,8 % бюджета). В последние годы Алферов с недоумением отмечал: как можно допустить такое, «что на Минфин, налоговые службы и прочие финансовые органы, представляющие собой чисто чиновничий люд, тратится в полтора раза больше в проекте бюджета, чем на всю науку России. Как может случиться так, […] что в проекте бюджета записано строительство специального дома для депутатов — 1,1 миллиарда рублей, что в четыре с лишним раза превышает все капитальные вложения во всю науку России. Только этот дом дал бы возможность нам построить ряд новых лабораторий»[14].
Таким образом, в отношении политики финансирования отечественной науки, к сожалению, приходится констатировать, что и после вступления закона о науке в силу на протяжении многих последующих лет имели место дискриминация научных работников, ущемление их законных прав[15]. Под дискриминацией здесь имеется в виду существенное ограничение не общегражданских, а сугубо профессиональных прав ученых, законодательно принятых российскими властями.
Как показали результаты демографо-статистических и социально-психологических исследований, резкое падение уровня материального обеспечения научных работников, наряду с другими неблагоприятными факторами научного труда, стимулировали в последние годы процесс так называемой «утечки умов», выражающийся в резкой активизации миграции научных работников за границу на постоянное место жительства[16].
В многочисленных работах, посвященных проблеме «утечки умов», отмечается, что начавшиеся во второй половине 1980-х годов социально-политические преобразования, включая либерализацию эмиграционной политики, сопровождались резкой активизацией эмиграции в целом и научной эмиграции в особенности. Если для России данная проблема актуализировалась лишь в последние два с половиной десятилетия, то в других странах, в особенности развивающихся, эта проблема начала ощущаться как весьма острая еще с 1950-х годов, что стало в последующие десятилетия предметом особой озабоченности международных организаций, в первую очередь ООН. Так, в докладе ООН 1968 года, подготовленном Комитетом по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), отмечалось, что проблема «утечки умов» «перестала быть „личным“ делом и все более становится делом, представляющим национальный и международный интерес», а тогдашний генеральный директор Института подготовки кадров и научных исследований при ООН Габриель д'Арбусье подчеркивал, что brain drain — это нечто «чрезвычайно важное», столь же важное, как «проблема международной торговли или проблема падения цен на сырьевые ресурсы…»[17].
Понятие «утечка умов»
Проблема «утечки умов» в 1990-х годах представляется многогранной. Она включает анализ таких аспектов, как определение понятия «утечка умов», ее масштабы и тенденции, географическую направленность и мотивы эмиграции ученых, возрастные, дисциплинарные, квалификационные и другие характеристики эмиграции, прогноз эмиграции, ее краткосрочные и долгосрочные последствия для научного потенциала страны и др. При этом степень изученности каждого из этих аспектов весьма разная.
В толковом словаре русского языка «утечка умов» трактуется как «эмиграция людей умственного труда, высококвалифицированных специалистов»[18]. Такое широкое толкование «утечки умов» включает представителей самых различных сфер интеллектуальной активности: ученых, инженеров, врачей, учителей, программистов, художников, музыкантов, артистов, писателей, архитекторов, любых специалистов с высшим образованием[19]. Этот термин применительно к эмиграционной ситуации в СССР стал использоваться в конце 1980-х годов, в перестроечный период. Однако термин brain drain (калькой с которого и является «утечка умов») впервые был использован в докладе Британского королевского общества в 1962 году по отношению к эмиграции ученых, инженеров и техников из Великобритании в США. С тех пор термин «утечка умов» применяется для обозначения массовой иммиграции высококвалифицированных специалистов в США из многих стран мира, как промышленно развитых, так и развивающихся[20]. Однако было бы неверно сводить применение термина только к этим ситуациям. Другие промышленно развитые страны, прежде всего западноевропейские, также стали впоследствии «реципиентами» высококлассных специалистов из развивающихся стран. Отличие состоит лишь в том, что «утечка умов» в США происходит как из развивающихся, так и из промышленно развитых стран. В послевоенные десятилетия, вплоть до конца 1980-х годов, изменялись лишь пропорции, соотношения иммиграции ученых и инженеров из этих двух групп стран (развитых и развивающихся) в США.
«Утечка умов» из бывшего СССР в Израиль
Эмиграция оказалась возможной не вследствие «внутренней» эволюции советской системы власти или каких-то послаблений в прежде жесткой эмиграционной политике СССР, а лишь в результате влияния внешнеполитических факторов, прежде всего так называемой «поправки Джексона — Вэника», затрагивавшей судьбы этнических меньшинств в Советском Союзе. Поправка американских конгрессменов ставила дальнейшее экономическое сотрудничество с СССР в прямую зависимость от свободы эмиграции национальных меньшинств за рубеж. Не желая лишаться тех преимуществ, которые давали торгово-экономические отношения с США, советское партийно-правительственное руководство было вынуждено пойти на невиданные прежде уступки американцам. Таким образом, под давлением общественности зарубежных стран и угрозой внешнеэкономических санкций органы советской власти разрешили своим гражданам еврейской национальности выезд на их историческую родину. До недавнего времени факт этнической эмиграции советских граждан того периода в общественном сознании ассоциировался в первую очередь с угрозой возможных потерь от «торгово-экономических санкций», однако недостаточным, на наш взгляд, оказался анализ потенциальных потерь, учитывая интеллектуальную составляющую эмиграции из СССР. Как показывает науковедческий анализ, «утечка умов» оказалась достаточно серьезной проблемой, сопоставимой по своим масштабам с последующей волной «утечки умов» из страны начиная с конца 1980-х годов и в последующие годы.
Свою первую значительную интеллектуальную подпитку из России израильская наука получила в начале 1970-х годов, когда советские власти были вынуждены открыть двери для массовой эмиграции евреев. В 1973 году постановлением правительства Израиля был открыт специальный Центр абсорбции ученых: непосредственным поводом к этому стало прибытие в страну сотен ученых-эмигрантов из СССР. Возникла объективная необходимость создать специальный орган, который не только способствовал бы профессиональной интеграции этой группы репатриантов в израильскую научную среду, но и обеспечивал бы создание условий для оптимального использования их потенциала на благо развития израильской науки, как теоретической, так и прикладной[21]. За период с 1974 по 1984 год из общей численности эмигрировавших из СССР в Израиль (81 555 чел.) более 14 % (11 571 чел.) были научными работниками (см. табл. 1).
Как видно из табл. 1, пик первой волны эмиграции пришелся на 1979 год, когда из СССР выехало 17 278 человек, из которых 2479 (14,3 %) были научными работниками. Максимальная процентная доля эмиграции научных работников пришлась на 1984 год (40,3 %). Центр абсорбции ученых оказал помощь 3500 ученым. Израильские работодатели получили финансовые дотации на трудоустройство 2500 ученых-иммигрантов, 65 % из которых нашли работу в университетах и других высших учебных заведениях; 20 % — в правительственных и общественных учреждениях, больницах и лабораториях; 15 % — в промышленности.
Первая волна этнической эмиграции из СССР, начавшаяся в 1970-х годах, сменилась в условиях перестройки второй волной эмиграции в Израиль. Если этническая эмиграция первой волны и «встроенная» в нее «утечка» ученых являлась следствием внешнего воздействия на правительство СССР, то перестроечная волна научной эмиграции уже была результатом внутренней либерализации эмиграционной политики, исходившей от самой советской власти.
Новая волна иммигрантов из СССР и других стран мира оказалась для Израиля более продуктивной в плане социально-демографического и научно-технического развития страны. Согласно данным израильского политолога А. Эпштейна, в период с января 1989-го по декабрь 1999 года в Израиль прибыли 980 000 человек, из коих 835 410 (85,2 % от общего числа приехавших) — из бывшего СССР. Из общего числа иммигрантов 14 000 (т. е. 1,4 % от общего числа приехавших) обратились в Центр абсорбции ученых в министерстве абсорбции с просьбой получить одну из тех государственных стипендий, на которые могут претендовать ученые-иммигранты. Для определенности отметим, кого в Министерстве абсорбции Израиля относят к категории ученых: а) обладателей степени «кандидат наук» или выше, которые на протяжении как минимум трех из пяти лет, предшествовавших иммиграции, работали в научно-исследовательской сфере, имеют как минимум три научные публикации или зарегистрировали как минимум три патента; б) специалистов с законченным пятилетним высшим образованием, которые на протяжении как минимум четырех из шести лет, предшествовавших иммиграции, работали в научно-исследовательской сфере, имеющих как минимум три научные публикации или зарегистрировавших как минимум три патента.
Из 14 000 иммигрантов, обратившихся в Министерство абсорбции, 92 % (т. е. 12 800 человек) были признаны «учеными», из которых 38 % прибыли в 1990–1991 годах. Около 90 % из них (т. е. примерно 11 500 человек) — выходцы из СССР/СНГ (еще примерно 5 % — израильтяне, имеющие гражданство и вернувшиеся в страну после многолетнего отсутствия, и еще примерно 5 % — иммигранты из других стран). Еще 1200 человек, считающих себя учеными (почти все они — выходцы из СССР/СНГ), получили отказ; иногда причина заключалась в профессиональном несоответствии соискателя, но зачастую поводом был всего-навсего возрастной ценз (де-юре — 70 лет, де-факто — 65), вне зависимости от степени научной производительности соискателя и его заслуг. Кроме того, еще около 1000 ученых из стран СНГ прибыли в Израиль в 2000-е годы. Среди тех 12 800 иммигрантов, получивших стипендии Центра абсорбции ученых в 1989–1999 годах, 3 % имели докторскую степень, 51 % — кандидатскую (или Ph. D. — те, кто прибыл не из СССР/СНГ), т. е. относились к категории «а», а 46 % относились к категории «б». Из них 64 % работают в сфере естественных и точных наук, 23 % — в медицине, 13 % — в области общественных и гуманитарных наук[22].
Следует особо подчеркнуть, что характерной чертой этнической эмиграции в Израиль был высокий процент лиц с высшим научно-техническим образованием. Израильские компании, выпускающие высокотехнологические изделия, давали 40 % промышленного экспорта Израиля, составлявшего около 10 млрд долларов. По оценке экспертов, в немалой степени этому способствовал приток в Израиль ученых-иммигрантов из бывшего СССР[23].
Теоретические подходы к изучению эмиграции научных кадров
Изучение проблемы «утечки умов» в прошлом и настоящем России — это одно из относительно новых направлений исследований отечественных историков науки и науковедов, ставших предметом специального анализа лишь в последние 15 лет. Проведены десятки всероссийских и международных научных конференций, посвященных истории и современным процессам «утечки умов», изданы сотни научных монографий, сборников и журнальных статей по различным аспектам этой проблемы. Прежде чем сосредоточиться на анализе отдельных сторон этой проблемы, важно обсудить некоторые методологические вопросы: введение понятия об «утечке умов» в научный оборот, ее периодизация в социальной истории советской науки, сложившиеся теоретические подходы и методы ее изучения.
Понятие «утечка умов» возникло в начале 1960-х годов и изначально отражало феномен активной эмиграции высококвалифицированных специалистов из Англии в США. С тех пор оно прочно вошло в научный оборот в странах, испытавших на себе негативные последствия эмиграции научно-технических кадров. Поэтому довольно часто в специальной науковедческой литературе понятия «утечка умов» и «научная эмиграция» используются как синонимы.
Хотя термин «утечка умов» введен в научный оборот в 1960-х годах, само явление массовой эмиграции научно-инженерных кадров из одной страны в другую имеет более давнюю историю. Мы сосредоточимся на волнах научной эмиграции в советский и постсоветский период. В качестве примера можно привести активную эмиграцию ученых и инженеров после Октябрьской революции и в первые годы Советской власти. Ее нередко называют первой волной российской научной эмиграции, в потоке которой, как отметил В. П. Борисов, оказались «многие представители интеллигенции, в том числе деятели науки, техники и высшей школы. Основная часть их покидает Россию в период 1920–1925 годов»[24]. Но это была не единственная волна научной эмиграции в истории Советской России.
В отношении изучения первой, послеоктябрьской волны научной эмиграции можно выделить два подхода: историко-научный и историко-науковедческий. Для обоих подходов общим объектом исследования являются ученые-эмигранты, но сам предмет исследования заметно отличается. Так, историко-научный подход, достаточно широко реализованный в работах таких исследователей, как Г. М. Бонгард-Левин, В. А. Волков, В. А. Есаков, В. Р. Михеев, Т. И. Ульянкина, Л. В. Чеснова, А. Д. Чернин, и других[25], направлен на воссоздание индивидуальной биографии, неповторимой судьбы отдельно взятого ученого-эмигранта. В контексте историко-научного подхода обстоятельно изучаются судьбы многих крупных российских ученых-эмигрантов, внесших заметный вклад в развитие отечественного и зарубежного естествознания и техники (Г. А. Гамов, Ф. Г. Добжанский, В. К. Зворыкин, В. Н. Ипатьев, И. И. Сикорский, С. П. Тимошенко, А. И. Чичибабин и др.).
Историко-науковедческий подход направлен на изучение не индивидуальных, а общих, групповых характеристик научной эмиграции как целостного социального феномена, без соотнесения с конкретными судьбами отдельных ученых-эмигрантов. В данном случае речь идет о попытках конструирования некоего «группового портрета» научной эмиграции 1920-х годов как целостного социально-исторического феномена[26]. Историко-науковедческий подход включает анализ таких характеристик научной эмиграции, как ее причины, масштабы, состав, география расселения, адаптация в разных странах и др. Иначе говоря, данный подход связан с анализом (в широком смысле) социальных характеристик научной эмиграции. Историко-науковедческий подход, в отличие от историко-биографического, позволяет сопоставлять одни и те же характеристики научной эмиграции, инвариантные для ее разных волн.
Постсоветская Россия в полной мере ощутила на себе чрезвычайную актуальность проблемы эмиграции ученых за границу[27]. В условиях затянувшегося перехода к рыночной экономике, пожалуй, ни одна из острых социальных проблем не имела такого общественного резонанса и не освещалась средствами массовой информации так часто и эмоционально, как «утечка умов». Выражаемая широкой общественностью обеспокоенность по поводу «утечки умов» вполне понятна, ибо без опоры на науку и высокие технологии любые благие намерения по социально-экономическому переустройству России и ее включению в когорту развитых стран мира заведомо обречены на провал. Хотя к 2000-м острота проблемы существенно понизилась и из ажиотажной и модной она трансформировалась в «нормальную» науковедческую проблему, актуальность ее дальнейшего изучения не вызывает сомнений. По мнению академика В. В. Козлова, «безусловно, нам необходимо понимать, кто и почему уезжает, как это влияет на нашу науку. Я, кстати, не исключаю, что явление, которое было принято считать однозначно негативным, на поверку окажется не лишенным „позитива“. Одним словом, нужен глубокий и всесторонний анализ. Знаю, что этим занимаются несколько сильных исследовательских групп. Мы с нетерпением ждем результатов и намерены уделить им максимальное внимание»[28].
Важно различать два основных типа научной миграции за рубеж: 1) «безвозвратную» миграцию (эмиграцию), т. е. выезд ученых на постоянное место жительства и 2) «временную» миграцию, т. е. выезд в целях продолжения научно-профессиональной деятельности. Это два совершенно разных типа миграции за рубеж. Если для «безвозвратной» миграции характерна схема «сначала заграница — потом работа», то для временной научной миграции, наоборот, «сначала работа — потом заграница». Поэтому и теоретико-методические подходы к их изучению существенно различаются. В основе этих двух вариантов выезда лежат две принципиально разные миграционные установки ученых. В основе одной установки — «главное выехать, а там как сложится». Здесь выезд ученого не обусловлен и не гарантирован предварительной договоренностью об устройстве на научную работу с зарубежным работодателем. Для мигрантов этой категории главным было сначала обустроиться на новом месте, решить первичные социально-бытовые проблемы и только потом (или параллельно) начать поиск работы в своей научно-профессиональной сфере, а если не получится, то в какой-либо иной сфере, пусть даже вне науки. В последнем случае ученый оказывался «выпавшим» уже не только из российской, но и из мировой науки. Число эмигрировавших российских ученых и «выпавших» из сферы науки за пределами России — к сожалению, вопрос малоизученный. Так нередко поступали преимущественно те российские ученые, у кого была готовность выехать по так называемому «этническому» каналу эмиграции на историческую родину. По такому каналу научная эмиграция осуществлялась в Израиль, Германию, а также в другие страны, где традиционно существуют крупные этнические общины (еврейская, армянская и др.), например в США.
В основе второй ориентации главное — договориться насчет научной деятельности, например по контракту, переехать и жить в новой стране одному или со своей семьей. Так поступило подавляющее большинство российских ученых, выехавших за рубеж в 1990-е годы. По окончании контракта ученый обычно пытался продлить его, если же не получалось, был вынужден возвратиться домой. Ученый мог неоднократно выезжать за рубеж на время выполнения научной работы и возвращаться на родину («маятниковая», «контрактная» или «челночная» миграция). Странами, куда чаще всего выезжают российские ученые на временную работу, являются США, Германия, Израиль. Нередко маятниковый тип миграции перерастает в иной — «безвозвратную» научную миграцию (эмиграцию).
Масштабы «безвозвратной» научной миграции за рубеж
Вал исследований и публикаций на тему миграции российских ученых за рубеж по сравнению с 1990-ми годами ныне существенно спал. Это объясняется не только тем, что масштабы «утечки умов» с годами поубавились, но и тем, что утрачена сама острота восприятия общественностью этого социального феномена, совершенно нового для нашей послевоенной истории. Но хотя «утечка умов» пошла на убыль, она все же продолжается, пусть и в иных формах. До сих пор количественные оценки масштабов постсоветской «утечки умов» остаются дискуссионными. Однако сейчас можно пытаться подводить если не окончательные, то хотя бы предварительные итоги масштабов «утечки умов» за последние годы, опираясь на отечественные статистические источники (Госкомстата, МВД, РАН и др.). Конечно, и ранее эти статистические данные, хотя и в неполной форме, представлялись общественности, однако в СМИ доминировали журналистские и так называемые «экспертные» оценки масштабов «утечки умов», без ссылки на первоисточники этих данных. Одним словом, в этой острой и социально-значимой проблеме преобладал алармистский подход.
Конечно, ранее существовавший статистический учет имел свои «технические» изъяны (о них будет сказано далее), однако они были не настолько существенными, чтобы не позволить дать приблизительную оценку масштабов «утечки умов» в постсоветские годы и тем самым противопоставить их «цифрам-страшилкам», исчисляемым многими сотнями тысяч эмигрировавших ученых.
Почему-то считается, что, в отличие от качественного, количественный аспект проблемы является наиболее разработанным. Однако этот вопрос, как это ни покажется странным, является весьма спорным. Учитывая сложность данного вопроса, здесь следует ставить своей задачей не установление каких-то точно выверенных масштабов научной эмиграции, а выявление аргументированных «ориентировочных данных», близко характеризующих этот феномен. А о том, что такая задача является значимой, можно судить по весьма противоречивым оценкам масштабов ежегодной эмиграции в постсоветский период. Приведем лишь две значительно расходящиеся оценки: «По статистике, ежегодно из России уезжает 70–90 тыс. ученых в возрасте 31–45 лет, то есть наиболее перспективная интеллектуальная прослойка»[29]. Здесь примечательно то, что автор ссылается на некую статистику, да еще «с возрастной градацией», которой попросту не существует. Если следовать логике этой «статистики», то за 1990-е годы все российские ученые данной возрастной группы должны были бы уже давно уехать за пределы России, чего, к счастью, не произошло.
А вот для примера вторая оценка. Эмиграция из сферы науки и научного обслуживания (ННО) «составляет порядка 1–2 тыс. чел. в год, причем включая не только собственно ученых, но и другие категории занятых». Количественный расчет, как отмечали специалисты Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), произведен «на основе данных МВД»[30]. Приведенные количественные данные отличаются друг от друга даже не на один, а на два и более порядка. Такой огромный разброс оценок научной эмиграции можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, несовершенством экспертных оценок численности эмиграции, которые часто в атмосфере социального отчаяния подменялись алармистскими оценками. Во-вторых, отсутствием стабильного и надежного государственного статистического учета эмиграции ученых. На протяжении последнего десятилетия президент страны, правительство, парламент неоднократно высказывали обеспокоенность проблемой эмиграции российских ученых, ее масштабами и вероятными негативными последствиями. В прессе появлялись «многочисленные публикации, касающиеся масштабов выезда из страны научных кадров и основанные, как правило, на экспертных оценках. Они, однако, являются весьма разнородными и противоречивыми и зачастую не базируются ни на чем, кроме фантазии авторов»[31].
Данные паспортно-визовой службы МВД России
Особенностью методического подхода, принятого в МВД, является то, что наряду с эмиграцией работников из сферы науки здесь также ведется учет эмиграции из сферы образования, т. е. фиксируется суммарная эмиграция из объединенной сферы, обозначаемой «Наука и образование» (см. табл. 2).
В общей сложности, согласно данным МВД, из сферы науки и образования на постоянное место жительства за рубеж (ПМЖ) уехало 45 544 работника. Это ни в коей мере не означает, что указанная цифра отражает лишь число эмигрировавших ученых НИИ и профессорско-преподавательского состава вузов.
В реальности состав работников сферы науки и образования значительно шире, он включает весь обслуживающий персонал, работающий в НИИ и вузах. Более того, сфера науки и образования включает не только НИИ и вузы, но и все воспитательно-образовательные учреждения, включая дошкольные, школьные, средние специальные и др. Это означает, что в число эмигрировавших работников сферы науки и образования входят воспитатели яслей, детских садов, учителя средних школ, преподаватели колледжей и др. Вычленить число уехавших научных работников из этой общей массы эмигрировавших не представляется возможным. Таким образом, вопрос о численности эмигрировавших научных работников, рассмотренный с позиций методического подхода МВД, остался нерешенным. В поисках конструктивного решения этого вопроса свой методический подход к расчету численности эмиграции именно работников науки предложил ЦИСН.
Несмотря на отсутствие прямых статистических показателей и, соответственно, точных данных о масштабах научной эмиграции в 1990-х годах на основе специально разработанных методик, можно говорить о приблизительной численности эмигрантов из России, работавших в отрасли «Наука и научное обслуживание». Хотя точность данных, полученных на основе этой методики, не может считаться безупречной, тем не менее с ее помощью можно судить о порядке цифр научной эмиграции. Это дает возможность решительно отграничиться от множества никак не обоснованных, а то и явно спекулятивных оценок, обильно фигурирующих в СМИ, а порой и в специальной научной литературе. Ниже представлены результаты расчета численности научной эмиграции по методике ЦИСН за период с 1989 по 2002 год (см. табл. 3).
Согласно статистическим данным, за 14 лет (1989–2002 годы) на ПМЖ выехало около 22 000 работников отрасли «Наука и научное обслуживание», включающей не только собственно ученых (исследователей), но и научно-вспомогательный персонал научных организаций (лаборанты, работники библиотеки и др.). Таким образом, за 14-летний период собственно ученых (исследователей) уехало еще меньше, чем из отрасли в целом. Сколько же их эмигрировало за этот период?
Ответ на этот вопрос можно получить путем несложных расчетов, сопоставляя вышеуказанные эмиграционные данные Госкомстата и ЦИСН за один и тот же период (1993–1996 годы). В результате нашего расчета получается, что на одного уехавшего на ПМЖ ученого в среднем приходилось шесть научно-вспомогательных работников. В пересчете за 14 лет это составило 3500–4000 эмигрировавших научных работников. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет, во-первых, исключительно о научных работниках, а не обо всех категориях работников, занятых в сфере «Наука и научное обслуживание»; во-вторых, о тех ученых, кто уехал за рубеж не на временное пребывание (по контракту, обмену, приглашению и т. п.), а изначально на постоянное место жительства; в-третьих, здесь не учитываются преподаватели вузов, уехавшие на ПМЖ.
Значит ли это, что цифра 3500–4000 человек правильно отражает численность российских ученых, выехавших за рубеж на ПМЖ даже с учетом трех вышеназванных ограничений? Нет, поскольку в этой цифре не учитывается динамика существенных изменений в статистическом учете эмигрирующих из России граждан, произошедших за период с 1999 по 2002 год.
Масштабы временной научной миграции за рубеж
Отток ученых за рубеж на постоянное жительство — это всего лишь малая толика «утечки умов». Несравненно бóльшая часть связана с временной научной миграцией (ВНМ), когда ученые выезжают за рубеж и временно работают по договорам в зарубежных организациях. Они работают в университетах, государственных лабораториях, частных корпорациях и других организациях в сфере науки и образования. В отличие от ранее проводившегося ежегодного статистического учета выезжающих за рубеж на ПМЖ, учет выезжающих на временную научную работу за весь постсоветский период проводился лишь дважды: в 1996 и 2002 годах. Оба этих разовых обследования проводились по форме статистического учета № 1–МН, разработанной ЦИСН и утвержденной Госкомстатом России. Анализ результатов обоих обследований стало возможным проводить в сравнительном ракурсе ввиду единой методической основы. Ниже представлены результаты обоих обследований (см. табл. 4).
Согласно этим данным, в 1995 и 2002 годах за рубежом, соответственно, работали 4084 и 2922 исследователя из России, т. е. в абсолютном выражении мы имеем уменьшение на 1162 человека, или на 28 %. Если учесть, что в 1995 году в России насчитывалось 518 690 исследователей, то число работавших за рубежом в том же году составит в процентном отношении весьма малую величину — всего 0,79 %. Другими словами, в среднем в 1995 году только 1 из 127 российских исследователей работал за рубежом. В 2002 году общая численность российских исследователей снизилась до 414 676 человек, но уменьшилось и число работающих за рубежом, причем не только в абсолютных цифрах, но и в процентном выражении — с 0,84 % в 1995 году до 0,70 % в 2002 году, т. е. по происшествии семи лет за рубежом работал только 1 из 150 российских исследователей.
Соотношение числа ученых, выехавших из России на постоянное место жительства и временную научную работу, в динамике (1992–2002 годы)
В начале 1990-х годов, когда уезжали по разным причинам и миграция ученых за рубеж получила большой размах, не раз возникал вопрос: кого больше в числе покидающих страну — тех, кто уезжает на постоянное место жительства (ПМЖ), или тех, кто уезжает на временную научную работу (ВНР)?
В работе Центра исследований и статистики науки совместно с Управлением кадров РАН были представлены результаты единовременного обследования динамики занятости в системе РАН за двухгодичный период (1991–1992)[32]. Результаты обследования дали представление о масштабах «безвозвратной утечки умов» из академической науки. За рассматриваемый период на ПМЖ за рубеж выехало 508 научных работников, что составило примерно 0,8 % от их общей численности в Академии наук. Наряду с изучением выехавших на постоянное жительство анализировались также масштабы временной работы академических ученых за рубежом. На момент опроса в длительных командировках (свыше полугода) и на работе по контракту за рубежом находился 1701 сотрудник (2,8 % от общей численности работников РАН).
Таким образом, число академических ученых, находившихся на временной научной работе за рубежом, более чем в три раза превысило число тех, кто уехал на постоянное жительство. Отметим, что это соотношение имело место в системе РАН в 1992 году. Однако в дальнейшем в работах ряда авторов применительно к последующим годам и другим секторам науки (вузовскому, отраслевому и др.) этот показатель стал ошибочно рассматриваться как не меняющаяся во времени стабильная величина. Иначе говоря, раз полученный в 1992 году результат в последующих публикациях стал трактоваться как неизменная величина во все 1990-е и последующие годы. Между тем темпы изменения численности этих двух форм мигрантов с годами существенно менялись. Согласно данным Госкомстата, в 1996 году 234 научных работника из всех трех секторов (вузовского, отраслевого, академического) российской науки оформили свой отъезд на постоянное жительство за рубеж. В том же году, согласно исследованию ЦИСН, за рубежом на временной научной работе (как уже отмечалось) находились 4084 исследователя, т. е. в 17 раз больше, чем уехавших «насовсем».
Таким образом, за четыре года (1992–1996) количество ученых, уехавших «насовсем», сократилось более чем в два раза, а число ученых, временно работающих за рубежом, наоборот, увеличилось более чем в два раза. Иначе говоря, соотношение ученых, уехавших «насовсем» и «временно», существенно изменилось в пользу последних и составило новую величину, 1 к 16, т. е. на одного постоянного иммигранта приходилось 16 «временных». В последующие годы это соотношение могло еще более возрасти, но при этом необходимо учитывать, что начиная со второй половины 1990-х годов уезжающие на ПМЖ россияне, включая ученых, могли не сняться с регистрационного учета, что, соответственно, влияло на соотношение выехавших на ПМЖ и ВНР.
В заключение следует отметить, что 2002 год был последним, когда Паспортно-визовым управлением МВД РФ велся статистический учет россиян, уезжающих в страны дальнего зарубежья на ПМЖ. Ему на смену пришел другой вид учета пересекающих российскую границу — учет прибывающих в собственную страну граждан, как это давно практикуется в других странах мира.
Библиография
Предисловие
Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940. Книга вторая / Под общей редакцией Е. П. Челышева и Д. М. Шаховского. — М.: Наследие, 1994.
Русские в Праге, 1918–1928 гг. / Редактор-издатель С. П. Постников. Praha: Legiografie, 1928.
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энциклопедический биографический словарь. — М.: РОССПЭН, 1997.
Абраменко Л. М. Последняя обитель. Крым, 1920–1921 годы. — Киев: МАУП, 2005.
Будницкий О. П. Российские евреи между красными и белыми. — М.: РОССПЭН, 2005.
Будницкий О. П. Деньги русской эмиграции: колчаковское золото, 1917–1957. — М.: НЛО, 2008.
Fox R. Science Without Frontiers: Cosmopolitanism and National Interests in the World of Learning, 1870–1940. Columbus OH: OSU Press, 2016.
Cheval R. Romain Rolland, l'Allemagne et la Guerre, Paris: PUFrance, 1963.
Братья Мечниковы: борьба со старостью и великие исторические реки
Мечников Л. И. Записки гарибальдийца. — СПб.: Алетейя, 2016.
Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки (Географическая теория прогресса и социального развития). — М.: Голос труда, 1924.
Российское научное зарубежье. Вып. 6: Естественные науки: XIX — первая половина XX в. / Авт. — сост. М. Ю. Сорокина. — М.: 2011.
Ульянкина Т. И. Хорошо информированный оптимист. К 100-летию со дня смерти российского нобелевского лауреата Ильи Мечникова // Независимая газета. 2016. 14 сентября. С. 14. (Доступна онлайн: -09-14/14_optimist.html)
Шмидт П. Ю. Борьба со старостью // Знание для всех (Петроград). 1915. № 12; Евдокимов В. И. Отец русской геополитики: 30 мая 2013 года исполняется 175 лет со дня рождения Льва Ильича Мечникова // Независимая газета. 2013. 22 мая. (Доступна онлайн: -05-22/12_mechnikov.html)
Свет в окошке: краткая история лампочки. Павел Яблочков и Александр Лодыгин
MacLaren M. The Rise of the Electrical Industry during the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 1943.
Pickett W. B. Technology at the Turning Point. San Francisco: San Francisco Press. 1977.
Капцов Н. А. Павел Николаевич Яблочков, 1847–1894: Его жизнь и деятельность. — М.: Гостехиздат, 1957.
Ковалевские и мир вокруг них
Дэвис Н. История Европы / Пер. с англ. Т. Б. Менской. — М.: ACT; Транзиткнига, 2005.
Полубаринова-Кочина П. Я. Софья Васильевна Ковалевская. 1850–1891: Ее жизнь и деятельность. — М.: Гостехиздат, 1955.
Человек, придумавший космонавтику: Ари Штернфельд
Амнуэль П. Per aspera ad astra // Троицкий вариант — Наука. 2009. 9 июня.
Войскунский А. Звездный штурман // Уральский следопыт. 1979. № 4.
Желнина Т. Место А. А. Штернфельда в истории космонавтики первой половины 30-х годов. (К 95-летию со дня рождения) // Из истории авиации и космонавтики. Вып. 75. — М.: ИИЕТ РАН, 2000.
Ивашкин В. Ари Штернфельд и космонавтика. — М.: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, 2005.
Ивашкин В., Энеев Т. О работах А. А. Штернфельда по космонавтике // Исследования по истории и теории развития авиационной и ракетно-космической науки и техники. Вып. 4. — М.: Наука, 1985.
Осташев А. Штурман космических трасс // Наука и жизнь. 1998. № 7.
Прищепа В. И., Дронова Г. П. Ари Штернфельд — пионер космонавтики / Отв. ред. Б. В. Раушенбах. — М.: Наука, 1987.
Штернфельд А. А. «…Меня считали неизлечимым фантастом…» / Ред. — сост. С. Морозова, В. Прищепа, Н. Чечель. — М.: Политехнический музей, 2005.
Штернфельд А. Введение в космонавтику. — М.; Л.: ОНТИ, 1937 (2-е издание, М.: Наука, 1974).
Штернфельд А. Искусственные спутники. — М.: Гостехиздат, 1958.
Штернфельд А. Искусственные спутники Земли. — М.: Гостехиздат, 1956.
Штернфельд А. Межпланетные полеты. — М.: Гостехиздат, 1955.
Штернфельд А. От искусственных спутников к межпланетным полетам. — М.: Гостехиздат, 1957, 1959.
Штернфельд А. Парадоксы космонавтики. — М.: Наука, 1991.
Штернфельд А. Полет в мировое пространство. — М.; Л.: Гостехиздат, 1949.
Штернфельд М. Классик космонавтики // Наука и жизнь. 2005. № 6.
Штернфельд М. Мечтатель-реалист // Наука и жизнь. 1998. № 7.
Штурман космических трасс Ари Штернфельд [сборник] / Авт-сост. Н. Наровлянский. — М.: Совет ветеранов-строителей космических стартов, 2006.
Русский каучук в Америке: Иван Остромысленский
Зайцева Е. А. Катализ в России XIX — первая треть XX в. Социально-политические метаморфозы и деятельность ученых // Из истории катализа: события, люди, школы / Под ред. В. Д. Кальнера. — М.: Калвис, 2005. С. 33–102.
Зайцева E. A. Летопись важнейших открытий в химии. Ч. 2. Разработка промышленного способа получения синтетического каучука // Химия 1998. № 7. С. 3–6.
Ульянкина Т. И. Остромысленский Иван Иванович // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. — М.: РОССПЭН, 1997. С. 477–479.
Seymour R. B. Ivan I. Оstrоmislensky: Polymer Scientist and Doctor of Medicine // New Journal of Chemistry. 1989. Vol.13. № 6. P. 415–41.
Архив МГУ. Ф. 61. Оп. 1. Д. 439.
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 487. Д. 296.
ЦИАМ. Ф. 372. Оп. 3. Д. 700.
ЦИАМ. Ф. 372. Оп. 4. Д. 108.
ЦИАМ. Ф. 224. Оп. 1. Т. 2. Д. 965.
АРАН Ф. 629. Оп. 1. Д. 166
Человек, приручивший колебания: Степан Тимошенко
Вернадский В. И. Собр. соч. в 24 томах. Т. 19. Дневники В. И. Вернадского 1917–1922. — М.: Наука, 2013.
Орлов Е. И. Моя жизнь. — М.: Книгарь, 2011.
Российское научное зарубежье. Вып. 5: Инженерные науки, XIX — первая половина XX в. / Авт. — сост. М. Ю. Сорокина. — М.: Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2011.
Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле / Пер. Я. Г. Пановко. — М., 1959.
Фортов В. Е. Заметки о науке. — М.: РТСофт — КОСМОСКОП, 2016.
Русские крылья: авиация в эмиграции. Игорь Сикорский, Александр Прокофьев-Северский, Александр Казаков
Катышев Г. И., Михеев В. Р. Сикорский. — СПб.: Политехника, 2003.
Образцов П. А., Шенгелевич М. Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский. — М.: ЛомоносовЪ, 2014.
Бульб Владимира Юркевича, или Корабельная история
Foucart B. Robichon F. «Normandie»: Queen of the Seas. New York: Vendome Press, 1985.
Maxtone-Graham J. «Normandie»: France's legendary art deco ocean liner. W. W. Norton & Company, 2007.
Американский отец видеозаписи: Александр Понятов
Leslie J., Snyder R. History of The Early Days of Ampex Corporation. New York: AES Historical Committee, 2010.
In Memoriam Alexander M. Poniatoff // Journal of the Audio Engineering Society. 1981. Vol. 2. № 3, March. P. 221.
Самохин В. П. Александр Матвеевич Понятов (120 лет со дня рождения) // Наука и образование: электронное научно-техническое издание. 2012. № 4.
Abramson A. The History of Television, 1880 to 1941. Jefferson NC: McFarland, 2009.
Владимир Зворыкин: патентная война
Борисов В. П. Зворыкин. — М.: Молодая гвардия, 2013.
Парфенов Л. Г. Зворыкин Муромец. — М.: Азбука-Аттикус, 2011.
Abramson A. The History of Television, 1880 to 1941. Jefferson NC: McFarland, 2009.
Лейпциг как колыбель российской фотохимии: Плотниковы
Zaitseva Elena A. Ivan S. Plotnikov (1878–1995) // European Photochemistry Association Newsletter. 1997. Vol. 59. P. 19–28.
Zaitseva Elena A. Ivan Stepanowič Plotnikov — ein kurzes biographisches Portraet // Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft zu Grossbothen e.V. 2006. Bd. 11. H.1. S. 57–60.
Зайцева Е. А. И. С. Плотников // Императорский Московский университет. 1755–1917. Энциклопедический словарь / Сост. А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. — М.: РОССПЭН, 2010. С. 566–568.
Nenad Trinajstić. 100 hrvatskih kemičara. Zagreb: Školska knjiga, 2002.
Русская эмиграция и биология: Федор Левин, Сергей Виноградский, Надежда Добровольская-Завадская, Борис Уваров, Борис Балинский
Шамин А. Н. История химии белка. — М.: Наука, 1977.
Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот. — М.: Наука, 1976.
Kay L. E. The Molecular Vision of Life: Caltech, the Rockefeller Foundation, and the Rise of the New Biology. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энциклопедический биографический словарь. — М.: РОССПЭН, 1997.
Колотилова Н. Н. Становление экологического направления в отечественной микробиологии в трудах С. Н. Виноградского, его современников и последователей (конец XIX — середина ХХ вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. — М., 2013.
Вучинич А. Русская наука в эпоху кризиса: 1890–1910 гг. // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 3. С. 2–28.
Помелова М. А. Развитие отечественной экспериментальной эмбриологии в первой половине ХХ века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. — М., 2012.
Русский основатель эволюционной генетики: Николай Тимофеев-Ресовский
Левина Е. С. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский… (Биология в СССР: история и историография). — М.: АИРО-хХ. 1995.
Бабков В. В., Саканян Е. С. Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1900–1981. — М.: Памятники исторической мысли, 2002.
Рокитянский Я. Г., Гончаров В. А., Нехотин В. В. «Один из лучших генетиков…» Неизвестные архивные материалы о Н. В. Тимофееве-Ресовском // Вестник РАН. 2002. № 12. С. 1107–1116.
Эволюция с одним неизвестным: Феодосий Добржанский
Конашев М. Б. Феодосий Григорьевич Добржанский и становление генетики в Ленинградском университете // Исследования по генетики. 1994. Вып. 11.
Кременцов Н. Л. «Американская помощь» в советской генетике, 1945–1947 // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. № 3. С. 25–41.
Галл Я. М., Конашев М. Б. Классик // Природа. 1990. № 3.
Adams M. B. The Evolution of Theodosius Dobzhansky. Princeton, 1994.
Ayala F. J. Theodosius Dobzhansky, January 25, 1900 — Deсember 18, 1975 // Biogr. Mem. Nat. Asad. Sci. 1985. Vol. 55.
«Вот пример: советский парень Гамов»
Горелик Г. Е. Coветская жизнь Льва Ландау. — М.: Вагриус, 2008.
Горелик Г. Е., Френкель В. Я. Матвей Петрович Бронштейн. 1906–1938. — М.: Наука, 1990.
Горелик Г. Е., Савина Г. А. Георгий Гамов, заместитель директора ФИАНа // Природа. 1993. № 8.
Горелик Г. Е. Андрей Сахаров: Наука и свобода. 4-е изд. — М.: ЛитРес, 2017.
«Без [России] теперь ничто невозможно: ни война, ни мир»
Volkov S. Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich. Milwaukee WI: Limelight Editions, 2004.
Ульянкина Т. И. «Дикая историческая полоса». Судьбы российской научный эмиграции в Европе (1940–1950). — М.: РОССПЭН, 2010.
Из бухгалтеров — в биологи: Михаил Новиков
Ульянкина Т. И. Михаил Михайлович Новиков. 1876–1964. — М.: Наука, 2015.
Ульянкина Т. И., Александров Д. А. М. М. Новиков. Русская академическая акция (Прага, Братислава, Мюнхен, Нью-Йорк) // ИИЕТ РАН. Годичная научная конференция 1998. М.: ИИЕТ РАН, 1999. С. 247–252.
Правда и ложь в жизни одного Ди-Пи: Александр Знаменский
СПФ АРАН. Ф. 1123.
Хисамутдинов А. После продажи Аляски. Русские на Тихоокеанском побережье Северной Америки (1867–1980). Материалы к энциклопедии. — Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2003.
Ульянкина Т. И. «Дикая историческая полоса…» Судьбы российской научной эмиграции в Европе (1940–1950). — М.: РОССПЭН, 2010.
Карты и границы: Израиль Гельфанд, Владимир Арнольд, Юрий Манин
Арнольд В. И. Что такое математика. 2-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2008.
Арнольд В. И. Истории давние и недавние. — М.: Фазис, 2002.
Гротендик А. Урожаи и посевы / Пер. с франц. // -books/grothendieck/RS.html
Манин Ю. И. Математика как метафора. — М.: МЦНМО, 2008.
Мехматяне вспоминают / Cост. В. Б. Демидович. Вып. 1. — М.: Издание мехмата МГУ, 2008.
Мехматяне вспоминают. Вып. 2. 2009.
Ретах В. С., Сосинский А. Б. Интервью с академиком И. М. Гельфандом // Квант. 1989. № 1. С. 3–12.
Arnold's problems / edited by Vladimir Arnold. Berlin: Springer-Verlag; Moscow: PHASIS, 2005.
Israel Moiseevich Gelfand, Part I // Notices of the AMS. 2013. Vol. 60. No. 1, January.
Israel Moiseevich Gelfand, Part II // Notices of the AMS. 2013. Vol. 60. No. 2, Febrary.
Gerovitch S. Creative Discomfort: The Culture of the Gelfand Seminar at Moscow University // Mathematical Cultures, Trends in the History of Science / edited by B. Larvor. Springer International Publishing Switzerland, 2016.
«Good Proofs are Proofsthat Make us Wiser». Interview by Martin Aigner and Vasco A. Schmidt // The Berlin Intelligencer. 1998. P. 16–19.
Science Lives: Yuri Manin. Simons Foundation (-manin/)
Непрерывное восхождение: Федор Богомолов
Васильев В. А., Зархин Ю. Г., Исковских В. А. и др. Федор Алексеевич Богомолов (к 60-летию со дня рождения) // /~kaledin/bogomolo.html
Орлова О. Владимир Арнольд и Людвиг Фаддеев: сотрудничество физики и математики (интервью с Ф. А. Богомоловым) //
Орлова О. Федор Богомолов: «Из научной интеллигенции можно сформировать „сословие экспертов“» // /
Математика как предчувствие: Андрей Окуньков
Орлова О. Роль наставника в науке (интервью с А. Окуньковым) //
Решетки и узлы как путь к свободе: Алексей Абрикосов, Андрей Гейм, Константин Новоселов
Борисов А. «В России я натерпелся достаточно» // lenta.ru/articles/2017/03/30/abrikosov/
«Физик Абрикосов скончался на 89-м году жизни» // Сообщение агентства «Интерфакс». — Москва, 30 марта 2017 г.
Гинзбург В. Л. О науке, о себе и о других. — М.: 1997.
Смолеговский А. М. Нобелевский маршрут А. К. Гейма и К. С. Новоселова // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Годичная научная конференция. 2016. — М.: Янус-К, 2016. С. 492–495.
Горобец Б. С. Круг Ландау и Лифшица. — М.: ЛИБРОКОМ, 2016.
Рухадзе А. А. События и люди (1948–1991 годы). Продолжение: 12 лет спустя. — М.: Научтехлитиздат, 2005.
Халиуллин Ю. Н. Альберт Эйнштейн и современные физики. — Казань: Идел-Пресс, 2016.
Ваганов А. Г. Диалоги о научно-технической политике. — М.: Полиграфикс, 2001.
Горобец Б. С. Ядерный реванш Советского Союза: Судьбы героев, дважды героев, трижды героев атомной эпопеи. — М.: Красанд, 2014.
Черные дыры и рябь пространства-времени: Рашид Сюняев
Ваганов А. Г. Диалоги о научно-технической политике. — М., 2001.
Горобец Б. С. Указ. соч.
Халиуллин Ю. Н. Альберт Эйнштейн и современные физики. — Казань, 2016.
Античный герой космологии: Сергей Шандарин
Орлова О. «Во всем мире успешно продаются не лучшие автомобили, а в науке финансируются не лучшие проекты». Интервью с Сергеем Шандариным // Полит. ру. 3 апреля 2006. (Доступно онлайн: polit.ru/article/2006/04/03/shand/)
Астрономия XXI век / Ред. — сост. В. Г. Сурдин. — Фрязино: Век-2, 2007.
Чернин А. Д. Яан Эйнасто — космолог XXI века // Эйнасто Я. Сказание о темной материи / Сост. М. Йыэвеэр; ред. У. Тыниссон. — Тарту: Ильмамаа, 2006. (Доступна онлайн: )
Пропп В. Я. Морфлогия сказки. — Л.: Academia, 1928.
Спаситель инфляции: Андрей Линде
Виленкин А. Мир многих миров / Пер. с англ. А. Г. Сергеев. — М.: Астрель; Corpus, 2009.
Штерн Б. Е. Прорыв за край мира. О космологии землян и европиан. — М.: Троицкий вариант, 2014.
Сергеев А. «Чем отличается современная теория происхождения Вселенной от привычной картины». Интервью Андрея Линде на «Радио „Свобода“» 18 сентября 2007 г. (Доступно онлайн: )
Что было, когда ничего не было: Александр Виленкин
Рецензия Андрея Линде на: Vilenkin A. Many Worlds In One, in: Physics Today May 2007
Рецензия Joseph Silk на: Vilenkin A. Many Worlds In One, in: Nature Vol 443—14 September 2006
The Principle of Mediocrity. For the 2011 RAS Whitrow Lecture, Alexander Vilenkin
Watchers of the multiverse. Jaume Garriga and Alexander Vilenkinc Published 30 May 2013 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Volume 2013, May 2013. Препринт arXiv:1210.7540v3
Черные дыры в квантовой пене: Вячеслав Муханов
Виленкин А. Мир многих миров / Пер. с англ. А. Г. Сергеева. — М.: Астрель; Corpus, 2009.
Штерн Б. Е. Прорыв за край мира. О космологии землян и европиан. — М.: Троицкий вариант, 2014.
Чернин А. Д. Почему расширяется Вселенная? К 90-летию Э. Б. Глинера //
Орлова О. Алексей Старобинский и Вячеслав Муханов: «Нас подводили астрономы» // Частный корреспондент. 9 февраля 2010 г. (Доступно онлайн: )
Измерять Вселенную, не покидая Землю: Лев Кофман
Орлова О. «Космология — это дом для всей физики». Интервью с Львом Кофманом // Полит. ру. 26 июня 2006 г. (/)
Bond J. R. Lev Kofman // Physics today. 2010. Vol. 63. Issue 6. P. 58. (Доступно онлайн: )
Чернин А. Д. То же.
Об авторах этой книги
Александр Аллахвердян
Кандидат психологических наук, руководитель Центра истории организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
Дмитрий Баюк
Выпускник кафедры физики высоких энергий физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В настоящее время работает старшим научным сотрудником Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН и доцентом департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Область интересов: научная революция XVII века, история точного знания (физики и математики) и его перенос в XVIII веке (прежде всего в Россию и Китай). Заместитель главного редактора академического журнала «Вопросы истории естествознания и техники». Научный журналист. В прошлом заместитель главного редактора сайта «Вокруг света». Автор переводов «Писем о солнечных пятнах» Галилео Галилея (с итальянского), «Сентиментальной истории науки» Никола Витковски (с французского) и др. Избранный член научного совета Европейского общества истории науки (ESHS) и научного совета Русского общества истории и философии науки (РИОФН).
Андрей Ваганов
Окончил в 1984 году факультет промышленной теплоэнергетики Московского энергетического института по специальности «инженер-теплофизик». Ответственный редактор приложения «НГ-наука» «Независимой газеты», заместитель главного редактора «Независимой газеты» (Москва). Научный сотрудник отдела междисциплинарных методов и смежных направлений исследований истории науки и техники, руководитель Группы популяризации науки и техники Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
Лауреат премии Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени Александра Беляева.
Геннадий Горелик
Автор книг и статей по истории физики и социальной истории науки, в том числе «Почему пространство трехмерно?», биографий М. П. Бронштейна, В. А. Фока, А. Д. Сахарова, Л. Д. Ландау, В. Л. Гинзбурга.
Его книга «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации» вошла в короткий список премии «Просветитель» 2014 года.
В настоящее время — исследователь в Центре философии и истории науки Бостонского университета.
Владимир Губайловский
Окончил в 1982 году механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «дискретная математика». Редактор отдела критики и публицистики журнала «Новый мир». Статьи печатались в журналах «Новый мир», «Урал», «Дружба народов» и др., а также в научных сборниках. Финалист премии «Большая книга» (2012).
Елена Зайцева (Баум)
Выпускница химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат химических наук, преподаватель истории химии на химическом факультете МГУ.
Круг исследовательских интересов: история химии в Московском университете, биографии ученых-химиков, история развития русско-немецких и русско-французских связей в области естествознания, ученые в эмиграции, женщины-ученые.
Автор нескольких монографий и более чем 250 научных публикаций.
Руководитель ряда научно-образовательных проектов в СМИ. Участник международных проектов в области истории науки, представитель России в рабочей группе по истории химии в Европейской ассоциации химических и молекулярных наук (EuCheMS).
Член Европейского общества истории науки (ESHS), Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.
Ольга Орлова
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук, специалист по прозе русской эмиграции первой волны, автор книги о Газданове в серии «ЖЗЛ» и серии публикаций архивных материалов писателей-эмигрантами (Роман Гуль, Михаил Осоргин и др.). С 2005 года занимается научной журналистикой. Работала научным обозревателем «Полит. ру», «Радио „Свобода“», шеф-редактором программы «Технопарк» (Россия-24). С 2012 года — автор, продюсер и ведущая программ о науке на Общественном телевидении России («Гамбургский счет», «Корень из двух», «Нестандартная модель», «Академия 2.0»).
Член Комиссии по общественному контролю в сфере науки.
Член оргкомитета премии МОН РФ «За верность науке».
Антон Первушин
Писатель, журналист, сценарист, литературный критик, исследователь истории космонавтики и фантастики. Магистр технических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член российского Союза профессиональных литераторов. Член Координационного совета Союза ученых Санкт-Петербурга. Действительный член Федерации космонавтики России.
Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт. Публикуется с 1990 года. Автор фантастических книг («Война по понедельникам», «„Гроза“ в зените», «Звезда», «Иные пространства», «Пираты XXI века» и др.) и документально-исторических работ («108 минут, изменившие мир», «Битва за звезды», «Битва за Луну», «Завоевание Марса», «Последний космический шанс», «Юрий Гагарин. Космонавт № 1», «Юрий Гагарин. Один полет и вся жизнь» и др.). Как сценарист и консультант участвовал в создании документальных сериалов для телевидения: «Другое кино. Космос» (2008–2009), «Открытый космос» (2011) и «Наш космос» (2011).
Ирина Пономарева
Выпускница исторического факультета СПбГУ, училась на кафедре археологии. Работала в отделе обработки фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. В 2015 году получила грант National Geographic Society (США) по изучению петроглифов Восточной Сибири. С 2016 года работает над диссертацией по теме наскального искусства в PERAHU, School of Humanities, Griffith University (Австралия).
Тимофей Скоренко
Писатель, журналист, популяризатор науки, автор-исполнитель. По образованию инженер-механик. С 2009 года работает в сфере научной журналистики и популяризации науки: сначала редактором журнала «Что нового в науке и технике», затем — «Популярной механики». В настоящее время является главным редактором сайта «Популярная механика».
Активно сотрудничает с научно-популярными музеями, проектами, организациями. Является одним из авторов «Календаря Политехнического музея», читает открытые лекции на различные темы, принимает участие в организации научно-популярных фестивалей («Конструктор», «Политех», «Geek Picnic»).
В 2017 году выпустил дебютную научно-популярную книгу «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». Опубликовал пять романов — «Ода абсолютной жестокости», «Сад Иеронима Босха», «Законы прикладной эвтаназии», «Легенды неизвестной Америки» и «Переплетчик», а также сборник рассказов «Вдоль по лезвию слов» и сборник стихотворений. Романы получили ряд жанровых литературных премий, в том числе «Бронзовую улитку» Бориса Стругацкого (2011, «Сад Иеронима Босха»), входили в лонг-листы премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».
Сергей Ястребов
Выпускник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Специальность по диплому — зоология, область научных интересов — сравнительная анатомия позвоночных животных. Пробовал себя в школьном и вузовском преподавании, занимался волонтерскими образовательными проектами, в итоге пришел в научную журналистику. Опубликовал больше 60 статей на сайте «Элементы», в журнале «Химия и жизнь» и других изданиях; почти все публикации — на темы, так или иначе связанные с эволюционной биологией. Готовит к печати в издательстве «Альпина нон-фикшн» научно-популярную книгу «От атомов к древу». Ведет научный блог, целиком посвященный эволюционной биологии: caenogenesis.livejournal.com. Помимо научно-популярных текстов пишет научно-фантастические произведения: в июле 2017 года в издательстве «Эксмо» вышел роман «Звездолеты погибшей империи».
Над книгой работали
Научный редактор Сергей Сысоев
Редактор Наталья Нарциссова
Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко
Руководитель проекта Дарья Петушкова
Корректоры Светлана Чупахина, Ольга Улантикова
Верстка Константин Москалев
Иллюстрации Ольга Халецкая (bangbangstudio.ru)
Примечания
1
Дэвис Н. История Европы. — М.: АСТ, 2008.
(обратно)2
Александр Кушнер. «Времена не выбирают…»
(обратно)3
Волшебный помощник — термин, введенный В. Я. Проппом в работе «Морфология волшебной сказки». — Прим. авт.
(обратно)4
Вы поняли, мой мальчик (франц.). — Прим. авт.
(обратно)5
Работа выполнена в рамках Договора № AНФ 0704/2 с «Альпина нон-фикшн» и при поддержке РФФИ (17–03–00885).
(обратно)6
Гордеева Н. А., Филь М. М. Право и реформирование науки. Проблемы и решения. — М.: Новая правовая культура, 2005. С. 151.
(обратно)7
Аллахвердян А. Г. Национальные интересы и принцип «остаточного финансирования» науки — несовместимы // Вестник Российской академии наук. 2002. Т. 2. № 8. С. 675–678.
(обратно)8
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. — М.: Юридическая литература, 2009. С. 64.
(обратно)9
О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон // Российская газета. 1996. 3 сентября.
(обратно)10
Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 24.11.2015).
(обратно)11
Ярошевский М. Г. Сталинизм и судьбы советской науки // Репрессированная наука / Ред. М. Г. Ярошевский. — Л.: Наука, 1991. С. 9–33.
(обратно)12
Доктрина развития российской науки // Поиск. 1996. 13–26 июля. С. 7.
(обратно)13
Гордеева Н. А., Филь М. М. Комментарий к Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» / Ред. Б. Н. Топорнин. — М.: Юристъ, 1997. С. 128.
(обратно)14
Фигуры и лица. Интервью с академиком Ж. Алферовым // Независимая газета. 2000. 19 октября. С. 11.
(обратно)15
Аллахвердян А. Г., Агамова Н. С. Ограничение профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов» // Науковедение. 2001. № 1. С. 61–80; Агамова Н. С., Аллахвердян А. Г. Утечка умов из России: причины и масштабы // Российский химический журнал. 2007. Т. LI. № 3. С. 108–115; Аллахвердян А.Г, Агамова Н. С., Игнатьева О. А. «Приток умов» в Россию // Социологические исследования. 1995. № 12. С. 68–70.
(обратно)16
Юревич А. В., Цапенко И. П. Нужны ли России ученые? — М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 200; Некипелова Е. Ф. Эмиграция и профессиональная деятельность российских ученых за рубежом. — М.: ЦИСН, 1998. С. 100; Симановскиий С. На грани потери последних «мозгов» // VIP. 1997. № 1. С. 39; Куприянов А. «Туда» не зарастет народная тропа. Еще раз об «утечке мозгов» из СССР // Комсомольская правда. 1991. № 7. С. 3; Охота к перемене мест // Поиск. 1990. № 4. С. 7; Некипелова Е. Ф., Гохберг Л. М., Миндели Л. Э. Эмиграция ученых: проблемы, реальные оценки. — М.: ЦИСН, 1994. С. 47.
(обратно)17
Le problème de l'émigration des scentifiques et des techniciens (l'exode des compétences ou «brain drain»). Rapport preéliminaire, SC/WC/57. Paris. 29 février 1968. Р. 11.
(обратно)18
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азъ Ltd, 1992. С. 873.
(обратно)19
Некипелова Е. Ф., Гохберг Л. М., Миндели Л. Э. Указ соч. С. 26.
(обратно)20
Иконников О. А. Эмиграция научных кадров из России: сегодня и завтра. — М.: Компас, 1993. С. 7.
(обратно)21
Эпштейн А., Хеймец Н., Патлас Н. Ученые репатрианты: социально-языковая самоидентификация и профессиональная интеграция в Израиле // Социология: теория, методы, маркетинг. 2000. № 3. С. 51.
(обратно)22
Приведенный фрагмент взят из материалов электронной переписки с израильским политологом А. Эпштейном, находящихся в моем личном архиве.
(обратно)23
Симановский С. И., Стрепетова М. П. Израиль. — М.: Международные отношения, 1994. С. 79.
(обратно)24
Борисов В. П. Российская научная эмиграция первой волны // Российские ученые и инженеры в эмиграции / Ред. В. П. Борисов. — М.: ПО Перспектива, 1993. С. 6.
(обратно)25
Бонгард-Левин Г. М. Скифский роман, или Жизнь Михаила Ивановича Ростовцева // Российская научная эмиграция: двадцать портретов / Ред. Г. М. Бонгард-Левин, В. Е. Захаров. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 293–313; Волков В. А. Опальный академик Чичибабин // Там же. С. 176–188; Есаков В. А. М. И. Венюков за рубежом остается с Россией // Российские ученые и инженеры в миграции / Ред. В. П. Борисов. — М.: ПО Перспектива, 1993. С. 117–126; Михеев В. Р. Русская авиационная эмиграция // Культурное наследие российской эмиграции 1917–1940 / Ред. Е. П. Челышев, Д. М. Шахновский. Кн. 1. — М.: Наследие, 1994. С. 332–344; Ульянкина Т. И. Загадка И. И. Манухина — русского врача, ученого и общественного деятеля // Российские ученые и инженеры в эмиграции. — М.: ПО Перспектива, 1993. С. 93–126; Чеснова Л. В. Б. П. Уваров — русский энтомолог, английский лорд // Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940 / Ред. Е. П. Челышев, Д. М. Шахновский. Кн. 1. — М.: Наследие, 1994. С. 398–403; Френкель В. Я., Чернин А. Д. Гамов в Новом Свете // Российская научная эмиграция: двадцать портретов / Ред. Г. М. Бонгард-Левин, В. Е. Захаров. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 72–89.
(обратно)26
Борисов В. П. Истоки и формирование российского научного зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940 / Ред. Е. П. Челышев, Д. М. Шахновский. Кн. 1. — М.: Наследие, 1994. С. 284–291; Козлов В. И. Творческое наследие российских ученых и инженеров за рубежом в контексте отечественной и мировой культуры // Там же. С. 411–421; Колчинский Э. И. Наука и эмиграция: судьбы, цифры и свершения // Науковедение. 2003. № 3. С. 203–219; Сорокина М. Ю. «Разбросанные по всей Америке» // Российская научная эмиграция: двадцать портретов / Ред. Г. М. Бонгард-Левин, В. Е. Захаров. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 109–112.
(обратно)27
Ащеулова Н. А. Мобильность ученых как механизм включения России в мировое научное сообщество // Инновации. 2010. № 3. С. 7–11; Аллахвердян А. Г. Внешняя и внутренняя миграция кадров академической науки // Утечка умов в условиях современной России: внутренние и международные аспекты. — М.: Ватутинки, 1992. С. 99–113.
(обратно)28
О барьерах и карьерах. Интервью с вице-президентом РАН, академиком В. В. Козловым // Поиск. 2002. № 45–6. С. 5.
(обратно)29
Уэмберс Р. Мировое сообщество выиграет, если поддержит российскую науку // Финансовые известия. 1996. № 113. С. 8
(обратно)30
Некипелова Е. Ф. Кадры науки // Наука и технологии в России. Прогноз до 2010 года / Ред. Л. М. Миндели, Л. М. Гохберг. — М.: ЦИСН, 2000. С. 19.
(обратно)31
Некипелова Е. Ф., Гохберг Л. М., Миндели Л. Э. Эмиграция ученых: проблемы, реальные оценки. — М.: ЦИСН, 1994. С. 28.
(обратно)32
Некипелова Е. Ф., Гохберг Л. М., Миндели Л. Э. Эмиграция ученых: проблемы, реальные оценки. С. 32.
(обратно)


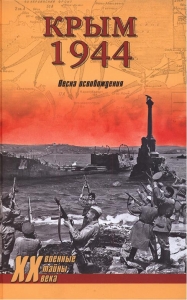


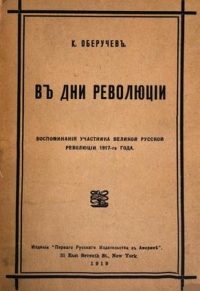
Комментарии к книге «Люди мира. Русское научное зарубежье», Александр Г. Аллахвердян
Всего 0 комментариев