Юрий Грымов Мужские откровения
© Юрий Грымов, текст
© Юрий Грымов, фотографии
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Предисловие
В этом сборнике небольших эссе, рассказов, рецензий и заметок я старался не притворяться и быть честным. Они могут показаться вам смешными, скучными, обидными, интересными, претенциозными – какими угодно. Я не знаю и не пытаюсь предугадать, какие чувства вызовет у вас это чтение. Хочу одного: чтобы эти чувства были искренними.
На этих страницах много личного. Цели доказать свою правоту и тем более кого-то обидеть нет. Есть цель – честно поговорить.
Я благодарен людям, которые меня окружают и без которых эта книга не появилась бы. Это моя супруга Ольга, мои коллеги по театру «Модерн», это мой друг и соавтор, замечательный редактор Михаил Моисеев. И, конечно, это те люди, о которых я пишу, – мои друзья, учителя, оставившие в моей жизни большой след.
Ваш Юрий Грымов
Вполоборота
Последний синяк моего детства
Рассуждать о детстве могут только взрослые. Дети в нем просто живут. Не рассуждая и не задумываясь о том, что это такое. Потому что, как только ты начинаешь задумываться о своем детстве, это значит, что оно для тебя закончилось. И весь фокус в том, что понять, что такое детство, можно только уже в зрелом возрасте.
Мы все вспоминаем свое детство пунктиром – как вспышки самых ярких впечатлений и переживаний. У кого-то этот пунктир частый и подробный, у кого-то – отрывочный, редкий и непостоянный. От чего это зависит, я не знаю. Может быть, от тех взрослых, которые нас окружали в детстве, а может быть, от нас самих. В моих воспоминаниях о детстве осталось огромное количество солнца, проникающего в квартиру, и каждодневная «Радионяня» по радио. А еще я прекрасно помню, как мое детство закончилось.
У меня был игрушечный руль – такая палка, у которой с одного конца вращалась почти настоящая автомобильная «баранка», а с другой была присоска, с помощью которой вся эта конструкция крепилась к полу. Так вот, в какой-то момент я, недолго думая, прилепил эту присоску к себе на лоб. Предварительно основательно послюнявив – как и положено в таких случаях. Я очень старался, да и присоска была качественная; в общем, руль приклеился намертво. Он торчал у меня изо лба, как рог единорога.
Снять не получилось. Ни у меня, ни у бабушки. Она испугалась. Пришли с работы родители, посмотрели на меня в фас и в профиль и поняли, что так просто удалить эту красоту не получится. Все, что смог сделать отец, – он оторвал руль от палки. Я остался с красным деревянным «рогом» во лбу. Было решено ехать в больницу. Машины у нас не было – надо было ехать на метро. Но как? Родители прикрыли хитрую конструкцию пледом, однако, спасибо бабушке, она выступила решительно против этой драпировки, и было вызвано такси.
Я очень любил ездить на такси и был почти счастлив. Почти – потому что во время поездки выяснилось, что по понятной причине смотреть по сторонам у меня не получится: я в буквальном смысле упирался рогом в детали салона автомобиля. И потому в дороге я смотрел строго вперед, слушая тиканье счетчика и периодически ловя в зеркале заднего вида смеющийся взгляд таксиста.
Еще долго после того, как нас с рулем разъединили в больнице, у меня во весь лоб был гигантский синяк. Как напоминание о том, что детство прошло. А когда мы вернулись домой, нас ждала моя тетя, приехавшая в гости. Она всегда обнимала меня каким-то странным способом: крепко-крепко сжимала, причем так, что моя голова оказывалась у нее под мышкой. Так происходило всегда, каждый раз, когда она появлялась у нас в доме. Я до сих пор не могу воспроизвести этот удивительный способ объятий. Зато прекрасно помню смешанный запах пота и каких-то неприятных духов. Потом я узнал, что это была «Красная Москва»; тогда этот запах мне страшно не нравился. Может быть, потому что тетя всегда общалась со мной как с маленьким.
Вообще, меня в детстве всегда раздражало, что взрослые, которые со мной заговаривали, переходили на птичий язык и начинали сюсюкать. Потом я понял, что многие взрослые считают, что если дети говорят на своем особенном, не совсем правильном языке, умилительно коверкая слова, – то они и думают так же. И, соответственно, детям якобы легче что-то объяснить, если начать имитировать этот детский язык. Полная ерунда. Хотя бы потому, что всякая имитация – это вранье и фальшь, а дети прекрасно чувствуют любую неправду. И зачем, спрашивается? Я не понимал этого в детстве: почему взрослые друг с другом разговаривают на нормальном и понятном языке, а когда наклоняются ко мне – вдруг начинают говорить так, что мне становится за них неудобно.
Наверное, поэтому я в детстве очень не любил кукольные мультфильмы. Не знаю, есть ли тут связь, но сейчас я думаю, что, возможно, я воспринимал кукольную мультипликацию как еще одну попытку взрослых сюсюкать с детьми. Во всяком случае, у меня в детстве было твердое убеждение, что создатели кукольных мультфильмов – это преступники. Потому что они делали нечто противозаконное и противоестественное. Я не задумывался над тем, какого наказания заслуживают эти люди за свое преступление, но в том, что они его заслуживают, я был уверен.
Еще о том же. Когда моя бабушка рассказывала о своей маме, моей прабабушке, как та имела обыкновение в какие-то особые дни печь блины, носить их в московские тюрьмы и угощать ими заключенных, она рассказывала это мне как нормальному взрослому человеку. Да и трудно вообще представить себе рассказ на такую тему в формате «сюси-пуси». И, может быть, поэтому я прекрасно помню тот разговор. Я спросил тогда бабушку: получается, прабабушка кормила уголовников? Она строго посмотрела на меня, погрозила сухоньким пальцем и поправила: «Политических».
Кстати, когда ты уже стал взрослый и научился «отматывать назад» свои воспоминания о детстве, это здорово помогает, когда появляются собственные дети. Ты прекрасно понимаешь, что когда твой ребенок живет в мире детства, то для него авторитет родителей – это величина не постоянная, не абсолютная и не вечная. Авторитетом в какой-то момент может стать любой прыщавый парнишка – сосед по двору, который, по мнению твоего чада, знает о жизни больше, чем ты.
И все наши разговоры о том, что «я лучше знаю», – они смешны. Почему? Да потому что это мы умеем «отматывать назад», а дети – нет. И иногда я им завидую. Не потому, что они живут без воспоминаний. А потому что они просто живут – сейчас, в каждое новое мгновение жизни, свободные от мыслей о прошлом или тревоги о будущем.
Не знаю, можно ли соединить эту детскую способность жить сегодняшним днем с жизненным опытом взрослого человека. Говорят, кому-то это удавалось. Но попросить этих людей поделиться своим опытом трудно. Этим людям обычно принято молиться. Или просить их молитв о нас – тех, кто возвращается в свое детство только в воспоминаниях.
Мой первый выход в космос
В моем позднем детстве не было «казаков-разбойников», я не играл д’Артаньяна в школьных спектаклях, и под нашим балконом никто не кричал: «Юра-а-а! Выходи!..» Я рос скромным мальчиком, мне была интересна живопись, я много ходил по музеям, художественным галереям, всматривался в картины, пытаясь представить, что думали и чувствовали их авторы. Не могу сказать, что я был равнодушен к тому, что меня не брали с собой в «разведку» ребята во дворе. Конечно, меня это угнетало. Вниманием девочек я тоже был обделен. Но что делать бедному домашнему мальчику, у которого мало того что нет в активе ни одного «подвига», достойного внимания прекрасной половины, так еще и гормональная перестройка протекает во всей красе, и каждое утро, идя умываться, он с ужасом ждет, в каком еще неподходящем месте вылезет очередной прыщ? В общем, лет до четырнадцати жизнь была ко мне немилосердна и жестока – как, впрочем, к любому подростку.
А потом – я уже и не вспомню, как это получилось – кто-то спросил меня: мол, Юр, а ты бывал в «Чародейке» на Калининском? Что такое была «Чародейка» в 80-е годы – об этом можно писать книги. Слов «модное место» тогда еще не знали, советский человек относился к парикмахерским исключительно как к предприятиям сферы быта, но, конечно, эта парикмахерская была особенным местом. Стричься здесь было дорого. Зайти сюда вот так, запросто, было невозможно: слишком непривычно ощущал себя здесь рядовой гражданин. Я долго думал и решился: иду! Накопил деньги, приехал. Минут десять бродил взад-вперед перед входом. Прекрасное стеклянное здание в самом начале Калининского (да, именно прекрасное! с чем мы могли тогда сравнивать образцы советской архитектуры?) манило и пугало. Когда я вошел, с огромных рекламных фотографий на меня воззрились красивые женщины и мужчины с шикарными прическами. «Что, мальчик, тоже хочешь быть таким, как мы?» – как будто интересовались они снисходительно. Обстановка, цвет, свет, запахи – все другое, новое и необычное. Мастера-парикмахеры, поголовно женщины – в белых халатах. Зеркала в пол. Окна во всю стену. Я присел в сторонке в ожидании очереди.
Минут через пятнадцать из зала выглянула женщина лет сорока, медленно окинула взглядом мою фигуру, потом, не говоря ни слова, чопорно и властно поманила меня пальцем. Я уселся в кресло, она накрыла меня белой простыней. Передо мной на столике стояла целая батарея флаконов, бутылочек и баночек, от которых исходили неведомые ароматы. Рядом были разложены похожие на хирургические инструменты для стрижки. Мне казалось, что – вот, примерно так должен выглядеть изнутри межпланетный корабль. Это был космос, я был отроком во Вселенной, а надо мной совершался то ли научный эксперимент, то ли священный обряд.
Не спрашивая, чего я хочу, мастер принялась сама что-то делать с моей головой. Она прекрасно понимала, чего может хотеть четырнадцатилетний подросток с проблемной кожей, одинокий и никем не понятый. Когда она закончила, я понял, что эксперимент удался, обряд сработал и случилось чудо. В зеркале я увидел другого человека – похожего на меня, но другого: интересного, привлекательного, «крутого». Даже прыщи на лбу не могли разрушить то впечатление, которое произвел я тогда сам на себя. Мне сделали модную прическу «Вихрь»: волосы взбили феном, начесали, да еще и чуть-чуть подкрасили, «перьями». Если бы моя волшебница не показала мне пальчиком – мол, освобождай место, я бы еще долго сидел перед зеркалом.
Жизнь моя изменилась мгновенно – тут же, как только я встал из парикмахерского кресла. Поменялась даже моя походка – независимо от моего желания. Пока я дошел до метро, я уже немного привык к себе самому.
В школу в понедельник я шел другим человеком. На которого – чудеса продолжались! – стали обращать внимание девочки.
– Юра, придешь ко мне на день рождения? – эта фраза, вскоре услышанная мной от одной из самых красивых девочек нашего класса, окончательно утвердила меня в убеждении: «Чародейка» – официальный филиал какой-то тайной организации волшебников, почему-то совершенно спокойно действующий в столице нашей Родины, городе-герое Москве, а его сотрудницы – жрицы, владеющие древним тайным знанием.
В конце концов в один прекрасный день у меня случилось полноценное свидание, с кафе и цветами. Мы с девушкой прекрасно провели время, но, когда мы, гуляя, шли уже по направлению к метро, чтобы там распрощаться, меня настигли естественные потребности: я захотел в туалет. Произнести несколько простых слов – «Прости, я отойду на пару минут в туалет» – я тогда был просто не в состоянии, это было выше моих сил. Я решил терпеть. Когда вдали замаячила красная буква «М», я уже ни о чем другом думать не мог, кроме как: «Только бы до метро, только бы до метро… Вокруг прекрасные кусты. На автобусной остановке никого нет. Но только бы до метро…»
– Слушай, а может, проводишь меня до дома? – перебивает течение моих мыслей моя спутница. – Здесь недалеко, буквально одна остановка.
Это был первый момент, когда мои шлюзы чуть не прорвало. Я понял, что кусты достанутся не мне, а какому-то другому счастливцу. А мне предстоит еще несколько минут борьбы с собственным мочевым пузырем, который, казалось, был готов взорваться в любую секунду.
Мы спустились в метро, зашли в вагон. В вагоне было много свободных мест, и я с готовностью уселся рядом со своей дамой. С готовностью – потому что люди с опытом понимают: положение «сидя» дает некоторые бонусы находящемуся в моей непростой ситуации. Моя спутница о чем-то говорила – я не воспринимал уже ровным счетом ничего, не уверен, что смог бы назвать ее имя, если бы кто-то спросил меня в тот момент.
Мы вышли из метро.
– Вот здесь я живу, – говорит она. – Вон мои окна, на десятом этаже.
Господи, скорее бы!.. Еще пятнадцать шагов. Потом резко – за угол, а там – плевать, будут кусты или нет. Все, еще несколько шагов. Подъезд. Теплый свет от лапочки. Поцеловать? Да какая разница, лишь бы поскорее! Она открывает дверь.
– Ну, пока?
– Пока.
Моя дрожащая от напряжения нога делает шаг назад – туда, в темноту опускающейся ночи, к свободе! – и тут она робко произносит:
– Может, зайдешь?
Нет, я, конечно, не возненавидел ее в тот момент. По сути, это была настоящая победа: красивая девушка пригласила меня к ней домой. Но, боги, как же не вовремя!
Поднимаемся на лифте на десятый этаж.
– Смотри: я не знаю, дома ли родители, – говорит она. – По идее, не должно быть, они на даче. Но мало ли.
Начинаю всеми фибрами души желать срочного, аврального возвращения родителей. Пусть в квартире прорвало водопровод, канализацию и заодно произошла утечка газа – только пусть родители будут дома!!!
Моя спутница продолжает инструктировать меня:
– Зайдем, и, если ты увидишь, что на вешалке висят вещи – значит, они дома.
Вещи. Вещи родителей, будьте, пожалуйста, на вешалке… В тот момент диалог с родительской одеждой вел уже не я, а мой мочевой пузырь – лично, так сказать, без посредников.
– …И тогда ты быстро проскакивай в дверь напротив – это моя комната.
Мать-перемать!.. План отступления рухнул. Вот там все и произойдет. Я живо представил себя в уютной обстановке девичьей комнатушки – с модной прической и в мокрых штанах. Стоп! Даже мысль об этом подтачивала мои силы, которых уже давно не осталось. Ничего мокрого, ничего влажного, даже мысленно! Ну зачем, зачем я поперся в эту «Чародейку», блин?!.
Молитвы моего мочевого пузыря были услышаны: на вешалке действительно оказались родительские вещи. Но какое это имело значение, если моя подруга, судя по всему, была настроена в этот вечер не ограничиться обычным поцелуем в щеку у входной двери? Я обреченно перемещаюсь в комнату напротив, она шепотом произносит:
– Сиди тихо! Только никуда не высовывайся! Я сейчас, к ним схожу и вернусь.
«Не высовывайся»… Как же не высовываться, если по пути в комнату я успел заприметить спасительную дверь туалета? Моя спутница, оборачиваясь, наносит новый удар под дых:
– Может, вина? У нас есть «Свадебное белое».
Еще пара миллионов моих нервных клеток в этот момент приказали долго жить. Я понял: это все. На «Свадебном белом» все и закончится.
Моя гостеприимная подруга уходит, я бросаюсь к окну, открываю его, становлюсь коленями на подоконник и – даю волю чувствам. Прямо с десятого этажа – во двор, не думая, что или кто там, внизу. Не думая вообще. Наслаждаясь моментом полнейшей, экстатической свободы.
Постепенно ко мне возвращается способность слышать, видеть, осознавать происходящее вокруг. Я слышу пение птиц за окном, гул машин на улице, скрип открывающейся двери подъезда. Почти взошедшая луна уже принялась мягко очерчивать контуры крыш соседних домов своим серебряным карандашом. Вечерняя прохлада ласково обнимает меня, как будто успокаивая: «Ну все, все закончилось, все хорошо…» Да, все хорошо. Все даже лучше, чем хорошо. Сейчас вернется подруга, и мы будем пить вино, и целоваться, и шептаться в темноте, и…
Поток моей благодарности мирозданию прерывает какое-то движение в углу комнаты. Оборачиваюсь, пытаюсь всмотреться в темноту. И секунда за секундой из тьмы дальнего угла, где, как я предполагал, должна была находиться большая кровать, начинает проступать какой-то жуткий силуэт, нечто белесое с двумя головами – светлыми пятнами. Это нечто чуть шевелится и дышит, уставив на меня свои глазищи. Момент мистического ужаса длится буквально секунду. А в следующий миг я понимаю, что двухголовое нечто – это мужчина и женщина, сидящие на кровати с бледными лицами и раскрытыми ртами. Прикрываясь одеялом, они остановившимися взглядами смотрят на освещенную тихим лунным светом фигуру, застывшую на подоконнике в странной позе, – на меня.
Я рос воспитанным и вежливым мальчиком. Поэтому в те пару секунд, что мне потребовались, чтобы выскочить из комнаты, я успел выдавить из себя:
– Здрасьте…
Когда на следующий день мы с девушкой созвонились, она рассказала, что это были старшая сестра с мужем, которые неожиданно приехали откуда-то из Смоленска. Второго свидания у нас не случилось. А в «Чародейку» я потом приходил еще не раз. Чтобы вновь пережить космические ощущения.
Как я стал Че Геварой
Я всегда верил в силу искусства. Чем бы и где бы я ни занимался – почти всегда это было связано с творчеством. Даже в армии. В ряды Вооруженных сил (тогда еще Советского Союза) я попал не то чтобы против своей воли. Просто подоспел возраст, и в ситуации, когда у тебя папа – человек строгих принципов, а сам ты не слишком задумываешься о будущем, это был самый логичный вариант. Энтузиазма особого не было: армия так армия. В части я довольно неплохо устроился, став художником в клубе. Кто имел армейский опыт, тот в курсе: это должность – в топ-3 солдатской табели о рангах, наравне со штабным писарем и киномехаником. Где-то рядом еще хлеборез. Большого уважения со стороны сослуживцев к себе я не испытывал. Оно и понятно: все бегут марш-бросок или мерзнут, отбивая ноги на строевой подготовке на плацу, а ты в тишине и тепле пустого клуба рисуешь серп с молотом на очередном плакате к 23 февраля.
Но все поменяло искусство. В данном случае – искусство плаката. Это было в мае, в канун Дня победы. Я несколько дней усердно трудился, нанося на огромный, семь на три метра, металлический щит на полковом плацу изображение, увиденное в «Огоньке»: в спокойной и уверенной позе стоит советский солдат-герой в плащ-палатке и с непременным автоматом ППШ в руке, а его с благодарностью и радостью обнимает освобожденный им узник концлагеря. Закончил я это монументальное полотно накануне поздно вечером, почти ночью. Семиметровый солдат-освободитель с прильнувшим к нему заключенным, как мне казалось, составляли очень внушительную и вместе с тем трогательную композицию. Приказ командования был выполнен, и выполнен вполне успешно.
Утро следующего дня выдалось тихим и солнечным. Вернувшись накануне в казарму глубоко за полночь, я с чистой совестью проспал не только подъем, зарядку и прочие радости суровых армейских будней, но даже завтрак. Это меня мало беспокоило: маршрут от казармы к клубу пролегал мимо самого популярного места в любой воинской части – буфета.
Выйдя на улицу, я было направился привычным путем к «месту работы». Но тут мои сослуживцы, сидевшие в стороне в курилке, увидели меня и, вскочив, бросились навстречу. «Неужто так сильно обиделись, что я зарядку закосил?» – успело промелькнуть в голове, прежде чем ко мне подбежали первые из них. В принципе, я готов был ко всякому. Но произошедшее затем поставило меня в тупик.
Все, как один, мои соратники – от хитроватых сержантов-украинцев до буддоликих казахов – принялись наперебой жать мне руку, хлопать по плечу и всячески выражать самую искреннюю «уважуху»:
– Ну ты даешь!
– Красавец!
– Ну ты молодец, не ожидал!
Это было признание. Это была слава. «Все-таки сила искусства способна проникнуть в самые нечувствительные сердца», – что-то такое подумалось мне в тот момент. Вырвавшись из плотного круга поклонников, я неторопливо продолжил свой, теперь уже триумфальный, путь. В теле чувствовалась необыкновенная легкость.
Подскочивший запыхавшийся посыльный, сообщивший, что меня срочно вызывает начальник штаба, придал моему торжеству новый импульс: вот! Даже непробиваемые «толоконные лбы» наших штабных офицеров склонились перед Настоящим Искусством! Я буквально парил, я взлетал над землей, как ракета «Восток» с моим улыбчивым тезкой, Юрой Гагариным. В мечтах я уже собирал чемодан, чтобы ехать в отпуск – на зависть всем. Господи, май, теплынь, десять суток отпуска, не считая дороги!.. Двустворчатые двери штаба стали моей Триумфальной аркой. За которой меня ждали десять суток ареста.
Путь до гауптвахты я помню смутно. В ушах звучали эмоциональные эпитеты, которыми минут десять от всей души «поощрял» меня начальник штаба. «Че Гевара, б…!» – это было самое безобидное из того «праздничного набора». Понять, почему вдруг начштаба потянуло на революционную лексику и при чем тут товарищ Эрнесто, я не мог.
Поистине драматические обстоятельства этого дела выяснились довольно скоро. Из состояния недоуменной задумчивости меня вывели мои тюремщики-караульные, которые поведали мне историю моего падения. Плакат ко Дню победы, как я уже сказал, я подсмотрел в журнале. Помимо своего эмоционального содержания, это изображение подкупило меня еще и тем, что там было всего два лица – солдата и узника; это сильно упрощало задачу художника. Но в процессе работы я вошел во вкус и, набросав рисунок в общих чертах, всецело посвятил себя проработке деталей. Ведь в неуловимых мелочах порой кроется едва ли не главное содержание, главная ценность произведения искусства! Я с упоением выписывал складки плащ-палатки, накладывал все более реалистичные отблески на видавший виды, поцарапанный ППШ, с нарастающей жаждой художественной правды рисовал потертые и полинялые цифры на лагерном номере заключенного. Пусть на оригинальном изображении в «Огоньке» номера не было видно целиком – я восстановил недостающие подробности. Каким же настоящим получился этот номер! От него просто стыла кровь в жилах.
На гауптвахту, как известно, сажают без суда. Может, оно и к лучшему. Потому что ни на каком суде, ни тогда, ни сейчас я не смог бы ответить на вопрос: как так получилось, что на спине у заключенного фашистского концлагеря оказался номер моей части?! Это было настоящее Творчество, которое захватило меня без остатка, которому я отдался весь, до самозабвения. Это было подлинное Вдохновение, и у него оказалось очень изящное чувство юмора.
…Отсидев свой «отпуск», я вернулся в казарму настоящим «авторитетом», пострадавшим за правду художником-бунтарем. За время моего отдыха на губе кто-то аккуратно закрасил крамольные цифры на арестантской робе моего узника. Но меня это беспокоило не слишком: шедевр остался жить в сердцах.
В общем, в силу искусства я верю до сих пор. А при встрече с вдохновением внутренне собираюсь: мало ли.
Про борщ, женские прокладки и загадочную русскую душу
Занимаясь рекламой в тот период, когда ее почти не было, я еще не осознавал, какие мы счастливые люди. Снимая по наитию, радуя заказчика и зрителя и поднимая при этом продажи, мы радовались сами: мы занимались интересным делом, настоящим творчеством. Мы были близки к советскому кинематографу, питались его идеями. Слова «креатив» тогда еще просто не существовало. Вместо него было слово «сценарий». Не было «клипмейкеров», были режиссеры. До сих пор считаю, что такой профессии – клипмейкер – нет. Клипмейкеры – это те, кто работает на создании клипа. А это и режиссер, и сценарист, и костюмер, и водитель. Есть профессии режиссера, сценариста, актера, драматурга.
Выросшие на отечественном кино, мы, конечно, поглядывали на Запад. Нам тогда казалось, что совершенство – оно где-то там, далекое и труднодостижимое. Мы продолжали так думать, даже когда многие из нас завоевали признание на этом самом Западе и стали получать самые высокие награды профессиональных международных конкурсов. И вот, в России появился Procter & Gamble. Появился на фоне ощущения, что на рынок пришел мегазаказчик с гигантскими бюджетами и высочайшим уровнем качества. И, когда мне предложили поработать с этой компанией, я, конечно, согласился. Забегая вперед, скажу, что этот опыт был первым серьезным поводом задуматься над тем, чтобы из рекламы уйти.
В общем, знакомимся мы с американскими продюсерами, начинаем работать. Задача – снять ролик про стиральный порошок. Работа начинается с брифинга. Это было для меня ново – и само это слово, и такая схема, вообще. В комнате собираются человек десять-двенадцать. Сюжет – герой ролика пачкает рубашку на кухне. Предмет обсуждения – рубашка героя, которая должна быть испачкана, причем испачкана именно борщом. Borsch, Vodka, Balalayka – это было практически «за веру, царя и Отечество», в понимании наших зарубежных коллег.
Два часа (!) они рассказывали нам, что этот борщ должен быть настоящим, что он должен быть со свининой, а ни в коем случае не с говядиной или – Боже упаси! – с бараниной. Нам показали формулу – рецептуру этого идеального рекламного борща, с расписанным количеством ингредиентов. Мы кивали головами, делали вид, что что-то записываем, дружно не понимая, зачем так долго об этом говорить. Дальше нам предстояло решить, в каком месте должна была быть испачкана рубашка. Американцы попытались вовлечь в это обсуждение нас. Ну как же: обязательно нужно учитывать национальный менталитет. И тут перед всеми нами открылась бездна, которая разделяет сознание американца и русского.
– Где должна быть испачкана рубашка? Ну, на груди, естественно! Человек пробует борщ, капает себе на грудь. Если человек плотного телосложения – на живот. – Такую коллективную версию выдвинули мы, русские.
– Нет, – ответили нам американские продюсеры. – Наши исследования на двадцати фокус-группах, которые мы провели в Америке и потом проверили во многих других странах мира, показали, что в первую очередь пачкаются манжеты.
Пока они демонстрировали нам какие-то графики и диаграммы, я честно пытался представить себе – как надо готовить или как вести себя за столом, чтобы испачкать манжету. Не смог. Следующие два часа мы знакомились с результатами исследований и слушали лекцию про манжеты, обсуждали оптимальный диаметр пятна, его цвет. В какой-то момент я решил снова привнести в обсуждение рациональное зерно.
– Ребята, если мы с вами сейчас макнем белую сорочку в настоящий борщ, на экране пятна фактически не будет видно.
К тому времени я имел достаточный опыт практической работы, чтобы говорить об этом не теоретически.
– А когда мы включим свет во время съемки, оно вообще почти исчезнет. Пятно ваше будет бледное, – заявил я, чем привел продюсерскую группу в состояние легкой оторопи. На их лицах читался ужас от встречи со знаменитой русской непредсказуемостью и революционной тягой к ниспровержению основ.
Когда шок миновал, они согласились на эксперимент. Хотя делали они это, ломая себя: зачем все это нужно, если в брифе ясно написано – борщ со свининой?! Жаль, рабочий день к этому моменту уже закончился. На следующий день наш брифинг продолжился. В офис привезли несколько кастрюль с борщами, сваренными в разных местах, – для чистоты эксперимента. Соответственно, куплены несколько белых рубашек. Начали. Макаем манжету одной рубашки в первую кастрюлю, подсушиваем, вешаем, освещаем – не видать пятна, ни на камере, ни на мониторе! Макаем следующую – то же самое, еле видно. Рубашки все грязные, а результата нет.
Через час к нам в офис начинают заглядывать соседи, сотрудники других компаний:
– Это так теперь пахнет самое крутое рекламное агентство России?
– Именно так и пахнет: борщом! Борщ плюс «Проктер энд Гэмбл» – формула успеха! – отбрыкивались мы.
– А что вы вообще тут делаете?
– Рубашки в борщ окунаем.
– Э-э-э… Что?
– Рубашки. В борщ. Позже приходите – накормим. Борщом, не рубашками.
Продолжаем изыскания. Результата ноль. Американцы начинают прятать глаза.
– Хорошо, – говорю. – Давайте так: я сейчас уйду и через десять минут принесу вам настоящее пятно. Окей?
– Окей, – устало-обреченно отвечают мне эти ребята.
Я взял единственную оставшуюся чистой рубашку, взял своего художника-бутафора, мы ушли в другую комнату и там красками нарисовали на манжете пятно – настоящее, убедительное, жирное пятно, с капельками и подтеками: художник-то был профессионал, работать умел.
Вернулся, показал. Первое, о чем меня спросили:
– Юрий, а что за борщ вы использовали? В чем секрет? Не зря вас называют лучшим в профессии: идеальное пятно!
Не удержался я, дал волю фантазии:
– Отправил человека в «Метрополь». Только там в Москве готовят настоящий русский борщ.
– О-о-о…
– Пойдет? Снимаем?
– Снимаем! Yes! Yes! Yes!.. Thank you, my friend!
В обеденный перерыв офис нашего рекламного агентства выглядел и пах как заводская столовая, с той лишь разницей, что народ был одет помоднее, да меню состояло из одного блюда – Borsch. Зато кормили бесплатно. Понятное дело, людей из соседних контор набилось прилично.
– А вы только с борщом работаете?
– Ну да. Нужно типичное русское блюдо.
– Тю! А шашлык? А оливье?! А макароны по-флотски? Это ж самое наше, родное!..
В общем, борщ был съеден весь.
С пятном кое-как разобрались – вскоре новая напасть: подбор актеров. В этот момент я узнаю, что Раиса Рязанова, замечательная советская актриса, сыгравшая Антонину в «Москва слезам не верит», сидит без работы и подрабатывает извозом. Мы не были знакомы, но эта история на меня сильно подействовала: Москва, конечно, слезам не верит, но когда лауреат Государственной премии «бомбит» на своей машине на столичных улицах – это стыд и срам. Я позвонил ей, говорю: «Рая, есть возможность заработать двести долларов за два часа». Она с радостью согласилась, приехала на кастинг. Еще несколько дней ушло на то, чтобы фотографии отобранных актеров отправили в штаб-квартиру компании в Америку. В результате ее утвердили, и роль Эммы Петровны в рекламе стирального порошка исполнила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР.
К этому моменту я уже настроился однозначно: чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало. Мы внимательно выслушивали очередные рекомендации американцев и делали все, чтобы только поскорее развязаться с этим цирком. Дитя было довольно. Мне, правда, было жаль огромного количества времени, потраченного на не самую сложную задачу. Но, надо признать, все эти бесконечные брифинги, совещания и эксперименты с борщом и пр. оплачивались, так что жаловаться не на что. Хотя надо понимать, что за всю эту дурь платит, в конечном счете, потребитель. И понятно, почему стиральный порошок так дорого стоит: в его цену заложена оплата «труда» немалого количества дармоедов в дорогих костюмах.
По контракту я должен был еще снять рекламу женских прокладок. По сценарию это была серия роликов, в которых на среднем плане на фоне каких-то березок сидели девушки, которые что-то говорили о своих «трудных днях». Вроде бы – тьфу, раз плюнуть: посадили девчонок, сняли, ушли. Конечно, все оказалось гораздо сложнее.
Снова на сцену вышли американские маркетологи со своими фокус-группами, тестами и соцопросами. Снова пошли многочасовые совещания-брифинги. Но у нас уже был какой-то опыт – мы сумели сократить всю эту говорильню примерно вполовину. Как бы то ни было, продюсеры решили отобрать по всей стране восемьдесят молодых женщин самых разных профессий и «социального происхождения» – учителей, бухгалтеров, швей-мотористок и т. д. Главные условия – хорошие зубы и хороший цвет лица, в общем, подходящая для съемок внешность. Нашли, утвердили. Из этих восьмидесяти надо было выбрать шестнадцать «финалисток». Этих шестнадцать женщин привозят в Москву и селят в гостиницу «Балчуг». Хорошее питание, тренажерный зал, массаж и прочие атрибуты, и на этом фоне – каждодневные беседы с психологом о «критических днях». В течение двух недель. Две недели эти простые женщины, выросшие в Советском Союзе, жили в настоящей капиталистической сказке. Как сложилась их судьба, когда они вернулись в свои Пензы и Саратовы, никто не знает. Но что-то мне подсказывает, что их жизнь разделилась на две части: до и после съемок в рекламе прокладок.
Когда эти две недели подошли к концу, мы должны были всех их привезти на «Мосфильм». Причем это надо было сделать на машинах бизнес-класса и так, чтобы сами женщины не поняли, что их привезли на киностудию. Это были настоящие шпионские игры. Мы полчаса возили их по Москве, чтобы окончательно запутать, а потом потихоньку заехали на территорию «Мосфильма» и провели в павильон. Там были сделаны декорации, которые в точности воспроизводили обстановку помещения, где предыдущие две недели проходили их собеседования с психологом. Наши подопечные ни в коем случае не должны были почувствовать себя некомфортно – не дай Бог. И здесь, в павильоне, с ними снова беседовала психолог. Только теперь, когда они привыкли к этим странным разговорам, это все снималось на скрытую камеру. И вся цель этих колоссальных усилий состояла в том, чтобы камера зафиксировала тот момент, когда кто-то из этих женщин в разговоре случайно что-то скажет про свои «трудные дни». Таким способом американские продюсеры рассчитывали получить «достоверные эмоции».
Наверное, никто не удивится, если я скажу, что это ожидание эмоций длилось несколько месяцев. Ну понятно же: ни одна советская женщина (а все это были советские женщины: прошло всего несколько лет после падения СССР) по своей воле не станет разглагольствовать на темы, касающиеся интимных вопросов. Продюсерам никак не удавалось получить нужный результат. Что идет не так, они понять не могли: загадочная русская душа снова проявляла себя во всей непонятной и пугающей красе.
Я снова попробовал положить конец этому безумию: «Ребята, – говорю, – давайте я возьму профессиональную актрису, мы напишем ей текст, от жизненности и достоверности которого все женское население страны будет рыдать у экранов, и ваши прокладки купят все, даже те, кому это не нужно».
Тут, однако, нашла коса на камень. «Нет, – сказали продюсеры, – нужны настоящие женщины. Эффективность этого метода доказана исследованиями». Я плюнул, доснял все, что требовалось по контракту, и распрощался с этими людьми.
Для меня именно появление американских продюсеров и маркетологов стало тем переломным моментом, который положил конец настоящей рекламе в России. То, что исповедовали мы до того момента, – это была идея игры с потребителем, игры, которая побуждала бы его обратить внимание на нас и на наш продукт. Простое убеждение зрителя в том, что наш товар лучший, – это казалось настолько примитивным, что даже не рассматривалось в качестве варианта сценария.
Но довольно скоро стало понятно, что ситуация начала меняться, и не в лучшую сторону. Особенно явственно я ощутил этот разворот во время предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Там я поработал и как режиссер, и как сценарист, был тем, кого сегодня назвали бы креативным директором. У нас уже были целые полки уставлены международными призами, но все равно все с придыханием говорили: «А вот у них…» и считали, что мы – свиное рыло, а они – калашный ряд. В общем, «Знакомство с иностранцем – повышение в чине», – как гласит народная поговорка. Наша работа становилась все более «американской»: редкий день не начинался с очередного брифинга в предвыборном штабе, а имя Огилви проскальзывало в разговорах едва ли не чаще, чем имя самого нашего заказчика – Бориса Николаевича Ельцина. И вот, на одном из совещаний кто-то из участников (хорошо, что уже не помню – кто именно) всерьез выступил с такой идеей:
– А давайте сделаем рекламные плакаты в виде автомобильных номеров, на которых вместо обычных цифр и букв будет текст «ЕБН 96» – ну, типа «Ельцин Борис Николаевич, выборы 1996 года»?
Я поперхнулся чаем. Между тем, пока я откашливался и вытирал рот, вокруг этого предложения развернулась нешуточная дискуссия. Люди с самым серьезным выражением лица принялись обсуждать перспективы этого рекламного хода.
– Ну а что? На грани, конечно, но люди поймут…
– Поймут, сто процентов. Его ж так и называют: «Ебээн».
– Ребята, вы что, совсем обалдели? – я, конечно, в тот эмоциональный момент прибег к куда более экспрессивным выражениям, которыми сегодня пользоваться в общественном пространстве запрещено, а жаль. – Ну какой, к свиньям, «Ебээн»? Вы и получите тогда на выходе «ебээн»!.. Вся страна этим «ебээном» накроется!
Тогда мне удалось переубедить этих «креативщиков». Но стало понятно, что дальше лучше не будет.
И что же в результате? Сколько прошло времени с 90-х годов? Тридцать лет? Сколько денег было угрохано на рекламу за это время? Миллиарды? Сколько книг написано, может, даже диссертаций защищено. Так вот, для меня чертой, которая подводит итог всему этому пафосному процессу, символом того, к чему мы пришли в результате тридцати лет создания «креатива», служит главная рекламная витрина современной России – Рублево-Успенское шоссе, Рублевка. Самый дорогой район Подмосковья, необыкновенные красоты вокруг, уже почти повсюду – следы больших денег, ухоженность и «особенность». Рекламные билборды: «Элитная недвижимость, дорого!», «Новая коллекция часов Patek Phillippe», «Эксклюзивные модели автомобилей класса люкс», «Уникальная лакшери-вечеринка», «Дорого!», «Еще дороже!» Но вдруг – тут же, рядом, на огромном полотне, тем же самым «эксклюзивным» шрифтом: «Бетон. Дешево!»
Можно потратить годы, изучая механизмы воздействия рекламы на людей. Можно написать тома по истории и теории рекламы. Можно, как я, постичь все на практике и стать членом Российской академии рекламы. А можно зазубрить каноны американского маркетинга, удобрить их отечественной традицией освоения бюджетов и – все: победил дешевый бетон. Причем он победил не только в рекламе – в кино, на ТВ, в политике.
А борщ по рецепту американских маркетологов я потом как-то приготовил, ради интереса. Ну, что сказать – обманули их с рецептом. Видимо, за большие деньги обманули.
Помятый кубок
Долгое время я верил, что награды что-то дают, что это неотъемлемая часть успеха и, вообще, творческой деятельности. Со временем у меня сложилось уже другое понимание того, чем можно измерять успех. Сегодня у меня несколько десятков разных наград, и, скажу честно, я не помню, какая из них была первой. Но с этим – с ожиданиями наград, желанием их получить, борьбой за них – была связана масса иллюзий, впечатлений, ошибок.
Как-то на очередном международном конкурсе рекламы мой рекламный ролик занял второе место. Меня пригласили для получения награды в Англию. Я прилетел в Лондон, приехал по указанному адресу, в большой, красивый, старинный дом в пригороде. На лужайке возле дома собралась почтенная публика, играла музыка – все было очень достойно и красиво. В то время, в начале девяностых, я еще не так далеко ушел от моды и старался следить за своим внешним видом, но не был готов к тому, что мой облик произведет такое впечатление на собравшихся. Ко мне периодически подходили знакомиться англичане, американцы, голландцы, и каждый второй задавал мне один и тот же вопрос: «А вы правда русский?» Многие буквально трогали пальцем, чтобы удостовериться, что я настоящий. Они никак не могли поверить, что в природе существуют русские без шапки-ушанки, балалайки и прочих национальных атрибутов.
После коктейля началась церемония. Объявили мое имя, сказали, что меня удостоили серебряной награды конкурса. Я вышел на сцену, мне пожали руку – и все. Мне ничего не вручили. А я готовился именно к этому: получить диплом, какой-то приз – статуэтку, кубок, тарелку, что-то такое. А тут – ничего. По пути в отель я осознаю всю катастрофичность происходящего: на родине я ничем не смогу подтвердить факт награждения. «Без бумажки ты букашка». И у меня нет бумажки, нет даже самого завалящего диплома! Я не смогу ничего сказать журналистам, мне нечем порадовать коллег. Спасение оказалось близко: рядом с гостиницей, где я жил, был спортивный магазин. Недолго думая, я иду туда и покупаю себе кубок. Поискал среди наград для победителей соревнований по единоборствам – чтобы была какая-нибудь фигурка. Нашел что-то подходящее – кажется, это был кубок для чемпионов по карате, такая серебряная фигурка человека в странной позе. Никаких ненужных надписей, символов – подходит! Купил.
По возвращении в Москву я понял, что мой вариант решения проблемы шел вразрез с тем планом, который был припасен для меня у мироздания. Кубок оказался сильно помят. Не пережил перелета. Мое малодушие продолжало душить меня: я попытался было выправить вмятины, но безуспешно. Хорошо, через пару дней из Лондона пришла посылка с настоящим дипломом – огромным, роскошно оформленным, в красивой позолоченной рамке. Помятый кубок до сих пор стоит у меня в кабинете. Как памятник трусости.
В 2007 году я пришел на церемонию вручения премии «Ника». Незадолго до этого на НТВ вышел «Казус Кукоцкого». Идет награждение, никаких сюрпризов: на сцену поднимаются заслуженные люди, публика вежливо хлопает – все чинно-благородно. И вдруг в этом плавном течении образуется водоворот: со сцены звучит моя фамилия, и объявляют, что мне вручается премия «Ника», и не простая, а «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Потом я узнал, что это решение состоялось только потому, что оно не зависело от членов академии. Тогда бы мне не светило ничего, точно; я хорошо знаю, как голосуют наши киноакадемики. Решение наградить меня принимали члены Попечительского совета «Ники» – Рязанов, Абдрашитов, Баталов, люди, которые могли себе позволить собственное мнение.
Это была полная неожиданность для меня. Я волновался, когда шел на сцену. Конечно, мне было очень приятно. Тем более что «Казус Кукоцкого» дался мне очень непросто. Я выхожу на сцену и в порыве эмоций решаю поделиться историей, которая, как мне тогда казалось, должна тронуть сердца сидящих в зале.
– Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и коллеги! Мне вдвойне, втройне приятно сегодня получить эту премию. Двадцать лет назад, когда ее вручали в первый раз, я имел к этому событию некоторое отношение: тогда первую статуэтку «Ники» на эту сцену вынес замечательный актер Александр Балуев, а вслед за ним – ваш покорный слуга. Тогда в церемонии принимали участие манекенщики Славы Зайцева, которые помогали при награждении, выносили статуэтки. Так вот, одним из тех манекенщиков двадцать лет назад был я.
Момент был для меня очень яркий. Перевожу дух:
– Я помню, как я держал на вытянутой руке эту тяжелую статуэтку, помню, как меня потряхивало от волнения, как я смотрел на актеров и режиссеров, смотрел в зал, – и вот, ровно двадцать лет спустя происходит то же самое. С той лишь разницей, что сегодня «Нику» получаю я сам. Я снова взволнован до мурашек и глубоко тронут.
Смотрю в зал. И вижу, что там, в зале, не происходит ничего. Никто не хлопает. Никто не улыбается. Полная тишина. Несколько сотен человек просто молча смотрят на меня. Я произнес слова – они смотрят. Эту страшную паузу я запомнил на всю жизнь. Эта тишина в ответ на мою искренность стала одним из самых тяжелых моментов в жизни. Но еще и моментом, который показал мне истинную ценность профессиональных наград, званий, официального признания и тому подобных внешних атрибутов успеха.
Были и другие примеры, слава Богу. Одна из наград, которыми я до сих пор горжусь, – это награда Департамента ООН по борьбе со СПИДом. Тогда я видел, что киноискусство даже в виде коротких роликов, тех самых, которые потом назвали социальной рекламой, способно довольно сильно воздействовать на людей. Что, показанные по ТВ, такие ролики могут очень мощно влиять на сознание. Ведь телевидение тогда было еще актуальным, оно было живым и интересным, разнообразным и острым, – его еще смотрели.
Вообще, я понял, что настоящие творческие идеи приходят только тогда, когда ты занят правильным (не скажу «праведным»: слишком громко) делом, когда ты идешь по пути созидания чего-то хорошего. Так, например, родился у меня ролик против курения, наверное, самый популярный и известный не только у нас, но и за рубежом. Идея пепельницы, в которой лежат люди-«окурки», пришла мне в голову буквально на ходу. Когда мы обсудили идею, мы отправились в бассейн по соседству (офис нашего рекламного агентства был в спорткомплексе «Олимпийский») и «наловили» плавающих там студентов, предложив им сняться в нашей социальной рекламе. Львиная доля времени ушла на придумывание композиции – поз, в которых лежали наши герои в пепельнице. Камера «отлетала», в тишине звучало придуманное мной «Закуривай». Все. Полдня работы. Этот ролик потом получил кучу призов на разных конкурсах.
Так получилось, что, первым занявшись социальной рекламой, я так же первым и отказался от нее. Довольно быстро стало понятно, что в этом деле оказалось намешано много разного, социальная реклама часто становилась орудием манипуляции в руках политиков. Стало очевидным: нельзя снять три ролика и решить проблему. Эффект возможен, только если на достижение цели направлены все силы государства и общества. И социальная реклама, просветительские проекты и тому подобные вещи хороши только тогда, когда решены или хотя бы решаются более важные, базовые вещи, связанные с соцзащитой – вроде строительства больниц, поликлиник, домов культуры, библиотек, стадионов, бассейнов, пансионатов для стариков, санаториев и пр. Когда стало ясно, что ничего этого не делается и даже не планируется – чего стоит все наше творчество?
Поворотным моментом для меня стала история с роликом, посвященным гемофилии у детей. Мы решили напомнить, рассказать, что есть люди, страдающие от этой страшной болезни. Но мне как режиссеру показалось, что просто рассказать об этом недостаточно. Я решил найти какой-нибудь интернат, где занимались бы такими детьми, чтобы мы могли в конце ролика дать его координаты и пригласить людей помочь. Мы взяли «Желтые страницы», нашли там одно такое заведение, дали в конце адрес интерната, и ролик благополучно пошел в эфир.
Через месяц примерно секретарь мне говорит:
– Юрий Вячеславович, вам звонят из интерната, того самого, который в ролике упомянули.
Беру трубку в полной уверенности, что сейчас услышу слова благодарности: все-таки телевизионная реклама – мощная штука. В трубке слышу срывающийся женский голос. Это директор интерната, и она плачет.
– Юрий, я вас очень прошу, пожалуйста, уберите ролик из эфира, – всхлипывает она.
– Господи, что такое, что случилось?
– Пожалуйста, уберите.
Немного успокоившись, женщина рассказала мне, что произошло. Когда ролик пошел в эфир, на счет интерната стали поступать деньги. С каждым днем все больше денег. Они смогли купить кровати, телевизоры, книги, игрушки, игровую приставку. А потом одна за другой в интернат стали приезжать проверки и инспекции всех видов, какие только можно себе представить, – пожарные, милицейские, налоговые, санэпидстанция, еще кто-то.
– Нам перекрыли все, – рассказала она. – Нас заподозрили в отмывании денег, в коррупции, начался какой-то ад. И теперь мы просто не можем выполнять свою обычную работу, мы полностью парализованы! Спасибо вам, конечно, но уберите, Бога ради, этот ролик.
Ролик убрали. Из социальной рекламы я ушел.
Мышеловки Микки-Мауса
Лет двадцать назад мое отношение к себе и тому, чем я занимаюсь, изменилось. И помог мне в этом Микки Маус. Серьезно.
Двадцать-двадцать пять лет назад мне казалось, что мир крутится вокруг меня. Я тогда занимался рекламой, и делал это успешно. Настолько, что меня начали называть «гуру российской рекламы» и удостаивать тому подобными званиями. Победы на конкурсах, деньги, внимание – все было. Наверняка ты, уважаемый читатель – если ты успешный политик, бизнесмен или просто человек, добившийся каких-то высот в своем деле, – знаешь, как это бывает: у скульптора уже готова форма для отливки твоего бюста в бронзе, а церемония увенчания тебя лавровым венком назначена на завтра. Этот соблазн стар, как сам мир. Тогда, двадцать пять лет назад, я испугался. Испугался соблазна стать человеком-символом. Это было вполне реально: я оказался едва ли не в центре всей «экосистемы» российской рекламы.
Я помню момент, когда, получая очередной приз и выслушивая дифирамбы в свой адрес, я внутренне съежился, ощутив почти физически: дипломы, призы и почетные звания – они будто огораживали меня, как забором, обклеивали собой пространство вокруг, не пуская наружу. Было понятно, что, если продолжать эту историю дальше – можно будет уже ничего не делать, одно твое имя будет работать на тебя. Вроде бы сбылась мечта: найдено дело всей жизни, отвоевана своя ниша, в которой ты – царь и бог.
Но меня испугало, что моя ниша меня не выпустит. Стать памятником самому себе, превратиться в могущественного «почетного-заслуженного» творческого импотента – вот что ждало меня в конце этого шикарного пути. А буквально на следующий день я где-то краем глаза увидел заставку американского мультика. Там был нарисован Микки-Маус. Меня «накрыло». Я понял, что это – самый точный символ перспективы, которая меня ждет: этот нарисованный почти 90 лет назад мышонок до сих пор превращает в деньги все вокруг себя, но сам уже давно мертв внутренне. Мне не хотелось превращаться в Микки-Мауса. Из рекламы я ушел и начал заниматься кино.
В следующий раз призрак всемогущего мышонка замаячил передо мной после первых кинематографических удач. После «Казуса Кукоцкого», поставленного по выдающемуся роману Людмилы Улицкой, мне стали говорить: Юрий, у вас получается историческое кино – давайте, продолжайте. Как только я это услышал – я сбежал в театр. Нет, конечно, я ни в коем случае не ушел из кино; к кино я возвращаюсь постоянно, потому что слишком сильно его люблю. Подтверждение тому – мои «Три сестры», вышедшие на экраны в 2017 году. Этот фильм я создавал в компании прекрасных актеров – Анны Каменковой, Игоря Ясуловича, Ирины Мазуркевич, Людмилы Поляковой, Александра Балуева, Игоря Яцко, Александра Пашутина, Владимира Носика, Максима Суханова. Это было настоящее счастье, и бежать от него было бы глупо. Я убегаю от другого: от перспективы оказаться в центре какой-то новой мини-вселенной. И если в любимом мною театре возникнет похожая ситуация, если из-за занавеса выглянет Микки-Маус и поманит меня своим мультипликационным пальчиком, надо будет что-то менять. Я понимаю, что рано говорить, что, мол, Грымов достиг в театре всего, – разумеется, это не так. Но мне очень не хочется выстраивать в театре свою новую «вселенную», именно потому, что тогда ты неизбежно становишься ее центром.
Я вспоминаю детство. Когда мы лепили из пластилина, рисовали, играли – это было настоящее счастье. Чем мы только ни занимались – авто-мото-вело-фото, все на свете нам было интересно. Это было чистое творчество, в котором ты растворялся, почти исчезал и рождался вновь – каким-то новым человеком. Я очень хочу сохранить это отношение к миру – насколько это вообще возможно.
Потому что человек – далеко не центр вселенной. И если ты этого не понимаешь, тебя ждет тупик. Конечно, этот тупик, точнее, дорога к нему – она очень привлекательная: вокруг тебя вращаются люди, их судьбы, желания, даже мечты, и ты вроде бы даже имеешь возможность всем этим управлять. Построить свой собственный мир – пусть даже небольшой мирок, но – свой, собственный, в котором ты – центр притяжения, – вот с этим соблазном, как мне кажется, человеку нужно бороться всю свою жизнь. Кто-то приходит к этой мысли «эволюционным» путем, кого-то жизнь встряхивает за шиворот. Встряхивает, чтобы тот, кому досталось обухом по голове, очнулся. Чтобы человек перестал смотреть на окружающих сверху вниз, перестал делить людей на «больших» и «маленьких». Чтобы отвечал на телефонные звонки, а не просил секретаршу отфутболить просителя. Чтобы пришел в себя. Почему это так важно? Да потому что так устроен мир: ты – лишь его частица, и ты важен и нужен – на своем месте. Не поймешь этого – твой «сбитый прицел» сыграет с тобой злую шутку: можно жизнь прожить «мимо нот».
Но тут уже – вопрос выбора. В конце концов, кому-то нравится, как сияет бронза на памятниках. И «людей-символов» предостаточно везде – в музыке, в театре, в литературе, в кино. Причем они в прямом смысле полагают свою жизнь именно на это: создают из себя самих символы. Все силы свои тратят на полировку постаментов, на золочение надписей, на чистку бронзовых изваяний. Ни на что другое сил не остается.
В английском есть выражение self made man – «человек, который сделал себя сам». Проблема в том, что в процессе монументизации самого себя теряется вот это самое man. И часто получается – self made Micky Mouse.
Я не боюсь мышей. Кроме одной. От этой я убегаю.
По морям, по волнам, или Лучший концерт в моей жизни
– Юрочка, как же это потрясающе: мы пойдем на теплоходе по Средиземноморью! – посреди банкета ко мне подошла возбужденно-радостная Александра Николаевна Пахмутова. – Там столько красоты! Там такие прекрасные маленькие города по всем побережью, удивительно красивые бухточки, я вам обязательно покажу пару восхитительных мест!
Мы стояли посреди огромного, как стадион, зала, в котором просто в горизонт уходили ряды очень богато накрытых столов. Так в девяносто каком-то году открывался в Киеве кинофестиваль, названия уже не вспомню – что-то «славянское». Это сегодня никого не удивишь творческим фестивалем. Каких только их уже ни было: интересные и скучные, с размахом и местечковые – причем независимо от места проведения, Москва тут не гарантия качества. В общем, фестивали перестали быть чем-то особенным, мы к ним привыкли и даже пресытились. Но тогда, двадцать лет назад, фестиваль – это был праздник, настоящий и в чем-то всегда непредсказуемый. В девяностые годы у нас в стране случился просто бум фестивалей. В первую очередь кинематографических. И вот, очередной такой праздник должен был стартовать в Киеве, потом перемещался в Одессу, а в Одессе вся тусовка грузилась на теплоход и отправлялась в круиз по Средиземному морю.
Это потом, спустя годы, я понял, что совмещать работу с отдыхом, а особенно фестивальную работу, просто невозможно. «Кинотавр» до сих пор вспоминаю с дрожью. Это же ад кромешный: пересмотреть за несколько дней восемнадцать картин, из которых пятнадцать – за гранью добра и зла, и только три фильма можно обсуждать. Но пересмотреть-то надо все восемнадцать! Но тогда я еще был достаточно наивен. «Это же мечта, – думал я, – быть в центре киношной жизни – смотреть фильмы, рекламные ролики, обсуждать их с коллегами, общаться – и созерцать попутно красоты Средиземноморья!» Таких, как я, энтузиастов набралась изрядная компания. Изрядная – это мягко сказано: приехали просто все. И не только киношники. Там были и композиторы во главе с незабвенной Александрой Николаевной, и художники, и певцы, и музыканты, и целые ансамбли.
Открытие фестиваля в Киеве убило своим каким-то космическим масштабом. Начать с того, что на сцене играла группа Slade. Все было новое, все в первый раз: на сцене ревут гитары, взрываются потоки света, а в зале-стадионе бродим мы, счастливые гости этого праздника жизни. Мимо меня проходит слегка растерянная Лидия Федосеева-Шукшина:
– Сколько же еды… Сколько еды…
Мы взяли по какой-то канапешке. И тут же я поймал себя на мысли, что я уничтожил какой-то таинственный порядок, разрушил некую священную гармонию, которая царила среди этого колоссального изобилия. Я торопливо подвинул оставшиеся канапе на тарелке, чтобы заполнить пустоту и скрыть следы своего «преступления».
После церемонии открытия и фуршета мы должны были сесть на автобусы и отправиться в Одессу. У меня уже был кое-какой житейский опыт, и я прекрасно понимал, что такое коллективная многочасовая поездка в компании творческих людей, да еще после грандиозного перекуса. Выдержать градус воодушевления, вызванный таким энергичным стартом фестивальной программы, под силу далеко не каждому. Непредвиденные остановки в пути, когда «мальчики налево, девочки направо», когда – «Стой! Магазин проехали!..», когда кого-то срочно нужно вынести на свежий воздух, – все эти невинные радости способны увеличить продолжительность поездки в разы. И после такого стартового рывка ты уже устал – хоть фестиваль еще, в общем, только-только начался.
Руководствуясь всеми этими соображениями, я заранее арендовал в Киеве микроавтобус и отправился сам. «Приеду пораньше, спокойно осмотрюсь, все должно быть отлично», – думал я. Не торопясь отправился в дорогу, по пути нагнал наш табор, который как раз остановился на привал. Увидел я примерно то, что ожидал увидеть: пару-тройку народных артистов выволакивали в сторону обочины, кто-то более выносливый пытался выбраться из автобуса самостоятельно, кто-то расстилал на траве пиджак в явном намерении устроить пикник на обочине, кто-то уже выступал с заявлением, содержательную часть которого, за вычетом междометий, можно сформулировать примерно так: «Устал я от этого вашего фестиваля. Устал я от этого вашего кино. Устал я от этого вашего искусства» – и так далее. Колоритнейшее и умилительное, в общем, зрелище. Великие, замечательные актеры, эти люди в трудную минуту путешествия проявляли себя в новом качестве. Зерно роли было найдено, так сказать. Оставив позади эту живописную группу, я лишний раз убедился, что поступил правильно, предав интересы коллектива ради своих собственных.
Так я благополучно добрался до Одессы, приехал в порт, нашел теплоход «Лев Толстой», на котором нам предстояло провести несколько недель в кинематографическом раю. Белоснежный красавец теплоход одним своим видом обещал незабываемое путешествие. Рядом на причале уже дежурили местные телевизионщики, готовые снимать весь цвет отечественного искусства, собранный в одном месте в одно время.
Перед сходнями стоял кто-то из команды.
– Здравствуйте! Меня зовут Юрий Грымов, я приехал чуть заранее. Фестивальный круиз. Можно подняться на борт?
– Здравствуйте, – отвечает мне этот человек. – Нет, подняться не получится.
– Да? Ну ладно, я дождусь, пока не подъедут остальные.
– Нет-нет, – говорит он, – вы не поняли. Теплоход никуда не идет. – И смотрит на меня то ли с интересом, то ли с сожалением.
– Как не идет? Что значит не идет? Через час сюда приедут двенадцать «Икарусов» народных и заслуженных артистов! Как – теплоход никуда не идет?!
Человек в белом кителе смотрит на пока пустую площадь перед морским вокзалом, на скучающих телевизионщиков, потом на меня:
– Не пойдет, потому что организаторы фестиваля не перевели деньги за круиз.
– ???
– Да нам, в общем, все равно – пойдет или не пойдет. У нас все готово. Ждали до последнего – денег нет.
Начинаю понимать. Всю нашу компанию – актеров, режиссеров, певцов, композиторов, музыкантов и пр. – организаторы пригласили бесплатно. Большинство пассажиров теплохода должны были составить не мы, большинство – это были туристы, которые заплатили по четыре-пять тысяч долларов за возможность увидеть всех своих любимых артистов, да еще и в средиземноморском антураже.
На дворе девяностые годы. Такое понятие, как «кидалово», составляет неотъемлемую часть словарного запаса любого более-менее грамотного взрослого человека. Не надо долго думать, чтобы сообразить: организаторы просто кинули всех – и своих клиентов-туристов, и нас, творческую интеллигенцию. Нас, конечно, в меньшей степени, потому что мы-то деньги не платили. Мы послужили наживкой, приманкой. С профессиональной точки зрения вынужден был признать: это было красиво – организовать целый фестиваль, собрать на него всех, кого только можно себе представить, привезти на открытие Slade, только чтобы потом исчезнуть с деньгами. Да, было время…
Ставлю на гравий чемодан, сажусь на него. Как мне себя вести, когда приедут коллеги, представляю себе не очень точно. И вот, на площадь, поднимая белесую пыль с гравия, начинает медленно вплывать наш караван – длинная вереница красивых автобусов, которые останавливаются один возле другого, выстраиваясь в каре. Прямо рекламный ролик «Икаруса» наяву. Эффектная сцена, телевизионщики довольны.
Из автобусов начинают выходить веселые артисты. Да, самостоятельно выйти могут не все, кого-то тут же сажают в сторонке в тенек, но какое это имеет значение? Светит солнце, сияет белизной теплоход, бегают блики по колышущейся поверхности моря – и люди светятся от счастья. А в сторонке, зная всю правду, сижу я. Ко мне подходит Алексей Васильевич Петренко:
– О, Юра, ты уже здесь! Ну как тут?
– Алексей Васильевич, мы никуда не плывем. – Я так и не придумал, как сказать это помягче.
Он расхохотался:
– Хорошая шутка, Юра! Хорошая!
Все весело смеются, с наслаждением осматривая теплоход и, наверное, уже представляя, как они будут прогуливаться в элегантных нарядах по палубам под ласковыми лучами закатного средиземноморского солнышка.
– Ну, так, если не плывем – куда ж нам теперь-то? – решил подыграть мне Петренко. – Разве что в ресторан? Ха-ха!
Но уже через пару минут новость разлетается по площади. Лица меркнут. Праздничное настроение испаряется. Рождается коллективное решение: располагаемся в холле Морского вокзала «до выяснения». Мало кто верил, чтобы целый фестиваль был лишь прикрытием для банального «кидалова». Практически все считали, что это недоразумение, которое рано или поздно выяснится. И вскоре в центре зала на первом этаже собрался весь цвет творческой интеллигенции страны. Какие-то «делегаты» предпринимают первые вылазки, куда-то ходят, что-то узнают, возвращаясь, пересказывают новости остальным.
Спустя час возбуждение стало понемногу спадать. Еще через час народ стал оглядываться в поисках удобного местечка. Через пять часов после начала «забастовки» в центре зала не осталось никого. Люди начали свыкаться с мыслью, что чуда не будет и круиз останется розовой мечтой. Потихоньку усталые артисты расползлись по углам и заняли все более-менее пригодные горизонтальные поверхности, от скамеек до подоконников. У покойной супруги Алексея Петренко, Галюси, болела нога, и ее посадили на один чемодан, а другой подставили под больную ногу. Никто толком не понимал, то ли нам тут жить придется, то ли – что?
Между тем по городу прошел слух, что на Морвокзале собралось пятьсот человек артистов, всеми любимых знаменитостей. Стала расти толпа зрителей. Начались совместные фотографирования, автографы. Поначалу вроде ничего, это помогало отвлечься от тяжелых мыслей, но потом зеваки стали откровенно надоедать. Дошло уже до того, что кто-то из артистов в раздражении бросил пустой банкой от колы в какого-то особо настырного зрителя.
Тут вмешался директор вокзала. Он проявил настоящую человечность по отношению к нам: чтобы оградить уставших кинозвезд, он распорядился поставить на входе милицию, а для остальных оставить открытой галерею, которая проходит по периметру центрального зала по второму этажу. И вот, благие намерения этого доброго человека вымостили нам дорогу прямиком в наш коллективный ад. Артисты оказались как в зоопарке: в то время как они внизу пытались наладить пусть и временный, но быт, сверху на них глазели десятки зрителей, фотографируя и тыкая пальцем. Люди приходили семьями, с детьми. Чистый аттракцион, аквариум с экзотическими рыбками.
– Вон, посмотри, Васенька, этот дядя играл Робина Гуда.
Боря Хмельницкий, жуя бутерброд, поднимает взгляд, мальчик радостно машет ему рукой, а я вижу – Боря сейчас скажет что-то нехорошее… Нет, вроде перетерпел, пошел заваривать чай в пластмассовом стаканчике.
Прошло еще немного времени – я замечаю, что перед туалетами начинает расти очередь.
– А что случилось, какая-то авария? – спрашиваю.
– Да какая авария, б… – отвечают мне соседи. – Чайку попили.
С чаем, как обычно случается в подобных ситуациях, была напряженка. Спустя час после начала нашего «сидения» ни в буфете Морвокзала, ни в близлежащих киосках не осталось не то чая – вообще ничего. Но тут, по счастливой случайности, кто-то обнаружил, что чай в пакетиках продается в вокзальном аптечном киоске. Да, с травами, но чай же! Чай скупили весь. Не знаю, кого накрыло первым: чай оказался слабительного свойства. Лица переминающихся в очереди к туалету народных и заслуженных выражали такую гамму эмоций, какую нечасто увидишь на сцене, даже во время самых суровых драматических постановок.
Новое испытание мобилизовало на поиски выхода из ситуации. Возникла мысль идти к мэру города. Собрался совет: кого делегировать в качестве ходоков? Решили: пойдут Боря Хмельницкий, Лидия Федосеева-Шукшина, еще кто-то. Пошли – вернулись ни с чем. Ну а что может сделать мэр, если фестиваль – не государственное мероприятие, а частная затея? И теплоход тоже частный. Следующая творческая идея была интереснее: пойти к бандитам. В этом случае делегация выглядела чуть иначе, предпочтение было отдано молодым и красивым девушкам, хотя Боря Хмельницкий и тут сохранил свои позиции: Робин Гуд, как оказалось, имеет влияние как на власти в лице мэра, так и на преступность в лице одесских авторитетов. Разговор в обоих случаях был очень уважительный, хотя и авторитеты, вслед за мэром, были вынуждены признать, что сделать они вряд ли что смогут. Они, конечно, осудили организаторов фестиваля за столь неподобающее отношение к уважаемым людям страны, но доходчиво объяснили: нет денег – нет фестиваля. Платить за круиз они явно не собирались, да и с чего бы.
Стало окончательно понятно: круиза не будет, пора домой. А как? На чем? Никто же не покупал обратные билеты. А если не получится уехать сразу – где жить? Но тут открываются двери, и в наш «аквариум» входит в парадном белом кителе капитан теплохода.
– Уважаемые друзья, приглашаю вас переночевать на борту судна.
Это был благородный жест. Жаль, я не запомнил имени-фамилии этого достойного человека. Тут спускают трап, мы дружно поднимаемся на борт. Разумеется, общее настроение резко подскакивает вверх, все про себя думают: ну, вот, наверное, решение найдено, сейчас переночуем, а там, глядишь, и отчалим потихоньку. На входе всех встречает старпом со списком и ключами от кают. Он громко начинает зачитывать фамилии из списка, из толпы вываливаются сильно помятые, но счастливые артисты, берут эти ключи и отправляются по каютам.
Доходит он до очередного пункта списка:
– Пахмутова!..
Подходит Николай Николаевич Добронравов. Александра Николаевна совсем уже обессилела и сидела где-то в сторонке.
– Можно я получу ключи? – спрашивает Николай Николаевич.
– Нет, – строго отвечает ему суровый старпом. – Только лично в руки!
Бедную Александру Николаевну буквально приносят к трапу, и старпом вручает ей ключ – как положено, лично в руки.
В общем, наконец мы попали на борт. Вскоре по внутренней связи теплохода – объявление: «Капитан приглашает всех в кают-кампанию на ужин». Ну, тут уж самые завзятые скептики поняли: круиз состоится! Советский человек, обладавший опытом взаимодействия с отечественным гостиничным и курортным хозяйством, прекрасно знал: «поставили на питание» – это фактически поселили. К ужину все собрались в прекрасном настроении. Дамы в вечерних платьях – лучших, которые были припасены для последнего вечера где-нибудь в порту Неаполя. Элегантные мужчины, члены команды в белой форме, посреди всего этого, как настоящий король среди подданных, – капитан.
Но тут капитан встает и оглашает свой «королевский указ»:
– Уважаемые друзья, я вынужден просить вас завтра к одиннадцати часам освободить каюты, теплоход больше не может стоять в порту и уходит из Одессы.
Минута молчания. Всем все становится понятно. Наши часы пробьют завтра в одиннадцать, и наша «карета» не то чтобы превратится в тыкву – она просто уедет без нас. Эта пауза висит в воздухе буквально секунду. Спустя мгновение кто-то уже произносит тост в честь капитана, все выпивают, начинают закусывать, а еще через полчаса в салоне начинается нечто. Это было настоящее единение – единение людей перед лицом общего испытания. Мы не могли ничего поделать с фальшивым фестивалем – и мы радовались моменту. Артисты, простые пассажиры-туристы – все оказались в одной лодке, в прямом и переносном смыслах. Сам собой начался концерт. Такого концерта мне, наверное, больше не увидеть. Бисер Киров в шляпе пел рок-н-ролл. Ему подыгрывал «Терем-квартет». Пахмутова за роялем исполняла какие-то немного хулиганские песни – совсем не те, какие сделали ее популярной на всю страну и за которые она получала свои звания и премии. Кто-то читал стихи, кто-то танцевал. Семен Альтов читал миниатюры, которые, возможно, сочинял тут же, на ходу. Помню восхитительную Светлану Светличную в какой-то невероятной шляпе. Ведущих не было, это была чистейшая импровизация и самодеятельность – экстра-класса.
Один из пассажиров, какой-то солидный дядечка из Сибири, при входе в кают-кампанию поставил стол, на который выставил одиннадцать бутылок коньяка «Белый аист». В ответ на мой вопрос – почему именно одиннадцать – он объяснил: расчет был простой, по полбутылки на день путешествия. Так вот, теперь он стоял при входе и наливал всем входящим по пятьдесят граммов. Очень быстро в кают-кампании стало тесно, и эпицентр всего происходящего переместился на палубу.
Я уверен: если бы наш круиз состоялся, ничего подобного не произошло бы. Да, прошли бы несколько творческих вечеров, да, состоялась бы пара-тройка концертов – по графику мероприятий. Но такого фонтана эмоций и красоты, такой концентрации таланта на квадратный метр не могло случиться ни в какой другой ситуации. Артисты «жгли» как в последний раз. Весь фестиваль уместился в одну ночь – ту ночь, когда мы вступили на палубу теплохода «Лев Толстой», зная, что этим все и закончится, и забыв об этом на несколько часов. Это было похоже на фейерверк, на салют, горящие брызги которого уже разлетелись после взрыва, но еще не сгорели, не долетели до земли, – они, сияя, медленно опускались, освещая все вокруг себя мерцающим, переливающимся светом.
Не знаю, спал ли кто-нибудь той ночью на борту теплохода «Лев Толстой», стоявшего в одесском морском порту. Утром все мы разъехались, кто на самолете, кто на поезде. В соседнем купе ехала все та же Александра Николаевна Пахмутова с мужем. Она подкармливала меня пирожками, которые успела купить на Привозе, мы вспоминали минувшую ночь, смеялись и были совершенно счастливы. А я был счастлив вдвойне, потому что в ту ночь я пережил ощущение, которое, к сожалению, больше не повторилось: я прожил несколько часов внутри не снятого фильма Феллини.
…И корабль уплыл.
Подарок
Утром накануне Восьмого марта я копался в своем кабинете на киностудии Горького. Шли съемки «Коллекционера». Комната представляла собой помещение, наполовину заваленное самыми странными вещами. Здесь были какие-то вазы, несколько пар обуви, старые книги, лампа с абажуром цвета, который нельзя было определить, еще много всего. Все это был реквизит, который мы собирали для фильма. По фильму герой покойного Алексея Петренко, Коллекционер – это полумистический образ, он собирает все на свете, составляя какую-то свою особую, метафизическую коллекцию. Вот и мы собирали. По принципу: «а вдруг сгодится».
Видимо, по этому самому принципу в наше собрание попала целая коллекция искусственных фаллосов. Их было много. Мы их покупали в секс-шопах, брали напрокат копии экспонатов из какого-то этнического музея, откуда-то еще. Собрали внушительную такую кучу. Пока они не особо были нужны, и потому пылились в углу моего кабинета этакой живописной композицией.
Я как раз смотрел на эту кучу, когда в дверь постучали, и в кабинет вошел наш оператор Сергей Мачильский.
– Привет, Юр. Сегодня до скольких работаем, как обычно?
– Привет. Ну, как получится – вроде ж ничего сложного сегодня делать не собирались. Может, чуть пораньше закончим: все-таки праздник завтра.
– Ага. Ладно, я как раз хотел уйти чуть пораньше.
Смотрю – у него в руках какая-то коробка.
– Что это у тебя?
– Да завтра ж Восьмое марта, вот, нашел подарок для жены, – говорит он. – Она давно хотела, такой маленький солярий для лица. А, кстати, можно я оставлю коробку тут до конца рабочего дня?
– Да оставляй, без проблем, конечно.
Он положил коробку на тумбочку, пошел колдовать над своей техникой. А я никак не могу собраться с мыслями: вроде и ничего особенно сложного сегодня не нужно делать, а уверенности нет, какая-то рассеянность. Может, весна? Сижу, в общем. Взгляд блуждает по горам реквизита. Абажур, ботинки, синяя ваза, коробка, фаллосы… Коробка, фаллосы… Завтра праздник…
– Серега, с наступающим!.. – Хватаю я эту коробку, распаковываю, достаю оттуда солярий, а вместо него кладу фаллосы. Набил довольно плотно, чтобы по весу было похоже. Черные, зеленые, розовые – красота. Беру «Поляроид», делаю «селфи» и кладу сверху свое фото. Запечатываю, возвращаю на место. Не могу сказать, что это помогло преодолеть рассеянность, но настроение подняло – точно.
В конце рабочего дня приходит Сережа, забирает коробку.
– Ну, после праздника увидимся.
– Давай, пока. Поздравь жену от меня.
Восьмое марта. Чудесное утро. Сижу в предвкушении, жду звонка. И – как-то ничего не происходит. Тишина. Проверил телефон: включен, все нормально. Ладно, думаю, может, вчера ребята были в гостях или в ресторане, поздно вернулись, отсыпаются. Еще час прошел. Уж полдень скоро – ничего, ни звоночка. Начинаю беспокоиться: а вдруг я переборщил? Звоню директору фильма:
– Слушай, – говорю, – Серега же вроде с чувством юмора парень?
– Да конечно, мы ж столько лет знакомы.
– Не может он обидеться на что-то такое?
– Да ну, вряд ли. Не замечал за ним ничего подобного. Нормальный парень.
Нормальный, значит. А чего ж не звонит? Потихоньку начинаю волноваться всерьез. Ну, мало ли – а вдруг какой скандал в семье или что-то подобное? Может, самому позвонить уже? И тут: «Дз-з-з-з-зынь!» Звонок в дверь. Никого не ждали вроде, кто это может быть? Неужто Серега приехал морду бить? По мере того, как я приближался к двери, такой сценарий казался мне все более реальным. …А, нет, соседка зашла к жене.
Так я дотерпел до вечера. Вечером все же решил позвонить сам. К телефону подходит его жена.
– Здравствуйте, – говорю, – это Юрий Грымов. С праздником вас!
– Да-да, Юрий, спасибо большое.
– Вам Сережа подарок подарил?
– Ой, да, все хорошо, спасибо! Я так давно хотела такой солярий, так приятно, спасибо, что вы интересуетесь.
Мы продолжаем вежливый светский разговор, но я ничего не понимаю: где реакция? Почему не сработали разноцветные фаллосы?! Почему ничего не происходит?
– А вы точно получили подарок? Мы говорим об одном и том же? – интересуюсь я уже в открытую.
– Да-да, такой хороший подарок – солярий. Правда, Сережа мой такой разгильдяй: ничего не купил для тещи! Ну, мы поэтому взяли и отослали этот солярий в Луганск, на Украину, маме.
Начинаю тихо икать.
– Ей, конечно, он даром не нужен, но тут уж ладно, просто как знак внимания. Он смотался ночью на вокзал и отправил поездом с проводниками. Хорошо, что я не успела коробку распаковать.
Дышать почти нечем. Знак внимания. В Луганск. Теще. Поездом. Подарок на Восьмое марта. От дочери и зятя. Разноцветные.
Пытаюсь про себя сосчитать до десяти: «Раз, два, три…»
– Там…
Нет, еще раз: «Раз, два, три, четыре…»
– Там…
– Что там? Где – там? – слышу по голосу: бедная Сережина супруга начинает о чем-то догадываться.
– Там… Не совсем то, что вы думаете. Зря вы не открыли коробку.
Минут через пять я смог объяснить, что на самом деле лежит в коробке. На том конце провода повисает долгая пауза. Думаю, именно в такие моменты даже самый интеллигентный и воспитанный человек совершенно естественно и незаметно для себя переходит на мат – и никто не вправе его за это осуждать.
– Господи, Юра, ну вы даете…
…«Знак внимания» удалось перехватить. Дозвонились до знакомых, подняли их по тревоге – люди запрыгивали в вагон практически на ходу, как только поезд подошел к перрону Луганского вокзала. Теща, правда, осталась без подарка. Зато жива-здорова, и нервная система не пострадала. А шутка – ну, шутка оказалась с отложенным эффектом. Выдохнули – посмеялись.
О пользе свадебных лимузинов, или Как выжить на провинциальном кинофестивале
– Скажите, дорогая моя, а мы сможем поменять это авто на что-нибудь другое?
– Ну, конечно, сможем, конечно!
Девушка-«Конечно» – такой я ее и запомнил, мою помощницу на том кинофестивале. Ни имени, ни фамилии вспомнить теперь уже не смогу, а это осталось: на любой мой вопрос она отвечала неизменно одно и то же: «Конечно!»
То был конец девяностых. Меня пригласили возглавить жюри на одном из фестивалей, которые тогда проходили практически везде, по всей стране, от Смоленска до Владивостока. Вот как раз на один из таких провинциальных фестивалей меня и вез московский поезд. Обычная история: поезд отправляется из столицы вечером, ночь ты в дороге, а утром уже в полутысяче километров от Москвы, в другой реальности. В том городе, куда меня пригласили, я никогда прежде не бывал, и потому отправлялся в поездку с особенным любопытством: кроме кино, была надежда увидеть еще что-нибудь интересное.
Было что-то около пяти утра, когда поезд прибыл. Летнее утро, июнь. Солнце почти взошло, но было еще тихо, город только просыпался, даже поливальные машины еще не выехали на улицы. Я не торопился выходить из вагона просто потому, что еще не совсем проснулся. Сидя у окна, я с интересом разглядывал здание вокзала. Состав остановился – и тут вся умилительная картинка за окном рассыпалась от какого-то шума и гама. К поезду подлетела пестрая группа людей. Народные костюмы, гармошки, балалайки – полный набор. Главная красавица на ходу чуть не роняет приличных размеров каравай. Вся эта агитбригада мечется по перрону.
– В каком он вагоне? В третьем? Вот третий!..
Я с ужасом понимаю: пришли за мной. Выхожу. Меня обдает волной отработанного до автоматизма гостеприимства – с той долей искренности, которая заставляет мириться с происходящим:
– Добро пожаловать в наш город!
Хлеб-соль, «встречный марш» в исполнении ансамбля народных инструментов, выходящие из соседнего вагона пассажиры шарахаются от неожиданности. Тут же появляется кто-то из организаторов, девушка с папкой:
– Юрий Вячеславович, здравствуйте! Простите, вы не могли бы пройти к машине вон туда, за угол – мы не смогли подогнать ее к вагону?
– Хорошо, разумеется, спасибо.
Я отправляюсь в указанном направлении, но, заходя на угол здания, невольно останавливаюсь. На площади перед вокзалом, отражая первые лучи восходящего солнца в многочисленных хромированных деталях, стоит длиннющий лимузин розового цвета. «Кадиллак», который, видимо, еще вчера возил по городу какую-то свадьбу.
– Это… Это что? – задаю я риторический вопрос.
– Ну, вы же просили машину побольше. Это самая большая, – не без гордости отвечает мне моя спутница. – Она в вашем распоряжении. Конечно.
Да, это была она, Девушка-«Конечно». Почти каждую свою фразу она заканчивала этой присказкой, которая, как я понимаю, выработалась у нее за время работы, – этаким словесным успокоительным.
Надо сказать вот о чем. Поездки по фестивалям – дело увлекательное, но в то же время сложное. Как нормальный человек, я стараюсь избегать проблемных ситуаций, чтобы не тратить силы и время на их преодоление. И, когда меня приглашают на какие-то фестивали, я всегда заранее оговариваю условия, на которых поеду. Эти условия даже в меньшей степени касаются финансовой стороны вопроса, в первую очередь это какие-то бытовые «ориентиры», которые позволяют мне сохранять более-менее привычную обстановку в поездках. Ну, например: после того как когда-то давно на одном из фестивалей я, достаточно рослый дядя весом больше ста килограммов, несколько дней был вынужден передвигаться по городу в «Жигулях» в положении «коленки на уровне подбородка», одним из постоянных пунктов моего райдера стал большой автомобиль. Совершенно не обязательно это должна быть машина бизнес-класса – я прошу, чтобы это был просто большой автомобиль, где я мог бы поместиться. Вот и тогда мои помощники сообщили организаторам фестиваля: нужен автомобиль побольше.
…Вам когда-нибудь доводилось ехать в свадебном лимузине – не в качестве свидетеля жениха или невесты, а по делам? Незабываемые впечатления. Дорогу от вокзала до отеля мы проделали вместе: я и лимузин. Эта колбаса – какая неожиданность! – не вписывалась в добрую половину поворотов старого провинциального города, и наш маршрут был проложен по формуле «проехали – прогулялись»: мой розовый «Кадиллак» довозил меня до очередного поворота, там я выходил и шел дальше пешком, в это время это свадебное чудище объезжало узкое место, подбирало меня и неторопливо катило дальше. Таким вот образом я добрался до отеля, попутно совершив небольшую пешую экскурсию по утреннему городу.
Открытие фестиваля было в тот же вечер. Организаторы сдержали слово: лимузин действительно был в моем исключительном распоряжении, он целый день сиял перед гостиницей ярким розовым пятном. За час до начала меня повезли в киноконцертный зал, где должна была пройти церемония. И вот, по дороге я вижу, что мое розовое чудо обгоняет какой-то пыльный ПАЗик, битком набитый с виду прилично одетыми людьми. Мы останавливаемся на светофоре, и я понимаю, что это на открытие кинофестиваля едут все его почетные гости – народные и заслуженные артисты России. Вот тут и проявили себя преимущества свадебных лимузинов: в них есть где спрятаться. Я сползаю куда-то назад и вниз. Меня, слава Богу, не замечают.
Спрашиваю девушку-сопровождающую, куда меня подвезут. «К главному входу, конечно». Ну конечно, как же могло быть иначе.
– Нет-нет-нет, стоп. Только к запасному!
– К запасному? Конечно, хорошо.
Мы протиснулись на задворки здания, остановились где-то по соседству с помойкой, и я тайно проник к месту торжества.
На второй или третий день фестиваля у нас в программе была поездка на какой-то большой творческий детский форум. Он проходил вдали от областного центра, в пансионате на берегу реки. Для многих (может, и для большинства – не знаю) этот факт имел решающее значение: люди надеялись на несколько часов отдыха на природе. Мне надо было там присутствовать «по должности», как председателю жюри.
Было понятно, что ехать к детям на розовом лимузине – идея так себе. Я договорился с Девушкой-«Конечно», что поеду туда вместе со всеми.
– Только вы же не планируете снова везти народ на этом ужасном ПАЗике? – осторожно поинтересовался я.
– Нет, конечно, – уверенно ответила моя помощница, – будет другой автобус.
«Другим автобусом» оказался «Икарус» – заслуженный ветеран, который, наверное, был в первой партии, прибывшей из Венгрии в СССР примерно тогда же, когда в свой первый пионерский лагерь отправился я сам. Но в девяностые в тех местах никаких других еще не было, и даже в Москве интуристов часто возили на тех же «Икарусах». Так что мы потихоньку погрузились и отправились в дорогу.
Июнь – то время, когда среднюю полосу России может накрыть совершенно любая погода – от ливней до жары. Нам досталась жара. Уже в девять утра находиться под открытым солнцем было практически невозможно. Но в это время мы только отправились в наше путешествие. Нетрудно представить, что через полчаса пути салон нашего «Икаруса» был больше похож на санитарный вагон, на котором изможденную творческую интеллигенцию эвакуируют вглубь страны – куда-нибудь в Узбекистан. Никакие открытые окна, никакие самодельные опахала, скрученные из программок фестиваля, – не помогало ничего. Кондиционер? Такой роскоши здесь не знали. Вся вода была выпита в первые пятнадцать минут. Никаких придорожных кафе. Только небо без единого облачка, белая точка солнца, которое только-только взбиралось в зенит, и марево, плывущее над асфальтом.
Три часа той поездки я запомнил навсегда. Пытка приобретала особенно изощренную форму тогда, когда дорога приближалась к берегу реки, и нас возвращали в чувство мерцающие на воде солнечные блики.
– Вот! Вот! Уже!.. – хрипло восклицали самые стойкие из нас, в то время как остальные, менее крепкие, явно находясь в предынфарктном состоянии, только приоткрывали глаза, чтобы в очередной раз убедиться: нет, еще не приехали. Наконец наш «Икарус» преодолевает еще одну горку, делает пару поворотов и выкатывает на площадку перед забором с воротами. Неужели?..
Я вижу, как открываются ворота, и к автобусу бегут дети – девочки с огромными бантами, аккуратно стриженные мальчики, и прямо перед автобусом начинается концерт: они танцуют, играет веселая музыка, в воздухе подпрыгивают белые банты и разноцветные воздушные шарики. «Все люди на большой плане-е-ете должны всегда дружи-и-ить», – гремит из динамиков. Навстречу им из пыльного автобуса вываливаются полуживые, потные, с лицами, покрытыми пятнами, почетные гости фестиваля.
«Должны всегда смеяться де-е-ети…»
Артисты, не обращая внимания на происходящее, просто расталкивают детишек и пробиваются сквозь радостную, пляшущую толпу к корпусу пансионата. Первый же обнаруженный по пути питьевой «фонтанчик» мгновенно окружает толпа жаждущих.
«…И в мирном мире жи-и-и-ить!»
…Встреча с детьми прошла как в полусне. Местных красот я не видел. Сидя в своем номере в предчувствии неизбежного – завтрашней обратной дороги, я с удивлением ловил себя на мысли, что мечтаю об огромном розовом свадебном лимузине.
Судовой журнал мореплавателя Г.
Был у меня опыт кругосветного плавания. Как и положено, в морском путешествии я вел свой собственный журнал. Перечитываю теперь, с удовольствием вспоминая те дни.
Четверг, 15 августа
Завтра отправляюсь в кругосветку. Звучит. Хотя, конечно, это не совсем так. Но не скажешь же: «Отправляюсь в часть кругосветки». Или: «Пройду часть кругосветного плавания» – какая разница? Что с того, что я по пути сойду? Три недели в пути – тоже не фунт изюма. Три недели – все мои.
Получится ли закончить сценарий? Посмотрим. Где еще работать над сценарием про Крузенштерна, как не на паруснике «Крузенштерн»?
Пятница, 16 августа
Я в море. Впечатлений слишком много, запишу потом. Надеюсь, ничего не упущу. Карты памяти на фотоаппарате заполнил за один день. Сейчас главное – решить проблему с каютой.
Воскресенье, 18 августа
Рассказываю про вчерашний день, он стоит того. Пишу, сидя за лучшим на всем корабле столом в лучшей каюте. Вот как это получилось.
Когда меня «поселили» на корабле, мне выделили малюсенькую каюту – настоящий кубрик. Претензий не было никаких, кроме одной: в каюте не открывался иллюминатор. Спросил капитана, можно ли подыскать для меня еще меньшую каморку, но только чтобы можно было открыть окошко? Без свежего воздуха я просто не могу.
Капитан «Крузенштерна» Михаил Новиков – прекрасный человек, отнесся к моей просьбе со всем возможным вниманием, но, как выяснилось – решить ее невозможно: все переполнено, двести пятьдесят человек экипажа на борту, не считая обслуживающий персонал. В полный рост встала реальная перспектива крушения всех ожиданий и планов.
Мы с капитаном в это время прогуливались по палубе. Тут я замечаю какую-то дверь. Спрашиваю – что там?
– Каюта командующего.
– А кто это – командующий?
– Это глава Росрыболовства – Федерального агентства по рыболовству. Барк приписан к нему. В этой каюте никогда и никто не останавливался.
– А там иллюминаторы открываются?
– Юрий, там три иллюминатора, и они все открываются. Там есть ванна и двуспальная кровать. А еще кондиционер.
Все: «Вспять безумцев не поворотить…» Я понимаю: вот оно, спасение.
– Что надо сделать, чтобы я туда попал?
– Бесполезно. Я не могу без разрешения командующего вас туда пустить. Могу показать каюту.
– А кто у нас командующий?
– Андрей Анатольевич Крайний.
– Кто? Крайний? Андрей? Можете дать его телефон?
Находим номер телефона. Капитан не очень понимает, почему Андрей Анатольевич будет разговаривать с каким-то малоизвестным ему Юрием Вячеславовичем, но наблюдает за происходящим с интересом.
– Алло, Андрей?..
– Да, слушаю.
– Не поверишь, кто звонит: Юрий Грымов.
– О, привет!
– Ни за что не угадаешь, откуда я тебе звоню – с «Крузенштерна»! Отправляюсь в плавание! Тут, оказывается, есть твоя служебная каюта. Можно я в ней немного поживу?
Вижу боковым зрением: у капитана от такой наглости выгибается бровь.
– Ой, ну конечно, Юра, живи, пожалуйста! Я дам указание.
В тот же день я въезжаю в каюту командующего. Не отказал себе в удовольствии: взял небольшую паузу и не сразу объяснил добрейшему капитану Новикову причины, по которым Андрей Анатольевич Крайний так легко пустил меня пожить в его апартаментах.
В свое время мы с Андреем Крайним вместе были манекенщиками у Славы Зайцева. До этого звонка я не видел Андрея лет двадцать пять. Мы ни разу не пересекались и, наверное, даже не вспоминали друг о друге.
Среда, 21 августа
Мы стоим в Бремерхафене, это порт на северо-западе Германии. Прибыли вчера. «Крузенштерн» во время таких стоянок превращается в большой плавучий музей: на корабль пускают туристов. Ставят турникеты и проводят экскурсии. В первый же день на причале собралось полгорода. Вчера ближе к вечеру я сошел на берег, мы пошли в ресторан. Возвращаясь на барк через какое-то время, вижу, что перед турникетами по-прежнему очередь из туристов. А для членов команды положен отдельный трап. И когда на борт поднимаются моряки – курсанты, офицеры в форме, красавцы – публика на них засматривается во все глаза.
И вот тут мне очень захотелось, чтобы все поняли, что я тоже – с «Крузенштерна». Но я-то в штатском! А мне так хотелось, чтобы все, кто стоял в очереди на экскурсию, – чтобы все они поняли, что я тоже причастен к этому. Что «Крузенштерн» – это и я тоже!
Этого не понял никто. Морские бушлаты «гражданским» не выдают.
Кстати, о бушлатах. Вслед за нами в Бремерхафен пришел парусник «Мир» – такой же огромный. Когда я впервые увидел форму, в которую одета его команда, мне стало обидно за державу. На нашивках на груди у матросов обычно пишут их имена, фамилии и должность. Сначала я не понял, почему мне эти нашивки показались странными. Смотришь издали на построение команды – как будто все мальчишки-курсанты с одной и той же надписью в строю. Потом присмотрелся. Мать-перемать… У них там вместо Ф.И.О. – «Новатек». У всех. Полон корабль курсантов Новатеков. Я все понимаю про деньги и спонсорство. Но, граждане, есть же пределы разумного…
Пятница, 23 августа
Сегодня выходим из порта Бремерхафен. Сразу же вслед за нами должен выйти «Мир». Обещают, что на переходе до французского Бреста они устроят маневрирование друг вокруг друга. Предвкушаю.
А пока перечитываю записки Крузенштерна. Мурашки по коже, хотя читаю уже в третий раз. Вот – сюжет! Это очень сильно описано. Ничего не надо изобретать. Не надо придумывать и додумывать – как сейчас это иногда делают, чтобы привлечь внимание к кино. Мои партнеры на Мальте «созрели» именно после того, как я дал им почитать эти записки. Обещают дать корабли, предоставить водные павильоны. А я до сих пор не могу понять – что там происходило, на «Надежде»? Как существовали там люди? Что такое вообще жизнь на корабле?
Ну, вот, например: зачем раз в неделю Крузенштерн собирал всех офицеров команды, они все одевались в парадно-выходные мундиры и потом музицировали в кают-компании? Да, понятно, они все были воспитаны в интеллигентных семьях, восприняли традиции флотского офицерства. Но все же: в чем был смысл этих собраний? Прошла неделя моего плавания, но пока я далек от понимания.
Понедельник, 26 августа
Мы уже второй день стоим в Бресте. «Мира» нет. В смысле – он есть, но его нет в порту. Он как-то неожиданно быстро «отвалился» от нас, буквально через полчаса после выхода из Бремерхафена, и больше мы его не видели. У них все нормально, связь есть, но в Бресте «Мир» будет дай Бог если сегодня вечером. Вот, пожалуйста: парусник, пусть и суперсовременный – против моря и ветра. Чуть не так заложишь паруса – и привет, будь любезен скорректировать расстояния и сроки. Море – это серьезно. Даже если нет шторма.
…Продолжаю вечером. «Мир» пришел.
Вокруг нас – фантастическое зрелище: лес из парусов. В Бресте раз в четыре года проводится «Парад парусов» – грандиозный международный фестиваль парусных судов. Ничего подобного я не видел.
Четверг, 30 августа
Мы снова в море. Качает. Морской болезни у меня вроде бы нет, но таблетки пью.
…Продолжаю вечером. Еще одна зарисовка. Сижу я сегодня днем в каюте, открыв все три окна. Дышу морским ветром. Ко мне заходит капитан Новиков и говорит:
– Юрий, вы бы закрыли окошки.
– Зачем, если я так долго и непросто шел к этому – возможности вдохнуть воздуха дальних странствий?
– Ну да, ну да. А на ночь вы собираетесь их закрывать?
– Ой, вряд ли: ветерок, хорошо так, свежо – люблю свежий воздух.
Он говорит:
– Я бы на вашем месте прикрыл.
При этом он закрывает иллюминатор, завинчивает такие специальные вентили.
– Лучше бы еще и это прикрыть. – И задраивает вдобавок стальную «ставенку» в палец толщиной.
Сижу, недоумеваю: зачем?!
– Понимаете, – спокойно объясняет мне капитан, – на море всякое бывает. Может просто прийти одна волна – безо всякого серьезного шторма, и у вас будет в каюте по колено воды.
– А можно хотя бы вот этими стальными шторками окошко не закрывать? – я еще надеялся, что мне удастся воспользоваться всеми преимуществами каюты командующего.
– Выбьет окошко-то, – отвечает мне капитан Новиков.
Прекрасный человек, мы до сих пор поддерживаем отношения.
Пятница, 1 сентября
Сегодня я наконец разрешил серьезную загадку, которая мучила меня все это время. В моей каюте стоит стул – обыкновенный, ничего необычного, к полу не привинчен. Все время, что мы были в море, он никогда не стоял на четырех ножках – только на двух. Понятно: крен, качка. Но я заметил одну таинственную закономерность: когда стул откидывается назад и стоит на задних ножках, упираясь в стенку, в каюте начинает пахнуть какашками. Когда же он становится на передние ножки и упирается в стол – запаха нет.
Сегодня я понял, в чем дело. Канализация на корабле подчиняется закону сообщающихся сосудов. И когда барк накреняется на один борт, для неинтеллигентных запахов открываются все пути; крен на другой борт прекращает эту «вентиляцию». Не могу сказать, чтобы я гордился этим своим открытием, но стало как-то полегче.
Суббота, 2 сентября
Качка усиливается. Глотаю таблетки.
Воскресенье, 3 сентября
Здравствуй, морская болезнь. Из позитивного: я понял, почему Крузенштерн собирал людей в кают-компании. Чтобы люди разговаривали друг с другом. Думаю про ребят, которые сейчас на барке. Четырнадцать месяцев в открытом море. Ты живешь на корабле, который только с берега кажется большим, а «изнутри» – полное ощущение, что ты заперт в каком-то маленьком отеле, изолированном от всего мира пансионате – как у Агаты Кристи, только участников сюжета побольше. В таких условиях у людей должно быть, во-первых, дело, во-вторых – общение. Иначе можно свихнуться. В кругосветках такое происходит регулярно, мне уже рассказали пару случаев.
У бездельника на таком корабле шансов нет: точно тронешься умом. Я придумал для себя занятие: собираю курсантов, офицеров и рассказываю им о театре, о кино, травлю анекдоты в курилках – развлекаю и себя и их. Кто-то смеется, кто-то нет, все люди – разные. Опять же: вспоминаю записки Крузенштерна. У него тоже компания подобралась непростая. Граф Резанов, например. Тот самый, который «Ты меня на рассвете разбудишь…» – «Юнона и Авось», «Ленком», Марк Захаров, прекрасный Караченцов… В жизни, выясняется, был тот еще персонаж. Матросы даже просили его: если уж не можете без походов по портовым борделям, то хоть крест предварительно снимите – стыдно.
Потом Крузенштерн и Резанов рассорились настолько, что граф жаловался властям, мол, Крузенштерн взбунтовал против него экипаж, и требовал для адмирала смертной казни. Как-то обошлось.
Понедельник, 4 сентября
Надо быть честным: я на грани. Накопилась тяжелейшая усталость, постоянно тошнит. Кухня ни при чем – корабельная кухня прекрасная! Жалею, что не могу теперь оценить.
Заставляю себя выползать на палубу и снимать.
Вторник, 5 сентября
Шторм, восемь баллов.
Что такое оказаться на палубе корабля в шторм? Это – как в кино: в какой-то момент корабль начинает заползать по огромной волне вверх. Он ползет, ползет, и, если ты стоишь ближе к носовой части – ты просто не видишь воды. Нос корабля торчит прямо в небо. Еще мгновение, похожее на невесомость, какой-то тонкий баланс нарушается – и бушприт протыкает темную водяную стену. На палубу летят тонны воды: только держись. В какой-то момент начинается жуткий гул – ощущение, как будто над тобой взлетает сверхзвуковой самолет.
Ко мне подходит боцман. Тоже Юра. Милейший, интереснейший человек, с серьгой и переломанным носом, без одного зуба во рту – настоящий такой боцман, морской бродяга.
– Юрия Вячеславович, прошли бы вы в каюту.
– Ага. Юр, а что такое гудит сейчас?
– Понимаете, какая штука: когда скорость ветра превышает двадцать метров в секунду, начинает звучать вся снасть. Все тросы, в том числе металлические, начинают вибрировать, как струны. Дует здесь, в общем.
Я, конечно, как дебил (теперь я понимаю, что другого цензурного слова не подобрать) еще побегал по палубе с фотоаппаратом. Куда деваться – заранее договорился с ребятами из ProLab, будем делать альбом и выставку. Не представляю пока, как разобраться со всем тем, что я привезу, но тут я спокоен: пролабовские меня еще ни разу не подводили – помогут. Лишь бы камеру не утопить.
Четверг, 7 сентября
Шторм начинает стихать. Два дня в восьмибалльном шторме – для меня это перебор.
Спасение пришло откуда не ждали: из туалета. В моей каюте есть туалет. Это не обычный корабельный гальюн. Это именно туалет – начисто лишенный каких бы то ни было морских атрибутов. Тут нет иллюминатора, в потолок вмонтированы галогеновые светильники, стоит обычная «сухопутная» раковина, ванна, унитаз и биде.
Мой способ борьбы с морем оказался прост и гениален. Когда вчера мне стало совсем невмоготу, я закрылся в туалете, опустил крышку на унитазе, сел на него, заткнул уши, чтобы не слышать гула снастей, и уставился на биде. Я всеми силами пытался представить себе, что я дома. Помогло! Теперь вся надежда на мои «антикорабельные» медитации.
Воскресенье, 10 сентября
Я на суше! Сегодня я попрощался с «Крузенштерном» и его командой и сошел на берег. Пообещал, что провожу их сегодня вечером, когда они отправятся дальше по маршруту.
Понедельник, 11 сентября
Вчера я проводил «Крузенштерн». Вечером приехал в порт и вместе с толпой зевак смотрел, как эта белая махина отходит от причала. Самое грандиозное, что я видел в своей жизни, – это как ставят паруса на «Крузенштерне». К концу плавания у меня уже болел затылок оттого, что я постоянно ходил по палубе, задрав голову, – смотрел вверх. Странно, но я до сих пор не встретил ни одного фильма, где показали бы эйфорию этого момента – когда в небе, как облака, оживают огромные паруса.
Это совершенно фантастическая форма существования материи и пространства. Люди, карабкающиеся по вантам в небо. Орущие боцманы. Ругань, крики. Потом только я сообразил, что все их крики снизу, с палубы – они же не слышны там, наверху. Их иногда даже в трех метрах не слышно – когда ревет океан за бортом. Но эти крики, ругань, эти разинутые рты боцманов – все это совершенно необходимые вещи для управления кораблем. Эти команды не слышат, но их ощущают. Даже я их ощущал, стоя далеко внизу, на причале.
После этой картины осталось полное впечатление, будто я побывал в опере или послушал симфонию.
Оперное либретто мне, пожалуй, не по зубам, а вот сценарий свой я доделаю. Потому что теперь я навсегда запомнил, как воет снасть огромного парусника под напором тугого морского ветра.
P.S. Этим заметкам уже несколько лет. До сих пор не оставляю надежду на то, что удастся поставить фильм. Надежды на российский кинематограф нет, есть надежда на неравнодушных людей.
Кино. Затерянный мир
«Матильда». «…И сердце биться перестало»
Когда я посмотрел этот фильм, у меня возникло одно желание: срочно пересмотреть «Летят журавли», «Апокалипсис сегодня», снова увидеть те ленты, благодаря которым я заболел кино, из-за которых я в него влюбился по уши. Потому что то, что я увидел, показало мне голую и горькую правду: российское кино сегодня балансирует на грани катастрофы. Оно подошло к самому краю, за которым – адовы глубины пошлости, бескультурья и профанации.
Я посмотрел «Матильду».
Любому режиссеру, в том числе и мне, стоит помнить, что случаи, когда звезды на небе сходятся – встречаются творческие личности, талантливые люди, идеи которых понятны и созвучны, они работают вместе, и происходит чудо нового творения, – такие случаи происходят нечасто. Бывают неудачи. Они случаются у всякого. По моему мнению, так произошло с «Матильдой».
Что снимал Алексей Учитель? Драму? Фэнтези? Мелодраму? Историческое кино? Внутри фильма персонажи существуют каждый в своем жанре: Данила Козловский изображает триллер, Евгений Миронов – комедию, а актеру, приглашенному на роль Николая, видимо, сказали, что нужна мелодрама, и потому на протяжении всего фильма у него мокрые глаза. И если прекрасный Миронов что-то играет, то про остальных это сказать никак нельзя – они изображают. У них получаются в лучшем случае типажи, а не живые персонажи. И зачем было приглашать в этот фильм зарубежных актеров – для меня загадка.
Затем: какая идея легла в основу фильма? О чем это кино? Не нахожу ответа. После увиденного у меня возник один, главный вопрос: зачем? Зачем было снимать этот фильм? Зачем было нужно государству поддерживать эту картину двадцатью пятью миллионами долларов? Какие политические или пропагандистские, или воспитательные цели оно, государство, преследовало? Я понимаю, когда государство тратит деньги на создание фильмов про космос, хоккей и т. д. Это нормально – гордиться своими достижениями. Художественную ценность этих проектов сейчас не обсуждаю – просто понимаю, зачем нужны такие фильмы.
Может быть, правы те конспирологи, которые предрекают в скором времени реставрацию в России монархии, – и тогда можно предположить, что таким способом народ начинают готовить к новым политическим реалиям? Но любой здравомыслящий человек, посмотрев фильм «Матильда», сделает единственно возможный вывод: монархия – удел развратных вырожденцев, полный тупик, выхода из которого нет; впереди – революция. Это – цель?
Может, это патриотическое кино? Авторы в своих интервью произнесли много пафосных слов, намекая, что фильм – о высоком: Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцена Мариинского театра – в этих местах, мол, бьется сердце России. Тогда, простите, я что-то пропустил. Я не увидел в фильме ни единой идеи, ни поступка, ничего, чем я мог бы гордиться как гражданин. А места – ну, что места: в Кремле после 1917 года такие субъекты поселились, что – будь здоров, до сих пор стыдно вспоминать. Мне показывают персонажа с бородой, в мундире, похожего на последнего русского императора, и я вижу, что это похотливый человек, патологический потаскун, который волочит к себе в спальню балерину, едва только та на сцене случайно (?) оголила грудь. Сразу же – в койку. Это даже не страсть. Это просто животное желание. Николай вскакивает, издавая нечленораздельный звук. И «сердце России» забилось учащенно, да.
Сама Кшесинская в реальной жизни была нерядовая женщина – красавица, авантюристка и интриганка, умная и талантливая, обладавшая даром влиять на людей. Но в фильме все просто: она шлюха, предназначенная для лиц определенного круга. И хотя даже шлюху можно сыграть интересно, приглашенная иностранная актриса не играет ничего.
Будущую императрицу Александру Федоровну, неглупую, прекрасно образованную, с хорошим воспитанием женщину превратили в тупую немку, полную дуру с пустым взглядом – как будто вклеенную сюда из какого-то другого, комедийного фильма.
Персонаж Данилы Козловского – психически нездоровый человек, которого назвали «графом Воронцовым». Граф он или не граф – не знаю. Но когда он запросто врывается в личные апартаменты императора (?!) и с ходу бьет императора в лицо (?!!), у меня ощущение, что такое понятие, как бытовая правда, в концепции фильма просто отсутствовало. Почему «граф Воронцов» так поступает – Бог его знает, нам не рассказали. О том, что русские дворяне друг друга (не говоря уже об особах императорской крови) не могли ударить ни при каких обстоятельствах, речь не идет: мужики бабу не поделили, понимать надо. До 1917 года еще далеко, но «киноцарь» и «кинограф» ведут себя как председатель домкома и дворник, между которыми разрывается любвеобильная Дунька-повариха из рабочей столовой.
Граф хватает Кшесинскую, они пытаются спастись на плоту. На плоту! Просто схватить беглецов – слишком простая задача для преследователей. Плот поджигают. Но граф остается верен – нет, не Кшесинской – себе: стоя в пламени, он продолжает хватать ее за грудь, видимо, руководствуясь простым и понятным желанием: «А, гори оно все синим пламенем! Хоть за бабу подержаться перед смертью».
Плот взрывается (!), Воронцов погибает. Кшесинская остается в живых, ведь впереди – коронация, и циничная авантюристка просто обязана испортить торжественную церемонию. То, что на самом деле ее и близко не подпустили ко дворцу, – не проблема для авторов: балерина появляется на коронации, да еще как появляется! Классика: распахиваются двери собора – и врывается она, вся в белом. Почему-то ее не замечают (а она-то так старалась!). Но потом лазутчицу обнаруживают, и начинается беготня в духе «Кода да Винчи»: за балериной гоняются по всему собору. Наконец она оказывается на хорах, откуда – посреди коронации – романтически восклицает: «Ники!..» Окрик долетает до уха Николая – и он грохается в обморок. Чудо что за начало правления.
Без двух минут император лежит без сознания посреди Успенского собора. Вокруг – сотни, тысячи людей. А Ники лежит. Высвободившееся время он тратит с пользой: он фантазирует, как подбегает к Кшесинской, целует ее, обнимает… Но все хорошее когда-нибудь заканчивается: обморок проходит, и надо вставать, чтобы принять корону Российской империи. За все это время ни единой душе в голову не приходит помочь государю. Ну, упал в обморок, очухался, встал – и слава Богу, продолжим. Ники демонстрирует качества, которые выдают в нем незаурядный характер и силу воли: сам поднимает корону, сам водружает себе на голову. Историческое кино?..
Вообще, император России – на секундочку, самого могущественного государства мира на тот момент – в фильме существует вне всякого контекста. Он как будто в вакууме. Вокруг него нет ни адъютантов, ни слуг – никого, никакого окружения. Он просто перемещается по экрану. Единственный момент, когда контекст появляется, – сцена, где Николай стреляет по воронам из ружья. Кто постарше – сразу вспомнит знаменитую сцену из великой «Агонии» Элема Климова. Вот тебе и контекст. Но ту сцену руководство «Мосфильма» распорядилось вставить в фильм, так как у режиссера получался слишком хороший царь. А сейчас она зачем понадобилась?
Сцена репетиции коронации – испытание не для слабонервных. Детей в кино не берите. Потому что там Александре Федоровне неосторожно прикалывают шпилькой к волосам корону – и тут вдруг по лицу будущей императрицы начинает течь струя густой венозной крови в палец толщиной. От укола шпилькой.
Иногда с концептуальными недостатками фильма тебя может примирить эстетическое наслаждение – это когда кино здорово снято, когда в нем отличные декорации, музыка, грим, в общем, когда есть нечто высококлассное, помимо содержания. Здесь этим надеждам не суждено сбыться. У персонажей «Матильды» второсортные, криво приклеенные искусственные бороды, у них ужасающий грим. Зато балерины Мариинки танцуют в сценических костюмах со вставленными в них светодиодами. Не шучу. Светодиоды в конце девятнадцатого века. А за что тогда японцы Нобелевскую премию получали в 2014-м?
К балетной теме создатели подошли с большим вниманием. В какой-то момент в картине возникает еще одна балерина. Зачем? Чтобы показать, как во время спектакля, тут же, за сценой ее употребляет некий высокопоставленный сановник из ближайшего окружения императора. Еще один ценитель прекрасного. Она пытается возразить – мол, ей сейчас на сцену, вот, уже и увертюра заканчивается; властный мужчина, обуянный страстью, отмахивается: подождут. Кто подождет: император? Вся свита, весь петербуржский высший свет, зрители?
Такое ощущение, что историческим персонажам, взятым из прошлого, создатели дали взаймы свои собственные сегодняшние представления о жизни. И тогда все становится на свои места. Тогда понятно, откуда это хамовато-пренебрежительное: «подождут». Понятно, почему Николай прикрывает голую Кшесинскую, лежащую на царском ложе, императорской мантией с горностаями, которую, на минуточку, надевали по самым торжественным и крайне редким случаям: успех нынешнего российского кино уже немыслим без «американской красоты» – аппетитной голой задницы в богатом VIP-антураже. И тогда понятно, почему в фильме нет царя. Его личности, пусть даже воссозданной силами кино, – нет. Актер есть, имя в титрах есть, а царя Николая – нет. Пустота. Некого винить: таких понятий, как чувство долга, собственное достоинство, честь, вера и тому подобных в окружающей нас действительности осталось так мало, что показать, сыграть их уже мало кто сумеет.
Все знают, что финал – это половина успеха. Что мы видим здесь: Николай приезжает на Ходынку, где произошли страшные события, и молится, просит прощения, стоя среди мертвых тел. А в следующем кадре – праздничный фейерверк, на фоне которого киноцарь смотрится не хуже Рэмбо в той сцене, когда американский герой бежит из джунглей, а позади него разрываются мины.
Концовка вообще сражает наповал. Надпись на экране: «Они жили счастливо 24 года». Это про Николая и Александру. Прозрачное: «…и умерли в один день» спрятано от зрительских глаз, но мгновенно возникает в голове у каждого первого. В конце концов, треш тоже нужно красиво «закольцевать». Получилось.
Создатели фильма вволю поиздевались над всеми своими героями. Над всеми. Снова – вопрос: зачем? Чтобы мы почувствовали – что?
Как это можно назвать? Кроме как катастрофа – по-моему, никак. И это произошло с уважаемым мною режиссером Алексеем Учителем.
* * *
Пока писал – немного остыл. Бог с ними, с авторами. Меня порадовали зрители: народ в зале смеялся. Люди, вы прекрасны! Вы чувствуете главное. Вы понимаете, где правда, а где ложь. Не теряйте эту способность – и все будет хорошо.
Пятьдесят оттенков настоящего
В российском прокате американскую картину с оригинальным названием I, Tonya – «Я, Тоня» окрестили «Тоня против всех». В описании к нему был указан жанр: комедия. После первых десяти минут просмотра я понял, что люди, которые это придумали, смотрят на мир другими глазами. Потому что «Тоня» – это, конечно, не комедия. Это прекрасная драма – глубокая, очень качественно снятая. Это рассказ про Тоню Хардинг – известную американскую фигуристку 1990-х годов, о ее очень непростой судьбе, об отношениях с деспотичной матерью, мечтавшей «выковать» из дочери чемпионку, о стремлении к олимпийским высотам и цене победы. Представляю, какое количество людей выключили этот фильм, обманувшись в своих ожиданиях: они-то планировали расслабиться и посмеяться, а им подсунули совсем другое.
Самое ужасное – когда кино (да и любое другое творчество) стоит на месте. Так вот, «Тоня» – это современное кино. Там никто не прикрепляет, как двадцать лет назад, в погоне за оригинальным ракурсом (он перестал быть оригинальным уже через день после того, как сняли первые подобные планы!), камеру на конек главной героини. Создатели этого кино переросли подобные вещи. Они сняли свой фильм внешне очень просто, но при этом очень эмоционально и красиво. Эта красота – не ради камеры, не ради живописной «картинки», но ради того, чтобы передать напряжение и пластику сюжета, чтобы показать героев, их психологические портреты. И эти портреты, несомненно, удались. В фильме очень достойные актерские работы. Марго Робби, австралийская актриса, которая играет главную героиню, Тоню Хардинг, – это абсолютная звезда. Уверен, она будет развиваться и расти. Эллисон Дженни, которая сыграла мать Тони, совершенно заслуженно получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана.
В фильме множество оттенков – в образах героев, в сценарии, в самой атмосфере картины. Эти оттенки тонкие, малозаметные, но очень точные и важные. Например, в фильме звучит музыка 80–90-х годов. Сколько раз такое бывало: давайте уберем текст – пусть музыка поиграет. Или наоборот: уберите музыку – пусть зритель слушает персонажей. Здесь все очень к месту, гармонично и точно. Саундтрек становится еще одним, самостоятельным «персонажем», не вытесняя при этом видеоряд, не конкурируя и не конфликтуя с ним.
Отличная работа с цветом и вообще с «картинкой». Она очень современная. Это не «пережаренное» в поисках какого-то особого стиля изображение – с наглухо зафильтрованным небом, с затемненными углами и пр. Здесь идет работа с изображением, которое воспринимается как реальное. Это приближение к реальности в художественном кино – то, за что я люблю фильмы Тарковского: с одной стороны, это очень красивое кино, настоящий арт, а с другой – почти документальный по своей достоверности рассказ. И сила это тонкой, неброской картинки – в нюансах, следить за которыми – одно удовольствие.
К слову, об операторском мастерстве. Будучи членом российской киноакадемии, я изнутри вижу, как все чаще критериями качества «картинки» становится сегодня присутствие в кадре кринолина и позолоченных лестниц с анфиладами колонн. То же самое – костюмы. На этот счет имею сказать следующее: господа, клетчатую рубашку и кеды подобрать труднее. Гораздо. И создать с помощью этих простых вещей глубокий образ – сложнее. Взять за образец монументальные исторические полотна русских художников и воспроизвести эту музейную позолоту и бархат проще. Тут главное – найти деньги на все это «богатство».
Вот поэтому я назвал «Тоню» внешне простым фильмом. До этой простоты надо еще дорасти. За ней скрывается прекрасная и очень сложная работа создателей картины. И все они, повторюсь, большие молодцы. Главный герой этой картины – человек. Не спортсмен даже, а – человек. Ощутите разницу.
Майкл Джексон в поисках рая. HBO – в поисках прибыли
Если к художественному кино у меня отношение уже давно опасливо-осторожное, то документальные фильмы я нет-нет да посмотрю. Последнее, что попалось на глаза, – «Покидая Неверленд», фильм телеканала HBO, посвященный Майклу Джексону. Иногда бывает так, что, посмотрев фильм, ты, чтобы сформулировать свое к нему отношение, ходишь день, другой, думаешь, ищешь нужные выражения, ловишь подходящие слова в том потоке сознания, который течет через тебя. А бывает – уже через пять минут готов четко ответить, что ты думаешь по этому поводу. Вот, с «Неверлендом» у меня получилось как раз так: посмотрел – и на следующий день у меня было что сказать.
С ходу оговорюсь: я против педофилии и всякого сексуального насилия, хотя фильм, с моей точки зрения, вовсе не про педофилию. И даже не про Майкла Джексона. Фильм – про то, как человек способен обманывать самого себя и весь мир, если только это ему выгодно. Вот, на экране родители «пострадавших» (пока факт насилия в отношении бывших гостей «Неверленда» не будет доказан в суде, я принципиально буду использовать кавычки) и рассказывают, как они гостили в поместье Джексона: мол, мы жили рядом с апартаментами певца, и Майкл попросил отпустить нашего сына переночевать с ним. Потом нас переселили в другие комнаты, потом в особняк по соседству, а Майкл приглашал к себе нашего бедного сына еще и еще. И горькая слеза скатывается по щеке пожилой мамаши.
У меня один вопрос: почему не судят этих людей? Вот этих самых, с мокрыми лицами делящихся сегодня своими переживаниями, запоздавшими лет на двадцать? Суд над родителями, публичный и максимально открытый, по обвинению в сутенерстве – вот что должно происходить сегодня в пуританской Америке! Не сами ли они всеми силами пытались приблизиться к поп-королю единственным доступным им способом: предлагая ему своих детей, фактически добиваясь, чтобы те ночевали в его доме? И ведь совершенно – совершенно! – ясно, зачем это было нужно. Объяснение одно: деньги. Те месяцы и годы, которые их дети жили в доме Майкла Джексона, вы, любезные папы и мамы «жертв», могли ни о чем не думать, принимая дорогие подарки, катаясь по стране, живя в шикарных отелях. И я ни на секунду не поверю, что эти люди не думали, не подозревали, не задавались вопросом – почему взрослый мужчина окружает себя мальчиками.
И вот теперь – откровения «жертв». Хорошо, послушал. А где другая точка зрения? Почему нет никакого альтернативного мнения? Почему нет рассказов каких-нибудь горничных, охранников, водителей, которые – это же совершенно очевидно – не могли ничего не видеть и не слышать, если только что-то подобное имело место? Нам навязывают одну точку зрения: Майкл Джексон – педофил. Доказательств, кроме рассказов серьезно поправивших свое материальное положение «потерпевших», – нет. Ну, тогда я предлагаю свой сценарий альтернативного телепроекта: Майкл Джексон действительно болен, психически нездоров, но его нездоровье – это «капкан», в который он попал в детстве. Отец-деспот, отсутствие любви на фоне нездоровой одержимости папаши успехом за счет детей – и мальчик, лишенный обычных детских радостей, вырастая, не становится взрослее, а наоборот, стремится вернуться туда, в не прожитое прошлое, и с помощью денег, гормональных препаратов всеми силами пытается пережить простую радость игры и общения с людьми, которые ничего не понимают во взрослых делах и которым не важно, сколько у тебя денег. Но если у тебя многомиллионное состояние, то единственными людьми, которых это не волнует, остаются лишь дети. И вот – «Неверленд»: паровозики, кубики, игральные автоматы – любые, какие душе угодно! – и тому подобное. Настоящий детский рай. Ожившие мечты, сон, воплотившийся наяву. И «застрявший» где-то между детством и взрослостью человек – идол, кумир, фантастически популярный и фантастически несчастный…
Но мы имеем, что имеем: «наброс на вентилятор» в исполнении HBO состоялся – и вот уже из фильмов вырезают фрагменты с интервью Майкла Джексона, уже переозвучили персонажа «Симпсонов», который раньше говорил его голосом, многие лейблы запретили онлайн-продажи дисков и синглов певца. История развивается по сценарию, который не так давно уже обкатали в Голливуде, – имею в виду Вайнштейна и Спейси. Звучат громкие обвинения – и Америка, так гордящаяся своей системой правосудия, почему-то мгновенно забывает про презумпцию невиновности и безо всяких доказательств (напомните, вдруг пропустил: предоставил ли в фильме хоть кто-нибудь из обвинителей действительные, фактические доказательства?) бросается клеймить позором «провинившихся» (то же самое: пока в суде – и только в суде – не доказано обратное – Вайнштейн и Спейси формально невиновны), фактически стирая их и их жизни из окружающей нас реальности.
Но, господа, вы же сами назвали лучшим фильмом 2016 года картину «В центре внимания», присудив «Оскар» истории о том, как журналисты Boston Globe раскрутили в 2000-х дело о массовой педофилии в среде католического духовенства! Почему там все было на своем месте: и тщательный сбор информации, и аккуратная работа со свидетелями, и скрупулезное изучение их показаний, и проверки-перепроверки версий и догадок, и отказ от перспективы довести какой-либо эпизод до суда, если только доказательств достать не удавалось, – и почему сегодня все это оказалось не нужно? Не потому ли, что в этом, последнем случае целью был не поиск правды, а нечто другое?
Я не верю в то, что имя Майкла Джексона, великого музыканта и артиста, так запросто можно выбросить из истории. Но в то, что желающих поплясать на его костях великое множество, верю с легкостью. Потому что в той системе координат, в которой существует современное западное общество, нет большой разницы: рекламируешь ли ты великого человека или поливаешь его грязью. И запрет на песни Майкла Джексона может принести не меньшую прибыль, чем новые издания его альбомов. А где прибыль, там нет места для «розовых соплей» – так, кажется, сегодня принято называть требования морали? Тотальное, безоглядное «мочилово» доказало свою эффективность. И побочные явления вроде неудавшейся попытки самоубийства дочери певца лишь добавляют градус в маркетинговое безумие. Это, кстати, касается не только Америки, у нас происходит то же самое, оглянитесь вокруг.
Ну а если продолжить играть в предположения, то я готов выдвинуть версию, по которой HBO планомерно принялся уничтожать имя Майкла Джексона. Педофилия тут ни при чем. Как известно, покойному принадлежала часть авторских прав на песни «Битлз». Это очень серьезный актив. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы связать одно с другим и выстроить двухходовку: имя правообладателя смешивается с грязью, цена актива падает, актив переходит в руки новых хозяев. Мне одному кажется, что этими новыми хозяевами совершенно случайно могут оказаться хваткие дяди и тети с телеканала HBO?
Что вызывает особенное омерзение: многие каналы купили фильм – прекрасно понимая, что они купили ушат с дерьмом. И что вроде бы не очень пристало им, благородным дамам и господам, кормить этим дерьмом свою аудиторию. Но вот проблема: если не накормят они, накормят конкуренты, и они останутся ни с чем! Какой ужас, что же делать?! И вот, находится респектабельный компромисс: в эфир фильм не пустим, выложим на сайте. Мол, кому надо, сами зайдут и посмотрят. А мы ни при чем, мы против всех этих пакостей. С тем же успехом можно было давать фильм в эфир, снабдив титрами: «Смотреть одним глазом, в особенно постыдные моменты рекомендуется отвернуться от экрана. На правах рекламы».
Мерзость. Торгуете дерьмом – не наряжайтесь в смокинг, ведите себя соответственно. А еще – беда в том, что, какими бы нечистотами ни потчевали телеканалы своего зрителя, «пипл» послушно и даже с аппетитом «хавает» все это. Тупик и отсутствие объяснений. Хотя – когда-то очень давно еще одному суперпопулярному человеку, повелевавшему целым народом, был дан совет: «не сотвори себе кумира», будут проблемы. Однако «пипл» еще тогда оставил этот дельный совет без внимания. Жаль, что мы оказались в той же ловушке. И жаль, что Майкл Джексон, последний кумир современности, так и не обрел здесь своего рая.
Тыща лайков на Youtube. А чего в кинематографе добился ты?
В последнее время все реже хочется рассуждать о сегодняшнем кино. К сожалению, устал. Сегодня российские фильмы – это либо военные, либо спортивные драмы, выполняющие вполне конкретные задачи, как правило, идеологические. Есть еще попытка создать отдельный жанр – пойти по стопам «Иронии судьбы» и создать «народное новогоднее кино», но тут говорить что-то хочется еще меньше. И как зрителю, и как режиссеру мне все очень понятно во всех этих случаях.
Но недавно случился скандал с фильмом «Праздник». Срезонировало широко. Это история про то, как жилось секретному ученому в блокадном Ленинграде. Меня спросили, что я думаю по поводу того главного, что вызвало волну обсуждения: можно ли снимать комедию про блокаду. Мое мнение: шутить с высоты нашего сытого времени над теми событиями безнравственно.
Я посмотрел фильм в интернете. Если бы я просто посмотрел этот фильм, то вряд ли стал публично его обсуждать. Но после просмотра я краем глаза зацепился за передачу на «Дожде» с участием Красовского, режиссера картины. Которого журналисты, участвовавшие в программе, с порога окрестили «Навальным от кинематографа». Вот так, запросто. Там были уважаемые журналисты, в том числе «профильные», пишущие о кино и культуре. Я послушал, что они говорят, и решил все-таки высказаться.
Меня поразил один факт: на этом обсуждении на «Дожде» никто из участников, ни один журналист не обсуждал сам фильм. Создалось впечатление, что такие обычные вопросы, которые возникают при знакомстве с новой картиной, вроде «О чем этот фильм?», «Как это снято?», «Как сыграли актеры?», не интересовали ровным счетом ни-ко-го. Разговор шел почти исключительно о том, как, кто и почему пытался помешать режиссеру снять его фильм. Сам г-н Красовский с готовностью отвечал на эти вопросы и живописал сцены давления со стороны «силовых структур». Он скорбно сообщил сочувствующей журналистской аудитории, что фильм не получил прокатное удостоверение. Но немного погодя, видимо, расслабившись, проговорился, дав понять – почему: потому что создатели не дооформили заявку. Вот это поворот.
Но журналисты пропускают это признание мимо ушей и готовы украсить голову «опального» режиссера мученическим венцом. В ответ автор фильма скромно соглашается – и с венцом, и с «Навальным от кинематографа». Но настоящий Навальный, как к нему ни относись, – он-то по-настоящему борется, по-настоящему сидит в СИЗО, по-настоящему выходит оттуда на свободу и т. д. Режиссер Красовский борется с властью? Ну, допустим, хотя по фильму так и не скажешь. Так в нашей истории с властью кто только ни боролся – и по-настоящему, и посредством фиг в карманах. Почему бы не назвать г-на Красовского, к примеру, «Махно от кинематографа»? Батька вон тоже воевал против всех – от души, по велению сердца. Однако венец уже довольно удобно лег на чело, и тысячи комментариев и «лайков» под роликом в Youtube гонят: мы в вас верим, только вперед, только в борьбе с «гонителями» родится новый российский кинематограф! «Наше дело правое», в общем.
Такое впечатление, что авторы восторженных откликов не знакомы с такими понятиями, как операторское искусство, актерское мастерство, хороший сценарий, грамотная режиссура. Восторг вызывает уже просто факт, что человек снял комедию про блокаду. Человек «смонтировал» два понятия, которые до сих пор никто не рисковал сочетать. Причем смонтировал – на словах. Ведь комедии там тоже нет! В чем заслуга? Где героизм? Ладно, оставим автора в покое. Но что же сам фильм? Почему вы не говорите о самом фильме? Подозреваю, потому, что даже далекий от серьезного кино пользователь чувствует зыбкость этой темы. И он прав: перед нами невнятная история, ходульные персонажи, кричащие сами о себе, пытающиеся нащупать, понять – уже в кадре, перед камерой! – своих героев.
Поначалу я испытал замешательство: как же так? Неужели люди не чувствуют, что то, что им показали, – это просто слабая попытка снять кино? Не удавшаяся, скомканная проба? Так и хотелось сказать: дорогие восторженные комментаторы, пожалуйста, объясните мне, что вас так вдохновило в этой картине? Какие художественные достоинства выделяют ее в лучшую сторону из множества других, менее заметных? Чем вы восхищаетесь? Историей, которая, если отбросить антураж, ничем не отличается от презираемых вами же коммерческих поделок? Актерской игрой, больше похожей на коробку, куда дети второпях ссыпали пазлы из разных наборов, – и теперь из этого винегрета, как ни старайся, не собрать единой картинки? Ну где это видано, чтобы в одной сцене на экране актеры существовали по отдельности, и один играл бы фарс, другой – трагедию, а третья – драму? Как это вообще возможно? Вы восхищаетесь стилем – который весь вылился в имитацию VHS-съемки любительской постановки какой-нибудь заводской театральной студии. Возможно, фильм хорош уже потому, что снят за небольшие деньги, без помощи Фонда кино? Это – достижение? Почему вы не задумываетесь над тем – что вообще сняли авторы? О чем этот фильм? И главное: зачем это сделано?
Мое замешательство скоро прошло. Я просто вспомнил, какие фильмы у нас сегодня считаются успешными, и не то чтобы успокоился, но просто нашел объяснение происходящему. Российское кино потеряло себя, и вслед за ним потерял себя и отечественный кинозритель. Нынешний зритель, питающийся в кинотеатрах коммерческой «жвачкой» и по возвращении домой «полирующий» все это телевизионными ток-шоу, просто потерял способность воспринимать что-либо, что хотя бы немного превосходит этот уровень (с этой точки зрения Голливуд выглядит уже почти высоким искусством). И вот полулюбительский опыт вызывает восторг у публики уже просто потому, что фильм снят якобы вопреки желанию властей и – ну как же: комедия про блокаду! Это же так ново и необычно!
Поделился я своим впечатлением с одним очень уважаемым в российском кино человеком, создавшим в свое время выдающиеся, даже великие картины. Он тоже посмотрел «Праздник». И вот что приблизительно он мне сказал: «Не надо запрещать этот фильм. Надо запретить этому режиссеру снимать кино».
Не люблю цензуру и запреты. Но сказано это было с такой болью – человеком, всю свою жизнь положившим на создание глубоких, честных, настоящих кинокартин. И я задумался. Задумался вот над чем: врача, который не умеет лечить, который совершает врачебную ошибку, могут лишить права практиковать – и правильно. Судью, который попадется на неправосудии, выгонят или посадят – и поделом. Но все это возможно лишь тогда, когда есть четкие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда на каждого врача-халтурщика найдутся специалисты-профессионалы, которые дадут точную оценку его действиям. Когда продажного судью обличат более принципиальные и грамотные коллеги. Жаль, но почему-то в российском кино эта схема не работает. Режиссера-непрофессионала, состряпавшего нечто невразумительное, могут, конечно, и заклевать, но могут и превознести до небес: «Тысячи лайков на Youtube, это вам не шутки!» А ведь есть еще и режиссеры-профессионалы, которые прекрасно знают свое ремесло, но, не отвлекаясь на мелочи вроде творческого поиска или художественного эксперимента, сконцентрировались на дензнаках – и преуспевают в этом.
Почему мы, люди творчества, оказались фактически вне всяких профессиональных рамок и этических норм? Почему сегодня некому сказать, что – хорошо, а что – плохо? Как так получилось, что некому больше назвать дерьмо – дерьмом, некому продолжить традицию незабвенной Фаины Георгиевны Раневской, непревзойденного мастера точных и безжалостных оценок? Актерам, которые сыграли в «Празднике», – а это действительно хорошие актеры, ко многим из которых я отношусь с большим интересом как режиссер, – я адресую многократно цитированную фразу этой великой актрисы: «Сняться в плохом фильме – все равно что плюнуть в вечность». Не плюйте в вечность, друзья.
Из знакомства с картиной я вынес один большой плюс: моя система оценок современных российских фильмов расширилась, пополнившись еще одной категорией. Если раньше почти все увиденные мною российские фильмы я относил к разряду фильмов-катастроф – ну прекрасное же название, так точно передающее смысл происходящего в отечественном кинематографе! – то теперь появилась категория фильмов-«праздников». Со слезами на глазах у зрителей и тщательно подсчитанным количеством «лайков» и «комментов» в соцсетях – у создателей.
При всем этом я берусь утверждать, что «Праздник» – очень ценный опыт. Фильм ценен именно тем, что наглядно показывает, как живет сегодняшнее российское кино. Оно сегодня сползло к двум полюсам. У одного из них плещется море полноводного официального кинематографа. На кисельных берегах этого молочного водохранилища для творческих пикников удобно расположились небольшими компаниями работники Фонда кино, «придворные» режиссеры и остальная почтенная публика. У противоположного, на мелководье, сбилась в кучку «альтернативная» творческая интеллигенция, которая считает (или создает вид), что она пребывает в художественном подполье, что вокруг – враги и гонители, желающие одного: ее, интеллигенции, гибели. А между этими полюсами – безбрежная пустота до горизонта.
Пусть редко, но и в этом океане пустоты все же встречаются достойные работы. Один-два хороших фильма в год – таков уровень российского кино сегодня. И я рад уже тому, что они есть, эти картины. У меня для них нет подходящей категории. Я не хочу смешивать их с остальными. Они другие. Пусть такими и остаются.
О пользе запретов, или Нравственность без границ
Когда в 2017 году министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», в среде социально активных граждан снова пошли разговоры о том, что хорошо бы создать «министерство совести» или «комитет по нравственности». Получается, мы с вами для подобных «нравственных активистов» – как малые дети, которым нужен родительский присмотр, чтобы мы не наступили в кошачьи какашки во дворе или не потянули в рот грязную палку. Но мы-то вроде бы взрослые люди, у многих из нас уже у самих есть дети, а то и внуки. Почему нам отказали в возможности самим составить свое представление о фильме?
Создатели фильма, насколько я понял, так и не посмотрев его, издеваются над Сталиным и его окружением. Ладно. Мы понимаем, что Сталин – упырь и убийца. Те, кто был с ним рядом, – тоже далеко не ангелы. На что мы обижаемся? Что, фильм пошлый? Эка невидаль для российского кинематографа. Уважаемые общественники при Минкульте, видимо, пропустили тогда премьеру очередного отечественного шедевра «Зомбоящик», в котором Сталин предстал перед зрителем в образе Рэмбо: усатый «качок» с обнаженным торсом и пулеметом наперевес курил свою фирменную трубку с «Герцеговиной флор». Те, кто увидели в «Смерти Сталина» какую-то идеологическую диверсию против России и пугали граждан угрозой для нашей нравственности и даже безопасности (прозвучало и такое), видимо, просто мало знакомы с историей кино. Процент пошлости примерно одинаков во всем мировом кинематографе.
Кстати, тогда все позабыли одну вещь: изначально прокатное удостоверение «Смерти Сталина» Минкульт ведь выдал. То есть подтвердил, что фильм смотреть можно. О компетентности чиновников, которые выносили это решение, судить не берусь. Меня интересует другое: вот, когда более нравственно чуткие члены Общественного совета при Минкульте забили тревогу и фильм запретили к показу, – кто-нибудь подумал про возмещение убытков компании-прокатчика? Кинопрокат – одна из разновидностей бизнеса, который, как заявляют с самых высоких трибун, государство всячески поддерживает и поощряет. И что? Где ответственность «разрешателей»? Почему чиновники Минкульта не отвечают за все свои «переобувания в полете»? Врачи за свои профессиональные ошибки отвечают по полной программе – вплоть до реальных сроков; ошибки чиновников министерства культуры влекут за собой вполне ощутимые последствия в серьезных масштабах – пусть отвечают за это!
Отечественный Минкульт в очередной раз выступил в роли рекламного агентства. После истории с «Матильдой» это стало неизбежно. Но если раньше таким экзотическим способом подогревали интерес к отечественной картине, то в случае со «Смертью Сталина» российские чиновники решили поработать на прибыль зарубежных прокатчиков. С подачи уважаемых экспертов и членов Общественного совета при министерстве культуры на всех афишах этого фильма за границей аршинными буквами значилось: «Фильм запрещен в России!» То, что создатели фильма на этом прилично заработали, – ладно; главное – наш запрет мгновенно превратил трешевую комедию в серьезное кино, и иностранный зритель пошел в кинотеатры для того, чтобы вдумчиво искать в картине причины: за что запретили-то, что не понравилось русским? И вот ответы, которые он для себя нашел, – они-то как раз и могут нанести настоящий ущерб престижу страны.
Если чиновники от культуры действительно считают, что мы – малые дети по разуму, и они больше понимают и лучше разбираются в нравственных вопросах, все равно, незачем изобретать велосипед: в той же Америке с помощью прокатного рейтинга прекрасно раскладывают по полочкам любые фильмы, от эстетских шедевров, идущих огромным числом копий во всех кинотеатрах страны, до порнографии, спрятанной от посторонних глаз в специальных кинозалах. Но что-то мне подсказывает, что такое заимствование покажется нашим активистам-общественникам полумерой, да еще и слишком непатриотичной. Уж слишком серьезны намерения «запретителей». Тем более что предводитель этого «нравственного дворянства», глава Общественного совета при Минкульте, Юрий Поляков, в последнее время пребывает в каком-то особенном возбуждении – стоит только вспомнить его давешний демарш в отношении театра Вахтангова и его худрука Римаса Туминаса: тут и Евросоюз, и обвинения в непатриотизме – в общем, «Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году».
В связи с этим я все больше склоняюсь к тому, чтобы поддержать планы самопровозглашенных радетелей о нашей нравственности: Бог с вами, учредите уже наконец в России Министерство совести! Соберитесь туда, все самые активные нраво-защитники, пусть вам дадут прямой эфир на телевидении – и спасайте нас, неразумных. Расскажите нам, как думать, оградите нас от коварных происков врагов, научите Родину любить. Пусть ваша нравственность распространится на сопредельные государства, на весь мир! Главное – пусть только вы будете на виду. Все лучше, чем если бы вы где-то в укромном месте втихую вынашивали свои планы спасения Отечества и выскакивали из полутьмы, бросаясь на простых граждан со своими идеями. Развернитесь во всю мощь. А мы уж как-нибудь придумаем, что нам со всем этим делать.
Вариант, конечно, рискованный, зато наглядный. Хотя, может, и делать-то ничего не придется. Сдается мне, что, если этих господ не стеснять, они в конце концов сами себя запретят: слишком силен инстинкт. И вот тогда наступит светлое будущее.
«Зеленая книга». Популярное кинопособие без автора
Первая мысль, которая возникла у меня во время просмотра этого фильма, – точнее, даже не мысль, а слово, выскочившее из памяти: политкорректность. Или толерантность, как хотите. Принципиальной разницы не вижу. Последние лет двадцать уже, наверное, Америка (прежде всего, конечно, Америка) живет под колпаком этой самой политкорректности. Которая влияет уже абсолютно на все: на бизнес-сообщество, критиков, прессу. Стало хорошим тоном на каждом шагу демонстрировать комплекс вины по поводу истории собственного государства. И всячески подчеркивать какое-то особое отношение к черному населению страны. При этом – кто бы спорил! – в истории Соединенных Штатов достаточно поводов, чтобы граждане этой страны испытывали если не вину, то хотя бы неудобство. А между тем фактическое отношение к афроамериканцам по-прежнему далеко не столь нарочито покаянное, как нам пытаются показать или доказать.
В общем, в этой системе координат «Зеленая книга» для меня – это абсолютно «зеленый» фильм. Зеленый в том смысле, что он показывает героев, их историю исключительно в том виде, в каком это сегодня нужно; так, как разрешено. Зеленый – потому что в нем нет ничего запрещенного, по ходу повествования у меня в голове как у зрителя не загорелась ни одна красная лампочка, ни в одном месте я не увидел ничего неожиданного или противоречивого. Персонаж Махершалы Али – это просто набор «триггеров», которые запускают у аудитории правильные эмоции в нужный момент. Он и чернокожий, он и гомосексуалист – кругом несчастен. Только что не инвалид.
Фильм оказался лишен какого-либо авторского переживания, авторской эмоции. По нему невозможно поставить автору «диагноз». Картина «читается» как плакат. Ну, или, не уничижая стараний съемочной группы, – он смотрится как развернутое кинопособие на тему «Пережитки расовой сегрегации в Соединенных Штатах Америки в послевоенный период». Больше – ничего.
Еще Калатозов говорил, что Америка будет только тиражировать; имелись в виду успешные с коммерческой точки зрения приемы, решения, идеи, собственные или чужие. Так вот, «Зеленая книга» – это растиражированная история прекрасного французского фильма «1+1». Но вспомните французский фильм: там нет этих рамок политкорректности, там есть живая, неровная, эмоциональная история. Потому она и вызывает эмоции у зрителя.
Здесь же все аккуратно разложено по правильным полочкам, последовательность соблюдена идеально, все сбалансировано и взвешено. Рядом, на ту же полочку можно поставить такой же сбалансированный «Оскар». Но вот что странно: эффекта нет. Эмоций никаких. Первые и последние свои эмоции вы испытываете в течение первых десяти минут фильма. И других можно не ждать, их не будет. Нет, они, конечно, могут возникнуть, если вы ничего не знали о притеснениях чернокожих, не слышали о проблеме гомосексуализма и т. д. – тогда, возможно, вас ждут какие-то откровения. В любом другом случае – вряд ли.
Что еще плохо: если сегодня молодой кинематографист посмотрит «Зеленую книгу», он скажет: «Да понятно же все!» – и примется делать то же самое. А я считаю, что «все понятно» – это то, что убивает кинематограф. Это то, что разрушает художественную реальность в зародыше, что лишает произведение нерва. Потому, наверное, и не находим мы в сегодняшнем кино того, что привлекает, например, театрального зрителя, – яркого высказывания. Или эти находки случаются слишком редко. И это проблема не только американская, мы болеем тем же самым: свидетельство тому – волны спортивных драм и военно-патриотических картин о героическом прошлом, которые накатывают одна за другой на отечественного зрителя.
Я – за эмоции. За «неправильную» последовательность событий, слов, взглядов, пауз, которые только и могут создать на экране атмосферу чего-то живого – пусть даже смотреть на это будет неприятно. С «Зеленой книгой» нет разницы – что смотреть два с лишним часа картину, что пять минут посмотреть на ладную, аккуратную золоченую статуэтку «Оскара». Вы получите примерно одни и те же эмоции. Гарантированно положительные. Но разве кино – об этом?
Основы безопасности жизни
Дорога. Отвечая Льву Толстому
Процесс перемещения человека из пункта А в пункт Б, видимо, как-то по-особому воздействует на людей. Недаром же он породил такое огромное количество литературных произведений – путевых заметок и дневников, повестей и романов. В кино родился целый жанр – роуд-муви. Смотреть фильмы про дорогу я иногда могу, но вообще процесс перемещения в пространстве для меня никогда не был источником вдохновения. То же самое – в кино и театре: есть режиссеры, которые любят сам процесс – репетиции, съемки; я люблю результат. А вот этот путь, от замысла до воплощения, у меня часто бывает мучительным.
Как-то Льву Николаевичу Толстому сказали, что между Москвой и Санкт-Петербургом будет ходить новый скоростной поезд и время в пути сократится на три часа. На что Толстой сказал: «А что мы будем делать с этим временем?»
Время, потраченное на дорогу, – оно какое-то особенное. Его нужно уметь тратить. Вот сижу я в вагоне экспресса Москва – Орел и учусь этой премудрости. Несколько минут до отправления. Сосед, молодой человек, снимает куртку и вешает ее на крючок. Поезд трогается, вагон начинает мерно раскачиваться – куртка застежкой-молнией начинает клацать по пластику. Как метроном. Пытаюсь читать книжку – невозможно: цок-цок, цок-цок. Проходит пять минут, десять – парень просто этого не замечает. Ему хорошо и комфортно, а думать про других он не привык.
Рядом со мной, на соседнем кресле сидит мужчина. Он примерно моей комплекции – метр девяносто, килограммов сто веса, и наше вынужденное соседство заставляет меня задуматься о конструктивных особенностях современного российского железнодорожного пассажирского транспорта. Выводы мои следующие: «Ласточка» – это хороший, удобный и красивый поезд, есть только одно «но»: нигде и никогда я не был так близко с мужчиной, как в вагоне этого поезда. Мы с соседом соприкасаемся всем телом, от плеча до пятки. Кому-то это покажется интересным. Мне – нет.
От этих размышлений меня отвлекает звонок мобильного телефона, раздающийся где-то рядом. В ответ звучит трель из дальнего конца вагона – еще кому-то звонят.
– Алло! Да, я, – мужчина сидит ко мне спиной, и я могу видеть только солидный, аккуратно стриженный затылок. – Нет, не надо. Не надо! Я же говорил Антонине Петровне, когда уезжал, что договоры должен посмотреть Шумаков!
Так нас в вагоне становится больше: в него незваными гостями проникают строгий господин Шумаков, на которого так надеется Стриженый Затылок, забывчивая Антонина Петровна и еще целая куча народу – обо всех них становится известно из интенсивных телефонных переговоров моих соседей по вагону. Рингтоны сливаются в один нестройный и весьма эклектичный хор. Где еще вы услышите дуэт Стаса Михайлова и Рианны?
– Сколько? Дорого! Двадцать – максимум! – молодая женщина, сидящая наискосок от меня, сдержанно поправляет рукой волосы, но я вижу, что она нервничает, и начинаю гадать: о чем это она? Вот что может интересовать молодую, симпатичную, хорошо одетую женщину, путешествующую по маршруту Москва – Орел? Двадцать – чего? Тысяч рублей? Миллионов долларов?
Хруст разрываемой упаковки отвлекает меня от наблюдений. Напротив сидит семья: папа, мама и мальчик лет двенадцати. Мы едем уже почти полтора часа, и все это время мальчишка жует. Первые пятнадцать минут он разминался печеньем «Юбилейное» и кока-колой, а потом принялся за дело всерьез: выпит литр сока, поглощена целая пачка сушек. Теперь вот в ход пошли чипсы. Паузы заполняются конфетами. Лопнет, ей-богу, лопнет. На всякий случай отодвигаюсь подальше.
Откуда-то сзади доносится еще голос. И снова – договоры, цены, поставщики. Наивное российское предпринимательство XXI века, как оно есть. Куртку-«метроном», слава богу, задел и «выключил» кто-то из пассажиров, и можно снова взяться за книгу. Тем более что семья напротив в полном составе куда-то удалилась. Неужели в буфет, мелькает мысль; нет, не может быть. Ладно. Достаю книжку.
В кресло напротив опускается фигура. Поднимаю глаза. Красное лицо, блуждающий взгляд. Сквозь безуспешные усилия сконцентрироваться на чем-то серьезном проступает какая-то зыбкая, колышущаяся беспричинная радость. Взгляд этот плавает вокруг моего лица по замысловатой траектории, наконец фокусируется. На это уходит минуты две-три.
– Я з… з… знаю тебя, – сипит красное лицо. – Только ф… ф… фамилию забыл.
Решаюсь признаться.
– Моя фамилия – Шварценеггер.
– О! Точно! – мой собеседник облегченно отпивает из бутылки. Проходит еще минута-другая. Взгляд краснолицего медленно уводит его в параллельную реальность… Как вдруг его пронизывает отрезвляющая догадка. Он придвигается ближе, близоруко всматриваясь в мое лицо.
– Погоди, ты еврей, что ли? – краснолицый слегка растерян.
Ну, признаваться – так признаваться во всем.
– Я грек.
Мне хватает ума не примерять на себя легенду знаменитого прототипа и не представляться австрийцем, а тем более немцем. Тогда, уверен, наш разговор под девизом «Можем повторить!» продлился бы всю дорогу: мне бы пришлось долго каяться за грехи своих австрийских дедушек в годы Второй мировой.
Минуты две он обволакивает своим мутным взглядом мое лицо.
– Грек?
Я внутренне хвалю себя за то, что так удачно придумал себе национальность: моему визави явно сложно поддерживать беседу, с контекстом российско-греческих отношений он знаком не слишком хорошо.
– Ну ладно, – тяжело поднявшись, он двигается дальше по вагону.
Прекрасно. Книга.
– …А лимонад? Мы забыли купить лимонад!
Не может быть! Поверить не могу: семья напротив действительно посещала буфет. Они возвращаются нагруженные новой партией провианта. Мальчишка без промедления принимается за сэндвичи. Я инстинктивно тянусь за полотенцем: малец лопнет, теперь это неизбежно.
«Уважаемые пассажиры! Мы рады приветствовать вас…» – я вздрагиваю, как мне кажется, вместе со всем вагоном. Это динамики, мирно молчавшие до сих пор, взрываются оглушительным объявлением. Аварийно-громкий женский голос – приятный, но неимоверно громкий – заглушает все вокруг. В моих наушниках немеет даже Де Ниро, фильм с которым, оставив надежду на чтение, я пытаюсь посмотреть. Прошу проводника приостановить это звуковое насилие – он с первого раза не может расслышать, чего я от него хочу.
– Пассажир в четвертом вагоне просит выключить кондиционер!.. Прием! – вопит он натужным голосом кому-то по рации. Откладываю планшет, снимаю наушники. Де Ниро придется подождать: теперь надо как-то заставить наших милых проводников снова включить кондиционер.
В противоположном конце вагона появляются девушки-проводницы. Я уже знаю: они просят пассажиров заполнить анкеты, оценить уровень сервиса и т. п. Их немного жаль, потому что никто не горит желанием заполнять опросные листы. Ан нет, я ошибся: мирно дремавший в дальнем конце мой старый краснолицый знакомый, встрепенувшись, поднимается им навстречу. Нашел-таки себе собеседников. Даже собеседниц.
– Я го… готов ответить на все ваши вопрос… сы! – в сиплом голосе звучат нотки того искреннего и неподдельного энтузиазма, который рождается только после принятых внутрь 0,5. Девушки, немного смущаясь от этого напора, принимаются задавать ему дежурные вопросы. Я всплываю из полузабытья в тот момент, когда одна из них бодро интересуется:
– Скажите, как вы считаете: нужен ли в вагоне BlueTooth?
– Блютус?.. – краснолицый медленно поднимает к глазам бутылку. – Мой блютус закончился. …Но вообще, – принимает он вид знатока из одноименной популярной телеигры, – блютус, конечно, хотелось бы.
Господи! Блютус ему нужен! Ну, хватит. Еще два часа ехать, надо попробовать отдохнуть.
– Минуточку! Пропустите, пожалуйста! Одну минутку!..
Из-за спины по проходу почти бежит парень-проводник. Я уже знаю, куда смотреть: в сторону туалета. Неужели снова?.. Проводник подбегает к двери, начинает легонько, но настойчиво стучать:
– Откройте! Откройте, пожалуйста! Что произошло? Как вы себя чувствуете? Откройте!
Неопытные спутники – пассажиры из числа тех, кто едет на «Ласточке» впервые, вскакивают со своих мест, тревожно тянутся, пытаясь понять, что происходит. Я не дергаюсь, зная наперед, что будет. Все довольно просто: красная кнопка. В новых вагонах туалеты снабжены двумя очень важными и нужными кнопками – слива воды в унитазе и вызова проводника. Расположены они рядом, и пассажиры часто эти кнопки путают, несмотря на то, что кнопки разного цвета: туалетная – синяя, а кнопка SOS – красная. Почему люди нажимают на красную кнопку, не знаю – наверное, тут могут что-то сказать психологи или социологи; возможно, красная кнопка как последнее средство радикального решения любой проблемы – это у нас записано на подкорке. Но факт остается фактом: очередной пассажир (чаще всего такое происходит с женщинами преклонных лет) заходит в туалет, нажимает красную кнопку, чем немедленно приводит в действие механизм полномасштабной спасательной операции.
Поднимается паника с обеих сторон: снаружи проводники пытаются вскрыть двери туалета, где, судя по вызову, пассажирке стало плохо; изнутри бьется в истерике сама пассажирка, потому что к ней в туалетную кабинку ломятся, и понять – почему, она не может. Крик, ор, полнейший тарарам – а между тем тайна слива унитаза еще не разгадана! Минут через несколько тревога стихает, и стук колес снова убаюкивает уставших от потрясений пассажиров.
«Уважаемые пассажиры! Мы рады предложить вам…» Сувениры! Как я мог забыть про сувениры! Динамики в вагоне разражаются новым объявлением. Видимо, мое пожелание сделать потише каким-то фантастическим образом все же достигло уха того человека, который крутит регулятор громкости: объявления и вправду начинают звучать тише. Но, что интересно, через несколько слов громкость возрастает, возвращается к привычному уровню пожарной сирены – и тут, конечно, просыпаются все, даже самые уставшие путники.
Не успела стихнуть эта рекламная тревога – в наш живущий полной жизнью вагон заходит новый гость – современный эржэдэшный коробейник, продавец сувениров. Молодой рыжеватый парень с безумноватыми глазами принимается повторять тот же самый текст, что только что звучал из изуверских динамиков. Однако, надо отдать ему должное, он изо всех сил пытается оживить казенное объявление.
– Уважаемые наши пассажиры! Покупайте наши сувениры! Наши сувениры, пассажиры, Служат украшением квартиры!На лице парня сияет улыбка. Она настолько искренняя, что становится немного не по себе. Такое ощущение, что эта улыбка отражается в блестящих магнитиках с логотипом РЖД, в фирменных расческах и зубочистках. Молодой человек старается. Не на актерском ли он, случайно, учится, подрабатывая в свободное время на железной дороге? Нет, вряд ли: даже начинающий актер – и тот способен уловить настроение аудитории и понять, что ты ей неинтересен. А тут – нет: парень «жарит» от души, импровизируя на сувенирную тему.
Минут через пятнадцать становится неуютно: сколько, интересно, он собирается нас обрабатывать своим самозабвенным юродством? Не успеваю додумать до конца эту тревожную мысль – как мироздание наносит мне новый удар под дых: в вагоне появляется проводница-буфетчица со своей тележкой. Это почти неизбежно значит одно: малец напротив будет жевать и чавкать всю дорогу, до конца – его или моего. Тележка останавливается, маленький Гаргантюа тычет пальцем туда-сюда, и родители закупают ему еще что-то «пожевать». Видимо, в душе мамы этого обжоры теплятся какие-то сомнения насчет правильности питания драгоценного сыночка: из двух шоколадок, большой и маленькой, она выбирает ту, что поменьше. Все, сегодня я не ужинаю: не могу. Бенефис продавца расчесок заканчивается через полчаса. А еще через десять минут поезд прибывает на вокзал Орла.
Эх, Лев Николаевич, наивный вы человек. «Что мы будем делать с этим временем?» Мы его будем проживать. Куда ж мы денемся.
Сбрасывая скорость, или Я играю на виниле
Винил – большой эгоист. Он очень серьезно относится к себе и требует того же от своих поклонников. Ну, например, у проигрывателей пластинок нет пультов дистанционного управления. Нет перемотки. Тебе надо – вставай, иди к проигрывателю и сам переставляй иглу звукоснимателя. Переставляй аккуратно, не торопись. И мне нравятся эти правила, этот кодекс поведения. Нравится то, что пластинки так упорно и так успешно сопротивляются цифровой эпохе. Мы все сегодня живем как будто на повышенных оборотах: утром быстренько проглатываем новости с ленты телефона, днем так же на бегу отвечаем на электронную почту, вечером одним глазом пробегаемся по комментариям в соцсетях. С винилом так не получится: ты опускаешь иголку звукоснимателя на диск – и ты сознательно притормаживаешь, снижаешь обороты своей жизни. До размеренных 331/3. И пусть часто нам просто лень встать с дивана, чтобы переставить иголку, – это снижение скорости само по себе по нынешним временам уже средство самосохранения.
Сегодня в самом слове «винил» есть что-то особенное, с одной стороны, слегка забытое, с другой – модное. Для меня винил – ни то ни другое. Пластинки никогда не уходили из моей жизни, и занимался я ими не потому, что это модно. Музыкой я начал увлекаться с четырнадцати лет. «Подсадили» меня мой дядя, большой любитель винила, мои друзья, которые слушали музыку. Многие слушали на магнитофонах. У кого-то были проигрыватели, но самые обычные, советские. Хорошая пластинка, а тем более аудиотехника высокого качества были роскошью. Помню, как я однажды долго-долго копил деньги на Dark Side of the Moon – экономил, клянчил у родителей. Наконец, купил – вполне приличную пластинку, югославского «пресса». Конечно, это была не Англия и не Америка, и даже не Германия, но тоже ничего. Всяко лучше, чем Апрелевский завод грампластинок. При зарплате моей мамы в сто рублей пластинка стоила двадцать пять.
Я собираю винил до сих пор. Мне это нравится. Путешествуя, я стараюсь найти поблизости специальные магазины, посмотреть, порыться в стопках пластинок. Иногда что-то покупаю. Это часть моей личной модели расслабления и успокоения. Причем иногда, для того, чтобы избавиться от каких-то назойливых мыслей, мне даже не нужно включать проигрыватель – достаточно просто полистать какое-то время конверты с пластинками. Это моя терапия.
Люди, которые занимаются музыкой, играют на музыкальных инструментах, прекрасно понимают, насколько в процессе погружения в музыку важны тактильные ощущения. Гриф гитары, мундштук тромбона, скрипичный смычок – прикасаясь к ним, музыканты совершают настоящий ритуал. С винилом происходит примерно то же самое.
Начать с размера. Фотография или коллаж на обложке – они же довольно крупные, и эти изображения производят на вас гораздо большее впечатление, чем маленькая картинка на коробке кассеты или CD-диска (как было раньше) или превью альбома где-нибудь в Apple Store (как это происходит сейчас). Это прекрасно понимали на Западе, и потому в золотой век винила над дизайном обложек для пластинок работали лучшие художники и графики, а конверты иногда сами по себе становились произведениями искусства. Хотя, разумеется, как и в любом другом виде искусства, там были и великие авторы, и великие авантюристы. Это вообще отдельная история.
Вот, вы берете пластинку. Вы смотрите на обложку и уже погружаетесь в эстетику альбома. Его оформление – это как восьмая нота в гамме. Цвет «звучит» в вашей голове, помогает глубже понять и саму музыку. Это может быть что-то очень простое и монохромно-лаконичное, а может – нечто буйно-разноцветное. Такова и сама музыка. Вы аккуратно, чтобы не поцарапать, двумя пальцами достаете пластинку из конверта. Смотрите, нет ли пыли. Кладете на виниловый стол. Берете специальную щеточку, смахиваете пылинки. Опускаете иголку звукоснимателя на дорожку. Этот момент контакта двух механических приспособлений, который рождает звук, для меня до сих пор – волшебство. В общем, обращение с винилом в какой-то момент становится больше похоже на общение с ними, благодаря ему вы ощущаете себя почти что музыкантом, который ухаживает за своим инструментом.
Конечно, аналоговый звук мягче и корректнее «цифры», это для меня давно уже не предмет спора. Хотя и в аналоге, за все время его существования, тоже не все однозначно. Например, я никак не могу понять: как диски, записанные в Америке лейблом Blue Note в 1950-х годах, могут до сих пор звучать лучше, чем современный винил?! Взять мою любимую Джули Лондон: ее диски какого-нибудь пятьдесят седьмого, пятьдесят девятого годов лучше, чем ее же записи, сделанные в девяностых! Вот этого я понять не способен. Да, я в курсе: другая техника, ламповые транзисторы, медные провода и т. д. Но сегодня, когда у студий есть любые возможности – хоть возьми и воссоздай полностью винтажную технику! – почему-то не получается воссоздать главное: звук, атмосферу. Так, может быть, в виниле главное – не техника? Может, больше зависит от человека? А если это так, то винил, возможно, обладает волшебной способностью улавливать какие-то невидимые колебания человеческой души? Улавливать, а потом и оживлять их каждый раз, когда иголка звукоснимателя опускается на диск и прикасается к его черной бархатистой поверхности?
Аналоговый звук живой. Он не такой металлический, машинный, как цифровая запись. Об mp3 как о формате я даже говорить не хочу. Я даже не знаю, с чем сравнить прослушивание музыки в mp3. Ну, чтобы легче было представить: возьмите фильмы Феллини, оцифруйте их, разукрасьте на компьютере, как сейчас модно, наплевав на изначальный замысел автора и эстетику фильма, а потом смотрите их на мобильном телефоне одним глазом. Вот, это – примерное сравнение. Цифровой формат срезает все самое тонкое, стирает все то, что придает записи уникальность.
Некоторые малосведущие люди удивляются: почему виниловые диски стоят так дорого? Позвольте совет: найдите возможность и внимательно послушайте хорошую запись на хорошей технике. Вы услышите результат творческого труда огромного количества людей – музыкантов, продюсеров, аранжировщиков, дирижеров, звукооператоров, вы услышите оригинальные, «живые» инструменты, ощутите эффект присутствия – как будто вы очутились внутри этой музыки, живой и живущей прямо в вас, прямо в этот момент. Конечно, это можно ощутить, только если вам доступно «полное звучание» – качественные записи и качественная техника.
Как-то раз в магазине в Москве я увидел фонокорректор – это аппарат, который раскодирует сигнал. Восемьдесят девять тысяч долларов. Один из самых качественных. Спросил: кто же такое покупает? Мне ответили: «Не поверите, Юрий, недавно у нас это купил человек, который живет в однокомнатной квартире и носит один и тот же свитер. Простой инженер, средняя зарплата. Всю жизнь копил». И я понимаю, к чему стремился этот человек: он всю жизнь хотел услышать живой звук, ощутить его в себе и себя – в нем. Если вам доведется пережить подобный опыт, тогда, возможно, вы поймете, и почему винил и все связанное с ним стоит так дорого, и почему, несмотря на эту дороговизну, люди по-прежнему увлекаются пластинками.
Причем так ведь было всегда, даже в советское время. Прекрасно помню «явки», где в Москве собирались продавцы и покупатели. Помню, как в воскресный день в каком-нибудь скверике вроде бы сама собой образовывалась небольшая толпа народу, все чинно прогуливались по дорожкам, время от времени останавливаясь как будто для разговора и невзначай заглядывая в сумки к продавцам. Приближение милиции приводило в действие механизм эвакуации: продавцы быстро расходились в разные стороны, унося главную ценность – пластинки, чтобы через полчаса, как только уляжется суматоха, вернуться на прежнее место и продолжить «беседу». Помню, как иногда кого-то все-таки хватали, и в следующий раз мы могли недосчитаться нашего собрата, которого взяли за спекуляцию.
Кстати, пострадать за музыку мне тоже довелось. Как-то в школе учителя обнаружили у меня в портфеле пластинку – кажется, это был Челентано – и чистую магнитофонную пленку. Я собирался переписать диск на пленку – уже не вспомню, кто меня об этом попросил, кто-то из одноклассников. Меня обвинили в нелегальном заработке. Интересно, что идея зарабатывать на переписывании музыки с пластинок на магнитофонные пленки посетила меня только тогда, когда педагогический «трибунал» выдвинул свои обвинения. Я не понимал, как это: продавать самодельные записи своим же друзьям-товарищам? Как оказалось, так было можно – по мнению моих учителей. Нет, конечно, подпольным «писателем» я не стал ни тогда, ни позже, но моя картина мира в тот момент немного поменялась.
Конечно, мешал «железный занавес». Нам казалось – вот если бы не было всех этих сложностей! Вот тогда бы мы насладились настоящим музыкальным разнообразием! Хотя теперь я понимаю одну странную вещь: то ли занавес был как-то не слишком качественно склепан-сварен, то ли наоборот, был сконструирован каким-то особенно хитрым образом, но музыка сквозь него все равно просачивалась. Причем просачивалась только качественная музыка. В Советском Союзе знали «Пинк Флойд», «Битлз», «Дорз», Джимми Хендрикса, слушали лучшие – по-настоящему лучшие! – образцы диско и поп-музыки вообще (одна «АББА» чего стоит: полстраны знало их песни). Но, когда этот занавес рухнул, к нам хлынул потоком такой шлак, который утопил все по-настоящему ценное и интересное.
Между прочим, от поглощения этим шлаком хорошую музыку спас именно винил, его дороговизна. Масскульт наводнил рынок дешевым музыкальным продуктом – простой музыкой за небольшие деньги. И, если посмотреть сегодня на количество скачиваний треков у известных исполнителей, нетрудно заметить, что самые популярные вещи – это именно оно: ритмичное и примитивное в музыкальном плане нечто. И я лично спасаюсь от этого в мире винила. Наверное, это можно назвать бегством от реальности. Может быть. Музыка создает новые миры, и если уж куда бежать – то только туда, где красиво. Я, например, большой поклонник прогрессив-рока – почему? Да потому, что прогрессив исполняют только очень хорошие музыканты, с прекрасным образованием и развитым эстетическим чувством. Мир, который они создают своей музыкой, разнообразен, сложен и прекрасен. Это очень непростая, практически симфоническая музыка, и, если ты так себе музыкант, ты просто не сможешь это сыграть. А где-то далеко существуют другие миры, серые и блеклые, вроде панка или, прости, Господи, шансона – в том значении, которое этому термину придает отечественный слушатель вот уже не один десяток лет. Музыки там очень мало, да она там по определению и не главная. Рэп, кстати, для меня – уже даже не совсем музыка, потому что он – больше про слова. Может быть, именно поэтому сегодня рэп вышел на сцену как «музыка протеста», и запрещают сегодня концерты в первую очередь рэп-исполнителей.
Моя дядя, благодаря которому я стал поклонником винила, рассказал мне случай, произошедший с ним не так давно. Поехал он за границу. Как обычно, нашел магазин пластинок. «Зашел, – говорит, – а внутри просто развалы, горы дисков. Начал копаться – мама дорогая! Все, о чем я только мечтал в молодости, – все здесь есть! Записи, о которых я читал в журналах, о которых мне рассказывали «ветераны» – вот они, живые, настоящие. Стою обалдевший, листаю конверты и понимаю, что у меня трясутся руки…»
Когда я сегодня подхожу к полкам с пластинками, будь то дома или в салоне магазина, руки у меня, конечно, не трясутся, но внутренний трепет и предвкушение чего-то необыкновенного возникает всегда. Каждый раз. Волшебный мир.
Здоровый образ жизни
ЗОЖ для меня – это излишества и нарушение правил. Поясню. Всякая система только тогда устойчива, когда она позволяет себе некий люфт, запас прочности. Конечно, основа прочности – это правила. Но между железными нормативами и непозволительной расхлябанностью, где-то посередине, просматривается небольшой зазор, такая щелочка, которая придает устойчивость всей конструкции и через которую лично я вдыхаю воздух свободы.
Человек мало того что способен думать – он еще наделен способностью переживать эмоции. В первую очередь – радость. Мне кажется, это главное. Может быть, это главный дар нам от Господа Бога. Почему я так говорю? Да потому что Творец наградил способностью радоваться даже животных – посмотрите на собаку, когда возвращается домой хозяин, когда он приносит ей косточку. Значит, радость нужна и важна даже для животных. Тем более – для нас, людей. И как-то так получилось, что наша радость рождается не только оттого, что мы в очередной раз выполнили заповедь или преодолели соблазн, но и по множеству других причин. Когда мы можем позволить себе выпить вина, поесть вкусной еды, мы радуемся – ну, что поделать, такова наша природа! И – да, мы рады иногда поесть после шести вечера или – о, грехи наши тяжкие! – залезть в холодильник ночью. Ну здорово же: открыть холодильник, окинуть взором полки и выбрать – самую неподходящую, самую вредную вкуснятину! Зачем лишать себя этой радости? Ради чего? Ради лучшего самочувствия? Так ведь в основе все равно лежит ощущение радости и свободы. А если их нет – в чем смысл самоограничения?
Разумеется, все это не относится к тем, кто вынужден ограничивать себя по состоянию здоровья. Речь исключительно о среднестатистическом гражданине – относительно здоровом и имеющем некую возможность изредка баловать себя чем-то, выходящим за рамки привычного рациона. В конце концов, мы живые люди. Нам свойственно увлекаться чем-то или кем-то – книгой, историей, компанией, девушкой. И испытывать радость и удовлетворение оттого, когда мы это что-то или кого-то завоевываем. И именно эта радость дает нам свободу. Свободу не думать о лишнем бокале шампанского, когда на новогодней вечеринке тебе улыбается девушка, к которой ты так долго не решался подойти. Свободу весело облизывать крем с пальцев после того, как ты раздал своим друзьям по куску торта на твоем юбилее. Свободу не вытаскивать из кармана глюкометр в тот момент, когда за тебя провозглашают тост. Уж на что я не люблю голливудские шаблоны в кино, но и они иногда бывают точными. Посмотрите: все современные американские фильмы про «уход в отрыв», эти бесконечные «мальчишники» и «девичники» – все они про то, как человек нарушает привычные правила, по собственной воле или по воле случая, и в результате вдруг ощущает свободу – ту самую, с облизыванием пальцев, ту свободу, которую он не испытывал, может быть, с самого детства!
Но мы верим в формулу. И упорно ищем ее. Не так давно я имел возможность в этом убедиться в поезде Москва – Санкт-Петербург. Рядом со мной ехали три молодые женщины, которые посетили тренинг Тони Роббинса. На всех них лежал глубокий отпечаток ЗОЖ. И, может быть, поэтому они были так похожи друг на друга. «Вы представляете, – восторженно восклицала одна дама, – он сказал, что для того, чтобы начать успешный бизнес, важен не бизнес-план, не стратегия, а настроение! Вау! Главное – настроение, девочки! Вы понимаете – он мыслит так же, как и я!»
Над этим можно посмеяться. Но, с другой стороны, подумайте: Тони Роббинс, этот Остап Бендер XXI века, собрал полный стадион внешне достаточно успешных, состоятельных (вспомните цену на билеты) и состоявшихся людей, которые при этом не довольны своей жизнью! Они по-прежнему ищут чего-то, им все равно чего-то не хватает – несмотря на все их достижения, несмотря на то, что в их жизни формула ЗОЖ наверняка присутствует в абсолюте, в виде фитнеса, йоги, массажа и прочего! Причем им не хватает чего-то важного, главного, и за подсказку – куда идти и где искать это главное, они готовы платить огромные деньги! У них секс – для здоровья. Книги – для улучшения самочувствия. Компания друзей – для зарядки позитивным настроением.
Люди, очнитесь! Все вокруг – книги, друзья, любовь, секс, музыка, кино – все это имеет смысл само по себе, а не как средство достижения вожделенной формулы ЗОЖ! И у каждого из нас есть свои Тони Роббинсы, они рядом, надо только присмотреться. Людей, которые способны перевернуть вашу жизнь, вы можете встретить на лестничной площадке или воскресной службе в храме, на театральной сцене или на вечере встречи выпускников, в кино или на рынке. Эти люди своими поступками, словами заставят вас задуматься и, возможно, принять правильное решение, – стоит только прислушаться.
Жаль, конечно, что ищущие формулу ищут не там. Им кажется, вот сейчас им раскроют формулу счастья, им очень хочется в это верить. Но формулы счастья нет. Так же, как нет формулы здорового образа жизни, как нет формулы гениального спектакля, как нет формулы красоты – вроде пресловутых 90–60-90. Нет всего этого. А где же тогда искать, растерянно спросят меня все эти люди. Не знаю, – отвечу я честно. Но предположу, что, наверное, искать правильнее всего внутри себя самого. И именно там, где-то глубоко внутри себя, каждый из нас находит свои собственные условные 90–60-90. И совсем не факт, что ваши личные, субъективные параметры здорового образа жизни совпадут с классической формулой. И ваши персональные 90–60-90 внешне могут проявляться в фольклорном варианте: «200–200-200. Где талию будем делать?» – почему нет?
Вообще, словосочетание «здоровый образ жизни» я для себя трактую как «умение здорово жить», и медицинские показатели здоровья здесь совсем не на первом месте. Умение здорово жить – это все вместе: это и когда ты преодолеваешь себя, и когда ты нарушаешь границы; и когда ты сдерживаешь эмоции, и когда даешь им выплеснуться со всей мощью. Только тогда в твоей жизни что-то происходит, что-то настоящее и стоящее.
В конце концов, в словосочетании «здоровый образ жизни» главное – жизнь.
Юра-сан. Путешествие за горизонт и обратно
Запад есть Запад, Восток есть Восток… Не знаю, сойдутся ли когда-нибудь Восток и Запад, но слова Киплинга я не раз вспоминал, посещая в Японии, пардон, общественные туалеты.
Японцы, которые разговаривали со мной, часто говорили примерно следующее: Юра-сан, вы, русские, очень странные люди. Вы можете потратить большие деньги на новый плазменный телевизор, который вы, может быть, и смотрите-то не каждый день. А то, чем вы пользуетесь каждый день, у вас до сих пор как будто из девятнадцатого века взято. Догадайтесь, о чем это они говорили. Об унитазах!
Их оценку нас как народа формируют не великая русская литература, не космические достижения, а вещи куда более приземленные. При этом о принижении достижений русской литературы или российской космонавтики речь не идет. Эти люди смотрят на другие признаки цивилизации, их принцип – от простого к сложному. И попробуйте доказать, что они не правы в этом своем подходе. Со своей стороны, могу заверить, что японские отхожие места – это, в нашем понимании, мини-павильон «Наука и техника» на ВДНХ. Уровень технологий, которые там реализованы, можно запросто сравнить с уровнем профессионального медицинского оборудования. Говорящий японский унитаз с миллионом кнопок ставит перед русским туристом извечные «проклятые вопросы»: кто виноват и что делать? Я не раз видел сограждан-туристов, которые выходили из японских ватерклозетов с печатью задумчивости на лицах.
Чтобы было понятно: такие «космические» унитазы стоят в Японии везде – начиная лучшими отелями и заканчивая автозаправками и малюсенькими забегаловками где-нибудь в глубинке. Везде один и тот же заоблачный уровень технологий. Везде, абсолютно везде есть детские туалеты – это комнаты, в которых специальные небольшие умывальники и унитазы, другая, «детская» цветовая гамма интерьера и т. д. И, чтобы уже закрыть тему: зашел я как-то в туалет для инвалидов. Ну, что сказать – в принципе, теперь я видел, как устроен изнутри космический спускаемый аппарат. Правда, я так и не понял до конца – что этот аппарат умеет делать. Думаю, все.
Японский коллективизм порождает иногда удивительные вещи. Допустим, какой-то дизайнер придумал хороший стул. Что в этой ситуации сделают японцы: они соберутся все вместе – двадцать, пятьдесят, сто человек, будут часами ходить вокруг этого стула, сидеть на нем по очереди, тщательно записывать свои ощущения, изучать его чуть ли не под микроскопом, а потом сделают такой же, только на порядок лучше. И это будет идеальный стул. Перефразируя капитана Врунгеля: не каждый идеальный стул – японский, но каждый японский стул – идеальный.
У японского «коллективного разума» есть, конечно, и оборотная сторона. Малейшее несоответствие общепринятому стандарту означает автоматическое выпадение из цепочки традиционных общественных связей. Такие великие бренды, как Shiseido, Yamamoto и им подобные, основаны японцами, которые вырвались из традиции. В Японии к ним относятся однозначно как к выскочкам, практически отщепенцам. Бородатый или усатый японец – уже почти изгой из общества, этакий выпендрежник. Всякая индивидуальность – это не по-японски. Но это – не отличительная черта японцев. В конце концов, российская присказка «тебе что – больше всех надо?» тоже родилась не на пустом месте.
Я часто видел объявления примерно следующего содержания: если вы заметили трещину в асфальте или камни на дороге – позвоните по такому-то телефону. После каждого такого звонка на место приезжают рабочие и заделывают трещину, убирают камни или мусор. В этой схеме мне нравится то, что государство меня приглашает к сотрудничеству ради достижения очень понятной цели: устранения трещин или уборки дорожного полотна. Увидел – позвони, помоги нам исправить неполадки. Все просто. И все работает. И в этом есть и мое участие.
Они все время ищут способы улучшить свою жизнь, хотят, чтобы счастливо и долго жили – все. И делают это не каждый поодиночке. Бог его знает, почему так. Может, потому что жизнь у них там, на островах, никогда не была и не будет стабильной: трясет же постоянно. Наверное, поэтому у них простой парковщик, который идет по улице и выписывает штрафы, несет под мышкой целлофановый пакет и специальные щипцы – для того, чтобы по пути собирать изредка встречающиеся окурки и прочий мусор. Ему это не трудно делать. Хотя есть и специальные коммунальные службы.
Может быть, их так сплотила тысячелетняя культура – она очень ощутимо, фундаментально присутствует в современной жизни страны, и сегодня там двенадцатый век спокойно сосуществует с двадцатым – в одном пространстве. Я не нашел пока ответы на эти вопросы. Но теперь мне хочется стать немного японцем.
Заборы вокруг строительных площадок – это наглядное пособие по гармонизации отношений в обществе: в этих заборах через каждые десять-пятнадцать метров сделано окно, через которое всякий желающий может заглянуть на строительную площадку и увидеть, как идет строительство, соблюдает ли подрядчик правила техники безопасности и экологические требования. Ведь в нормальном обществе всякий имеет право поинтересоваться этими вопросами, верно? А у людей, которые организуют свою работу четко, в рамках требований законов, ведь не возникнет желания что-то скрыть от посторонних глаз? Вот они и не скрывают. Может, еще и потому, что у них нет посторонних, все – свои.
Я вот еще как это понимаю: любой забор, настоящий или виртуальный, – это потенциальный источник конфликта. И японцы, насколько это возможно, стараются избежать самой возможности конфликта. Отсюда эти окошки в заборах, отсюда – датчики уровня шума на тех же строительных площадках. Они измеряют шум на самой стройке и за пределами участка. Соответственно, вопросы, которые могут возникнуть у жителей или простых «активных граждан», снимаются сразу. Это поражает простотой решения.
Когда я был в Японии, российский Минкульт издал очередной устрашающий приказ, общее содержание которого – усилить контроль над структурами, контролирующими расходование государственных средств. Я на эту тему разговаривал с японцами. Они долго не могли понять, о чем я. Меня несколько раз переспрашивали: есть в России закон, который определяет, кто и как расходует государевы деньги в сфере культуры? Говорю: есть, и давно. А зачем, спрашивали меня наивные японцы, контролирующий орган? Ведь в законе уже прописано: потратил не по делу – арест, суд, тюрьма? И, тем более, зачем контроль над контролем?
Японцы совершенно четко ощущают любые границы, в том числе невидимые – границы вежливости, культурные различия и тому подобное. И, ощущая их, они очень твердо охраняют эти границы от чужаков. Совсем не переживая при этом, что их могут назвать нетолерантными. Что им переживать: кто их так назовет? Те же чужаки: европейцы, американцы, русские. У меня такое ощущение, что им плевать. Мне это нравится.
Например, человек с татуировкой – самой безобидной! – не имеет шансов попасть ни в ночной клуб, ни в спортзал, ни в бассейн. К нему подойдет менеджер, вернет деньги и вежливо попросит уйти. Почему? Да потому что исторически в Японии татуировка – это символ принадлежности к якудза. А «плохим парням» нет входа в нормальное общественное место, у них свои места отдыха. И вы никогда не докажете, что кельтский орнамент во все ваше плечо не имеет ничего общего с японскими преступными кланами, а в вашей родной Рязани перстни на пальцы или купола на спину набивают себе все «четкие пацаны».
Вот интересно: мы тоже прекрасно знаем историческое прошлое татуировок в России; знаем, что таким способом метили себя преступники, – и это нас волнует гораздо меньше, чем японцев. Оглянитесь вокруг, гуляя по московским улицам: плечи каждой второй девушки «украшает» татуировка. Не берусь судить, хорошо это или плохо, я отношусь к татуировкам спокойно. Но то, как это работает в Японии, мне нравится: тебя «пометили» или ты сам это сделал – будь готов к тому, что твоя «метка» изменит твою жизнь.
Я несколько раз пытался попасть в традиционные ночные клубы для японцев. Без шансов. Мягко, но настойчиво мне повторяли вновь и вновь: для вас, европейцев, есть свои места для отдыха – вон, через дорогу, тут недалеко, можем проводить. А тут отдыхаем мы, японцы. И не надо за нами подглядывать. Так же, как и вы, русские, мы отдыхаем по-своему. И, в общем, с этим я тоже согласился: отдых – это интимная сторона жизни человека, и выставлять ее напоказ не каждому охота.
Нет, конечно, есть и то, что примиряет с «инопланетностью» японцев, делает их похожими на «нормальных людей». Например, все знают, что в Японии какая-то фантастическая средняя продолжительность жизни. Тому есть вполне рациональное и почти криминальное объяснение. Дело в том, что старикам в стране выплачивается очень приличное пособие, причем оно прогрессивное – его размер увеличивается с возрастом пенсионера. Так вот, многие семьи банально скрывали смерть своих бабушек и дедушек, чтобы получать их пособия. Рекордсменам удавалось водить за нос японский собес годами и даже десятилетиями. Потому-то по документам в стране было так много стариков в возрасте 100+. Люди ищут способы улучшить себе жизнь, порой не совсем легальными путями. Еще про стариков: на многих автомобильных номерах я видел цветочек. Оказалось – так обозначают авто, за рулем которых сидят водители старше 70 лет.
В Токио, кстати, нет пробок. Это крупнейший мегаполис мира. Сразу после Японии я оказался во Владивостоке. В этом не самом большом российском городе пробки – всегда, целый день. Я благодарен Японии и японцам уже только за то, что там я увидел, что пробки в принципе можно победить. Можно! Правда, для этого, видимо, надо быть японцем. Ну, или переманить в правительство Москвы человек пятнадцать-двадцать из префектуры Токио.
Мы очень плохо знаем Японию. Русских туристов в стране очень, очень мало. Правда, наши, как всегда, нашли способ выделиться на общем фоне. В Японии жизнь дорогая, отели в общем недешевые. Но наши сограждане, плотно изучив вопрос, выяснили, что, оказывается, в городах Японии есть такие специфические салоны, где желающие могут взять в прокат порно-видео. Причем на сколь угодно долгий срок. Для просмотра этой продукции оборудованы малюсенькие, но очень удобные комнатки, где есть все необходимое – кровать, тапочки, душ, полотенце и пр. «Руссо туристо» мгновенно сориентировались: почасовая оплата в таких заведениях, даже если ты зависаешь там на сутки, ниже, чем в гостиницах. И теперь первое место, где проще всего встретить соотечественника в Стране восходящего солнца, – порносалоны. Знай наших.
Получится ли у нас позаимствовать японский опыт улучшения жизни? Не знаю. В полной мере, наверное, никогда: для этого надо пройти тот же путь, что прошла Япония за свою долгую и непростую историю. В которой никогда и никто не заводил разговор на тему «пора валить». Японцы строят свою страну и никуда не «валят», несмотря на землетрясения, тайфуны и перенаселение. Они искренне убеждены, что, только улучшая жизнь страны, можно добиться улучшения собственной жизни. Мы почему-то верим в прямо противоположное.
Запретить горькую. Запретить Горького
Жизнь не перестает открывать передо мной все новые и новые грани бытия. Смех прошел, удивление тоже. Внутри меня растет какое-то ощущение, до сих пор неведомое.
Когда в 2018 году в Третьяковке случилось ЧП – пьяный вандал напал на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», резонанс вышел серьезный. Отреагировали музейщики (что понятно), отреагировала сетевая публика, что тоже объяснимо, но неожиданно на арену выступили депутаты Госдумы. Законотворцы предложили запретить продажу алкоголя в «учреждениях культуры» – музеях, театрах и т. д. Напомню: суть проблемы – в обеспечении сохранности произведений искусства. Депутатский рецепт был – запретить алкоголь в музеях.
Не берусь рассуждать о профессиональной стороне дела. Как должны храниться музейные экспонаты – об этом пусть думают работники музеев. Почему в музей попал человек с ножом – вопрос к ним же и заодно к сотрудникам правоохранительных органов. Почему картина не была застрахована – это вообще странно. Но меня в этой ситуации ошарашило другое: если Госдума отреагировала настолько оригинально, то это значит, что и другие, более серьезные проблемы, стоящие перед государством и обществом, наши депутаты решает точно так же? Ну давайте тогда доведем до логического завершения эту новаторскую идею и запретим автомобили – просто потому, что от них гибнет масса народу на дорогах. Давайте запретим русский язык, потому что на заборе хулиганы написали слово из трех букв. А заодно наложим запрет и на установку заборов, для надежности.
Вместо того, чтобы воспитывать в людях культуру, в том числе и культуру пития, мы в панике бросаемся устранять последствия ее упадка. А причины? Что с ними делать? Ладно, представим: запретили алкоголь в учреждениях культуры. Знаете, что произойдет? В самом скором времени закроются все буфеты во всех театрах. Все. Проиллюстрирую: у нас в театре «Модерн» работает прекрасный буфет, и целых полгода я уговаривал его владельцев, наших партнеров, потерпеть немного, пока мы получим лицензию на продажу алкоголя. Потому что все первые полгода работы буфет приносил только убытки. Заработать на одних пирожных с бутербродами невозможно.
Буфеты в театрах – это чей-то малый бизнес. «Малый» – ключевое слово. Только алкоголь позволяет рестораторам зарабатывать деньги – совсем не большие, поверьте! – в театре. Стоит убрать из буфетов алкоголь – не будет и самих буфетов. Не будет бутербродов, не будет жюльенов, не будет пирожных и чая с лимоном. Перед тем как запустить оригинальную идею с запретом – кто-то подумал об этом? О малом бизнесе? О зрителе, в конце концов, которому иногда хочется есть и пить? Я уже не говорю о том, что бокал шампанского или хорошего вина, или рюмка коньяку, выпитые в театральном буфете, в спокойной и располагающей обстановке, – это просто часть театральной культуры, и не только отечественной, – так принято во всем мире. Это пример того, как можно пить красиво и с достоинством.
Вот странно: в стране проходят различные экономические форумы, на которых собираются неглупые люди, где звучат умные речи, – и тут же существует какая-то параллельная реальность, в которой депутаты защищают произведения искусства путем уничтожения театральной культуры, а заодно и давя малый бизнес. Неужели нет других вариантов, кроме запретов? В 2018 году у нас в театре состоялась премьера – мы поставили спектакль «На дне» по Горькому. Если помните, это произведение из школьной программы по литературе. Но никто из старшеклассников, у кого возникнет желание прийти и посмотреть спектакль, не может этого сделать. Почему? Да потому что – запреты! В пьесе есть насильственная смерть, и там герои курят и пьют. Баста: мы вынуждены обозначить на афише рейтинг 16+. И – простите, дети, увидеть вживую выдающееся произведение русского писателя у вас не получится. Сочинение по нему как-нибудь так напишете. Или ищите в интернете записи старых советских спектаклей – пока они еще не запрещены.
Интересно, что за пьесу написал бы Горький, окажись он сегодня в современной России. Живо представляю себе: вот Алексей Максимович заканчивает набирать на компьютере последние страницы текста, бормоча что-то себе под нос; распечатывает текст на принтере, ходит, сутулясь, по комнате, перечитывая, что получилось. Потом вспоминает: ах да! Насильственная смерть запрещена! Кряхтя, садится, достает из кармана пиджака старую, проверенную шариковую ручку и принимается вычеркивать куски текста. Хлопает себя по лбу: ну конечно! О папиросах и водке тоже нельзя! Зачеркивает еще несколько страниц. Огорченно закуривает. Открывает сайт Госдумы, читает, озадаченно чешет в затылке, потом просто выбрасывает в корзину еще несколько листов. «Семейное насилие, понимаешь… Пороки человеческие, романтизация преступного элемента», – произносит он, окая на нижегородский манер.
…Через пару часов работы Горький со взлохмаченными волосами и опустошенным взглядом выходит из прокуренной комнаты. Нервно посасывая папиросу, он останавливается напротив большого зеркала и долго смотрит в него. На письменном столе остается лежать один-единственный листок, на котором дрожащим стариковским почерком выведен заголовок: «На дне».
Середина лета
– Виноградники померзнут!..
Не знаю, вслух я это прокричал или во сне. И о каких виноградниках могла идти речь, если все мои эксперименты с виноделием были тогда только в планах, в будущем? Ничего не помню. Однако зябко мне было на самом деле: с чернильно-лиловых гор, которые уже можно было различить на фоне предрассветного неба, в приоткрытое окно моей комнаты текла вязкая прохлада.
Плохой сон приснился. Странно: вчера был прекрасный день.
Я прикрыл плотнее окно. Маленький семейный отель посреди обычного итальянского городка, похоже, не услышал моего вскрика. Или деликатно сделал вид, что не услышал. Через пару часов рассветет, а еще через час эти горы и улицы затопит жара, и некуда будет от нее деваться – только мечтать о вечерней прохладе. Конец июня, скоро середина лета.
Жаль, заснуть больше не удастся. Самое время для сна – вот в такие часы перед рассветом.
За окном виднелась неровная линия крыш соседних домов. Как и в сотнях других таких городков, дома здесь были невысокие, в два-три этажа. Повсюду белело развешенное для сушки белье. Днем вся эта мозаика станет разноцветной и пестрой; сейчас серые фасады были залеплены пятнами висящих простыней и полотенец, как лицо боксера после поединка – пластырем. Вчерашний дом, возле которого я остановился, был точно такой же: непримечательный, аккуратный и чистенький европейский домик со следами своей собственной истории на стенах. Я и сейчас его не узнаю, наверное, если возьмусь искать то место, не зная адреса. Разве что белья там не было.
Когда я вчера остановился рядом с этим домом, я сделал это не потому, что он привлек мое внимание своим внешним видом. Меня поразило другое. Во дворе, напротив заросшей каким-то кустарником калитки стоял пожилой мужчина в берете. Его берет невозможно было не заметить. Потому что он был большой, прикрывал ухо мужчины и одним своим краем спускался почти до плеча. И еще он был густо-бордового, потрясающе насыщенного и глубокого цвета. Мужчина был одет вполне обыденно, но берет превращал его фигуру в оживший памятник эпохе Возрождения. Пройти мимо было нельзя. Тем более что за спиной этого удивительного человека виднелась небольшая витрина с винными бутылками.
Мужчина оказался хозяином магазина, в котором он продавал собственное вино. В свободное время. А чем он занимался, кем он был по профессии, я почему-то так и не удосужился спросить.
– Зайдете?
– Конечно, большое спасибо.
На стенах висели картины и графика, играла музыка – и никого из посетителей. Хозяин принялся рассказывать про свое вино, приглашая попробовать. При этом он очень хорошо открывал бутылки с вином. Очень правильно – спокойно и красиво, со знанием дела. Человек-«памятник» в вине разбирался очень неплохо. Я тут же вспомнил, как в последний раз, когда я был в московском ресторане, меня буквально раздавило то, как официант открывал для нас бутылку вина. Он ее буквально изнасиловал. Хорошо хоть, в том месте не пользовались пневматическими штопорами и прочими новомодными приспособлениями – они вызывают у меня стойкие ассоциации с гинекологическими инструментами. Здесь, слава Богу, было все иначе. Я попробовал вино и понял, что день удался. Кстати, где те четыре бутылки, что я в результате купил?
На белесой скатерти стола в моей комнате стояли только большой керамический чайник да пара винных бокалов. В полутьме я побрел в дальний угол – да, вот они, все четыре, я забыл, что поставил их на полку шкафа. Ночная прохлада, поднявшая меня с постели, остудила бутылки как раз до нужной температуры. Нет, теперь я не скоро открою это вино. Пусть дождется подходящего момента.
В темноте почти совсем не были видны этикетки, но я помнил, что на них нарисован этот город – эта самая неровная линия крыш, эти дубы и кипарисы, эти улицы, поднимающиеся по склонам невысоких холмов, и позади, фоном – горы, будто театральные декорации. Я очень живо вспомнил эти рисунки. Это были именно рисунки на этикетках: хозяин собственноручно их рисовал. Может быть, он художник? Жаль, я не спросил. Хотя – какая разница. Он – винодел. А значит, художник.
Я пробовал его вино, а он стоял рядом с бокалом в руке. Потом он открывал новую бутылку. Перед тем как я пробовал новое вино, он шел куда-то в угол и включал другую музыку. Каждый раз, для каждого нового вина – новую мелодию.
– Теперь пробуйте.
Я вряд ли ушел бы оттуда до вечера, если бы не день рождения друга. Он ждал меня в гостинице. Ждал для того, чтобы совершить поступок. Мы решили отметить его день рождения бутылкой «Петрюса». Того самого, дорогущего французского вина, которое считается одним из лучших в мире. Тогда мы еще не знали, насколько непросто сложится вся эта праздничная история, и просто готовились. Готовились либо встретиться с мечтой, либо вкусить разочарования. Ну, и расстаться с очень приличной суммой.
В магазинах на нас смотрели с удивлением: искать в Италии французское вино, да еще немыслимо дорогое, когда вокруг столько прекрасных местных вин по нормальной цене – зачем? Купить «Петрюс» удалось ближе к вечеру.
Вот как раз в этой самой комнате мы сидели вдвоем и смотрели на заветную бутылку.
– Ну… – первым нарушил благоговейную тишину виновник торжества.
– Да уж – ну. Где теперь декандер брать?
Это было худшее из всех возможных начало празднования дня рождения. Перед нами на столе стояла бутылка лучшего в мире вина, а выпить его мы не могли. Слишком поздно мы сообразили, что покупка «Петрюса» влечет за собой целую цепочку последствий – всех тех необходимых священнодействий, которые сопровождают правильное употребление такого нерядового напитка. Теперь надо было открыть бутылку, но сразу после этого нужен был декандер, чтобы вино «подышало». Декандера у нас не было.
Довольно скоро стало понятно, что декандера нет и у хозяина нашего отеля. Местные жители все до единого знали толк в вине, но их церемониал употребления напитка все-таки был слегка упрощенным. А мы были настроены решительно. Размениваться по мелочам не хотелось.
Но разменяться пришлось. Все, что нам удалось, – это найти винные бокалы – не те, какие нужно, но хотя бы под вино. Дальше надо было принимать решение: что делать с неприлично дорогим «Петрюсом»?
– Надо его во что-то вылить.
– Надо.
– Во что?
– Тут, кроме стаканов для воды и чайника, нет ничего.
И мы посмотрели на чайник.
Сейчас, в полутьме последнего предрассветного часа, он стоял точно на том же месте, где вчера совершилось ужасное святотатство – когда мы открыли бутылку и вылили в него вино ценой в полторы тысячи евро.
Минут пять после этого мы оба молчали, пытаясь осознать содеянное.
– Сколько ему стоять-то положено? Минут двадцать?
– Сорок, – почему-то с уверенностью сказал я.
День рождения начался с продолжительной паузы.
– Знаешь, что я вспомнил сейчас? – обернулся я к другу, который от нечего делать присел на подоконник и рассматривал погружающийся в белесый летний вечер городок. – История как раз в тему. Я как-то оказался в компании NN – ты знаешь его. Это случилось во Франции. Он пригласил нас в ресторан. «Вино буду выбирать я», – говорит. Ну, хорошо. Гурман, знаток вина – как иначе. Выбирал полчаса, наверное, и выбрал, разумеется, самое дорогое.
В общем, заказана бутылка. В ресторане случается тихий ажиотаж: бежит сомелье, хозяин заведения, официанты, все построились, открыли бутылку, понюхали, декольтировали, зажгли свечи – парад. Наливают ему вино в роскошный бокал. Успев при этом поспорить друг с другом минут десять, какой бокал подойдет больше. И вот, они все смотрят буквально ему в рот: клиент будет пить вино, которое в их ресторане открывают, может быть, второй или третий раз за всю историю. Центр тяжести переносится на мысочки, в воздухе тишина и трепет. И вот этот человек подвигает к себе бокал и …выдавливает туда лимон. Отпивает, подзывает к себе сомелье: «Попробуйте, это очень интересно». Все.
– Да ладно?!.
– Ну, вот так.
Друг молчал довольно долго. Он человек творческий, с воображением, и я прекрасно понимал, насколько ярко и красочно представил он себе всю эту сцену.
– Лимона у нас нет. Повторить эксперимент не удастся, – наконец произнес он.
– Ты серьезно?
– Ну а что – я бы оставил полбокала и рискнул. Мало ли – мы не можем понять, какой вкус человек себе «сочиняет» с помощью лимона. Почему нет? Тем более если никто не видит.
Теперь уже замолчал я.
– Как думаешь: те, кто видел весь этот кошмар, – они ведь теперь внукам своим будут об этом рассказывать, – спросил я.
– Забудут, как страшный сон.
В общем, через сорок минут мы разлили вино из чайника по бокалам и выпили. Нам повезло: это была действительно встреча с мечтой – и никакого разочарования.
В комнате стало уже почти совсем светло. Нет, надо все же еще раз зайти в магазин этого дядьки в берете. Вчера я не решился рассказать ему, что давно мечтаю заняться виноделием, а теперь вот захотелось поделиться. А еще хотелось спросить, нет ли такой приметы у виноделов – хорошо это или плохо, когда снится, что замерзли виноградники.
Спустя три часа я наконец отыскал этот дом. Это удалось только благодаря берету хозяина: именно так я описывал место, которое я ищу, прохожим: «Знаете, там хозяин – мужчина в большом красивом берете, и у него винный магазин». Оказалось, домашние винные лавки и магазины здесь у каждого третьего, а вот берет действительно помог.
Хозяин встретил меня на том же месте – перед входом, у калитки. И снова я был единственным посетителем его магазина-галереи. Мы разговаривали, пробовали вино, и я все же решился рассказать ему о том, что сам давно мечтаю заняться виноделием.
– Это прекрасно! Прекрасно! – он живо обернулся из своего угла, где вновь включал какую-то особую музыку. – Что может быть лучше, чем делать вино?..
Когда я спросил его про приснившиеся мне замерзшие виноградники, он только рассмеялся глуховатым, но очень заразительным смехом:
– Друг мой, приметы пусть выдумывают себе те, кто мало понимает в вине и виноградарстве. В ваших снах пусть происходит все что угодно. Главное, чтобы виноградники не мерзли на самом деле.
– А ваш берет – это разве не примета, не талисман?
Мужчина снова засмеялся:
– Не-е-ет, тут все просто: мне просто нравится эта вещь. Она красивая. И этот цвет – это же цвет старого вина! Неужели он может не нравиться? Вот вам он нравится?
– Очень.
Потом мы говорили еще о чем-то. Узнав, что скоро у меня самого день рождения, он подарил мне еще одну бутылку.
– День рождения в середине лета – прекрасно! Когда начнете делать свое вино, назовите его «Середина лета». И непременно пришлите мне попробовать.
Я сдержал только одно обещание: назвал свое вино «Середина лета» – Midsummer. Со вторым случилась заминка. Несколько бутылок, отложенных для человека в берете, пока еще ждут оказии.
Мне очень понравился этот берет цвета старого вина. Когда-нибудь куплю себе такой же.
Шепоты и крики
Цена лжи
Ложь – это радиация, которую не остановить никаким саркофагом. Она точно так же убивает – невидимо, незаметно и неотвратимо. Она точно так же вызывает мутации, которые откликаются в поколениях потомков. С ней так же трудно бороться, и жить в соприкосновении с ней так же невозможно: она разрушает человеческое естество.
В конце сериала «Чернобыль» звучит фраза-эпиграф, которая могла бы стать его вторым названием: «Цена лжи». Потому что этот фильм, в общем, не про Чернобыль. Ведь события, люди, цифры и факты о той трагедии лишь создают фон, на котором вырастает картина, которую я рискну назвать портретом нынешней эпохи. «Ну как же? – возразите вы. – Это же фильм о Советском Союзе, а мы живем уже совсем в другом государстве – свободной России?» Погодите, не торопитесь с выводами.
Писать о сериале с точки зрения кино не буду: об этом уже высказались многие авторитетные персоны, с которыми я согласен. Снимаю шляпу перед уровнем этой кинематографической работы. Браво. Я хочу сказать не столько о значении «Чернобыля» как фильма, сколько о том культурном «заряде», который в нем заложен.
Помните слова-символы конца восьмидесятых? «Перестройка». Мы пытались что-то поменять в стране, переделать свою жизнь по-новому, отказаться от тотального вранья советской пропаганды. Была еще «гласность». Мы понимали, что, без того чтобы назвать вещи своими именами – пусть даже это будет всем нам неприятно и стыдно, – всерьез измениться мы не сможем.
И вот, мы смотрим сегодня в зеркало «Чернобыля» и понимаем – кто с грустью, кто с откровенным ужасом, а кто и с удовольствием – что не изменилось ни-че-го. Что вокруг нас все то же самое. Та же ничтожность человеческой жизни перед государственной машиной. Та же тотальная безответственность, то же нежелание что-то менять, «высовываться», та же глубинная, почти животная чиновничья боязнь потерять свое «кормление», свой ареал обитания. И та же ложь. Нет, все-таки не так. Мы не стояли на месте все эти годы, мы двигались по спирали развития – развития этой самой лжи. И сегодня наша жизнь – это торжествующее беззаконие в виде тотальной, всепроникающей коррупции; чудовищное, непомерное обогащение самых ловких, самых беспринципных, самых бесстыдных – и нищенское существование стариков, честно трудившихся всю свою жизнь. Наши аппетиты выросли. Мы – кто в полной мере вкусив благ мира сего, кто лишь благодаря рекламе по телевизору – теперь хотим очень многого, большего, и в желании добиться этого большего все меньше склонны комплексовать по поводу совести, чести и прочих малоэффективных атавизмов. Ну, разве что еще лозунги поменялись. «Россия, вперед!» – из последнего. С этим тоже странно получается: мы пережили крушение Советского Союза, потом строили «новую Россию», думали, что движемся вперед, но чудесным образом вернулись в прошлое.
Ложь в нашей жизни – как фоновая радиация. Она везде. Он определяет, влияет на наши решения. Мы пытаемся утешить себя тем, что – авось меня лично этот морок накроет не слишком сильно. Мы надеемся, молимся о том, чтобы нам не попасть в руки кредитных мошенников, чтобы наши родители не стали жертвой «черных риелторов», чтобы нашим детям не подбросили наркотики сотрудники полиции. И волосы на голове от ужаса самих этих словосочетаний у нас уже не шевелятся. Мы привыкли. И потому не чувствуем уважения и к себе самим, ни друг ко другу. Мы все живем так, в одном огромном новом Чернобыле. Но интуитивно мы понимаем, что предел мирного сосуществования с ложью уже где-то совсем рядом, и нам становится просто нечем дышать и нечем жить. Может быть, потому история с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым вызвала такой огромный резонанс. Хотя это далеко не первый случай, когда журналиста «прессуют» за его работу. А сколько журналистов были убиты? Сколько простых людей пострадали и страдают сегодня от беззакония – тех, за которых некому вступиться, бесправных и беззащитных?
А пока мы пытаемся строить свои собственные убежища, прячась от лжи-радиации кто где. Мой нынешний «бункер», где еще есть что-то настоящее и честное, – это театр «Модерн», место, где мы свободно говорим о том, что считаем важным. Кто-то выбирает исконный путь русского человека – алкоголь, кто-то срывается в наркотический ад, кто-то ищет спасение в работе, в семье, или в книгах, или в соцсетях. Между прочим, волна, поднявшаяся вокруг позорной истории с Голуновым, возникла во многом благодаря соцсетям. Только представьте себе – как выглядела бы наша сегодняшняя действительность, если бы соцсетей не было. Или – зачем представлять, если есть «Чернобыль»: посмотрите. И, кому охота вернуться в Советский Союз, – примерьте на себя. Хотя – зачем куда-то возвращаться? Мы никуда не ушли. Вон, «Машину времени» запрещают. Снова чувствую себя молодым!
Время, когда мы выглядели в американских фильмах идиотами, алкоголиками в шинелях и шапках-ушанках, прошло. Картина поменялась. Теперь, когда американцы хотят снимать кино про русских, они подходят к этому всерьез. Собираются хорошие режиссеры, сценаристы, актеры, художники, операторы, реквизиторы и создают не фэнтези-клюкву а-ля рюс, а настоящее кино. Теперь нашу жизнь – как мы одевались, что курили, как разговаривали – нам показывают они! Показывают достоверно и точно. Они дарят нам возможность окунуться в атмосферу недавнего прошлого, по которому, между прочим, едва ли не большая часть нынешнего населения страны открыто или втайне ностальгирует.
Допускаю, что у HBO получилось не совсем то, что они задумали. Такое случается. Но что, если американцы, к которым мы привыкли относиться свысока – «Вот дебилы!..» – выросли, повзрослели и поняли, что скармливать зрителю карикатурных русских гораздо менее эффективно, чем показывать правдивую картину? И незачем бросаться громкими штампами вроде «империи зла», когда есть возможность поднести к современной российской жизни, к нашей истории вот такое зеркало, в котором видно все – и хорошее, и, главное, плохое? И спокойно, не торопясь разворачивать это зеркало – перед нами самими же? Если это так, то они уже победили. «В чем сила, брат?..»
Министр культуры, высказавшись по поводу сериала, посетовал на отдельные ляпы. Хочется ответить уважаемому господину министру: наше современное российское кино, те «шедевры», на которые сегодня Минкульт выделяет государственные деньги, – вот один настоящий большой ляп. И ситуацию не спасают те единичные прорывы, которые случаются вопреки установившимся правилам. Это особенно хорошо видно в сравнении с обсуждаемым «Чернобылем».
Сериал уже поставил рекорд популярности. Он принес создателям серьезную прибыль. А это значит, что в будущем нас ждет еще немало по-настоящему хороших фильмов о России. Ну наконец-то. А там, глядишь, отечественные кинопроизводители, привыкшие оглядываться на американский опыт, подтянутся. Возрождение российского кино придет из-за океана?
P.S. В прошлом году я написал письмо в «Росатом». Рассказал о своей идее поставить спектакль про Чернобыль, воссоздать на сцене судебный процесс над главными обвиняемыми в аварии. По наивности мне казалось, что этот уникальный документ – стенограмму судебных заседаний – просто необходимо пересказать языком современного театра. Предложил развернуть в фойе театра выставку о современной ядерной отрасли, в общем, сделать большой совместный проект. Ответа я не получил. Никакого. А все мы прекрасно знаем, что в подобной ситуации эта тишина значит: «Нам пох…»
Ну, что ж. Ответ пришел откуда не ждали – из Америки.
Я не верю в коллективное высказывание
Коллективного высказывания не бывает. Высказывание может быть только личным.
Сегодня в стенах театра «Модерн» живет коллектив единомышленников – ярких, прекрасных, творческих людей. Это одна из интереснейших трупп Москвы. Интересная именно как сочетание, как мозаика очень разных талантов, возрастов, национальностей, темпераментов. Эти люди смогли за год выпустить шесть спектаклей. Шесть труднейших премьер.
Когда я говорю про единомышленников, я имею в виду не только труппу. Это и дирекция, и художники, и все остальные сотрудники. Хотел сказать, что это люди, которые «тихо делают свое дело», – нет, они работают активно и очень профессионально, ярко. Они созидают. И делают это успешно – что не может не почувствовать и зритель.
Главная цель любого театра (и нашего, разумеется) – это сам спектакль. За сезон 2017–2018 мы выпустили шесть премьер. Это чрезвычайно много. Я даже слегка переживаю по этому поводу. Потому что наш зритель, в какой-то своей части, не успевает за нашим ритмом. Но мы сознательно взяли такой темп: нам нужно обновить репертуар. Шесть премьер – это очень много для одного сезона, но этого нам по-прежнему мало, если говорить о полноценном репертуаре. Мы – репертуарный театр, мы не антреприза, и поэтому наши планы на ближайшие годы – четырнадцать-шестнадцать спектаклей.
«Цезарь», вышедший недавно «На дне» – сложнейшие вещи. Сложнейшие с точки зрения драматургии, с точки зрения существования на сцене, с точки зрения материала. Шекспир, Горький – это ой как непросто. Это сложные авторы, чей незыблемый авторитет способен буквально подкосить. Этот авторитет давит на режиссеров, он может уничтожить актера – когда начинают трястись колени и кажется, что нет никакого другого пути, кроме как идти след в след за великими предшественниками. То есть в очередной раз воспроизводить шаблон. Высокий, но шаблон.
Хочется верить, мы справились. По крайней мере, у нас нет ощущения, что Шекспир с Горьким нас подавили. Хотя, повторюсь, противостоять этому соблазну было очень непросто. Если говорить о Шекспире, то он, как воронка, затягивает тебя в какой-то хрестоматийный романтизм, в сказку, в робингудовщину. А между тем «Юлий Цезарь» – это совсем не сказка, совсем. Это разговор о народе, о власти, об их взаимном циничном отношении друг к другу. Не сорваться в романтизм было для нас самым сложным.
В «На дне» была другая проблема. Пьеса очень трудная для прочтения, тяжелый язык. И с этим невозможно справиться, если не оживить и одушевить каждого из персонажей. Как только это получается – Горький вдруг расцветает, пьеса превращается в этакие заросли малинника: ты видишь на ветках яркие, спелые ягоды, тянешься к ним, осторожно раздвигая сплетенные ветви и цепляясь за колючки; сорвав несколько, видишь в глубине еще больше. Откуда-то из глубины куста выпархивают мотыльки, у корней зеленой струйкой промелькнет ящерица. Все живет и движется. Вот это – Горький. Для меня это было настоящим открытием. Феномен. Для иллюстрации: первые четыре минуты спектакля я ставил три недели. А потом – сорок минут за два дня. Все эти недели мы переживали какую-то ломку, борьбу с автором, с материалом, самими собой. В результате, мне кажется, все получилось.
Вообще, для меня автор – это друг, собеседник, с которым можно разговаривать, спорить, шутить. Если ты поддаешься давлению авторитета, то в такой ситуации автор становится либо кумиром, либо каким-то начальником, который может приказать или рассердиться. Оба пути – тупиковые.
За последние два года все мы – труппа, сотрудники, я как худрук – стали лучше понимать друг друга. Во многом поэтому, например, в спектакле «На дне» у меня заняты только актеры театра, мы никого не приглашали. Как мы к этому пришли – разговор отдельный и, наверное, гораздо более личный. Актер – это некоторое творческое пространство, которое он возделывает. Да, он прислушивается к тому, что я хочу, говорю и советую, но это пространство – это его территория. Я не режиссер-нянька, не педагог. Актер для меня соавтор, хотя при этом я против коллективного творчества. Почему? Я не верю в коллективное высказывание. Высказывание может быть только личным.
Про агрессию, или Апология слабости
Мне кажется, что с возрастом в нас не меняется одно детское качество: мы готовы повторять чужое поведение. Только если в детстве мы, как попугайчики, были готовы копировать любого, первого встречного, то с годами начинаем вроде как выбирать пример для подражания. А само подражание никуда не девается. Назовите это как угодно, хоть воспитанием. Мы повторяем чье-то поведение, мы мечтаем быть таким, как наш кумир. Но тут возникает – а она всегда возникает, будь она неладна! – проблема выбора. Выбора примера для подражания.
Наверное, все мы согласимся с тем, что большинство из нас с годами становится жестче характером. Или агрессивнее, другими словами. Это значит, мы выбираем такие примеры для подражания? Или нам их предлагают?
Есть два мощнейших инструмента переформатирования мозгов современного человека – телевидение и интернет. Возьмем ТВ: могли ли вы еще десять лет назад представить, что в эфире популярных программ ведущие будут хамить приглашенным гостям, перебивать их, выгонять их из студии или вообще – драться? Теперь же такое происходит регулярно. И эта агрессия, эта злоба – они же никуда не деваются, не растворяются в воздухе, не исчезают бесследно. Они оседают в нашем сознании, в наших душах – такой тонкой, липкой пленкой. Проходит время, и вот уже мы практически не удивляемся, когда, переключая каналы на телевизоре, мимолетом видим анонсы какого-нибудь «Дома-2», где молодой человек – участник шоу материт девушку-участницу. Про формат общения в интернете говорить нечего: первое, что происходит при малейшем несогласии с мнением собеседника, – оскорбление, переход на личности, издевательства, угрозы и т. д.
Окружающий мир – через те же ТВ и интернет – убеждает нас: вот она, настоящая жизнь, без розовых соплей и наивных фантазий – грязная и жестокая. Не ты – так тебя. Welcome to the jungle. Не согласен? Твои проблемы. И мы пропитываемся раздражением и озлобленностью, вольно или невольно.
И – вот он, момент истины: так вольно или невольно? Можно согласиться с предложенными правилами. Можно перестать обращать на это внимание, убеждая себя в том, что так мы выработаем иммунитет ко всей этой грязи. Можно с этим не соглашаться и жить по другим правилам. Другие правила – самое сложное. Слишком непопулярный стиль, по нынешним временам. Признать свою неправоту, сделать шаг навстречу оппоненту, уступить – все это сегодня воспринимается как признак слабости. Это не по-пацански, не «по понятиям». Чистое донкихотство. Получается у одиночек, почти не вызывает сочувствия у широких народных масс. Хотя еще пару столетий назад юродивых на Руси любили, и даже прислушивались к ним.
Пройти мимо – путь, более доступный не-герою. Этот вариант – почти достойный, потому что уже требует от человека усилий воли. Ну, говорит человек, пусть эта куча дерьма воняет себе тут, я найду место почище и посвежее. Пусть по телевизору мужчина оскорбляет и унижает женщину – выключу телевизор или выброшу его совсем; пусть начальственные чиновники издеваются над простым (читай – бесправным) человеком – установлю приложения, буду платить квартплату только онлайн, удаленно, чтобы век не видеть эти ненавистные чиновничьи рожи; пусть хамство почитается за силу, а сила за правоту – буду воспитывать своих детей по-другому. Не знаю, что у него получится в результате.
Простейший путь – стать как все. Снизить планку, успокоиться насчет нравственного выбора и начать покусывать-подгрызать окружающих. А при удобном случае – впиваться в горло слабаку: сам виноват, расслабился – получай.
Меня не удивляет такой ход мыслей. В конце концов, нет ничего нового под луной, и тысячелетиями люди делали примерно тот же выбор: загрызть или помочь? Я упираюсь, как в стену, в другое: почему, когда в нашей стране, нашем обществе этот путь стал простейшим? Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – прекрасно, туда ему и дорога. Но почему мы из самых разных вариантов выбрали ему на замену – худший? Почему сегодня нашему обществу, снизу доверху, от грузчиков до депутатов, легче и проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро?
Сегодня многие оправдывают свою агрессию тем, что, мол, только так и можно отстоять идею. Отстаивать свои идеи нужно, не спорю. Но вот вопрос: что за идея такая, ради которой можно вытирать ноги о живых людей? Ты искренне веришь в свою идею – хорошо. Но если ты видишь, что аргументы твоего оппонента не лишены основания, они опровергают твои доводы, – умей согласиться с этим и принять чужое мнение. В этом – настоящая сила характера, духа. Только в этом по-настоящему и проявляется подлинная сила, настоящий внутренний стержень.
Мне посчастливилось работать вместе с покойным Алексеем Баталовым. Вспоминаю случай: как-то мы пришли с ним на «Мосфильм», и тут выяснилось, что кто-то из администраторов забыл заказать ему пропуск. Я вне себя от возмущения: как?! Забыть заказать пропуск – и кому? Самому Баталову! Но сам Алексей Владимирович произносит совершенно спокойно: «Ничего страшного, подождем», – и отходит в сторонку. Слабак? Вот уж точно – нет. О том, насколько внутренне сильным человеком был Баталов, могут рассказать все, кто его знал. И в этом его «ничего страшного», поверьте, было куда больше достоинства, чем в пафосных выступлениях нынешних «авторитетов» на популярных ток-шоу. Как ему это удавалось – не знаю. Знаю только, что это шло откуда-то изнутри. Это достоинство, эта сила, это спокойствие – все это жило у него в душе, в сердце.
Как победить агрессию? Агрессия – как плесень. Она поражает нездоровую культуру, нездоровое общество. Учредить правильную культуру «правильными» законами невозможно. Законы – это самый грубый, самый примитивный каркас, на котором мы выстраиваем нечто более сложное – живые, разнообразные человеческие отношения. И вот чтобы построить нечто достойное – вот как раз ради этого люди читают хорошие книги, или смотрят хорошее кино и живопись, или ходят в театр, или слушают хорошую музыку. Молятся Богу, в конце концов. Они делают это исключительно для того, чтобы узнать самих себя, получить знания прежде всего о себе – в этих молитвах, фильмах, книгах, спектаклях, картинах.
…Вот рассуждаю я тут о высоком, о человеческом достоинстве, силе духа, и ловлю себя на мысли: я никого не могу убедить в том, что это – правильно. Никого и никак. И ты, мой уважаемый читатель, волен сделать любой выбор. Ты можешь забыть обо всех этих «розовых соплях» сразу после того, как прочтешь – твое право.
Единственное – подумай вот над чем. Мир живет по законам сохранения энергии. Это и физики доказали, это и в отношениях между людьми работает. И к нам возвращается все то, чем мы делимся с окружающими. Делимся добротой, уважением, участием – есть шанс, что когда-то получим что-то подобное в ответ. Гарантии нет, но шанс есть. Делимся злобой, хамством, желанием унизить – все то же самое: не факт, что твое дерьмо вернется к тебе в первозданном виде, но шанс велик. Тем более что и математически это должно быть понятно: если все вокруг будут хамами и жлобами, вероятность того, что ты прочувствуешь агрессию соседа на себе, близка к ста процентам. Но с каждым новым «слабаком» эта вероятность уменьшается. Парадокс: даже один человек может изменить целую систему. И создать новую.
Настоящую.
На лифте или по лестнице?
Мы должны гордиться сегодняшней молодежью. Потому что, невзирая ни на что, эти ребята и девчонки учатся. В отличие от нас, разгильдяев, которые в свое время не видели проблемы в том, что они двоечники. Сегодняшние дети учатся. Я вижу это по своей дочери, по детям своих друзей и знакомых. Это, конечно – повод для гордости. Но я недаром сказал, что они учатся, несмотря ни на что. Что я имел в виду: в последнее время наши политики позволяют себе довольно странные высказывания, которые, на мой взгляд, дезориентируют молодых людей. Политики вслух мечтают, а находящиеся в их орбите чиновники тут же бросаются исполнять эти мечтательные пожелания высоких начальников, при этом транслируя их и всячески тиражируя.
О чем же грезят большие начальники? Приведу пример. Как-то давно я услышал речь министра образования Фурсенко. Он сообщил следующее: ошибка советского образования заключалась в том, что оно готовило творца; мы, заявил г-н Фурсенко, должны подготовить квалифицированного потребителя. Думаю, что цитирование – почти стопроцентное: слова врезались в память. До сих пор помню оторопь, которая меня охватила тогда.
Наши дети молодцы, они сопротивляются этим планам взрослых. Они стараются, хотят учиться, ищут себя, хотят свободы. Сложность в том, что их не учат созидать. Меня, двоечника, в свое время учили – и научили! – созидать, производить. Меня научили: за тобой должно стоять не слово, а дело. И когда сегодня кто-то пытается меня упрекнуть в том, что я злоупотребляю пиаром, я удивляюсь и предлагаю моим критикам обратить внимание на то, что за каждым моим публичным высказыванием, за каждым фактом привлечения внимания к своим проектам стоит конкретное дело: фильм, спектакль, издание журнала, выставка, фотоальбом и т. д. Этому меня научили еще в школе, и за это я ей благодарен. Очень хочется, чтобы и наши дети этому научились.
Еще один ныне здравствующий политик как-то заявил (а за ним, разумеется, повторили все, кто пониже рангом), что для молодежи должны существовать социальные лифты. Хочется сказать этим людям: социальные лифты были у вас. Это вы из коммерческих структур могли пойти в государственные чиновники или в депутаты, а потом – нажатием кнопки – еще куда повыше. Почти все остальные граждане страны живут по-другому. И хорошо, что по-другому.
Это все – идеи наших политиков. Можно даже, наверное, так понимать, что это не просто идеи, а их кредо – коль скоро они об этом заявляют во всеуслышание.
Уважаемые молодые люди – если вы читаете сейчас эту книгу – обращаюсь к вам: никакого социального лифта не должно быть. Лифтов нет. Есть ступеньки, лестница. Идешь по этой лестнице – шлеп! Упал. Поднимаешься. Если сможешь, идешь дальше, взбираешься на следующую ступеньку. Снова: шварк! Упал. Встаешь, карабкаешься дальше. Это – естественный, нормальный путь. Когда ты поднимешься наверх, ты будешь там себя ощущать твердо, за тобой будет опыт восхождения. А когда ты заезжаешь на верхние этажи на социальном лифте, – любое нажатие кнопки мгновенно спустит тебя на этаж с номером ноль.
Мне кажется, идеи растить из молодых людей «квалифицированных потребителей» рождаются в головах тех начальников, которые сами не слишком далеко ушли от этого стандарта и просто не могут себе представить, что жизнь может быть организована иначе. В их жизни посещение вернисажей и театральных премьер стало частью общепринятого формата, кодекса поведения – не больше. И такие люди сегодня приходят, например, в театр с убеждением, что это – место, где они могут расслабиться. В то время как расслабляться нужно в сауне, а в театре – думать и переживать.
А сегодняшние молодые люди думают. На моем спектакле «Цветы для Элджернона», который уже несколько лет идет в РАМТе, в зале постоянно много молодежи. А ведь это спектакль драматический, не комедия. Это спектакль, на котором люди плачут. И молодые зрители на протяжении всех этих четырех лет приходят в театр и рыдают, ревут в голос. Такое может происходить, только если человек не только существует как физиологическая особь, но живет как личность. Пусть плачут. Пусть думают. Ведь это – тоже процесс образования. Который, как мне кажется, ничуть не менее важен, чем запоминание исторических дат и имен.
Сейчас дети в стрессе. Их окружают непонятные и очень сомнительные идеи, которые выдают за правильные. Они это чувствуют – как чувствуют всякую фальшь. Как следствие, они перестают доверять нам, взрослым, уходят в интернет – со всеми его плюсами и минусами. Почему? Да потому что там, в интернете, они чувствуют себя более свободными. И в том, что сегодня молодежь ищет свободу в интернете (уж что они там находят на самом деле – это другой разговор), – в этом виноваты родители и, наверное, какие-то неполадки в школе.
Нынешний министр Ольга Васильева, как показалось, хочет вернуться к модели созидательного образования. Прекрасно. Умение рассуждать и мыслить самостоятельно гораздо важнее, чем умение выбрать из нескольких вариантов ответа правильный и кликнуть по нему. Самому доходить до мысли, которая родилась у Лермонтова или Толстого, – рассуждая. Тогда это интересно и полезно, тогда это становится той самой лестницей жизненного опыта, по которой человек поднимается, становясь личностью. Запомнить чужие знания и идеи – полдела; это все равно что прокатиться на социальном лифте: один раз может сработать, но «вдлинную» этот способ – проигрышный.
Хорошо, если государство поддерживает что-то по-настоящему умное, живое – то, что интересно молодым людям. Лишь бы только под умным, живым и ценным мы понимали примерно то же, что подразумевают под этими словами наши дети. Им – жить.
Сеть
Вас не пугают автомобили на улицах? Меня – нет. И большая чугунная сковородка, невесть откуда взявшаяся на нашей семейной кухне в незапамятные времена и совершенно незаменимая до сих пор, тоже мне не страшна. Хотя я знаю, что автомобиль запросто может превратиться в орудие убийства, а уж сковородка, да еще в умелых руках – тем более. Это я к тому, что меня иногда начинают пугать интернетом. Ну да: слежка, полная прозрачность персональных данных, контроль за личностью – в общем, понятно, о чем речь. А вы ожидали чего-то другого? Вы думаете, что если существует возможность следить за миллионами человек по всему миру, то на всем земном шаре не найдется ни одного злодея, который этой возможностью не захотел бы воспользоваться? Найдется обязательно.
Меня волнует другое. Я примерно знаю, где и когда мне стоит опасаться автомобиля, и представляю себе те обстоятельства, в которых чугунная сковородка может угрожать моему здоровью. С интернетом ситуация иная: он гораздо ближе, и он уже почти везде. И я понимаю и вижу, что проблема – она не во Всемирной сети заключается. Она – в людях, которые этой сетью пользуются. В нас.
Однажды на глаза попалась новость: в каком-то регионе России прикрыли сайт, который использовался как площадка для размещения заказов на убийства. Об этом пишут в новостях. Это событие какого масштаба? Почему событие, которое в самом этом провинциальном городе обсуждалось бы день-другой, а потом о нем забыли, – почему об этом должен знать я? Прихлопнули этот сайт – тема закрыта. Но благодаря сети, а, может быть, в большей степени, благодаря тем людям, которые с помощью сети пытаются заработать, вдруг эта история вторгается в мою жизнь. Любой региональный скандальчик, который никогда прежде не вышел бы за пределы, допустим, театра, маленького, душевного, живущего своей очаровательной и немного скучной жизнью в каком-нибудь провинциальном городке, благодаря интернету может превратиться в новость федерального значения. Кто и зачем это сделал?
Ты ныряешь во Всемирную сеть – бездонную, в которой, кажется, ты в мгновение ока можешь просто раствориться, но – ау! Будь готов встретиться с самим собой. Тебе хочется посмотреть порно или ты хочешь увидеть коллекцию древностей Британского музея? Выбор за тобой. Знаешь ли ты, чего ты хочешь на самом деле?
Всемирная сеть – питательная среда для проявки наших истинных желаний, новое зеркало души для современного общества. Раньше «зеркалом души» называли глаза человека, но мы ведь хорошо умеем притворяться и прятать свои глаза от чужих взглядов, поэтому эта формула уже не универсальна. Сегодня настоящим зеркалом души стал интернет. И заглянуть в это зеркало можешь не только ты сам, но и те, кто невидимо, незаметно и безлико стоят по ту сторону монитора и пристально присматриваются к тому, что интересно тебе. Это портрет Дориана Грея, который могут увидеть посторонние.
Я не воспринимаю сеть как инструмент общения. Не моя тема. Вообще. Мне кажется, что социальные сети в этом смысле – как плотина с неподключенной турбиной: вода течет, бурлит, давит огромной массой, а электричество не вырабатывается. И света нет. Если бы эту турбину подключить – тогда такая река могла бы освещать города. Интернет-общение не освещает города. Пустота и суета. При этом я знаю людей, которые всерьез озадачены тем, что должны опубликовать в день один-два поста – обязательно. Они живут этим. На выходе-то что? Это как высморкаться. Безусловно, в сети есть люди яркие. Один-два процента. И они воспринимают интернет только как площадку.
Благодаря интернету сегодня любое высказывание, любое мнение – самое ничтожное, самого малозначительного человека – становится публичным. И может приобрести свойство бронебойного снаряда. Только теперь этот снаряд разрушает не технику противника на поле боя, а личности других людей. И благодаря тому, что интернет содержит информацию и выстроен на информации, он стал удобным инструментом для проникновения в мозги людей – напрямую, без хирургического вмешательства. И с помощью сети туда, в мозги, одинаково просто доставить и добро, и дерьмо. Фильтр – тот, который способен остановить любой вирус и любую попытку взлома, – это единственно сам человек, его свободная воля.
Дистанция сократилась – между людьми, между человеком и источником информации. Это преимущество? Да. Это недостаток? Да!
Конечно, есть еще много людей, для которых интернет – антисреда. Вот, например, когда я заявил, что новый «Модерн» начнется с выработки нового дизайна, визуального языка – в том числе с переделки сайта театра, в ответ посыпались сердитые комментарии, разгневанные критики стали напоминать мне знаменитую фразу Станиславского про то, что театр начинается с вешалки. А не с сайта, – уточняли они. Мне же кажется, что сегодня театральный сайт выполняет функцию виртуального гардероба – места, где раньше люди здоровались, общались, знакомились по-настоящему, вживую. Разумеется, я начал обновление театра с репертуара, не с сайта. Просто переделать страницу в интернете быстрее и легче, чем поставить новый спектакль. Спектакль займет больше времени, потому что это – важнее.
Вообще, сегодня мы не можем оценить интернет. Пока не можем. Слишком мало времени прошло. Мы оказались свидетелями появления интернета плюс мы находимся фактически внутри. Посмотреть со стороны мы не способны. Мы еще ничего не поняли.
Смотрите, что произошло. Казалось, в XX веке уже все самое ценное на планете было поделено, и новым миллиардерам появиться было неоткуда. Нефть, газ, минералы – все уже кому-то принадлежало. И тут – раз, и появились эти ребята в джинсах и кроссовках, которые стали у истоков целой новой мегаиндустрии – информационной. И эти люди вдруг стали значить ничуть не меньше, а может быть, и больше, чем нефть и газ.
Понятно, что сеть на то и сеть, чтобы в нее ловили. Да, понятно, что нас пытаются не выпустить за пределы этого выдуманного пространства (оно вообще существует? Пусть философы ответят). Но любая сеть – она все равно с дырками. Способы побега из нее? Никаких технологических секретов. Если ты разворачиваешься лицом к открытому океану реальной жизни и видишь, как на острове Бали абориген зажал коленями деревяшку и у тебя на глазах режет потрясающей красоты скульптуру из дерева; или ты смотришь – человек в грязных, заштопанных на заднице штанах стоит на четвереньках между рядов виноградника и собирает виноград; или тебе повезло встретить ранний июньский рассвет на берегу реки где-нибудь в Сибири – все, ты свободен.
Россия как-то слишком ускорилась. Похоже, это дают о себе знать наши национальные комплексы: после того как разрушился «железный занавес», мы ринулись «догонять и перегонять» Америку. Жаль, не получилось в более серьезных сферах, но в плане интернета, кажется, мы уже впереди. Не заметив этого. Хотя, когда какой-нибудь министр рапортует о том, что, мол, в будущем году мы подсоединим все больницы и поликлиники страны к скоростному интернету, сразу хочется спросить: а как там, в этих поликлиниках и больницах, с отоплением? Или с лифтами? А то ж мы любим все новое – забыв, что старое сломалось.
Не исключаю вариант, что в какой-то момент Всемирную сеть просто отключат. Носят же за президентами «ядерные чемоданчики». Будут носить еще один – с тумблером отключения интернета. И носить его будет сорокалетний юноша в джинсах и кроссовках. У этого решения, между прочим, очень неплохие перспективы, а у самой истории – отличные шансы стать сценарием для фильма. Правда, пока я не могу представить себе, что начнется после того, как кто-то воспользуется этим тумблером.
Мне хочется верить, что со временем интернет людям просто надоест. В конце концов, нормальному человеку не может нравиться то, что за ним постоянно следят, пытаются просчитать его поведение и предлагают обратить внимание на то, что ему вроде бы как должно быть интересно. Но потом я понимаю, что уже сейчас где-то в Силиконовой долине сидят молодые лохматые программисты и пишут программы, которые будут делать то же самое, но уже менее навязчиво, нейтрально-вежливо, почти стерильно. И они будут залезать в мозги, допустим, уже не только через зрение, но и через обоняние и осязание. И все это будет очень удобно. И обходиться без этого уже будет почти невозможно. И вот в такие моменты я гоню от себя циничные мысли о том, что сегодня битва идет не столько за мозги, сколько за, простите, за седалище: если нашей попе удобно и тепло – большего нам и не нужно. Человек может отказаться от всего: веры, Родины, любви – только не от удобств. Интернет вечен?
Хулиганская маска Илона Маска, или Тяжесть признания чужих побед
После того как я увидел Starman’а и летающую в открытом космосе «Теслу» Илона Маска, мне стало грустно, и вот почему. В последнее время соотечественники, располагающие большими суммами денег, появляются в публичном пространстве лишь в связи с какими-то странными (не сказать – скандальными) историями. Кто-то развлекается на личной яхте с девочками из «эскорта», кто-то возит этих девиц целыми самолетами на свои тусовки, у кого-то обнаруживаются кварталы незадекларированной недвижимости и невесть откуда взявшиеся миллионы.
А в это же самое время миллиардер Маск упорно воплощает свой проект. Человек на собственные деньги построил ракету, самую большую в истории космоса. Вещь, которая поражает воображение, – как два двигателя ракеты Falcon Heavy вернулись на землю. То, что десять-пятнадцать лет назад в фантастических голливудских фильмах рисовали с помощью компьютеров, сегодня произошло в реальности. И пусть эксперты спорят, можно ли многократно использовать эти модули, – они теперь все равно будут опираться на тот опыт, который приобрел фантазер Илон Маск.
Что же мы – первооткрыватели космоса? Как страна в лице своих официальных персон отреагировала на это выдающееся событие? Запуск назвали «трюком», рекламной акцией «Теслы». При чем тут это, граждане? Илон Маск, бизнесмен, когда встал вопрос – что загрузить в ракету в качестве полезной нагрузки, решил отправить в космос собственный автомобиль. Который, напомню, – также является его проектом и также представляет собой достижение в области технологий. По-моему, совершенно нормальное решение. Боюсь представить, что отправили бы в космос российские олигархи, если бы вдруг они построили собственную ракету-носитель.
Я скучаю по сумасшедшим, фантастическим проектам. Ностальгирую по тому полету фантазии, который отличал в былые годы советских ученых и конструкторов космической техники. Поэтому я радуюсь тому, что находится новый сумасшедший фантазер – Илон Маск, который воплощает в жизнь свои идеи, кому-то кажущиеся безумными. Я радуюсь фантастической красоте космических пейзажей, которую вижу благодаря Starman’у. Друзья, ну нельзя же не согласиться с тем, что это полет – это как минимум очень красивый и колоссальный по масштабам спектакль. Под великолепную музыку Дэвида Боуи в открытом космосе летит автомобиль, в котором сидит «водитель» – Starman. Я уже не говорю о научной или технической стороне дела. Браво! Молодцы! Я как режиссер могу себе представить еще более фантастическое продолжение всей этой истории: в какой-то момент Starman оживет, у него, как у Карлсона, из спины вылезет пропеллер, и он спустится на Землю. Не удивлюсь! Это безумие, скажете вы? Но создавать по-настоящему новое способны только сумасшедшие люди, одержимые, настоящие хулиганы от науки, от творчества, а теперь – еще и от бизнеса.
Вот это – мастер-класс американского миллиардера: как талантливо превращать свои миллиарды в социальное, научное, даже художественное явление. Уважаемым российским олигархам хорошо бы обратить внимание. Потому что состязаться, у кого яхта длиннее, кто больше проституток закупил на день рождения, или – хорошо, отдаю должное вашему подвигу, это действительно непросто! – кто плотнее смог пристыковаться к нефтяной или газовой трубе, – ну это же скучно, это банально и неинтересно. В то время как вы «решаете вопросы» в банях и развлекаетесь с девками, люди преодолевают земное притяжение – и делают это красиво.
Я не поклонник Америки. Я там бывал, работал и составил свое представление о тамошней жизни. Америка – не мой идеал. Но я и не про Америку сейчас, я – про нас. Меня огорчает, что мы разучились принимать чужие победы. Это не слишком хорошо нас характеризует. Я ничего не знаю про космос, зато я разбираюсь в кино и театре. Так вот, если какой-нибудь хороший артист знает про своего коллегу, что тот – по-настоящему серьезный, достойный внимания режиссер или актер, он всегда с готовностью это признает. И радуется этому. Напротив, плохой актер считает хорошим только себя. Он замечает у других только плохое, мусолит в закулисных разговорах чужие недостатки, настоящие и вымышленные. Про такого я точно знаю: он – ноль без палочки. Уверен, в любой другой отрасли это правило соблюдается. В том числе и в космической.
А тем «випам» из Роскомоса, которые презрительно фыркают в сторону Илона Маска, я вот что скажу: сочувствую я вам. Сегодня у вас спутники падают примерно с той же частотой и регулярностью, с которыми при академике Королеве происходили успешные запуски. Маск силами частной компании построил частный космодром – а что там у нас с космодромом «Восточный», который возводит фактически вся страна? Сколько лет прошло, сколько денег потрачено? «Ангару» вы так и не запустили – а теперь вроде бы как и незачем уже: Маск со своим «Фальконом» устроил такой демпинг, который обещает вам очень непростые времена.
Найдите в себе силы – порадуйтесь за человека, который делает большое дело! Поступите благородно: наградите Илона Маска медалью Циолковского или медалью Королева – он заслужил. Это будет правильно и красиво. Что, Грымов фантазер? Да! И только так!
Время нефти
Мне все время казалось, что это слово из пяти букв в последнее время поменяло свое значение. И расхожее выражение «нефть – это кровь земли» уже не совсем верно. Точнее, его недостаточно для того, чтобы понять, что такое нефть – сегодня.
Люди на публике всегда, почти всегда – другие, нежели наедине с самими собой. И иногда эта разница очень велика. Человек публичный может выглядеть совершенно респектабельно и внушать доверие, в то время как в душе он может оставаться получеловеком с разрушенной совестью, отталкивающим и ненадежным.
У каждого из нас есть возможность выбора и поступка. У каждого есть возможность для высказывания – в различной степени, но есть. Беда в том, что далеко не каждое высказывание несет в себе что-то доброе и хорошее. Фильтром, плотиной в этом случае служит как раз публичность: никто не хочет выглядеть в глазах общества безнравственным уродом и сволочью.
Так вот, труднее всего людям прятать свое внутреннее существо именно тогда, когда они находятся где-то рядом с нефтью. Она – как химический реагент для совести: рядом с нефтью люди легче становятся самими собой, раскрываются. И легче поддаются искушениям, которые приносит все та же нефть. Искушения, в общем, обычные – деньги и власть, но тут просто масштаб гораздо более серьезный. А поскольку есть люди, облеченные большой властью (в том числе и властью распоряжаться нефтью), то тот же вопрос – «Кто кого: ты – нефть или нефть – тебя?» – относится и к целым государствам.
Вспомним двадцатый век. Какие чудовищные жертвы принесло человечество просто ради того, чтобы один получил больше нефти, чем другой. Сколько крови пролито. Если нефть – кровь земли, то при клиническом анализе этой «крови» мы должны обнаружить большой процент крови настоящей, человеческой. Поэтому я бы назвал нефть не кровью земли (не надо клеветать на землю, она здесь ни при чем), а кровью цивилизации. По крайней мере, в прошлом веке было именно так.
По жилам нашей цивилизации течет черная маслянистая кровь. Эта кровь горит, поднимая к небесам клубы грязного дыма и чада. И с этой кровью выплескивается на свет Божий грязь и копоть человеческих душ.
Нефть заканчивается. Хорошо это или плохо – Бог весть. Время нефти прошло. Человечество изобретательно: оно уже придумало для себя новые «реагенты», которые искушают и коверкают людей не хуже, а даже лучше, эффективнее, масштабнее, чем нефть. Ту же информацию. Сегодня смартфон, лежащий в кармане, играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем бензин в баках наших автомобилей. Он стал частью, отделом нашего мозга, внешним хард-диском для него. Нам еще кажется, что мы управляем им, когда на самом деле процесс этот все более и более взаимообразный.
…Я абсолютно уверен, что нефть – нам не друг. Мы без нее не можем, но это не значит, что мы должны ее любить. Черная вязкая жижа – не то, ради чего стоит чем-то жертвовать.
Лезвие в руке сжимайте
Месть вообще штука очень холодная. Она просыпается, когда внутри угасают эмоции, и человек погружается в рассуждения о том, как ему теперь наилучшим способом отплатить за обиду, оскорбление, боль. Наилучшим – это значит самым болезненным способом. Человек тратит свои силы и таланты на то, чтобы придумать способ причинить другому зло. И мир в его мыслях становится монохромным, цвета, разнообразие, глубина жизни – все это уходит куда-то. Условно говоря, такого человека можно сравнить с рыбой, которая больна солитером, – она красивая, но она плавает у поверхности воды и не может погрузиться в глубину, уйти на дно. Она не может быть со всеми, потому что внутри у нее живет паразит.
Месть – чувство, которое, как мне кажется, сродни трусости. Потому что месть – это то, что происходит уже после, потом, когда конфликт вроде бы затих. «После драки кулаками не машут». После драки натачивают клинок, чтобы где-то в тихом месте пустить его в дело. И готовят этот клинок обычно те, кому не хватило духу ввязаться в драку. Человек, который в состоянии аффекта или даже в полном рассудке бросается бить морду обидчику, – это совсем другое.
Интересно, что к мести прибегают, как правило, люди неглупые. Само желание отомстить – это такое самооправдание для того, кто не нашел в себе силы ответить обидчику лицом к лицу; его еще для себя самого надо суметь выстроить, это оправдание. Это – во-первых. А во-вторых, придумать и продумать способ мести тоже надо уметь.
Но ум сам по себе не делает тебя сильным и хорошим человеком. По-настоящему сильный человек, я уверен, – милосерден. Об этом я думал, когда работал над картиной «Интимный дневник Анны Карениной». Когда погружаешься в атмосферу романа, и мысли не возникает, что Каренин – униженный, оскорбленный и обманутый человек – может отомстить своей любимой женщине. Даже после ее предательства, измены. Каренин не может мстить – он другого размера человек.
Приведу пример из жизни. Я выпускал фильм «Казус Кукоцкого», и он должен был идти на НТВ – уже была договоренность. И все же мы долго не могли его выпустить, несмотря на то что уже получили за него всевозможные награды. Я позвонил тогдашнему руководителю НТВ Кулистикову, но, к сожалению, меня с ним не соединили, а потом мне никто не перезвонил. И я очень на это обиделся. Думаю – ну как же так? Почему даже здесь – эта дурацкая особенность поведения русских начальников? Я позвонил Люде Улицкой и говорю: слушай, вот такая ситуация. Ну как же такое может быть?!.
И тут у меня родилось желание мести. За которое мне стыдно. Я тогда сказал Люде: «Вот возникнет когда-нибудь обратная ситуация, и он придет ко мне с просьбой – я вспомню этот случай». И она сказала мне очень правильную вещь: «Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что, если я мщу, я продолжаю череду мести. Это же абсолютно зэковская традиция: для того, чтобы самоутвердиться, нужно кого-то унизить. Эту цепочку надо рвать и разрушать».
Эту цепь надо разрывать. Хотя, конечно, месть приносит человеку какое-то удовлетворение – темное, тяжелое. В нашей жизни вообще полно такого рода «развлечений»: минута кайфа, а потом – как будто весь изнутри испачкался. И не факт, что отмоешься. Да, наверное, каждый человек переживал соблазн отомстить. И справляются с ним не все и не всегда.
Разорвать цепочку зла можно только его противоположностью – любовью. Но это очень трудная штука. Даже Толстой, когда его спросили, можно ли простить предательство и не мстить за него, сказал, что – да, конечно, предательство можно простить; но это – как руки сломать: обнять уже нельзя. Обнять человека, который причинил боль мне или моим близким, – нет. Я тоже этого не могу. Не хватает сил. Но думать о мести и становиться похожим на рыбу, больную солитером, мне не хочется. Хочется быть глубже, хочется глубже погружаться в жизнь.
Я по-настоящему счастливый человек, потому что, пусть иногда в состоянии аффекта, я могу начать что-то такое резкое думать про человека, но, слава Богу, меня Господь уберег от того, чтобы начать обдумывать способы расплаты с ним за зло, которое он мне сделал. Я никогда до этого не доходил.
Месть живет во времени, питается им. Ей нужно довольно много времени. И если она его заполучает, она отравляет твое время, твою жизнь – холодом, ненавистью, злобой. Так зачем я буду тратить на это свое время – может быть, самое ценное, что у человека есть?
No Future?
Искусство – область, в которой человек способен преодолевать любые законы и границы. Это область, где достижения ограничиваются лишь мерой таланта и способностью к фантазии. А о чем всегда, во все времена фантазировали люди? Конечно, о будущем. Всем и всегда было интересно, каким оно будет. В тех же «Трех сестрах» герои Чехова увлеченно спорят о том, какой будет жизнь в будущем: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». Всем и всегда хотелось помечтать о том, что будет завтра. Всем и всегда. Но не нам и не сегодня.
Чтобы пояснить, что я имею в виду, задам вопрос: давно ли вы видели захватывающий фильм, читали интересную книгу, посвященную будущему? С книгами, может быть, картина еще не настолько очевидная (Пелевин трудится один за всех, подтверждая своим исключением всеобщее правило), но кино как будто позабыло, что существует такой жанр – фантастика. То, что его, кино, вообще у нас сегодня мало, – это еще полбеды. Беда еще в том, что в отечественном кинематографе умерло целое направление. И именно то, в котором, казалось бы, поле для творчества особенно широкое: фантастика.
Тридцать лет назад у нас была кинофантастика для детей – «Гостью из будущего», «Приключения Электроника» до сих пор пересматривают нынешние школьники; были фильмы для подростков – «Отроки во Вселенной», «Москва – Кассиопея»; были картины для взрослой аудитории – «Солярис», «Кин-Дза-Дза». Что сегодня? Сегодня отечественное кино стремительно, однозначно и единодушно стремится в прошлое. И содержательно, и концептуально. Мы несемся в прошлое, фактически живем им – не сказать, чтобы уж стараясь его как-то переосмыслить. История важна, не спорю. Но жизнь устроена так, что она движется только вперед, из прошлого, через настоящее – в будущее. Внимательно рассматривая прошлое и иронизируя (на грани глумления) над настоящим, наше кино сегодня как будто не хочет знать будущего. Фантастических фильмов нет, никаких – ни смешных, ни страшных, ни утопических, ни антиутопических. Ни для взрослых, ни для детей.
Уж, казалось бы: ну взяли за образец Голливуд – так копируйте! Между прочим, там с этим жанром все в порядке: киностудии создают огромное количество фантастических фильмов, очень серьезных по художественному и даже научному уровню – вон, говорят, в процессе работы над «Интерстелларом» ученый-консультант даже открытие сделал. В Голливуде снимают «Бегущий по лезвию 2049» – просто шедевр с точки зрения картинки. Господи, они даже мультик сделали фантастический – такой, в котором смысла заложено больше, чем в 99 % современных «взрослых» отечественных фильмов; имею в виду «Валл-и».
У нас за последние годы на ум приходит один только покойный Герман-старший с его «Трудно быть Богом». Понятно: Стругацкие выручают. Но Стругацкие формулировали свои пророчества уже десятки лет назад! Это было видение будущего – оттуда, из 60-х и 70-х годов прошлого века! Они пытались угадать, каким станет человек будущего, как он изменится, как изменится мир. Вообще-то, они пытались понять, как будем жить мы с вами. Потому что мы уже живем в их будущем. Где – наши попытки заглянуть в наше будущее? Их почти нет. Во всяком случае, их нет ни на ТВ, ни на киноэкране.
У нас понятие будущего как будто выпало из системы координат. Взрослые люди не загадывают дальше даты очередной зарплаты или пенсии, молодежь погружена в виртуальную реальность компьютерных игр, комиксов и соцсетей. Фэнтези не в счет: сказочные миры и настоящая фантастика – не одно и то же. Мечтать и фантазировать о реальном будущем стало как-то неуместно. Немодно? Неэффективно?
У меня есть вариант объяснения – почему так вышло. Страх. Нам страшно. Мы боимся заглянуть в завтрашний день. Это двойственное состояние: с одной стороны, мы онтологически, нутром ощущаем угрозу – а вдруг завтра мир схлопнется, как карточный домик? С другой – наша трусость вызвана куда более примитивными, «житейскими» соображениями: ну, допустим, плюнул ты на все, махнул сто пятьдесят для храбрости – и давай гадать-фантазировать о будущем родного государства. Во всю ширь, по-нашему: эх, раззудись, плечо! …А вдруг угадаешь? Да не дай Бог!
Как это случилось с нами – тема отдельного разговора. Люди прошлого были устремлены в будущее гораздо сильнее, чем мы – люди настоящего. Звучит коряво, но куда деваться: мы так живем. Да, вера советского человека в светлое будущее во многом была инструментом манипуляции, когда ради сияющего завтра людей заставляли жертвовать нормальной жизнью сегодня. И все же: если сравнить эту веру – наивную, иррациональную, ни на чем реально не основанную (на то она и вера!), и сегодняшнюю нашу циничную уверенность, что будущее светлым быть не может ни при каких обстоятельствах, – я не знаю, что хуже.
В любом случае мне больше нравятся движение вперед, поиск, выдумка, творчество. И, если мы будем больше думать о будущем, возможно, изменится и наше настоящее.
Ушел фантазировать.
Х.Х. Хроники худрука
За кулисами
Кулисы – это как шлюз на космической станции. Космонавты-артисты вплывают в него перед выходом в открытый космос – на сцену. Именно здесь совершается переход из одного состояния в другое. Нервное возбуждение, торжественное ожидание, напряжение, – это состояние между двумя жизнями: твоей собственной и твоего героя. Это состояние междупутья: если повезет, в последнюю секунду все напряжение спадет, ты проживешь следующие два часа в «открытом космосе» и вернешься героем; нет – твой кислород может закончиться неожиданно быстро, и тогда – проблема.
Здесь, за кулисами, артисты проживают, возможно, самые содержательные, самые наполненные минуты своей сценической жизни, – минуты перед выходом к зрителю, минуты, когда еще не прожиты и не пережиты мысли и чувства их героев, когда они все, целиком – в тебе, когда, как кажется, возможно все. Если бы мы могли помнить наши ощущения перед моментом собственного рождения – думаю, это были бы очень близкие ощущения.
Это состояние настоящей невесомости. И именно в этой невесомости совершается вся магия театра. Здесь, за кулисами, враги становятся друзьями, потому что всем им сейчас выходить в открытый космос – на сцену – и жить там. А выжить на сцене одному очень трудно.
Здесь отступают проблемы, которые мучают тебя в обычной жизни, потому что твоя жизнь остается там, позади. Она, конечно, никуда не денется, она подождет тебя, пока ты не вернешься на свою «космическую станцию». Но здесь, перед кулисами, она смиренно отходит в сторонку.
Каждый артист встречается со своим «космосом» – сценой – по-разному. Ритуал у каждого свой: прикоснуться к подмосткам, прижаться щекой к занавесу, посидеть у края сцены. И я не знаю ни одного человека сцены, который воспринимал бы кулисы как техническое пространство. Многие артисты, особенно старшего поколения, привыкли к тому, что если есть «за кулисами» – то, значит, обязательно должны быть «сепаратные переговоры», тайны, секреты. Да, таинственное нечто, происходящее за кулисами театра, принято скрывать от посторонних глаз, но вовсе не потому, что это – стыдно. Это просто очень личное.
Это пространство преображения, трансформации. Я своими глазами видел, как хорошие, большие артисты перед выходом на сцену менялись в комплекции и росте. Они как будто растворялись в сумраке, а вместо них появлялись, проявлялись, как на фотобумаге, новые лица, личности. В такие моменты меня не оставляет ощущение, что я присутствую при родах.
И, может быть, правильно, что эта магия скрыта от глаз зрителей. Потому что пережить мгновения за кулисами, как и невесомость, нужно только самому. Нельзя рассказать – как это: стоять в тени театрального занавеса за минуту до выхода на сцену. Как нельзя рассказать о том, что происходит внутри человека, который, к примеру, стоит в церкви. О чем он думает, что переживает, о чем молится и молится ли вообще – это все сокрыто от посторонних глаз. И со стороны это не выглядит никак, просто человек стоит в церкви. То же самое и здесь.
И идея развернуть театральную сцену кулисами к зрителю, изменить привычный ракурс, поставить эту «избушку» «к лесу задом, ко мне передом» – она, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность, до сих пор не реализована в полной мере, во-первых, потому что это задача невероятной сложности (это все равно что научить человека видеть руками, наощупь), а во-вторых, потому что, возможно, это не позволяет сделать сама природа театра. Я человек, не чуждый мистики, и в данном случае я подозреваю, что театр просто устроен таким образом, что какие-то его законы нарушить невозможно.
Как невозможно нарушить законы космоса.
Почему жив русский театр?
Самое удивительное для меня в нынешнем театре – то, что он вообще сохранился, каким-то непостижимым образом. Мало того: значение театра в России возросло. Это очень вдохновляет. Я далек от того, чтобы говорить – мол, в современном российском театре все прекрасно. Но уже не редкость, когда какая-то постановка в региональном театре вызывает общероссийский резонанс, о ней говорят, спорят, она заставляет людей думать – это уже хорошо. Кто-то, конечно, получает такой резонанс через скандал, переходит черту, срывается. Но причина резонанса в таких случаях все равно в интересе публики к театру, а не к скандалу. Если бы людям был неинтересен театр, никакой скандал на сцене не вызвал бы серьезного отклика. В целом же театр живет, и это здорово. Кому сказать спасибо за то, что российский театр жив? В первую очередь энтузиастам, которые вместе с театром пережили и переживают порой очень непростые времена. Государству, которое поддерживает современный театр.
Недавно, будучи в Париже, я решил сходить в театр. Выбрал очень приличную постановку, с хорошими артистами и прессой – четыре с половиной звезды. Неожиданно легко купил билет. Тридцать евро. В Москве средняя цена билета выше. И попасть на хороший спектакль не так-то просто.
Пришел я на Монмартр. Обычный парижский театр – хороший, уютный, небольшой, с историей. Попутно замечу: большие драматические театры у нас – это тоже советское наследие: только в СССР строили театры-храмы. Этот факт тоже оказал влияние на формирование отношения к театру в обществе. Во всем мире только оперные театры могут похвастаться большими, помпезными, вызывающими восхищение зданиями, а в России это обычное дело даже для областного театра драмы.
Так вот. Что меня поразило в том парижском театре: среди собравшейся там публики я был самый молодой. Заметно выделялся своим юным возрастом. Впрочем, тот же самый опыт был у меня и в других европейских странах. В Европе в театры ходит публика в диапазоне 60+. В такие моменты я всегда возвращаюсь к своим ощущениям от встречи со зрителем, который приходит на мой спектакль «Цветы для Элджернона» в московском РАМТе. Это в большинстве молодые люди. Разумеется, в Европе существует экспериментальный, молодежный театр, с теми же непременными скандалами, но он находится где-то в стороне от общего течения. В основном же это – серьезный разговор с очень взрослым зрителем.
Мы сумели сохранить связь с гораздо большей аудиторией. Предполагаю, тут срабатывает единственное правило: люди идут только туда, где им интересно и где они слышат и видят что-то важное для себя. Есть еще одна отличительная черта в нынешнем российском театре. Она не относится к каким-то «основополагающим принципам», она просто есть – простая и немного трогательная. Весь русский театр, который исторически зародился в провинции, говорит со зрителем в основном на «московском наречии». Этот невольный акцент – это ни плохо ни хорошо; просто так сложилось. Калуга, Кострома, Воронеж – стиль узнаваем везде.
Однако обратите внимание: сегодня публика, ищущая для себя чего-то важного, идет не только в театр, она идет на многочисленные выставки и в музеи современного искусства. Почему так? Почему во всех крупных городах мира есть музеи современного искусства? Почему люди приходят, платят деньги за билеты и смотрят на странные работы странных авторов? Мне кажется, эти две сферы – современное искусство и театр – сейчас находятся на стадии столкновения. Не катастрофического, но концептуального. От этого контакта может произойти взаимное оплодотворение, должно родиться какое-то новое звучание, новый язык, которым заговорит новый театр.
Во многом этими надеждами объясняются мои шаги по обновлению театра «Модерн». Я очень рад, что к нам в театр приходят новые люди – артисты, художники, драматурги, композиторы, с которыми мы творим нечто новое, живое. Потому что цепляться за прошлое и в этом искать свой стиль – это тупик. В легендарном для русского театра XIX веке играли и говорили со зрителем языком девятнадцатого века, в XX веке Ефремов, Евстигнеев и другие великие артисты были понятны всем, потому что проживали на сцене жизнь человека двадцатого века. В XXI веке артист или режиссер будут понятны зрителю, только если они смогут передать ему свои мысли и переживания современным языком.
Так во всем: если в юности я, для того чтобы посмотреть хорошие фотографии современных европейских фотографов, ходил в библиотеку и выписывал там журналы в читательском зале, то теперь я просто беру смартфон и захожу на какой-нибудь фотосайт. И теперь не нужно брать с собой лезвие и втихаря вырезать из этих журналов понравившиеся снимки, как делал в свое время я – каюсь! было такое! – а можно просто скопировать файл к себе на телефон. Наша жизнь сильно изменилась. Изменилось значение многих слов. Изменились технологии. Мы сами поменялись. Театр не может не измениться вместе с жизнью.
Я убежден, что сегодня талантливая молодежь может найти и реализовать себя именно в театре. Говорю это, опираясь на личный опыт. Когда-то я занимался рекламой, видеоклипами, потому что это было безумно интересно. Я очень горжусь этим периодом. Потом было интересно заниматься телевидением. Но шоу-бизнес, клипы, реклама, телевидение – все это совсем неинтересно сегодня. Журналистика неинтересна. Неинтересно кино. Сегодняшнее кино предало своего зрителя. Оно подменило тайну кинематографа физиологическим процессом: включается экран – выделяется слюна, и зритель принимается жевать свой попкорн.
Только театр по-прежнему интересен зрителю. Может быть, потому что театру по-прежнему интересен человек. Не как физиологическая особь, а как личность. И этот взаимный интерес надо сохранять и поддерживать всеми силами.
Народный артист и «народный артист»
Нынче такое время – о народных артистах сам народ вспоминает, только если случится какой-нибудь скандал. Вот, Николай Басков и Филипп Киркоров снялись в клипе, который даже не заслуживает серьезного обсуждения – настолько он неинтересен и пошл. Но интересен сюжет, развернувшийся вокруг этой истории: широкая общественность, возмущенная клипом, выступила с призывом лишить Баскова и Киркорова званий народных артистов России. Народ, присмотревшись к своим артистам, заявил, что они – не его артисты, не народные. Народ, так сказать, против. Ну, против и против. Пошумели, погалдели, пофлудили в соцсетях – все успокоилось. Все стало как прежде: народ – отдельно, артисты – отдельно.
Пришел я как-то на спектакль, в котором играл один из любимых моих актеров, Саша Балуев. Купил программку, решил почитать. Вижу в составе труппы: «заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии такой-то, лауреат такого-то конкурса…» – добрых пять строк одних званий и титулов. Отдельным абзацем существует артист. Следующим в списке значился «актер Александр Балуев». Про спектакль ничего говорить не буду. Хороший был спектакль. И артисты хорошие. Вне зависимости от количества строк в программке напротив их имен.
Конечно, вся эта система маркировки – «народный», «заслуженный» – придуманная сразу после революции, была очень удобна для большевиков. И Сталин в 1930-е годы замечательно использовал этот рычажок управления творческой интеллигенцией. Система была проста: довеском к званию, которое само по себе могло согреть лишь самолюбие его обладателя, шли вполне ощутимые «коврижки» в виде дачи, пайка, повышенной ставки в театре. Размер и степень сладости «коврижки» зависели от масштабов звания: свои заслуженные-народные артисты были в союзных и автономных республиках (труба пониже, дым пожиже), а были заслуженные-народные Советского Союза: тут уже слой масла на хлебе был вполне ощутим. И уже без иронии: деньги, которые государство доплачивало артистам со званиями, иногда были очень и очень кстати.
Система была эффективна: я не историк советского искусства, могу ошибаться, но вот так, навскидку, на память не приходит ни один пример того, как народный или заслуженный артист Советского Союза выступил бы на каком-нибудь съезде ЦК КПСС против «генеральной линии партии».
А что такое вообще народный артист – если без кавычек, по сути? Это не тот, кого узнают на улице: тогда народным артистом мог бы стать любой более-менее настырный человек из телевизора – хотя и такие варианты тоже имеют место. По моему мнению, народный артист – это уже не только и не столько звание как признание таланта и творческих достижений, а образ жизни. С этой точки зрения народными артистами были такие разные личности, как, к примеру, Алексей Баталов и Владимир Высоцкий. Ну и что, что у первого был значок и корочка о присвоении звания, а у второго – нет? Они оба воплощали в себе представления подавляющей части населения нашей страны о том, каким должен быть человек. Они оба были «агентами влияния». И их влияние распространялось не только на сцену, оно ощущалось и вовне.
Жаль, но именно этого сегодня не осталось. Те же Киркоров с Басковым – они звезды, кто спорит, но в чем заключается «народность» этих и подобных им исполнителей, для меня загадка. В том, что они собирают полные залы, может быть? Не знаю, насколько это показательно. А между тем вне поля зрения широких народных масс существуют многие и многие по-настоящему заслуженные и по-настоящему народные артисты – существуют очень скромно, на грани с бедностью. Бог с ними со званиями – званиями сыт не будешь; вот кому доплачивать нужно – этим старикам, которые были кумирами для наших отцов, этим героям ушедшей эпохи, на которых хотели быть похожими мы сами. Поэтому я был очень рад услышать на одной из встреч худруков московских театров предложение Николая Губенко: хорошо бы, чтоб Москва выделила какие-то деньги на прибавки к пенсиям тем народным артистам-москвичам, которые, несмотря на звание, сегодня живут, потеряв страну, не сумев приспособиться к «прекрасному новому миру», который мы построили. Они сегодня просто выпали из жизни, почти забытые государством и людьми. Моя искренняя благодарность московским властям за то, что это предложение было услышано и реализовано. Государство вспомнило об этих достойнейших людях. Будем помнить и мы.
Исторический факт, которым хочется подвести итог: в числе первых народных артистов Советской России были Шаляпин и Собинов.
Нестабильность как метод, или Как стать актером
Я не знаю, существует ли такая профессия – актер. Но я точно знаю, что, чтобы стать актером, нужно учиться. Просто потому, что без этого не может развиваться любой человек, каким бы делом он ни занимался.
В 1975 году выдающегося советского оператора Валентина Железнякова пригласили на фестиваль «Свемы» (был такой производитель фото- и кинопленки в Советском Союзе). Там показывали лучшие работы, снятые на эту пленку. Когда же его попросили поделиться впечатлениями от увиденного, он назвал это «конкурсом среди горбатых». Потому что художественного изображения там не было. И пленка была не способна дать изображение, которое можно назвать художественным, и, главное, общий уровень работ был невысоким.
Вот это – «конкурс среди горбатых» – я часто вспоминаю, когда вижу, что и как снимают сегодня. Сегодня технологии позволяют сделать любое изображение, снять с любого ракурса, достичь любого качества «картинки». Но художественного изображения по-прежнему нет. А единственный критерий успеха – касса. Ну, так если даже с этой точки зрения смотреть на отечественное кино – где они, кассовые сборы? Где он, коммерческий успех? Две-три картины в год с трудом возвращают вложенные деньги.
Мое поколение режиссеров (а именно оно сегодня считается вроде бы как главной производительной силой российского кинематографа) воспитывалось на замечательных фильмах прошлого. Возьмем, к примеру, советские фильмы о войне: «В бой идут одни старики», «Отец солдата», «Они сражались за Родину» и сегодняшние военные фильмы. Сегодня это скорее компьютерные игры, которые никого не трогают по-настоящему. Почему так произошло? Ответ простой: сегодня фильмы снимают не для того, чтобы поделиться со зрителем своими переживаниями, болью, счастьем, – нет. Их снимают, чтобы заработать деньги. И, естественно, на вооружение взят передовой опыт в этом деле – голливудский. А Голливуд борется за расширение аудитории. И потому в фильме не может быть ничего по-настоящему страшного, тяжелого для восприятия – иначе получишь плохой прокатный рейтинг, фильм не возьмут кабельные компании и т. д. Поэтому теперь и у нас все – понарошку.
И главное: те люди, которые снимают сегодня все эти «фильмы понарошку», – это как раз те, кто преподает нынешним студентам творческих вузов основы мастерства! Нет уже тех личностей, о которых мы читали в книжках, им на смену пришло новое поколение, оно чуть иначе смотрит на вещи. Чему тогда удивляться, что молодые актеры выходят из стен театральных вузов, имея не совсем точное представление о том, что такое – хорошо, а что такое – плохо в современном театре и кинематографе. Авторы как-бы-фильмов учат студентов как-бы-творчеству.
Я говорю об этом не с чужих слов. Как художественный руководитель театра «Модерн», я занимаюсь кастингом актеров, знакомлюсь с выпускниками театральных вузов. Так вот, впечатления у меня очень неоднозначные. Девяносто процентов мне не нравится вообще. Я смотрю на молодых ребят и понимаю, что они ошиблись с выбором профессии. Вот, стоит передо мной красивая девушка. Уверен: в детстве все вокруг умилялись: ах какая красавица, какие глаза, ах как хорошо малышка читает стихи, как поет, как уверенно выступает на утренниках! Ну просто актриса! И вот, девочка вырастает с этой мыслью, поступает в театральное училище, учится там несколько лет, заканчивает его, – а она не актриса! Все при ней, но она не актриса. Таких девяносто девять процентов. Юноши приходят. Этакие Актер Актерычи. В моей юности такие ребята считались «душой компании», они обычно сидели в окружении девушек и играли на гитарах. Но они не актеры, они хорошие ребята с гитарами. Этих Актер Актерычей видно с десятого ряда, невооруженным глазом. Как так получилось, что им не подсказали с самого начала правильный путь?
Конечно, есть настоящие талантливые ребята. Их, как всегда, очень немного. А основной материал, из которого сегодня создается российское кино, – это как раз эти самые Актер Актерычи. Вот поэтому, стоит три минуты посмотреть любой российский сериал – и, даже не разбираясь в сюжете, вы сразу чувствуете: не то, не верю.
Интересно, что выпускники театральных вузов на собеседованиях одним из первых задают мне вопрос: «Сколько вы будете мне платить?» Хочется спросить в ответ: а может, это вы будете платить театру за то, что здесь вы получите настоящее, живое образование? За то, что именно здесь вы – если повезет, в меру способностей – ощутите атмосферу настоящего творчества, мучительного, радостного, полного сомнений, ошибок и иногда – открытий? Все мы прекрасно знаем, что еще в советские времена система образования работала так, что по окончании вуза молодого специалиста еще пару лет «обкатывали» в условиях реального производства. Та же необходимость профессиональной адаптации сохранилась до сих пор. И выпускник театрального института – не исключение. Это очень сырой материал, с которым надо кропотливо и тщательно работать минимум полгода, прежде чем он сможет что-то показать на сцене. Так, может, это вы, юноша, заплатите театру за это полугодичное обучение? Выйдя из студенческой мастерской, вы еще далеко не мастер, вы – начинающий подмастерье, которого берут в надежде на результат в будущем. Очень многие этого не понимают. В этой связи я иногда задумываюсь, насколько нужны студенческие театры при творческих вузах. Не лучше ли отправлять ребят во взрослые труппы на практику – регулярно, помногу? Чтобы они с самого начала поняли, что творческая жизнь – это непрерывное движение, а не реализация бизнес-плана ради увеличения кассовых сборов.
Кстати, про Америку. Там есть мощная индустрия, производится огромное количество фильмов ежегодно – тысячи картин, сериалов, тысячи каналов. Соответственно, есть сотни актерских агентств, актерских школ, творческих студий. В этих школах, между прочим, никто по четыре года не учится. Я часто об этом думаю, когда смотрю на молодых ребят и девушек, потративших четыре года (может быть, четыре лучших года!) своей жизни на то, чтобы приобрести – что? Ремесло? Так я даже особого ремесла не вижу. Да, техника важна: координация, голос, движение и так далее, – но и этого нет!
Притом, что, я же знаю, они много учатся, они по-настоящему живут этим – но где же результат? Почему молодые люди, которые пять минут назад были модно одеты, громко болтали и искренне смеялись на улице, при выходе на сцену превращаются в старичков? В свои девятнадцать они читают фрагменты …из «Анны Карениной». Никто не читает современную прозу, никто не читает современные стихи. Да пусть я даже не пойму эти стихи – лишь бы только передо мной был живой человек! Нет: молодой человек закрывает глаза, вдох-выдох и – щелк! – перед тобой на сцене старичок.
Кто их этому научил? Зачем? Меня удивляет, как педагоги и руководство творческих вузов, как руководство Союза кинематографистов периодически жалуются на то, что в стране нет хороших режиссеров. Секундочку. Вы же как раз за это и отвечаете. Вы набираете студентов, учите их – кому вы адресуете свои жалобы в таком случае?
Есть еще один момент. Я считаю, что сила образования в том, что оно никогда не прекращается. Точнее, это условие настоящего образования: если оно не прекращается, человек возрастает в своем деле, в своей профессии. Для творческого человека образование и вдохновение – вообще, взаимосвязанные понятия. Но так получилось, что вся наша система – она выстроена как раз вопреки тезису о необходимости непрерывного образования: есть школы, колледжи, институты и университеты, которые молодые люди заканчивают, – и все. Дальше – новый этап: работа, семья, дети и т. д. О том, где, как и чему может научиться, например, тридцатилетний человек, речь вообще не идет.
И это касается в том числе и театра, и кино. У зрелых актеров нет никаких возможностей для обучения. Да, понятно, что серьезный актер не успокаивается на достигнутом, он ищет пути для самообразования – он учится на репетициях, учится, читая книги, слушая музыку. Многие хорошие актеры регулярно ходят на спектакли, чтобы посмотреть на то, как работают их коллеги, чтобы поучиться каким-то их творческим находкам. Но этого недостаточно.
Кстати, есть и противоположные примеры (и таких немало), когда актер или актриса, достигнув какого-то уровня, с облегчением взбираются на свой небольшой пьедестал и уже – ни ногой, никуда. Им неинтересны чужие достижения, они не ходят на чужие спектакли, не смотрят кино, не спорят о творчестве. Они начинают побаиваться что-то менять: они нашли свой стиль, язык, – зачем трогать то, что и так неплохо работает? А ведь без эксперимента, без интереса к новому нет развития. Трусоватый актер – такое тоже бывает, и нередко. Многие боятся сделать неверный шаг – и не делают никакого.
Это я к тому, что главной целью системы театрального образования, как мне кажется, должна быть сознательная нестабильность. Нестабильность как свойство движения, изменения, эксперимента, самой жизни, наконец.
Театр Кабуки: как взобраться на японскую «колокольню»?
О театре Кабуки сложно говорить, если воспринимать и оценивать его с позиций традиционного, понятного нам русского театра. Хотя эти позиции – они правильные, проверенные временем, завоевавшие авторитет в мире и т. д. И отечественный зритель имеет полное право судить о театре именно с этой точки зрения: созвучно ли то, что он видит, русской театральной традиции, или нет; нравится ли ему то, что он видит, или не очень. Но в данном случае это «нравится» будет шаблоном, который помешает увидеть и почувствовать главное.
Ну, например: с традиционной русско-европейской точки зрения, японские артисты не могут петь, вообще. Они хрипят, они постоянно срываются на фальцет. Они играют на как будто расстроенных, дребезжащих инструментах. Все выглядит так, будто спектакль ставили пятилетние дети: они соорудили совершенно детсадовские декорации, за которые, кажется, загляни – увидишь ночные горшки с вишенками и грибочками; дети разрисовывали чудовищным, кричащим гримом лица актеров, они же заставили взрослых актеров странно двигаться по сцене, странно говорить – как будто это не живые люди, а фарфоровые куклы. Плюс – звучащие на протяжении всего спектакля «закадровые» пояснения – нараспев, под музыку:
– Миядзаки встал на ноги! – на сцене актер поднимается с пола.
– Он возмущен! – сообщает зрителю «ведущий», и Миядзаки гневно хмурит брови.
– У него болит горло! – подсказывает нам дотошный комментатор, как будто и так не видно, что происходит: актер хватается за горло и корчит гримасу боли и страдания.
Это фантастически наивно и примитивно. Если смотреть глазами «классического» зрителя. Да, Кабуки – это дети, играющие в куклы! И, как у детей в их играх все очень честно, по-настоящему – так и здесь.
Кстати, мимоходом – про актеров. В программке перед спектаклем увидел, что напротив имен и фамилий некоторых актеров стоят цифры, допустим, «Сэндзяку Накамура, 4». Это значит, что данный артист – артист в четвертом поколении. Он представитель актерской династии. Красиво. И почему-то в данном случае семейственность не идет во вред делу.
На Кабуки нужно сходить хотя бы раз в жизни, обязательно. Идти туда надо не то чтобы подготовленным (невозможно за два дня перед спектаклем проникнуться многовековой японской культурой и вдруг стать японцем), но нужно постараться поймать правильный настрой. Как мне кажется, главное при этом – понимать, что ты идешь созерцать красоту. Особенную, не природную, но рукотворную. Потому что спектакль театра Кабуки – это невероятный труд, начиная от создания кимоно и заканчивая тем же гримом. И тогда вы окажетесь на нужной волне, вы сможете ощутить и оценить работу актеров. Потому что актеру существовать на сцене в таких условиях, в условиях наивного, очень простого, очень открытого повествования, – это чрезвычайно сложно.
И вот, когда вы предварительно переварите в себе все эти детали, тогда вы сможете оценить то, что увидите на сцене, – эти наивные притчи, с простым юмором, но с большой глубиной. Эти сцены – обращение к чувствам, эмоциям напрямую, без выкрутасов. Там нет ничего лишнего. «Лихо сюжет закручен» – это не отсюда. Здесь все происходит как в жизни. Где и горе, и смех происходят одновременно, и каждый человек переживает и «переваривает» эту странную смесь по-своему. Здесь есть образы, настроение и характеры героев. Потрясающе показанные.
Рукотворность и темперамент – вот, с моей точки зрения, лозунг театра Кабуки.
Очень советую при случае посетить спектакль японского театра. Если получится, берите билеты поближе к сцене – тогда вы сможете увидеть много важных мелочей, выразительных деталей. Первое и самое очевидное: мужчины, играющие женщин, – удивительное впечатление. Какие у них потрясающие движения, как они поворачивают голову, как двигаются кончики их пальцев, – это восторг. Они не притворяются женщинами, они не кривляются, отнюдь! Когда я ездил в Японию, мне было неудобно разглядывать женщин на улицах. Хотя это было потрясающе интересно: молодая женщина на улице Токио, которая идет в традиционном кимоно. С этой точки зрения театр Кабуки – уникальная возможность рассмотреть все в подробностях: как японки соединяют колени, когда садятся, как постукивают их деревянные сандалии гэта, когда они маленькими шажками идут по комнате, как они поводят мизинцем, наливая чай, как двигаются их брови в разговоре. Это уникальное зрелище. Это пиршество для глаз, это гимн художественной мысли и творчеству.
Я допускаю, что это может не понравиться. И, наверное, кому-то это покажется скучным и непонятным. В конце концов, иному даже Сикстинская капелла кажется огромным залом с богато разукрашенным потолком, а детские игры – глупой и шумной возней. Дело хозяйское.
Для меня театр Кабуки – лишнее напоминание о том, что та наша «колокольня», с которой мы, взобравшись туда однажды, судим о всем новом и непривычном, – она одна из тысяч. Залезать на каждую новую, конечно, стоит каких-то усилий. Эта японская «колокольня» – очень красивая, оттуда открывается прекрасный вид.
Дивный новый мир now
Приятно делиться радостью, но иногда приходится делиться болью. У нас в театре два сезона успешно идет постановка «О дивный новый мир» по Олдосу Хаксли. Это знаменитая антиутопия, почти пророчество английского писателя о будущем человечества. То, что эта книга сегодня продается почти в каждом книжном магазине, – свидетельство того, что Хаксли здорово угадал. Очень во многом. И именно поэтому я выбрал этот роман для постановки в «Модерне». Но я не ожидал, что поле действия романа распространится на нашу актуальную, сегодняшнюю жизнь, выйдет за пределы сцены и затронет реальных людей. Однако произошло именно так.
Год назад, в премьерный сезон преподаватель литературы некой московской школы (я не называю имен, фамилий и номера школы; о причинах – позже) решила сводить свой класс на наш спектакль. Она купила в кассе десять билетов. А потом, когда состоялась премьера «Юлия Цезаря», мы позвонили ей и спросили – не хотите ли вновь прийти с ребятами, посмотреть Шекспира? «Нет, – говорит она, – не смогу, потому что меня уволили». Это был настоящий шок. Что же случилось?
Случилась невероятная и в то же время такая узнаваемая история. Когда ребята посмотрели спектакль, они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях – в свойственной им манере: мол, спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу: как так?! Какая свободная любовь? Кто допустил? Конфликт дошел до директора школы, и он уволил учителя.
Сам директор не видел спектакля. И он не знает, что у нас на сцене не то чтобы нет «обнаженки» – ни единого скабрезного слова не звучит! А разговор о пресловутой «свободной любви» идет с точки зрения здоровой человеческой совести, которая не может примириться с тем, что «все принадлежат всем», которая воспринимает эти отношения не как любовь, а как порок больного общества, скатывающегося в пропасть. Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет – как нет ничего подобного и в самом романе Хаксли.
Почему не называю имен действующих лиц? Да потому что меня об этом попросила сама жертва. Да, она ушла из школы и устроилась на новую работу. И просила не поднимать скандал по крайней мере до тех пор, пока она не выйдет на новое место работы. Я, со своей стороны, обещал ей не называть фамилий, но оставить этот случай без огласки я не могу.
За что уволили учителя? За то, что он добросовестно, творчески подходил к своей работе? Вы много знаете школьных учителей, которые ходят со своими учениками в театр, чтобы увидеть сценическое воплощение знаменитого литературного произведения?
Я не поленился, полез в интернет и нашел список обязательной и дополнительной литературы для чтения летом для учеников одиннадцатого класса. Будь я этим самым директором N, у меня бы волосы на голове встали дыбом: о ужас! «Петр Первый» Алексея Толстого! Да там же кровища льется рекой – царь казнит стрельцов, разбойнички лютуют на лесных дорогах, староверы целыми скитами себя сжигают! А «Тихий Дон»? Дичь и мрак! Ужасы Гражданской войны в красках – где рейтинг 18+?! А «Сто лет одиночества» Маркеса с его кровосмесительным кошмаром, убийствами и самоубийствами, темной тягой к запретному? Кого уволить за это?!!
А что мне как худруку делать с горьковским «На дне»? С произведением, которое десятилетиями входило в школьную программу, по которому несколько поколений выпускников писали сочинения? Там ведь тоже есть и насилие, и пьянство, и распущенность. Там человека убивают! Мы сделали это произведение понятным для современного человека, в том числе и молодого зрителя, – и что получается: теперь надо ждать новых сюрпризов со стороны поборников какой-то новой, железобетонной нравственности? Чем еще удивят нас адепты современного неопуританства?
Меня серьезно беспокоит та атмосфера в нашем обществе, которая порождает подобного рода случаи. Нравственность – очень правильная и нужная вещь. Но когда вокруг начинают происходить подобные странные вещи, закрадывается сомнение: а не сбит ли нравственный «прицел» у нынешних охранителей и запретителей? Учителя, который пытается заставить своих учеников думать самостоятельно, расшевелить их, отвлечь от «решебников», – уволить! Вы, борцы за нравственность, понимаете, что вы делаете? Не только с этим учителем – с детьми? Вы понимаете, что благодаря вам «дивный новый мир» побеждает уже сегодня?
Возможно, прав был Вознесенский, когда вложил в уста своих героев грустные слова: «Смешно с всемирной тупостью бороться, свобода потеряла первородство». Но я не хочу заранее соглашаться с этим и опускать руки. Со всемирной тупостью можно и нужно бороться, и бороться с нею нужно самым ценным и светлым, что у нас есть, – культурой. Я хочу чувствовать себя гражданином. Я хочу жить в здоровом обществе. Уверен: вы – тоже.
Блестки в вакууме
Я благодарен судьбе за то, что меня всегда куда-то заносит, в какие-то новые для меня области – и всегда заносит крайне интересно. Вот, я уже третий год занимаюсь театром – ежедневно, круглосуточно. Конечно, театральный опыт был у меня и прежде, но чтобы вот так напряженно работать в театре целых два года – такое со мной впервые. Каждый день – большое поле ответственности, множество задач – хозяйственных и творческих. За это время я изменился. И почувствовал я это в совершенно неожиданных для себя самого обстоятельствах.
Меня пригласили на одно мероприятие из числа тех, что принято называть статусными. Никогда не любил ходить на такие тусовки, но нужно же как-то зарабатывать деньги. В общем, я оказался среди непростой публики: там были люди богатые, были просто состоятельные, были желающие такими казаться – всякие. Еда, шампанское – все как положено. Стол был накрыт дорого, белой скатертью, на которой были разбросаны блестящие новогодние конфетти. Это было красиво. Я сидел, ждал, когда мне надо будет выйти на сцену и вручить награду – формальную, но претенциозную. От нечего делать гонял вилкой одну из этих блесток и поймал себя на такой мысли: если бы сейчас мне сказали: Юрий, там у нас полмешка этих конфетти осталось – вам не нужно? Я бы с удовольствием забрал их в театр – украсить театр к Новому году. Потому что денег не хватает, и мы с миру по нитке собираем все, что только может пригодиться. В общем, я был бы счастлив, если бы мне подарили килограмм этих блесток.
Как-то давно меня жизнь свела с великим режиссером Петром Наумовичем Фоменко. Так вот, эти блестки напомнили мне один случай. Петр Наумович обычно никуда «ради статуса» не ходил. Но театру нужны были спонсоры, и его уговорили сходить на юбилей какого-то банка. Вокруг него суетились всякие помощники и начальники: «Дорогой Петр Наумович, уважаемый Петр Наумович…» Он стоял, молчал, жевал усы. И тут открываются двери в огромный банкетный зал. А там рядами – столы, накрытые по-настоящему богато, по-купечески. Изобилие. Фоменко посмотрел на это все и говорит: «Сейчас съедят бюджет моего театра». Развернулся и ушел.
Ходят разговоры о том, что нужен закон о меценатстве. И бизнесмены говорят, мол, если государство согласится списывать налоги, мы будем давать деньги на поддержание культуры. Но если сегодня тратятся миллионы и миллионы безо всякого списания налогов – почему мы уверены, что что-то изменится с принятием нового закона? В конце концов, есть люди, которые помогают нуждающимся и поддерживают культурные, образовательные, социальные проекты уже сейчас, в нынешних условиях; и они делали это и вчера, и позавчера.
Но я сейчас не о благотворительности. Я скорее о том, что почему-то сохраняется и другая «традиция»: миллионы тратятся непонятно на что. И мне искренне жаль тех людей, которые их тратят – и никак не могут отыскать среди богато накрытых столов, среди шика и блеска дорогих украшений, среди рассыпанных толстым слоем сияющих конфетти – простую радость. Неудивительно: деньги уходят на пустое. Все эти «мероприятия» – одна большая черная дыра, бездонная зияющая пустота. И сколько ни бросай туда денежных знаков – лучше не станет. И – как в анекдоте: «шарики не радуют». Да – красивые люди, да, модные артисты, гонорары, банкеты, салаты, бриллианты, но все – пустота. «Самая стильная семья года», «Самый-самый человек в Москве» и прочие глянцевые «звания» – зачем эти странные премии-пустышки? Кому они нужны? Зачем проводятся эти дорогущие церемонии, в организацию которых вкладываются серьезные компании-спонсоры?
Я не прибедняюсь: я сам не бессребреник, и деньги мне нужны. Но последние два года научили меня тому, что любая потраченная тысяча рублей может работать очень по-разному. И от всех этих мероприятий у меня возникает одно странное ощущение: как будто работает некий двигатель, причем работает на полных оборотах, но он будто подвешен в вакууме – и от него никакой отдачи, даже тем, кто заливает в его баки горючее. Внутри этого вакуума все едино: что новогодние блестки, что скучающие лица гостей – все не имеет никакой ценности, никакого смысла. Потому что – вакуум.
Есть множество других, более действенных способов получения удовольствия. Вот есть у тебя десять миллионов – отдай их больным детям, построй какой-нибудь приют для собак. Профинансируй постановку спектакля, наконец! Пригласи на премьеру всех соседей по даче, всех знакомых девчонок: «Это мой спектакль, я – продюсер, я современный Дягилев!» И насладись тем, что твои деньги создадут нечто хорошее – а не улетучатся бесследно вместе со следами похмелья после очередного банкета.
В вакууме нечем дышать. И жить в нем невозможно. И создавать что-то – тоже. И даже разговоры о том, что нам надо вместе созидать нашу жизнь, наше будущее – все мимо: в абсолютной пустоте не услышать ни звука. Но вырваться из этого вакуума не так уж сложно. И свежий воздух – он тут же, рядом. Вдохните его.
Кино. Затерянный мир – 2
Рапсодия. Мелодия. Пародия
Я принадлежу к тем любителям кино, которые все еще верят, что фильмы можно создавать не только про героев комиксов. Я в меньшинстве, среди тех, кто любит кино про живых людей. Поэтому я так ждал выхода на экраны «Богемской рапсодии».
Наверное, нужно гнать от себя соблазн сравнивать эту картину с «Дорз» Оливера Стоуна. И не ждать того же переворота сознания, того же потрясения, какое испытали многие из нас, посмотрев в свое время фильм про Моррисона. Переворота и потрясения я не испытал, и это вполне понятно. Причина не в том, что «Дорз» были в юности, а теперь мы все уже солидные дяди и тети. Причина в том, что Оливер Стоун – это большой режиссер, это личность со своим видением мира. В «Богемской рапсодии» режиссер – просто необходимая техническая позиция, которую необходимо было обеспечить. Ее и обеспечили. Уверен, в кресло режиссера студия могла посадить еще пару-тройку кандидатур, и это никак не повлияло бы на конечный продукт. Слишком явно создатели опасались кого-то чем-то задеть или обидеть.
Сегодняшнее голливудское кино не интересует ничего, что способно встряхнуть зрителя всерьез. Конечно, хорошо, когда есть захватывающий сюжет, когда в кровь зрителя поступает адреналин, когда он, зритель, временами даже забывает жевать свой попкорн, – но еще лучше, когда и интересно, и попкорн съеден. Это идеальный баланс. А потому все должно быть как бы не совсем по-настоящему, понарошку.
Вот и здесь: Фредди заразился СПИДом, и все мы, взрослые люди, понимаем, как это произошло. Он был геем. В фильме нет почти ничего, что способно дать зрителю представление, что на самом деле переживал музыкант, который проходил странный и, возможно, страшный путь от мальчика, воспитанного в сугубо традиционной парсийской семье – семье зороастрийцев-огнепоклонников! – до мужчины-гомосексуалиста, целиком воспринявшего западную поп-культуру и традиции и ставшего одним из символов этой культуры. Как менялся Фредди, как ломалось его сознание, что происходило в его душе – это вопросы вежливо вынесены за скобки. И потому все, что связано с этой стороной жизни музыканта, в том числе и его болезнь, воспринимается не слишком всерьез.
Есть «фирменные» вечеринки, но показаны они также достаточно вежливо. Выглядит похоже? Похоже, но не более того. Костюмы те же, а настроения нет. Я не почувствовал той адской смеси из красоты, порока и эстетского бреда, которой, по рассказам участников, они были пропитаны. Не почувствовал той атмосферы, которая, с одной стороны, поднимала Меркьюри на вершину, а с другой – буквально раздавливала его своей непомерной тяжестью.
Как бы то ни было, Рами Малек в роли Фредди прекрасен. Правда, впечатление от его работы лично мне слегка смазывает ощущение, что человеку с таким интересным лицом и такими чувственными глазами, с такой способностью к преображению так же легко будет сыграть и Джимми Хендрикса, и Майкла Джексона. Но, если серьезно, Малек – единственный из всей компании актеров, кто прекрасен и по-настоящему интересен. Жаль, что остальные присутствующие в кадре оказались даже не персонажами «на подпевках», они просто не соответствовали главной звезде картины по уровню. «Феррари» с жигулевскими дисками – так примерно это выглядит. Такое впечатление, что их отбирали по единственному критерию – внешней похожести. Этого мало.
А почему фильм заработал почти миллиард в России – это мне как раз очень понятно. Знаете, в опере, когда случается провальный спектакль, поставленный по великому классическому произведению режиссером-неумехой, говорят примерно так: «Погасите свет на сцене». Потому что и беспомощность режиссера, и слабая игра артистов, и все другие недостатки отступают на задний план, когда звучит великая музыка.
Успех «Богемской рапсодии» именно в этом: в великой музыке. Представьте: в кинозалы пришли не только мы, давние любители творчества The Queen, но и нынешние молодые ребята и девушки, большинство из которых знакомо с этой музыкой «по касательной». И вот эти ребята оказываются фактически на настоящем большом концерте The Queen – когда звучит по-настоящему великая, сложная, мелодичная, наполненная невероятной энергией музыка, когда популярные песни, которые эти мальчики и девочки слушали максимум в наушниках своих айфонов, гремит из профессионального концертного оборудования, в отличном качестве, да еще и – спасибо создателям, додумались ничего не менять! – в оригинальном исполнении.
Вы бывали на настоящем рок-концерте? Когда целый стадион подпевает любимым исполнителям, когда сотни тысяч зрителей (называть их зрителями даже язык не поворачивается; это, конечно, не зрители, это участники действа!) выплескивают вовне такую энергию, что, кажется – ее можно схватить руками, и она живет, колышется и бушует вокруг, унося тебя в непонятные параллельные вселенные? Вот, все это и чувствуют сегодняшние зрители, приходя в кино. Конечно, это пробирает.
Единственное – меня просто расстроили финальные сцены, с тем самым знаменитым концертом Live Aid. Тут, видимо, «аффтары» не удержались и таки выдали «фишку», смонтировав кадры с Рами Малеком и его ряжеными помощниками с документальной съемкой – общими планами настоящего концерта. Почему нельзя было показать в концовке фильма настоящего Меркьюри, настоящих Мэя, Дикона и Тейлора? Почему не дать нынешнему зрителю почувствовать ту оглушительную энергию, которая бушевала на сцене стадиона «Уэмбли»? Самое чудовищное: режиссер придумал сочетать крупные планы с артистами и общие планы документальной съемки, воткнув между ними средние планы сегодняшней «массовки», пытающейся и не способной изобразить тот экстаз, который переживали счастливые свидетели исторического концерта 1985 года.
Если мы с помощью киноязыка хотим рассказать о выдающемся человеке, о его непростой судьбе, становлении, восхождении к вершинам популярности и прочих сложных темах, не стоит заканчивать рассказ кривляньем и пародией. А в данном случае получилось именно так, очень жаль. Очень хотелось «погасить свет на сцене».
Тем не менее фильм неплох. И, конечно, он относится к разряду тех картин, которые надо смотреть исключительно в кинотеатре.
Вспомнили добрым словом великого музыканта. Хорошо.
Плохой Человек Wanted
Как-то совершенно случайно для себя посмотрел «Бронсона» с Томом Харди. Фильм 2008 года, основан на биографии реального человека, Чарльза Бронсона, который сидит где-то в Англии в тюрьме вот уже 30 с лишним лет, по большей части в одиночке.
Чтобы не грешить многословием: «Бронсон» – это кино об абсолютном зле. И это вам не «Восставшие из ада» или «Техасская резня». Это не развлекательный ужастик, это по-настоящему страшно, и это по-настоящему проникает в душу. При этом фильм – не о Бронсоне-преступнике. Несмотря на то, что главный герой – настоящий преступник-рецидивист. Он даже не полусумасшедший маньяк, он – нечто, что осталось от человека, в котором человек умер. Фильм не о знаменитом заключенном, хотя почти все действие в этой картине происходит в стенах тюрьмы. Главное в картине – тот странный момент, когда у нелюдя, у недочеловека, у животного вдруг проявляется дар: он пишет картину, и всем становится понятно, что вот этот опасный урод – настоящий художник.
«Бронсон» – это фильм о художнике, которому никто не помог им стать.
Если бы в детстве этот гиперактивный мальчик оказался не в секции бокса, а встретил нужных, правильных людей, которые научили бы его рисовать, лепить из пластилина, – все могло бы быть иначе. Всю свою жизнь его талант искал выход, и не находил – там, где нужно. Он выплескивал свои необыкновенные, нестерпимые эмоции не на холсте. Он грабил, калечил людей. А что происходило у него в душе, – то же самое происходит в душе любого художника. С той лишь разницей, что каждый автор находит разные способы высвободить свою творческую энергию, свой вопль, который невозможно удержать внутри: один высекает на стене пещеры изображение стада мамонтов, другой постится, молится и рождает «Троицу», третий создает «Черный квадрат».
Том Харди прекрасный актер. Что меня встряхнуло, помимо всего прочего: воплощая на экране полубезумного Бронсона, некоторые сцены он играет полностью обнаженным – и ни на мгновение не возникает и тени неудобства от созерцания этой наготы! Никакой стыдливости – ни на экране, ни у зрителя. А потому что иначе – невозможно. Без этого инфернальный образ Чарльза Бронсона просто не создать. И этот образ – перемазанного мазутом, бегающего и орущего голого урода – он грандиозен.
И вот о чем еще подумалось. Советский кинематограф знал отрицательных героев. Даже подонков, хотя это случалось на экране нечасто. Перестав 30 лет назад быть советским, наше кино увлеклось уже настоящими, беспримесными уродами. Покойный Балабанов с этого начал, в буквальном смысле, и никуда, по большому счету, от этой темы не уходил. Потом количество подонков в кино стало зашкаливать, про них появились целые сериалы. А потом (то есть сейчас, в наши дни) – то ли зритель устал, то ли команду дали, но отрицательные герои почти вообще ушли из российского кино. Сегодня наши фильмы – только про хороших людей. Отрицательные персонажи, конечно, остались, но их уже не боишься, не презираешь – в них просто не веришь. Как, впрочем, и в положительных. Мы снимаем про героев, про великих спортсменов, про выдающихся исторических деятелей. Это само по себе не плохо. Но это ошибка. Потому что в жизни не бывает, чтобы вокруг – одни герои и святые. Почти всегда – наоборот. Вон, лента новостей выносит сюжеты: то девочку за письмо Путину травят, то правоохранители «трамбуют» очередного заключенного. Зло рядом.
Поэтому я убежден, что в наше кино должен вернуться Плохой Человек. Действительно, по-настоящему плохой, не персонаж комикса или компьютерный злодей. В конце концов, «Хороший, плохой, злой» – это не просто название классической картины. Это формула, описывающая действительность: на одного хорошего человека приходится минимум пара плохих и злых. Даже в сказках это правило действует. Так что пусть на экране остаются негодяи и подлецы, так мы лучше научимся управляться с ними в реальной жизни.
Порвали Парвуса – и никто не кается
После того как я высказался по поводу «Матильды», меня записали чуть ли не в эксперты по историческому кино. Это не так. Я смотрю фильмы отчасти как обычный зритель, отчасти – как человек, кое-что знающий о кино. Так или иначе, когда меня попросили поделиться мнением по поводу двух «революционных» проектов – фильма «Троцкий», снятого Первым каналом, и «Демона революции», которого показала «Россия», – я согласился. Не берусь разбирать историческую достоверность изложенных в фильме фактов – это удел историков. Хочу вернуться к разговору о кинопроизводстве как ремесле, в хорошем смысле этого слова.
Мне было трудно смотреть эти фильмы. Потому что приходилось постоянно заставлять себя не обращать внимания на нестыковки и откровенные ляпы. Вот Сталин заявляет Троцкому: ты, мол, не можешь быть иконой революции, потому что ты еврей. Граждане, вы задумайтесь для начала: почти все руководство ВКП (б) принадлежало одной национальности; это были евреи. «Икон» другого извода там просто не могло быть. Но дело даже не в этом. Большевики со своей идеей Интернационала – они ведь сознательно не придавали большого значения вопросу национальности. Ну не было этого параметра в их системе координат! Об этом тогда никто не говорил – и тем более Сталин, будучи грузином.
Или вот: стоит на улице полицейский и среди бела дня читает подпольную большевистскую газету «Искра»! Да еще и с фотографией Троцкого. Друзья, это, конечно, хорошо, что мы далеки от знания тонкостей подпольной работы, но, если вы рассказываете о революции, поинтересуйтесь для начала, какие отношения связывали царскую полицию и газету «Искра»: полицейские и жандармы изымали ее всеми доступными способами и уничтожали, а не читали на досуге во время дежурства на улицах Санкт-Петербурга. Заодно узнайте, как ее печатали, – и тогда, возможно, вы поймете, что примитивные условия печати не позволяли помещать на страницах большевистской газеты иллюстрации и портреты.
Взять того же Парвуса: уже давно ясно, что та роль, которую ему приписывали раньше, – едва ли не главного финансиста Октябрьской революции и партии большевиков, – это миф, ничем не доказанный. Когда я работал в архивах, собирая материал для сценария своего нереализованного фильма «Великая фальшивка Октября», я увидел, что, по приблизительным оценкам, через него большевики получили примерно 100 тысяч евро – если пересчитать на сегодняшние деньги. Может быть, это не закрывает вопрос о финансировании революции в России странами Запада, но зачем телевидению поддерживать исторический миф?
О хорошем: в плане кастинга «Демон революции», конечно, сильнее – уже просто потому, что там Ленина играет Евгений Миронов – большой, настоящий актер. Разумеется, если подходить к выбору актеров с точки зрения соответствия их антропометрических данных их прототипам – тогда да, тогда первым кандидатом оказывается Евгений Стычкин: он такой же невысокий, как Ильич. А Михаил Пореченков похож на Парвуса овалом лица – и что? Разве этого достаточно? В советское время сняли десятки фильмов о Ленине; уж насколько был похож на вождя загримированный Юрий Каюров – а где теперь все эти картины? Кто их помнит?
Я застал период идеологии, которую я исповедую до сих пор: производство фильма – это большой и серьезный подготовительный период, и лишь затем – собственно съемки. Не может быть исторического фильма без упоминания в титрах серьезных консультантов, без обсуждения деталей сюжета с экспертами и т. д. Без этого исчезает бытовая правда – та тонкая материя, которая сплетается из вроде бы малозначащих, второстепенных деталей, но без которой любой, даже самый потрясающий сюжет, любая захватывающая история развалится. Я сейчас говорю не об исторической правде; это предмет исследования специалистов. Бытовая правда – это правила существования персонажа в кадре, особенности его поведения. На эти особенности могут оказывать влияние десятки факторов – пол, возраст, профессия, происхождение, воспитание, религия, национальность, привычки, окружение и тому подобное. И, что очень важно – само время.
Когда я начинал работать над «Казусом Кукоцкого», я понимал, зачем я иду слушать курс акушерства и гинекологии – притом, что на фильме работали консультанты-врачи. Я как режиссер считал необходимым сформулировать свое собственное отношение к среде, которую я собирался показать. Мне надо было понять, как живут студенты-гинекологи, о чем они говорят друг с другом, какие у них отношения с профессурой, вообще, как они овладевают своим ремеслом. И главное, как эти люди смотрят на женщин – своих пациенток. Конечно, для любого режиссера это мегазадача, потому что таких мелочей – миллион. С этим может справиться только очень профессиональная команда. Такая, какая была, к примеру, у Тарковского или у Алексея Германа – старшего. Смею надеяться, что те люди, с которыми мы сегодня вместе работаем в кино и театре, – это такая же команда. Каждый из ее членов, делая на своем месте свое дело, работает на один, главный результат: когда зритель потом приходит в зал и смотрит фильм или спектакль, он не отвлекается на нестыковки и шероховатости, он смотрит и видит – главное. И беда, если эта задача не решена.
Сейчас создатели фильмов на исторические темы почему-то перестали уделять этим мелочам должное внимание. Нынешние российские фильмы на историческую тему – странное явление: это костюмированные шоу с элементами фэнтези. При этом ни хорошие актеры, ни большие бюджеты не спасают их от всепоглощающего «Матильда-style» – какого-то поверхностного, невнимательного, легкомысленного отношения к предмету рассказа.
Но – вот фокус: маленькие, незаметные на первый взгляд детали способны сыграть с вами злую шутку – если вы не обращаете на них внимания. И если в фильме нет бытовой правды, про историческую можно тем более забыть. Вот про нее и забыли.
«Матильда. Продолжение», или «Довлатов. Спасибо, что живой»?
Первая ассоциация, которая возникла у меня после просмотра: еще одна «Матильда». На сей раз – уже про 1960-е. Создан еще один фильм-реконструкция, в котором присутствуют имена, важные для истории страны. Но если «Матильда» – это неудачная попытка воссоздания реальности, о которой мы знаем только по историческим документам, то «Довлатов» – это наша недавняя история, это события, которые для меня лично происходили будто вчера. Хотя, конечно, в довлатовских книгах описано не мое время, но отголоски его до меня долетали, и я слышал их вполне отчетливо.
Что главное в фильме, который назван по фамилии человека? Наверное, сам человек, сам главный герой, Сергей Довлатов – сложная личность, талантливый писатель, мятущийся человек, видный мужчина. В фильме об этом нет ни-че-го. Есть человек в пальто с похожим овалом лица и бородой. Но любой, кто знаком с Довлатовым по его книгам, сразу понимает: не то. Как в «Высоцком»: вроде портретное сходство – те же морщины, та же шея; но кому нужна эта похожесть, если внутренне это совсем другая личность?
В фильме есть и Бродский. Я ненавижу слово «персонаж», но здесь употребляю его специально. Потому что и Бродский, и Довлатов, и остальные – они не герои фильма, они персонажи, максимум. Это не живые люди, не настоящие герои. Что же эти персонажи, как можно их охарактеризовать? Как они живут? Они не пьют, не обращают внимания на женщин; в их жизни нет никаких творческих споров, никаких стремлений, никакой дружбы «против кого-то» – ничего. Чем они живут, откуда они берут впечатления, какими эмоциями они подпитываются, чтобы создавать свои произведения, – непонятно. Хочется увидеть, как рождался и чем питался знаменитый довлатовский юмор, его ироничный взгляд на жизнь, но как-то неясно, откуда вообще эта ирония и этот юмор взялись. По пространству экрана, которое в большинстве случаев состоит из комнат и коридоров, блуждают фигуры. Это Очень Серьезные Писатели, все мысли которых как будто заранее отлиты из бронзы, – настолько они серьезны. И получается, что перед нами разворачивается почти мультипликационная картина – на экране действуют люди-памятники. Про них даже нельзя сказать, что они ожили, – нет, их анимировали, заставили двигаться и произносить глубокомысленные фразы.
А где настоящий, живой Довлатов? Где наблюдательный автор и талантливый рассказчик, человек тонкой душевной организации и большой чуткости? Где человек, который видел зону, который был знаком с «кухней» советских редакций? Где красивый мужчина, который нравился женщинам? Где, в конце концов, «тема алкоголя», игравшая, к сожалению, в жизни писателя свою особую роль? Где то «темное русское пьянство», которое, по словам Эрнста Неизвестного, было в случае Довлатова «формой самоубийства»? Нет его. Довлатов-памятник трезв как стеклышко. О чем же тогда он писал?! Где та жизнь, о которой он писал? Где та полнота существования, которую ощущаешь даже сегодня, читая его книги, – то комическая, то трагическая, то переходящая границы всех жанров, определений и эпитетов?
Все кинематографисты знают: если ты берешь на роль человека из массовки, он не сыграет. И никакое внешнее сходство не поможет, ведь кино – это не ожившая фотография. Для того, чтобы сыграть героя (тем более такого сложного, как Довлатов), нужен темперамент, нужна энергия, нужен сопоставимый талант. Я уже не говорю о сопоставимом масштабе личности. Конечно, в истории кино были Феллини и Герман-старший, которые могли взять на главную роль человека с улицы. Но они умели построить работу так, что даже такой человек в результате выдавал нужные эмоции, нужное настроение и попадал в точку.
А если у вас главные герои – герои массовки, которые по привычке проговаривают свои реплики в ожидании окончания съемочного дня, интонируя при этом так, будто они озвучивают зарубежный фильм, – ничего не выйдет. В зарубежных фильмах иногда оставляют звуковую дорожку с оригинальными голосами актеров, – эти интонации помогают зрителю поймать нужную волну. Здесь оригинальной дорожки нет. Точнее, она есть – и она никак и ничем не помогает. Здесь люди просто говорят текст. А исполнитель главной роли, иностранный актер, – полное ощущение, что он запомнил на русском языке финальные слова в репликах партнеров и дает свои фразы рефлекторно: вот, прозвучали знакомые русские слова – моя очередь, вступаю! Диалога, живой интонации нет.
А ведь жива еще такая профессия – звукорежиссер. Это не тот, кто придумывает, где звучать музыке, а где – шуму дождя. Звукорежиссер – это прежде всего тот человек, кто способен записать монологи и диалоги и поместить их в общее звуковое пространство фильма так, чтобы было слышно и понятно, что говорят герои. Который учитывает такие факторы, как дикция актеров, баланс и так далее. Так вот, мне пришлось выкрутить звук на максимум, чтобы хотя бы что-то разобрать, – все без толку. Было очень громко и ничего не слышно. Это притом, что я смотрел специально купленную лицензионную копию фильма.
Единственным живым человеком во всей этой компании оказался Антон Шагин – в фильме он поэт-метростроевец. Да, я снимал его и очень люблю этого артиста, но среди передвигающихся по экрану «памятников» он действительно – единственный живой человек! Его образ – это типичный советский романтик, шестидесятник, который горит желанием жить, творить, строить светлое будущее. Но, радуясь очередной актерской удаче Антона, скажу так: лучше бы в фильме не было этого шагинского поэта-метростроевца. Потому что на его фоне остальные персонажи смотрятся просто как фарфоровые таблички на надгробных памятниках – белесые, черно-белые расплывчатые портреты, кое-где подрисованные дешевой эмалью.
Вот писатель несет на руках свою спящую семилетнюю дочку. На улице мороз. Сам Довлатов в пальто, шарфе, но девочка обнимает папу за шею почему-то голыми ручками, без варежек. Варежки болтаются на резинках. Наверное, это красиво. Но представить себе, что Довлатов-отец был способен отморозить руки своей маленькой дочке, я не могу. Другой пример. Светлана Ходченкова хорошая актриса. Но курить она не умеет – это очевидно. Научить актера курить в кадре не так уж сложно. Может, этим некому или некогда заниматься? Кто-то хвалит костюмы в фильме. Друзья, костюмы – это не просто подбор вещей соответствующего периода. Просто нарядить актера в широкие брюки и драповое пальто мало. С помощью костюмов создается образ, рождается настроение, характер персонажа. Вы скажете, что это совсем не главное в фильме, что я придираюсь. Поверьте: таких мелочей – целый фильм. И, как хорошее кино состоит из тысячи правильных мелочей, так и неудачное кино складывается из тысячи мелочей неудачных, неправдоподобных.
Жизнь человека – это густейшая смесь эмоций, переживаний, мечтаний, разочарований, радостей, горестей, счастья, гнева, высоких порывов и приступов малодушия, и еще из тысяч и тысяч слагаемых. А жизнь человека творческого – это то же самое, помноженное в разы. И, когда я вижу на экране название фильма – фамилию «Довлатов», я предвкушаю погружение не то чтобы в «водоворот страстей», но – в Жизнь, во всей ее полноте! Кино про великих, ярких людей – это кино про желание жить! Или, наоборот, про отсутствие этого желания – такое тоже возможно, это тоже эмоция, тоже настроение. А тут вместо водоворота – жидко сваренный бульон, даже цветовое решение похожее. Я смотрю фильм «Довлатов» – и не могу выжать из себя ничего. Я не грущу, не смеюсь, не плачу. Тяжело смотреть в пустоту.
Я со своим мнением нахожусь в меньшинстве. Так говорить меня заставляют те странные кинокритики, которые с восторгом пишут о картине как о событии. Они, кстати, так же восхваляли и «Матильду». Почему я называю их странными? Тут какая штука: когда они пишут про иностранные фильмы, я с ними соглашаюсь в 99 процентах случаев, но стоит им заговорить про отечественное кино – просто удивительно, насколько кардинально расходятся наши оценки. Я не знаю, чем объяснить этот феномен. Сторонники теории заговора утверждают, что депутатам Госдумы дают какие-то загадочные таблетки, которые заставляют народных избранников единодушно принимать любые законы; может, в отечественном кино есть свои собственные кинематографические пилюли единодушия? Которыми начинают кормить в творческих вузах и продолжают подкармливать потом, если ты пришелся ко двору и стал частью индустрии? Я в свое время попробовал это снадобье – оно мне показалось очень горьким и совершенно бесполезным.
Я привык относиться к себе вполне серьезно. И хочу становиться лучше. И понимаю, что без критики стать лучше нельзя. Поэтому я всегда и везде говорю: я готов выслушивать замечания и в свой адрес – если они по делу. Но точно так же серьезно я привык относиться и к коллегам по цеху. И требования, которые я предъявляю к их работам (равно как и к своим), также серьезны. Можете назвать их завышенными. По мне так это стандарт качества, который был выработан задолго до нас, – не вижу причин от него отказываться.
«Довлатов», как и практически весь нынешний отечественный кинематограф, – это такой коллективный портрет Дориана Грея: персонажи на экране все более похожи внешне на своих прототипов, в кадре все больше лоска, краски все ярче, качество картинки все выше, но за этим всем, где-то в темной пустоте прячется то подлинное лицо, созерцание которого доставляет совсем мало удовольствия.
У кого радио, тот и композитор. К юбилею Советского режиссера
В 2018 году исполнилось 115 лет со дня рождения Григория Александрова. Это был юбилей человека, который по праву мог называться советским кинорежиссером. Советским – с большой буквы. Он работал вместе с Эйзенштейном, который как мастер формировался еще в дореволюционной России, тем не менее это влияние оказалось не на первом месте. Александров вырос, созрел как режиссер и добился успеха целиком и полностью при Советской власти. Он был одним из «правофланговых» советского кинематографа: обласканный ею, он пользовался такими возможностями и привилегиями, которых не было у подавляющего большинства простых смертных.
В решении послать Александрова в Голливуд проявились хитрость и провидение Сталина: отправляя режиссера посмотреть, как работают «американские товарищи», приподнимая для Александрова краешек «железного занавеса», давая тому возможность погрузиться в мир буржуазного искусства, он знал, что делает. Планы вождя оправдались: возвратившись, Александров стал выполнять социальный заказ – снимать фильмы, поднимающие настроение широким народным массам, развлекающие народ, отвлекающие людей от невеселых мыслей по поводу несбывшихся надежд на «светлое будущее».
Был ли он сексотом, я, разумеется, не знаю. Расскажу одну небольшую историю. У меня как-то были съемки в доме, где когда-то жили Александров и Орлова. Сегодня этот дом уже давно продан. А тогда по всем комнатам лежали коробки и связки бумаг, фотографий – целый архив знаменитой семьи. Я просил тогдашнего хозяина продать мне его: архив тогда был никому не нужен и просто исчезал на глазах, бумаги ветшали, рвались. Договориться не удалось. Но в перерывах во время съемок я кое-что почитывал. И что я запомнил: у Александрова сохранилось довольно много записей, в которых он очень подробно описывал свои поездки на зарубежные фестивали и поведение и заграничный быт своих коллег, других советских режиссеров. Это не было художественное повествование. Это не были путевые заметки. Это куда больше походило на докладные записки «куда следует». Не тем будь помянут, в общем.
Александров первый в Советском Союзе сделал фильмы по голливудским лекалам. Александровские хиты – «Весна», «Веселые ребята» – это, конечно, совершенно американские фильмы, мюзиклы. По этому пути и сегодня продолжают идти многие российские режиссеры, мечтающие «догнать и перегнать Америку», или, на худой конец, хотя бы быть похожими на Голливуд, не задаваясь вопросом – зачем это нужно.
Интересно, что в 1943 году по воле Сталина вместе с Александровым в Америке оказался и Михаил Калатозов. И вот он в своих воспоминаниях писал, что сами американцы воспринимали фильмы Александрова довольно спокойно, без восторга: для них это было советской репликой голливудских картин 30-х годов, давно пересмотренных, – ничего нового.
Его супруга, Любовь Орлова, отчаянно пыталась копировать Марлен Дитрих. На этот счет была хорошая советская присказка: «У кого радио, тот и композитор». Все было просто: кто имел возможность хотя бы изредка подсматривать за «загнивающим Западом» – у того естественным образом «расширялись горизонты». А если подсматривал еще и талантливый человек – так и подавно.
Александров и Калатозов оба имели возможность познакомиться с западным кино, но привело это к разным результатам. То, что в 50–60-е годы сделали Калатозов и другие великие советские режиссеры, теперь воспринимается на Западе как классика мирового кинематографа. Может быть, это произошло потому, что фильмы Калатозова – это яркое, индивидуальное, авторское высказывание, в то время как александровские киношлягеры были массовым продуктом, начисто лишенным всякой индивидуальности.
Но фильмы Александрова были сверхпопулярны. И многим нынешним режиссерам очень хочется повторить этот ошеломляющий успех. Многие сегодня пробуют сделать кино, которое охватило бы самую широкую, массовую аудиторию, все слои населения. Правда, коллеги по киноцеху при этом забывают одну важную вещь: во времена Александрова слоев не было; был один слой – рабоче-крестьянский, пролетариат. И вкусы, соответственно, были почти у всех одинаковые. А другие иметь не дозволялось. Интеллигенция, научные работники и т. д. – недаром это все довольно точно называлось «социальной прослойкой»; по-настоящему эти люди оформились в какую-то заметную группу уже после войны, в те же 50-е, 60-е годы. Александрову было легче, чем нынешним труженикам отечественного кинематографа: он совершенно четко понимал, кто его зритель, чего этот зритель хочет, что ему смешно, а чего он не поймет. Поэтому Александров, при всем его внешнем блеске и лоске, был совершенно пролетарским, народным режиссером. Народным – с маленькой буквы.
Сегодня повторить его опыт просто невозможно: мы стали слишком разными, да и само кино, опровергнув знаменитый ленинский тезис, перестало быть для нас «важнейшим из искусств». Сталин «выращивал» Александрова, потому что понимал: кино – мощнейшее орудие пропаганды. На наших глазах кино уступило эту функцию телевидению, а теперь телевизор уже проигрывает интернету.
Остается надеяться на то, что, как после Александрова появились Калатозов, Хуциев, Тарковский и весь выдающийся советский кинематограф 60-х, так и после нынешнего странного времени наступит какая-то новая эпоха. Хочу в это верить.
Связка «творец – власть» – история очень давняя. Александров оказался еще одним человеком, который показал, как она работает. И, главное, зачем она нужна. Я не берусь судить, каким человеком он был, правильно ли он поступал: я не жил при Сталине и просто не могу примерить на себя реалии того времени. Юбилеи, наверное, затем и нужны, чтобы мы просто помнили, как мы жили. Мы так жили. И прекрасно, что сегодня мы живем по-другому.
«Т-34». Миллиард как доказательство правоты?
О том, что у меня не осталось иллюзий в отношении сегодняшнего российского кино, я говорил и писал многократно. И в этом смысле я не одинок: среди моих друзей и знакомых было много таких, кто в ответ на вопрос, не собираются ли они идти на «Т-34», отвечал – «Упаси Господь». Даже не посмотрев фильма, просто увидев мимоходом трейлер в сети. Это люди думающие, читающие, интересующиеся и интересные. Но я все же посмотрел этот фильм.
В случае с «Т-34» задавать вопросы режиссеру, продюсерам картины, интересоваться какими-то творческими аспектами работы нет необходимости: все, что они хотели и могли сказать, они сказали и показали. Тем более у них есть главный по нынешним временам аргумент – бокс-офис: фильм, заработавший миллиард, сегодня априори считается хорошим. У меня больше вопросов к вам, уважаемые зрители, – тем, которые проголосовали рублем за этот фильм, оставили в кассах кинотеатров этот самый миллиард: объясните мне, пожалуйста, за что вы заплатили?
Если бы я когда-нибудь решился сделать фильм о войне, у меня и в мыслях не появилось бы сделать его приключенческим блокбастером. Мне кажется, что военное кино – это драма и подвиг, это горе и счастье, это жизнь и смерть – все в одном месте, в одно время. Это война, и это не приключение. Авторы же «Т-34», наверное, решили: а ну-ка! – и попытались снять приключенческое кино. Воплощение подкачало. И в сравнении с «Т-34» даже «Пираты Карибского моря» – куда более достоверный фильм. В фэнтезийной, целиком выдуманной истории про пиратов больше правды – правды момента, характеров, развития сюжета. Но зритель, а иногда и иной критик восхищается медленно летящими в кадре танковыми болванками.
Создавая сегодня фильмы про войну, мы вроде как должны опираться на прекрасную традицию советского кинематографа – выстраданную, «вычищенную» живыми свидетельствами актеров и режиссеров-фронтовиков, слезами «Белорусского вокзала», пронзительной любовью «Жени, Женечки и Катюши», тяжелейшим климовским «Иди и смотри», не говоря уже о многих других великих картинах – «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Отец солдата» и прочих. В этом – опора для нашей кинематографической культуры. У «Т-34» нет ничего – ничего! – общего с поименованными картинами. На «новое прочтение» тоже не тянет.
Когда американцы в годы холодной войны снимали фильмы про русских, мы смеялись, видя этих картонных персонажей – совершенно ненастоящих, пародийных, ходульных клоунов. Советское кино точно так же пародийно изображало фашистов – вплоть до «Семнадцати мгновений весны», когда Лиознова очень элегантно исправила это недоразумение, напомнив, что подвиг советского народа был не в том, что он одолел скопище придурков со свастиками на рукавах, а сильного, умного и целеустремленного врага, настоящего монстра. Так вот, в «Т-34», про который авторы заявляют, что это едва ли не документальное кино, фанерными и комедийными выглядят не только немцы – точно такими же опереточными пародиями выглядят и русские! Ничего не имею против оперетты. Я только не готов встретить этот жанр в фильме про Великую Отечественную войну.
А ведь я помню еще то время, когда «молодое и свободное» российское кино взялось за исторические сюжеты, и профессиональное сообщество активно обсуждало проблему достоверности. Граждане, прошло всего-то ничего – и сегодня уже никого не волнует проблема подбора правильных, «раньших» лиц для исторических персонажей, никто не переживает из-за маникюра у героев «из народа». На экране рвутся снаряды, небо заволокло дымом от пожарищ (заволокло неубедительно, с хромакеем напортачили – ну да ладно, кто заметит?) – а на этом фоне передвигаются по экрану люди с аккуратными модельными стрижками, качественными фарфоровыми зубами, подтянутыми пластическими хирургами физиономиями. Ну а что? Норм.
Еще одно: показывая сегодня войну как приключение, мы мало того что оскорбляем память павших – мы промываем мозги тем, кто в силу возраста не может критически воспринимать рассказы о том великом и трагическом времени. Возможно, отсюда то самое пошловато-самонадеянное «Можем повторить», набравшее популярность в последние годы. Это «можем повторить» так и просится в эпиграф к новому «блокбастеру». Хочется просить: что вы можете повторить – двадцать миллионов жертв?.. Содрогнитесь, поплачьте, прочувствовав, хотя бы отчасти, всю нечеловеческую тяжесть того времени, заполучите хотя бы один седой волос от прикосновения к той трагедии, – и только тогда, может быть, вы сможете повторить что-то похожее на великое военное кино прошлого.
Но сегодня зритель перестал плакать в кинозалах, даже на военных фильмах. А и правда: с чего бы? Авторы умудрились создать кино, в котором некому сопереживать, в котором никого не жалко. Прикольный фильмец про войну. Разок глянуть – пойдет. Лучше, если под попкорн: лишние полмиллиарда в кассу.
И получается, что плачем мы сегодня, лишь смотря новости по телевизору.
Про универсальное кино и уникального зрителя
К сожалению, на наших глазах кино из категории искусства перешло в категорию бизнес-проекта. На сегодняшний день индустрия взяла верх, и маркетологи с финансистами стали учить режиссеров, как снимать кино. Процесс начался не вчера и не здесь. Все началось в Америке несколько десятков лет назад. Именно голливудские продюсеры первыми сообразили, что делать одно кино для детей, другое – для подростков, а третье – для молодых людей – это не так выгодно, как производить продукт (именно коммерческий продукт, по всем признакам и свойствам), ориентированный на широкую возрастную аудиторию – то «безвозрастное» кино, которое сегодня делается так, чтобы на него шли зрители в диапазоне от 6 до 35. Американцы первыми поняли, что взрослого, рассуждающего человека труднее обмануть. Молодого человека обмануть легче. А значит – заработать на нем. Они нацелились на молодежную аудиторию, мимоходом обескровив и уничтожив детское кино как жанр. И убийцей детского кинематографа стал Уолт Дисней. Он просто раздвинул возрастные рамки аудитории, для которой производил свою продукцию. Мне кажется, имело значение еще и то, что культ успеха, которым жил и живет западный мир, автоматически отодвинул на обочину тех зрителей, кто имеет меньше шансов добиться этого самого успеха просто в силу возраста, – то есть взрослых и пожилых людей.
Как бы то ни было, постепенно в центре внимания всей гигантской индустрии кинопроизводства оказался среднестатистический подросток, и все оказалось подчинено единственной цели: заставить этого подростка прийти в кино и заплатить деньги за билет и попкорн. Для индустрии этот путь, возможно, стал даже толчком к развитию, но для кино как для искусства это означало прямо противоположное. И сегодня «каноническое» подростковое кино – это, прежде всего, расслабленный отдых, развлечение. Оно поощряет лень – лень ума, в первую очередь. Сейчас выросло уже целое поколение, воспитанное на этом шаблоне, и потому ничего удивительного, что голливудские мультфильмы сегодня вместе с детьми смотрят сорокалетние мужчины и женщины. Кино получило, а точнее, воспитало и вырастило нового, усредненного зрителя.
Между прочим, в поисках «универсального» кино американцы потеряли и свой собственный, великий в прошлом кинематограф. Все лучшие фильмы Голливуда – они были так или иначе нацелены на американцев, они принадлежали национальной культуре и питались ею. Но там перешагнули и через эти границы: бизнес-стратегия диктует необходимость расширять аудиторию, и одними только американскими зрителями дело уже не ограничивается. Поэтому все лучшее, что было в американском кино, – все это осталось в прошлом, а вместо традиций и преемственности теперь на первом месте бизнес-схемы.
Культ успешности, пришедший из Америки, успех любой ценой – этого никогда не было в России. Но, к сожалению, мы быстро «опылились», и страна пошла именно по этому пути, восприняв в том числе и бизнес-схему американского кинематографа. В конце концов из-за страха и лени мы потеряли взрослого зрителя. В итоге в России сейчас делают кино, забывая, что есть люди старше тридцати пяти. А они, между прочим, платежеспособны – если уж говорить о деньгах. Они готовы платить, но им ничего не показывают, и получается, что они никому не нужны. И теперь уже надо бороться за то, чтобы адекватный взрослый зритель вернулся в кинозалы. А это уже более серьезная и сложная задача. Легче потратить больше денег на «продукт» – не кино, а именно продукт, а потом еще столько же – на рекламу. Прикормленная лояльная аудитория придет в зрительные залы и послушно оставит там – а заодно и в кафе и барах при кинотеатрах – свои деньги.
«Универсальное кино» вымывает традиции русского кинематографа. Их подпитывают в пограничном состоянии – на грани анабиоза и клинической смерти – буквально единицы авторов. Русское кино всегда было экспериментом: с актерами, драматургией, изображением, монтажом. Какой может быть эксперимент с монтажом в современном коммерческом кинематографе, где каждый кадр длится не дольше трех-четырех секунд? Монтируй, перескакивай с крупного на общий план – и у тебя главным героем может стать швабра! А потом подключатся пиарщики и маркетологи, и эта швабра станет популярной, появится в рекламе на ТВ, станет зарабатывать большие деньги – запросто.
Вот уже лет пятнадцать как в России используется модель продюсерское кино – то, которое делается для зарабатывания денег. Ладно. Где же прибыль? Давайте посчитаем в столбик: сколько вы взяли у государства и сколько вы заработали? Только давайте считать всерьез, как в школе у доски. То есть учитывать интересы прокатчиков (а это половина выручки), а не рапортовать об очередном рекорде по «валу» проданных билетов. И тогда сразу становится ясно: продюсерское кино себя дискредитировало. Есть некий продукт, который с точки зрения тех же американских правил ведения бизнеса, ставших для нынешних наших кинодеятелей настоящим учебником, катехизисом и Библией, – не приносит результата. Есть напористый пиар и лоббирование интересов в тех сферах, где принимаются решения о государственном финансировании. Кино – нет.
Интересно, что в последние годы появляется все больше телесериалов, которые дадут фору подавляющему большинству кинофильмов – как с точки зрения качества, так и в плане глубины содержания. Обязательная оговорка: имеются в виду зарубежные сериалы; в России тут ситуация такая же безнадежная, как и в кино. Так вот. Я не могу объяснить, почему так получается – почему разговор на серьезные темы с большой аудиторией оказался возможен там, на ТВ, а в кино от него отказались. Как вариант объяснения: ТВ – более серьезный и эффективный инструмент влияния на умы, и потому ему уделяется большее внимание. Может быть, телевизионная аудитория более доступна: не надо никуда идти и платить деньги за билеты – только нажми на кнопку. Не знаю. Сегодня адекватный зритель в России имеет шансы найти хотя бы какую-то пищу для ума, пожалуй, только в интернете, отыскав то лучшее, что показывают за рубежом.
Я далек от того, чтобы призывать больше смотреть ТВ вместо кино. Понятно, что девяносто пять процентов телеэфира заполнено сущим адом, созерцать и слышать который вредно для человеческой психики и рассудка, но в кино, особенно в современном российском кино, процент полезного и интересного, процент красивого и тонкого еще мизернее.
Прогнозы? Никаких. Кино воздействует на душу человека. Это слишком тонкая материя – какие уж тут могут быть прогнозы.
VIP-ложа. Очень важные персоны
Георгий Рерберг
В творческой среде много говорят про наставничество. Кто у кого учился, кто кого может назвать своим учителем – и так далее. Кое-что по этому поводу могу рассказать и я. Мне всегда казалось, что невозможно выбрать себе наставника самому. Если повезет, твой учитель, наставник придет в твою жизнь сам по себе, независимо от твоего желания. И если у тебя хватит ума и сердца, то ты поймешь – кто это. Иногда это осознание приходит поздно, когда самого наставника уже нет рядом.
Меня жизнь свела с Георгием Рербергом. Это важный человек в истории советского кино, большой русский оператор, работавший с Тарковским, Кончаловским, Захаровым, Абдрашитовым. Это тот случай, когда спрашивают: «Кто были лучшие операторы советского кино?» – а в ответ звучат имена Юсова, Лебешева, Урусевского и обязательно Рерберга.
В советское время в зарплатных ведомостях киностудий указание «оператор» в графе «должность» приравнивалось к рабочей специальности. Но на деле большие мастера были чем-то гораздо более важным – они фактически были соавторами режиссеров. И когда меня упрекали (и не оставляют этих попыток до сих пор) в отсутствии «профильного» образования, я в ответ думал и думаю о том, как мне повезло оказаться рядом с Рербергом. Он сам был – образование. Он был проводником живой художественной традиции, ее адептом и проповедником, он ее впитывал из окружающего мира, переживал внутри себя и рождал заново, даря это богатство нам – тем, кто был рядом. И вот уж чего я точно не стыжусь – так это факта ученичества у собственного оператора, потому что имя оператора – Георгий Рерберг.
Моя встреча с ним случилась в 90-х. Советское кино уходило, рушилось, я что-то начал делать в рекламе, многие люди киноцеха пытались зарабатывать деньги – вот тут мы и пересеклись: я пригласил Георгия Ивановича поработать вместе.
Он был очень, просто очень яркий человек, со своей позицией. Безмерно любил кино. То, что мы сейчас называем культурой изображения, – это все его просто переполняло. Жаль, сейчас почти ничего подобного в нашей жизни не осталось.
Мы встречались у него на кухне, в квартире на Неждановой, выпивали. Но это никак не мешало ему рассуждать о кино, какой бы стороны предмета ни касался наш разговор. Он выражал свои мысли предельно четко, просто, за словом в карман не лез и часто – и даже очень часто! – употреблял крепкие выражения, которые из его уст звучали совершенно органично и естественно. Ну, бывает так: один матерится – становится стыдно всем вокруг, настолько это скабрезно и пошло; другой ругается матом – заслушаешься. Талантливый был человек.
Мы довольно много работали вместе. Время от времени он оставлял меня, уходил снимать кино, и тогда он обязательно передавал меня другому оператору – тому, кого сам считал нужным. Это было очень показательно: для него реклама не была второсортным занятием для кинопрофи, он в минутном ролике точно так же, как в полнометражной картине, создавал изображение – качественное, мастерское, талантливое. Не знаю, относился ли он ко мне как к ученику, – мы это не обсуждали. Но то, что он не бросал меня, не оставлял наедине с моими проблемами, было очень трогательно.
Когда он должен был снимать новый фильм, он звал меня к себе домой, приглашал нового оператора, мы садились на кухне втроем и разговаривали. Так, например, мы познакомились с Лешей Родионовым, который снимал «Иди и смотри» с Элемом Климовым.
– Юра, теперь ты будешь работать с Лешей, – сказал Георгий Иванович. И мы прекрасно работали. И не было случая, чтобы этот момент смены как-то отражался на работе, чтобы мы с новым оператором друг друга не поняли, – ничего подобного. Рерберг очень точно чувствовал окружающих людей и безошибочно опознавал их по принципу «свой – чужой». С его помощью мозаика всегда складывалась.
В те годы у нас еще не было «узкой специализации», мы не знали голливудской практики, когда один командует, другой снимает, третий монтирует. Тогда режиссер был автором. И это ощущение авторства во мне зародилось во многом благодаря Георгию Рербергу.
Однажды во время съемок какой-то рекламы он присутствовал на площадке в качестве оператора-постановщика, а на кране сидел «камерамен» – оператор, который снимал непосредственно отдельный план. И я попросил его, указав на какой-то фильтр:
– Наденьте, пожалуйста, на камеру вот эту штуковину.
Тот, отвернувшись, хмыкнул и произнес вполголоса, но так, чтобы я слышал:
– Вот режиссеры пошли: не знают, как съемочная техника называется. «Штуковина»…
Это услышал не только я, это услышал Рерберг. Он подошел ко мне:
– Юра, даже не думай, как эта фигня, – он, по обыкновению, себя не сдерживал и использовал непечатную лексику, – называется. Миллион людей знает, как она называется. Но кино они снимать не будут никогда. А ты – будешь.
И добавил уже громче, вполоборота к съемочной группе:
– Пальцем ткни – принесут.
Как-то мы снимали в павильоне. Наступил обеденный перерыв, мы расположились тут же, кто на чем. Рерберг подсел ко мне:
– Юра, не стоит обедать вместе с группой. Ешь отдельно.
Я удивился:
– Гоша, почему? – К тому времени мы были с ним уже дружны, и, хоть он был старше меня, я называл его Гошей – так ему было проще и комфортнее.
– Понимаешь, все очень быстро привыкают и теряют дистанцию. И в какой-то момент могут положить руку на плечо. А когда ты захочешь от них чего-то потребовать, ты увидишь эту руку у себя на плече и услышишь что-то вроде: «Да ладно, Юр». Обед – сядь где-нибудь в уголочке один.
Он и сам часто отсаживался в сторонку, уходил в тень. Тень для него – в буквальном смысле – была одной из главных целей в работе. Он боролся за то, чтобы в кадре была тень. Это то, что принципиально, раз и навсегда утратило телевидение. Там тени нет и быть не может. Стандарт качества изображения предусматривает картинку, как из хирургического кабинета. То, что такой подход убивает художественность, – что за беда? В кино же хороший оператор всегда борется за то, чтобы в кадре присутствовала тень. Она создает объем, изображение оживает. Она иногда может быть более содержательной, чем ярко освещенные детали на переднем плане или даже чем сам герой. Работая с Рербергом, я видел – как важно было для него сохранить, создать в кадре тени. И я видел, как, благодаря этим его усилиям, на глазах рождалось настоящее художественное изображение. Мы привыкли смеяться над прежними стандартами, и выражение «художественный фильм» уже давно не употребляется в отрасли. Наверное, потому и не употребляется, что соответствовать этому определению, дотянуться до этой планки – «художественный» – сегодня почти невозможно. Да, сегодня камера способна «влететь» в рот, а «вылететь» из уха (понятно, что с помощью компьютерной графики), но почему-то это никак не обогатило кино как искусство.
Тарковский в свое время говорил о том, что мечтает, чтобы снизилась себестоимость кинопроизводства. Чтобы режиссеры стали независимы от затрат на создание фильма. Чтобы на них не давили счета: аренда, страховка и прочая бухгалтерия. И вот – все изменилось: вроде бы себестоимость картин упала, и это – то самое, о чем мечтал Тарковский! Но где же художественное кино сегодня? Почему вместе с себестоимостью упал уровень кино – вообще?
* * *
Об отношении тех, прежних людей к своему делу я могу рассказывать долго. Помню, как-то позвонил мне «фокусник» Юры Клименко – оператора-постановщика «Му-Му», еще одного великого русского оператора, с которым мне посчастливилось поработать. «Фокусник» – так называют ассистента оператора, который отвечает за то, чтобы герой или какой-то предмет в кадре были в фокусе. Во времена, когда автофокусных объективов не было, «фокусник» на съемочной площадке был третьей рукой оператора-постановщика. Фамилия у него была говорящая: Хрусталев. Никогда не «промахивался». В общем, позвонил мне Хрусталев.
– Юра, вы можете подъехать на «Мосфильм»? – спросил он.
– Да, конечно, еду.
По дороге я успел передумать всякое: мы снимали на пленку, и с материалом могло произойти что угодно – вдруг в камеру попала соринка и процарапала все изображение? Вдруг засветили пленку во время перезарядки? Вдруг в лаборатории приготовили воду не той температуры? В общем, приехал я «на нерве».
Мы встретились, и он повел меня в лабораторию. Я надеваю белый халат. Он открывает двери лаборатории, двумя руками выдвигает меня в дверной проем перед собой и говорит:
– Друзья, это Юрий Грымов, фильм которого мы проявляем.
К нам поворачиваются женщины в таких же белых халатах – полное ощущение, как будто мы пришли с экскурсией на фабрику-кухню:
– Здравствуйте, Юрий!
– Добрый день, – говорю я, и они продолжают работать.
Я разворачиваюсь, выхожу. Спрашиваю:
– И что, это все?
– Юра, – отвечает мне Хрусталев, – эти люди проявляют твой фильм. Нужно со всеми поздороваться.
Кино делали все вместе – так я это чувствовал. Так было принято. И это было очень правильно. Мое образование в кино – вот эти люди, о которых я сегодня вспоминаю с необыкновенной теплотой. У меня не было ВГИКа. У меня был ВГИР – великий Георгий Иванович Рерберг.
Людмила Максакова
Когда я ставлю спектакли или делаю фильмы, то отношусь к этому как к чему-то очень личному. Наверное, поэтому практически со всеми актерами, которые снимались или исполняли у меня главные роли, мы становились если не друзьями, то хорошими знакомыми. Почти со всеми мы до сих пор поддерживаем добрые отношения. Примерно так же случилось и после фильма «Му-му». Там мы сблизились с Людмилой Максаковой. Когда начались съемки, я по привычке принялся звать ее по имени-отчеству: «Людмила Васильевна, давайте сделаем так, Людмила Васильевна, попробуйте эдак». Тут же она заявила: «Ну какая я Людмила Васильевна? Я Люда, Людка!» Ну, до «Людки» я, конечно, не дорос, и язык мой отказывался произносить ее имя таким образом, но она так и осталась для меня – Люда.
И в этом не было ничего ненастоящего. Она на самом деле Люда – откровенная, простая и даже резкая до категоричности. Кто-то скажет – у нее непростой характер. Тут у меня только одно замечание: характер либо есть, либо его нет. И те люди, которых мы воспринимаем как милых, – это часто те, кто подстраивается под ваши требования или ожидания, кто делает так, как вам приятно. А это – не характер, это другое. Кого-то такое положение вещей вполне устраивает, но мне всегда интереснее иметь дело с людьми искренними – теми, у кого характер присутствует вне зависимости от того, насколько это приятно окружающим. Вот такая – Люда Максакова.
Мы подружились. И в один прекрасный момент – уже после выхода «Му-Му» на экраны – она меня приглашает на свой день рождения. В назначенное время прихожу я к ней домой, понимая, что, скорее всего, народу будет немало – как обычно бывает в таких случаях. Ну, думаю, тем лучше: найду с кем пообщаться, наверняка будет кто-то из знакомых. Дверь открывает сама Люда. Нет, конечно, в этот момент она была Людмила Васильевна: статная красавица в умопомрачительном платье, в потрясающем боа – настоящая королева. Обнимаемся, я поздравляю ее, дарю цветы, подарок. Мимоходом замечаю какую-то странную пустоту и тишину в квартире.
– Проходи, Юра, – приглашает меня Люда. Я вхожу в гостиную и наблюдаю такую мизансцену: у большого, красивого старинного стола сидят четверо – Роман Виктюк, Петр Наумович Фоменко, Никита Сергеевич Михалков и NN – режиссер, имя которого я так и не смог вспомнить. Больше – никого. От этих фигур, расположившихся в живописных позах на фоне изысканного интерьера старой московской квартиры, веяло чем-то похожим на музей восковых фигур.
Я был пятым гостем. Как я понял, в эту эклектичную выборку попали режиссеры, с которыми именинницу в разное время пересекала жизнь. И ни с кем из присутствующих, кроме самой Максаковой, я к тому времени не был близко знаком. Промелькнула мысль, что, может быть, в других комнатах по какой-то неведомой причине притихли остальные гости, но спустя секунду стало ясно: кроме нас – никого.
– Дорогие мои, это Юра Грымов – если кто не знаком.
По выражению лиц я понял, что пауза, которая висела в этот момент в комнате, – она началась задолго до моего появления: все пришедшие на день рождения ожидали примерно того же, что и я – многолюдной тусовки. Может быть, поэтому Никита Сергеевич явился не один, а в компании своего тренера по фитнесу – здоровенного парня в белой майке, которого усадили куда-то в угол, и там он просидел до конца вечера, не проронив ни слова.
– А кстати: какого черта ты его сюда вообще притащил? – со свойственной ей прямотой обратилась Максакова к Михалкову, когда ее взгляд скользнул по фигуре тренера, вжавшейся в стул. Пока тот соображал, что ответить, она решила не задерживаться на этой мелочи.
А у меня в голове вдруг всплыли стихи папы Никиты Сергеевича, главного поэта советских детей, Сергея Михалкова:
Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, Делать было нечего.– Ну, что ж, все в сборе – начнем! – бодро провозгласила хозяйка. Мы начали. Наша стерильная компания принялась нащупывать пути коммуникации, благо был повод выпить. Но даже при помощи алкоголя общение давалось нам не слишком хорошо. Разговор двигался очень напряженно. Возвращаясь к тому вечеру, могу сказать, что тогда я поставил личный рекорд по скорости винопития: как только наполнялся очередной бокал, я делал большой глоток, что-то говорил, понимал, что диалог не складывается – и вновь принимался за вино. Потом закурил. В то время я курил сигары, и Люда разрешила мне дымить в квартире. Было ясно, что сюрприз, преподнесенный Людмилой Васильевной, оказался слишком неожиданным, и не все справились с этой ситуацией одинаково успешно. Перефразируя классика: «Юра пил, курил, молчал, а еще ногой качал». Виктюк балагурил, травил украинские анекдоты и всячески пытался оживить обстановку, но даже ему было непросто.
Потом я как-то «зацепился» за Петра Наумовича Фоменко, и дальше общался почти все время с ним одним. И именно с этого странного вечера начались наши с ним отношения, о которых, возможно, стоило бы рассказать подробнее, но сейчас разговор не об этом. Скажу одно: Фоменко был единственным режиссером, которому я показывал свои новые фильмы и чьим мнением о них я интересовался. Так бывает: ты можешь быть знаком почти со всеми режиссерами, но спросить совета или услышать откровенную оценку, которой ты бы доверял, как-то особо не у кого. Фоменко был счастливым исключением из этого правила.
В общем, атмосфера за столом была весьма необычная. Во время очередного тоста вдруг раздается звонок в дверь. Людмила Васильевна удивленно приподнимает бровь:
– Кто это еще? Я больше никого не жду.
Как оказалось, незваным гостем оказался Один Известный Художник. Перед ним на полу стояло что-то большое, завернутое в бумагу.
– Дорогая Людмила Васильевна, с днем рождения вас! – Один Известный Художник протиснулся со своим свертком в прихожую. – Позвольте преподнести вам подарок: ваш портрет.
Именинница обернулась.
– Кто его пригласил?.. – она обвела взглядом всех присутствующих, скользнув в том числе и по фигуре бедного тренера по фитнесу, который, казалось, пытался слиться с интерьером до полного растворения.
Замотав головами, мы единодушно промычали что-то вроде: «Ей-богу, мы тут ни при чем, Художника никто из нас не приглашал». Тренер просто исчез. Живописцу пришлось тут же раскланяться. Максакова закрыла за ним дверь и, пожав плечами, вернулась к столу. Портрет остался стоять, прислоненный к стене в прихожей.
Так или иначе, вечер продолжился. Оказалось, даже шесть человек, собранные в одном месте по одному поводу, запросто могут разделиться на группы. Хотя – чему тут удивляться: все мы были абсолютно разными, с разными взглядами на творчество, разными биографиями и опытом. И у всех был разный характер. Вот в чем невозможно было отказать никому из присутствовавших: все это были люди с характером. Спина у меня от волнения, конечно, не потела, но я совершенно явно ощущал, что ко мне присматриваются.
Противовесом всему этому напряжению стало бесконечно трогательное обаяние Петра Наумовича Фоменко, его чувство юмора. С чувством юмора, кстати, – та же история, что и с характером: оно или есть, или его нет. У него – было. Петр Наумович что-то такое простое говорил, очень по-домашнему шевеля своими усами, и всем становилось легче. Мне вообще показалось, что из всей нашей странной, непростой компании он единственный был спокоен и раскрепощен. Неудивительно, что именно с Петром Наумовичем мы составили собственную «фракцию», говорили о чем-то своем.
Когда настало время расходиться, Максакова отвела меня в сторонку.
– Юра, я говорила о тебе с Петром Наумовичем.
В ее устах это звучало примерно как: «Юрий, вы готовы выслушать определение Высшего суда?» Внутренне я собрался, хотя, даже немного зная к тому времени Людмилу Васильевну, понимал: собирайся, не собирайся с духом – она все равно скажет, все равно огласит этот «приговор».
– Он мне сказал: «Я понял, почему ты полюбила Грымова».
Я не стал спрашивать – почему. Зачем – если чувствуешь, что человек понимает тебя, а ты – его.
…А подаренный портрет – зная характер Люды Максаковой – уверен, до сих пор стоит где-нибудь в коридоре не распакованный.
Алексей Баталов
В ноябре 2018-го исполнилось бы 90 лет замечательному артисту Алексею Баталову. Когда профессия свела меня с Баталовым, меня окутало полнейшее ощущение уюта, покоя и родства. Так бывает: вы живете обычной жизнью – работаете, отдыхаете, смотрите телевизор, видите там известных актеров, деятелей искусства. Их много, но по непонятной самим вам причине к кому-то из них вы прикипаете, как к родному человеку. Глядя на его работы в кино и театре, вы не думаете про профессию – про то, как он сыграл свою новую роль. Этот человек просто становится для вас близким, предельно понятным, своим. И вы, не зная его лично, совершенно спокойно можете сказать: он – хороший человек.
Вот так я воспринимал Алексея Баталова еще до нашего с ним знакомства. А познакомившись, не переставал удивляться этому ощущению.
И это было связано не только с его «фирменным» голосом. К этому голосу можно было добавить осанку, мягкий взгляд и многое другое. Но, кроме этого, при встрече я почувствовал в нем такую живую энергетику, что это знакомство произвело на меня огромное, какое-то сейсмическое, глубинное впечатление. Потому что – и это самое важное! – масштаб Баталова не мешал ему искренне, неподдельно интересоваться любым новым человеком, с кем он знакомился. В том числе и мной. А кем был я – рядом с ним? Типичным Васей Пупкиным. Ну да: режиссером, снявшим несколько картин, за которые не стыдно. Да: человеком, в какой-то степени почувствовавшим, что такое популярность. Но что такое – вся наша нынешняя популярность по сравнению с тем, что такое был Баталов для советского кино и для советского зрителя? Я рос на фильмах, которые навсегда останутся непревзойденными вершинами нашего кино, – «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Бег», и которые навсегда связаны с именем Алексея Баталова. И вдруг этот человек проявляет ко мне настоящий, живой интерес!
Наше с ним знакомство состоялось в то время, когда Баталов лет пятнадцать уже нигде не снимался – принципиально, объясняя свое нежелание просто: «Не хочу». Возможно, он, обладая чрезвычайно тонким восприятием, раньше многих понял – куда движется наше кино, понял, что предложенная новая система координат – это не его, и отошел в сторону. Или, точнее – он остался на своем месте, а кино двинулось куда-то в сторону.
Я позвонил ему, говорю, что хочу снять «Казус Кукоцкого». Он начинает мне рассказывать, что он давно ничего не делает в кино, что у него нет в этом необходимости, что он целиком занят педагогикой и преподаванием во ВГИКе, – я понимаю, что это вежливая форма отказа. Но все же мы встречаемся, я рассказываю о картине – и он соглашается. Он соглашается стать голосом Рассказчика.
При этом мне сказали, что у Алексея Владимировича серьезные проблемы с голосом, и даже есть шанс, что он может его потерять – если не голос вообще, то лишиться своего фирменного тембра – точно. Но другого голоса в фильме для меня уже быть не могло. И я иду на авантюру: еще за полгода до начала съемок решаю записать голос Рассказчика. Ради этого мне пришлось обмануть доверчивого Алексея Владимировича; я сказал, что материал уже отснят. Иначе, боюсь, он не согласился бы: слишком часто происходит так, что желание начать съемки отнюдь не означает, что фильм будет сделан; часто случается так, что отснятый материл еще не значит, что фильм получился. И для большого артиста всегда есть риск оказаться в неподходящей компании.
Когда мы закончили работать, я напомнил ему, что его ищет директор картины, чтобы заплатить гонорар. Он поднимает на меня свои чистые, прозрачные глаза:
– Юрий, а что, мне за это еще и заплатят?.. Понимаете, мне самому было интересно это делать, а вы мне за это еще и платите деньги?
И – поверьте! – это не было кокетством, ни на грамм. Уже тогда, в 2005-м, это было трудно представить, а теперь и подавно такое просто невозможно. Но это было именно так. И я не уверен, что мне доведется встретить второго такого человека, который настолько полно и естественно сочетал бы в себе масштаб дарования, актерское мастерство и природную скромность. Между словами «Баталов» и «тактичность» можно было смело ставить знак равенства.
Примерно в те же годы я закончил собирать большую коллекцию журналов «Советский экран», с 1920-х по 1960-е годы. Букинистические отделы, барахолки, аукционы – где я только не находил нужные выпуски. А потом я решил собрать автографы тех актеров и режиссеров, которые в разные года появлялись на обложке журнала. Лидером по количеству обложек за этот период был, разумеется, Баталов: он появлялся там трижды.
Я позвонил ему, рассказал эту историю, потом приехал к нему в Дом на Набережной. И тут меня ждала неожиданность. Навстречу мне вышел совершенно другой Баталов – в тапочках, клетчатой рубашке и в тренировочных штанах. Не было привычного костюма, галстука, отутюженных брюк. Меня, однако, поразило не это. Меня поразило то, что даже в этом облике он остался самим собой, он нисколько не проиграл. То же достоинство, тот же такт – все то же.
Подписать три обложки – велика ли задача? Но он даже к такому, казалось бы, малозначительному делу отнесся с полной ответственностью и вниманием: советовался, как лучше подписать каждый из трех номеров, пробовал на черновике разные ручки, выбирал место для автографа – чтобы лучше смотрелось. В этом проявилось его врожденное чувство прекрасного: он ничего не хотел делать абы как, некрасиво.
В кино есть такое понятие – уходящая натура. Иногда уходят личности-символы, артисты – носители духа времени, настроения целой эпохи. Уходят те артисты, чья жизнь на сцене и на экране была чем-то большим, нежели работой по специальности. Уходят люди, которые были артистами от Бога. И их бытие в этом мире – все, целиком, не только на экране, – было даром Божьим. Это был дар – нам, их современникам.
Спасибо вам, Алексей Владимирович.
Алексей Петренко и Галина Кожухова
Петренко был из той категории актеров, фильмы с участием которых меня поражали. Сильнейшее впечатление в свое время произвела на меня «Агония». Когда мы с ним познакомились, конечно, я был рад этому знакомству. И предложил обсудить сценарий «Коллекционера», который тогда меня занимал. Он обещал подумать.
Мне говорили, что вопросы участия или неучастия Петренко в фильмах или спектаклях во многом решает его жена, Галина. Так вышло и в моем случае. Спустя какое-то время мы встретились втроем. Я снова завел разговор о «Коллекционере», рассказал, чего я хочу. Она сказала: «Да, мы не против. Тем более что по срокам все удачно совпадает – давайте, почему нет». Я не был удивлен тем, какую роль играла она в актерской жизни Алексея Васильевича. Более того, я внутренне соглашался с тем, как у них в семье было устроено все, что касалось его работы. Потому что к тому времени не раз имел возможность убедиться: в жизни любого неординарного мужчины – и актеры тут не исключение, а, может быть, наоборот, правило – всегда присутствует женщина. Это может быть жена, подруга; кто-то называет это музой. Галюся, как она сама просила себя называть, была очень интересная и непростая натура со своим характером, в прошлом – театральный обозреватель «Правды». Поэтому она имела неплохое представление о том, как устроен наш «цех».
В общем, на первый съемочный день на киностудию Горького Алексей Васильевич приехал с Галюсей. Но я узнал об этом не сразу: она присела где-то в углу павильона и внимательно смотрела, что происходит, – тихо, не вмешиваясь и не задавая вопросов. Я заметил ее лишь спустя какое-то время. Она отсидела весь съемочный день целиком. Ближе к концу съемок я подошел к ней:
– Завтра второй съемочный день. Вы придете?
– Нет, – ответила она. – Мне все понятно. Работайте.
И мы продолжили работать уже без Галюси. Понемногу у нас сложились добрые, дружеские отношения.
«Коллекционер» создавался трудно, он был непростым и для меня, и для актеров. Он получился непростым и для зрителей. Но этот фильм, кстати, я до сих пор люблю больше остальных своих фильмов.
Как-то у нас оставалось минут двадцать до окончания съемочного дня. Двадцать минут – ни то ни се: новую сцену начинать смысла нет, вроде все необходимое сделано, можно расходиться по домам. Но я всегда очень бережно отношусь ко времени. Потому что потом, когда-то позже, в самый нужный момент, его обязательно не хватит. Я подумал, что можно доснять такую небольшую «перебивку» – когда наш герой, Коллекционер, с аппетитом поглощает консервированных килек прямо из жестяной банки. И вот, Алексей Васильевич приступил к работе: он с такой жадностью набросился на этих килек, так их проглатывал – с причмокиванием и даже чавканьем, роняя капли масла, пачкаясь и вытирая рот рукавом, что всем присутствующим на площадке – бьюсь об заклад! – сразу же захотелось перекусить. Конечно, мы благополучно и быстро сняли все, что нужно. Я объявил об окончании съемок. А спустя пару минут зашел в туалет. Зайдя, я услышал, что в одной из кабинок кому-то плохо: человека сильно рвало. В следующую секунду я понимаю, что это Петренко. Ему было по-настоящему плохо: его выворачивало наизнанку, он громко и натужно кряхтел, стонал и отплевывался минут пять. Дождавшись, когда он выйдет, я спросил:
– Алексей Васильевич, как вы?
– Все в порядке, Юра, спасибо, все в порядке. – И, слегка пошатываясь и вытирая рот платком, он вышел в коридор.
И все же я волновался за него: а вдруг пищевое отравление? На следующий день я понял, что произошло. Нет, кильки были хорошие, не просроченные. И дело было вовсе не в отравлении. Алексей Васильевич был верующим человеком и довольно строго соблюдал посты. А наши съемки пришлись аккурат на Великий пост. Если бы он попросил, я с радостью пошел бы ему навстречу – можно было перекроить график съемок, что-то такое придумать. Но Петренко ни словом не обмолвился ни о чем подобном, ни на кого не переложил эту ответственность, никого не заставил принимать его собственную систему координат. Актер сделал ровно то, о чем просил его режиссер. Сделал блестяще. Он в буквальном смысле сожрал этих килек – так, что заставил испытать чувство голода всю съемочную группу. И пошел прочищать желудок. Это был урок большого мастера, который относился к своему делу в высшей степени профессионально и ответственно. Петренко, несомненно, принадлежал к числу великих актеров. Тех, которые, даже ощущая внутри потребность что-то привнести в роль, для начала делают то, о чем их просит режиссер, и лишь потом, если возникнет такая возможность, добавляют к своей работе что-то от себя.
Потом, когда фильм вышел на экраны, мы поехали с ним на «Кинотавр». Это был лишь второй «Кинотавр» в моей биографии, и я еще не слишком хорошо был знаком с кинообщественностью и фестивальной жизнью. Состоялся вечерний показ. А на следующее утро я встречаю супружескую чету Петренко на завтраке. Подбегаю к их столику:
– Ну как? Как дела? Что говорят, какая реакция? – меня тогда мало кто знал, но они-то были прекрасно известны в «тусовке», они были уважаемыми людьми, и я надеялся, что кто-то из их знакомых или коллег обязательно поделится впечатлениями.
– Как дела? Во! – в ответ Галюся показывает большой палец вверх. – С нами никто не разговаривает, не здороваются! На завтрак шли – нас по стеночкам обходили, боялись смотреть в нашу сторону.
Я – ошарашенно:
– Как?! Что такое, почему? Не понравился фильм?..
Галюся поднимает на меня взгляд:
– Ты не понимаешь, Юра. Это супер! Прекрасно!!! Так и должно быть! Ты видишь – да за соседними столиками даже никто не сидит! Никто не подошел поздороваться! Это настоящий успех!
Алексей Васильевич, посмеиваясь морщинками вокруг глаз, откладывает вилку и, внимательно глядя на меня, говорит – спокойно и убедительно:
– Юра, это очень хорошо. Если бы люди, которые вчера были на показе, стали подходить и хвалить фильм, хвалить мою работу в картине – вот тогда было бы ясно: мы сняли говно. А так – все хорошо.
Гораздо позже, когда я снял фильм «Чужие», я пригласил Алексея Васильевича с Галюсей на премьеру, снова на «Кинотавр». После фильма они вышли из зала, и я подошел спросить – понравилось или нет? Галюся ответила вопросом на вопрос:
– Юра, зачем ты спрашиваешь?
– Ну как, Галюсь, мне же интересно узнать ваше мнение.
– Ну, послушай тогда, я тебе один случай расскажу. – Мы потихоньку идем дальше втроем, и она рассказывает: – Сидела я как-то у себя в кабинете в редакции «Правды», а дверь была приоткрыта. А в коридоре, я видела, сидел Тарковский. И еще какой-то парень. Это было – вот, буквально в трех метрах, и я слышала, как этот парень подошел к Тарковскому (узнал наверняка) и говорит, мол, можно я почитаю вам мои стихи? Тарковский согласился, парень что-то прочитал, а потом спросил – вот так же, как ты сейчас: «Как вам? Понравилось?» А Тарковский ему в ответ говорит: «Почему вы себя сдерживаете? Делайте то, чего вы хотите. Хотите выразиться матом – выражайтесь! Не думайте о том, понравится это кому-то или нет. Делайте то, что вы хотите!»
Мы идем дальше, и она продолжает:
– Ты же сделал то, что хотел?
– Ну да.
– Это замечательно, мы поняли это. Ты свободен, ты говоришь о том, что для тебя важно и интересно. А нравится это кому-то или не нравится – тебя это волновать не должно! Ты высказался. Ты мог по-другому?
– Нет, конечно.
– Правильно: нет. И это видно. Ты сделал так, как ты считаешь нужным – все!
А потом Галюся ушла. Умерла в 2009 году. Я узнал об этом спустя почти год. Алексей Васильевич как-то пропал и долго не звонил. А потом позвонил и рассказал про Галюсю.
– Я понял, что должен позвонить всем, кого она любила. Но мне показалось, что я не должен делать этого сразу, – сказал он. Не скрою, это выглядело немного странно, но таким был его выбор, это было его право.
Со смертью Галюси мы стали видеться очень редко, а потом перестали видеться вообще. Пауза затянулась лет на семь-восемь, наверное. Хотя иногда мы созванивались. И уже в начале 2017 года, когда я стал худруком в «Модерне», у меня появилась идея устраивать в театре творческие вечера известных актеров. Я позвонил Алексею Васильевичу, поделился с ним, и он приехал в театр. Это было уже в феврале 2017-го. Помню, как тяжело ему дался подъем по лестнице на третий этаж, ко мне в кабинет. Он был с новой женой. Мы поговорили, решили, что, наверное, начнем с сентября. На прощание мы сфотографировались, я снял его на фоне афиши «Коллекционера» – в такой же позе: в боксерской стойке. А через два дня, пролистывая утром ленту новостей, я увидел заголовки: «Умер Алексей Петренко».
Потом, читая некрологи и воспоминания, я узнал, что на съемках «Агонии» он пережил инфаркт. Но у него по-другому никогда и не было, и не могло быть. Петренко всегда существовал на грани. Его актерская игра – это не просто выучить текст и слепить воедино десяток-другой отработанных штампов. Нет, конечно, у него как у профессионала своего дела в арсенале были и штампы, просто у него их было гораздо больше, чем у рядового артиста, и пользоваться этими инструментами он умел необыкновенно тонко. Он и подобные ему актеры, когда они на сцене или в кадре, – они играют не головой и даже не сердцем. То, что они создают, – это приходит откуда-то изнутри, это то, что рождается где-то очень глубоко, и в акте рождения, сотворения образа участвует все существо. Это происходит на уровне крови. Сколько в организме крови? Сколько могут перенести красные кровяные тельца? А сколько энергии? У таких актеров в кадре или на сцене пульсирует вся их кровь. Она может становиться горячее или холоднее – и температура поднимается не только у героев на сцене, но и у зрителей в зале. Она может загустевать или становиться жидкой – и мы это ощущаем.
Встретить в своей жизни таких людей и работать с ними – настоящее счастье и повод быть благодарным Богу и судьбе.
Иллюстрации
«Мужские откровения». 1996 г.
«Му-Му». 1998 г.
«Коллекционер». 2001 г.
«Казус Кукоцкого». 2005 г.
«Чужие». 2008 г.
«На ощупь». 2010 г.
«Три сестры». 2017 г.
«Анна Каренина. Интимный дневник». Премьера осенью 2019 г.
«Дали». 1999 г.
«Царская невеста». 2005 г.
«Цветы для Элджернона». 2013 г. В репертуаре РАМТ
«О дивный новый мир». 2017 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Затерянный мир». 2017 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Матрешки на округлости Земли». 2017 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Юлий Цезарь». 2017 г. В репертуаре театра «Модерн»
«На дне». 2018 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Nirvana». 2019 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Ничего, что я Чехов?» 2019 г. В репертуаре театра «Модерн»
«Война и мир». Премьера осенью 2019 г.
Путешествие на барке «Крузенштерн», 2012 год
Сергей Маковецкий, 2000
Дмитрий Харатьян, 2000
Александр Балуев, 2000
Максим Суханов, 2000
Куба, 2006
Серия «Моя лавка». Ялта, осень 1995
Маракеш, Марокко, 2007
Алла Сигалова, 1999
Куба, 2006
Куба, 2006
Марокко, 2007
Куба, 2006
Сочи, 1999
Венеция, 2004 год
Франция, 2003

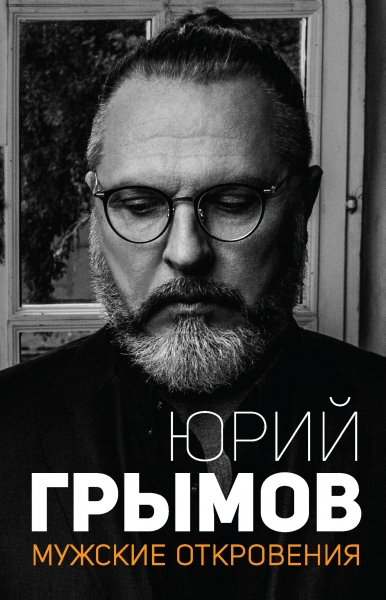
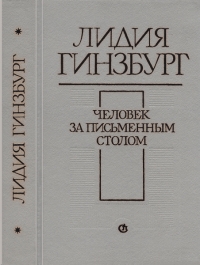

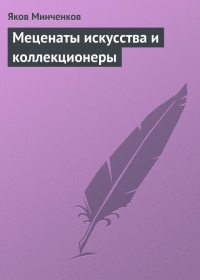
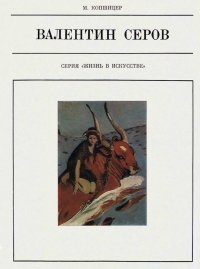
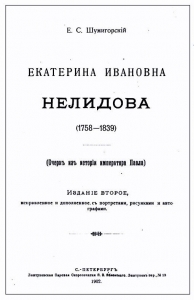

Комментарии к книге «Мужские откровения», Юрий Вячеславович Грымов
Всего 0 комментариев