Алла Сергеевна Демидова «Всему на этом свете бывает конец…»
«Всему на этом свете бывает конец…»
Очередной раз перебирала свой архив, искала какую-то бумажку и наткнулась на папку с моими записями о «Вишневом саде», который Анатолий Васильевич Эфрос поставил на Таганке в 1975 году. В папке лежали некоторые стенограммы репетиций этого спектакля. На книжной полке стояли эфросовские книжки. В ящиках стола хранились мои дневники. И я решила собрать все эти разрозненные листочки и поделиться ими с читателем. Я не могу сейчас последовательно вспоминать все, что связано с нашим «Вишневым садом», – что-то ушло из памяти, какие-то листочки с репетиционными текстами затерялись – поэтому простите мне некоторую фрагментарность моего изложения.
И потом, о спектакле Эфроса было написано много критических статей. Но статьи писались о готовом спектакле. А мы репетировали «Вишневый сад» несколько месяцев. И мне хочется как раз показать, как постепенно прояснялся этот спектакль. Не только у актеров, но и у Эфроса. Поэтому кажущиеся повторы в моих записях – это повторы репетиций, когда день за днем закрепляется роль, проясняется рисунок спектакля.
* * *
В своих записных книжках Ахматова заметила про одного писателя: «…самое страшное: он никогда ничего не вспоминает». Для Ахматовой, да и для любого нормального человека, память – ценный дар Бога. Ее стихотворение «Есть три эпохи у воспоминаний» хотелось бы привести полностью, но я просто напоминаю о нем читателю. Оно слишком известно.
У меня… с памятью плохо. События налезают друг на друга, и я не запоминаю последовательности. Я забываю имена, цифры, рассказанные кем-то анекдоты, плохо запоминаю лица. Память держит только тексты пьес и стихи. Тексты пьес я вспоминаю по мизансценам, если прохожу их мысленно. Стихи же можно уложить в «быструю» и «дальнюю» память. Быстрая нужна, когда необходимо запомнить текст для кино или телевидения, когда же читаю стихи на эстраде, то запоминаю их, перекладывая слова на образы или цвета, а лучше – на мысленные цветные картинки. Тогда и возникает «дальняя память».
Иногда я не понимаю, для чего всю жизнь много читаю, ибо все прочитанное быстро забываю или присваиваю, причем присваиваю как собственное знание. Думаю, причина в актерской профессии, когда присваиваешь текст роли, чужой характер, привычки, судьбу, наконец. Наверное, любое знание, перерабатываясь, присваивается. Гёте в разговоре с Эккерманом заметил (когда англичане обвиняли Байрона в плагиате): «Что я написал – то мое, вот что он (Байрон) должен бы им сказать, а откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно – что я хорошо управился с материалом!»
И потом, у меня ужасная привычка – «ходить кругами», чтобы понять что-нибудь в жизни. Я часто и подолгу перебираю в уме мои отношения с людьми, мои разговоры с ними. Я возвращаюсь памятью к одним и тем же событиям.
Когда меня заворожила «Поэма без героя» Ахматовой, я много лет записывала на бумажках или в маленьких записных книжках свои мысли или что-то из прочитанного или услышанного – все, что касалось этой «Поэмы». Потом я решила этим грузом поделиться с читателями. Написала комментарии к «Поэме без героя» и назвала свою книжку «Ахматовские зеркала». В той книжке тоже мой излюбленный принцип – «ходить кругами»: постепенно, слой за слоем открывать герметичность «Поэмы».
Так и «Вишневый сад». Он меня зацепил в начале 1975 года, когда Эфрос первый раз нам прочитал пьесу вслух. И до сегодняшнего дня я хожу вокруг этой пьесы, и каждый раз для меня открывается что-то новое.
Когда читается пьеса в театре, надо отрешиться от всего, расслабиться и слушать «вполуха», и тогда фантомы образов, отделившись от хорошего текста, встают перед глазами. Их надо удержать в памяти. Конечно, я была настроена на Раневскую, поэтому самым ярким фантомом была она.
24 февраля 1975. В 10 часов утра в верхнем буфете – первая репетиция «Вишневого сада». Пришел Эфрос. Он рассказывал экспликацию и читал вслух 1-й акт, по ходу комментируя. Раневская на грани трагического помешательства. Начало – сразу резко. Нужно создать напряжение – едет та, которую все ждут.
На первую репетицию собираются в театре не только назначенные исполнители, но и те, кто хотел бы играть, но не нашел себя в приказе о распределении ролей; собираются просто «болельщики» и околотеатральные люди. А сейчас – событие: в Театре на Таганке Анатолий Васильевич Эфрос, режиссер другого «лагеря», другого направления, собирается ставить Чехова.
Любимов тогда впервые уехал надолго из театра – ставить в Ла Скала оперу Луиджи Ноно «Под жарким солнцем любви» – и перед отъездом, чтобы театр не простаивал без работы, упросил Эфроса сделать какой-нибудь спектакль на Таганке. Эфрос согласился, хотя у него в это время было много работы. Он только что закончил на телевидении булгаковского «Мольера» с Любимовым в главной роли, у себя на Бронной – «Женитьбу», во МХАТе репетировал «Эшелон» Рощина. Его актеры с Малой Бронной рассказывали, что Эфрос не может жить без репетиций. Он завершает один спектакль, тут же начинает другой – или у себя, или в другом театре. При этом он успевал снимать кино, работать на радио и писать книги.
Эфросу, когда он пришел к нам, было 50 лет, он только что выпустил первую книжку, а к концу года у него случился первый инфаркт. Это было в 1975 году.
На первой репетиции обычно раздаются перепечатанные роли, а тут всем исполнителям были даны специально купленные сборники чеховских пьес. Кто-то сунулся с этой книжкой к Эфросу, чтобы подписал, но он, посмеиваясь, отмахнулся: «Ведь я же не Чехов». Он себя чувствовал немного чужим у нас, внешне это никак не выражалось, он просто не знал, как поначалу завладеть нашим вниманием. Рассказал, что недавно вернулся из Польши и какие там есть прекрасные спектакли, и что его поразила в Варшаве одна актриса, которая в самом трагическом месте роли неожиданно рассмеялась, и как ему это понравилось. Говорил, что в наших театрах очень часто – замедленные, одинаковые ритмы и что их надо ломать, и почему, например, в джазе есть резкие перепады темпа и ритма, а мы в театре тянем одну постоянную, надоевшую мелодию и боимся спуститься с привычного звука. Говорил об опере Шостаковича «Нос», которую посмотрел в Камерном театре, – почти проигрывая нам весь спектакль и за актеров, и за оркестр. Сказал, что любит слушать дома пластинки, особенно джаз, где, нащупав тему и единое дыхание, на первый план выходит с импровизацией отдельный исполнитель, и как все музыканты поддерживают его, подхватывают и развивают по ходу новую музыкальную тему, и почему в театре такое, к сожалению, невозможно. Говорил о том, что он домосед, что не любит надолго уезжать из дома. Рассказал, как однажды посетил места, где родился, и какое для него это было потрясение, и напомнил, что первая реплика Раневской – «Детская…». Говорил, что приезжать на старые детские места – это страшно. Когда он недавно приехал в Харьков, где прошло его детство, сказал, что все помнил, но улицу уже не узнавал, но когда увидел свое окно и перед ним тот же сад, то стал плакать, почти истерично. Рассказал немного о Харькове, о своем детстве и какой Харьков прекрасный город.
У меня ассоциативная память, и я сразу же вспомнила, что в «Чайке» Аркадина говорит, как хорошо ее принимали в Харькове. И Лопахин в «Вишневом саде» тоже говорит, что ему надо ехать в пятом часу утра в Харьков. Фирс тоже вспоминает, что сушеную вишню возили в Харьков.
Это Зощенко, по-моему, в своей «Голубой книге» среди рассказов вставлял «мелкий случай из личной жизни».
У меня это тоже вошло в привычку. Поэтому опять прошу прощения у читателя, если я вспомню что-нибудь, не впрямую относящееся к «Вишневому саду».
Тогда же Эфрос говорил, что пьеса «Вишневый сад» много ставилась, что осталась легенда о спектакле раннего Художественного театра, что существует некоторый трафарет и что его надо разрушить, но это будет очень сложно, что в пьесе нет определенной идеи, что там действуют очень странные люди. На фоне клоунских разговоров происходит что-то для них страшное – продажа вишневого сада. Люди понимают, что над ними висит какая-то опасность, но они беспечно об этом не думают. И, главное, надо иметь в виду, что в «Вишневом саде» сочетание опасности и беспечности.
ЭФРОС. «Представьте себе – летит какой-то снаряд, мы знаем об этом, знаем, что он должен упасть и что это будет смертельно для нас, знаем даже, когда он упадет, но ничего не делаем против этого снаряда, не пытаемся спастись, а занимаемся каждый день самыми обычными вещами, как если бы об этом снаряде никто не знал. Вот и у Чехова люди милы, чудаковаты, беспечны, но ничего не могут сделать против опасности. Мне кажется, пьеса звучит сегодня очень интересно.
Она неоднозначна, конечно, в ней много других мотивов, но эта идея присутствует всегда, во всех сценах, во всех взаимоотношениях людей. И если сделать это на сцене не буквально, а символически, то тогда все человеческие странности, клоунские выходки и смешки приобретут совершенно другое значение».
Эфрос говорил, что это очень хорошая мысль – поставить Чехова именно на Таганке, в театре, где привычный Чехов кажется немыслимым, где всегда обнаженная сцена, голые кирпичи, а артисты по-брехтовски «показывают своих героев». Сказал, что попросит Левенталя сделать очень красивую декорацию, которой на Таганке еще не было.
ЭФРОС. «Может быть, верно, что истину надо искать только в контрастах. Комедию Гоголя надо ставить трагически, тогда она будет смешна. Брехта надо ставить „по-чеховски“, без насмешливого брехтовского тона. Кстати, Брехт на Таганке был в свое время поставлен по-русски, оттого, может быть, так заиграл. А „Вишневый сад“ надо ставить в театре, где меньше всего знают толк в „чеховском тоне“. Может быть, такое наше время – по протоптанной дорожке не придешь никуда?»
Сказал, что он сейчас вынужден завершить работу во МХАТе, что у нас первые черновые репетиции будет проводить его ассистент Александр Вилькин и что сам Эфрос только раз в неделю будет приходить к нам смотреть наработанное и давать задание на будущее, но что после премьеры во МХАТе он целиком наш.
На доске приказов театра было вывешено распределение ролей. По традиции нашего театра на одну и ту же роль назначалось по нескольку человек:
Раневская – Демидова, Богина
Аня – Чуб, Комаровская, Прудникова
Петя Трофимов – Золотухин, Холмогоров, Филатов
Варя – Жукова, Селютина
Гаев – Штернберг, Хмельницкий
Лопахин – Высоцкий, Иванов, Шаповалов
Симеонов-Пищик – Колокольников, Антипов
Шарлотта – Полицеймако, Ульянова, Додина
Епиходов – Дыховичный, Джабраилов
Дуняша – Сидоренко
Фирс – Ронинсон
Яша – Шуляковский
Прохожий – Королев
А позже Эфрос напишет в своих воспоминаниях: «Демидова – Раневская и Высоцкий – Лопахин – это теоретически уже хорошо. А еще пригласить оформить спектакль не Боровского, чья эстетика насквозь „таганковская“, а Левенталя, да-да, оперного Левенталя, пускай он придумает что-то именно на Таганке».
Высоцкий в конце января 1975 года на три месяца уехал во Францию, но перед распределением ролей Эфрос говорил с ним, со мной и с Золотухиным о «Вишневом саде», советовался насчет распределения – он мало знал наших актеров. Но роли в конце концов распределял и утверждал Любимов. Во всяком случае, Эфрос не настаивал на втором составе ролей.
И мы начали работать.
Во-первых, что за пьеса?
В сентябре 1903 года Чехов пишет в письме о «Вишневом саде»: «Пьесу я почти кончил, надо бы переписывать, мешает недуг, а диктовать не могу».
Конечно, у него не было, как у Толстого, Софьи Андреевны, которая 17 раз переписывала его «Войну и мир». 17 раз! От руки. «Вы подумайте!» – сказал бы Симеонов-Пищик.
«После „Вишневого сада“ я перестану писать как прежде», – говорил Чехов. Он уже был смертельно болен, но не спешит ставить последнюю точку в пьесе, несмотря на бесчисленные телеграммы от Станиславского, который ждет эту новую пьесу.
Рассказывают, что Чехов так привыкал к людям, о которых писал, что не хотел с ними расставаться. И потом, момент завершения работы ощущается последующей пустотой. Бунин, например, писал о страхе, который наступал, когда ставилась последняя точка. Конец ощущался как кончина. Но Чехова пугало даже не завершение работы, а понимание, что «Вишневый сад» – это его последняя пьеса. Конец и завершение работы над этой пьесой ассоциировались у него со своим концом жизни. И как его персонажи в «Вишневом саде» оттягивают решение расставания с садом, так и Чехов оттягивал писать в пьесе «конец». Он как бы поощрял все отсрочки – внешние и внутренние, потому что все это оттягивало надвигающуюся катастрофу конца. Но Чехов не спешит не только из-за болезни, он понимает, что эта пьеса особенная – это итог его жизни. Вернее – записывание личного опыта болезни и умирания.
Личный опыт через творчество, то есть личный опыт, смешанный с фантазией, есть у каждого творческого человека. В течение жизни, я думаю, у писателя, актера, режиссера, – у всех, кто в своих фантазиях конструировал новые образы, – все эти жизни, конечно, оставляют след в душе.
Когда Чехов писал свою последнюю пьесу, все персонажи «Вишневого сада» уже давно жили у него в голове. И мелькали то в письмах, то в ранних рассказах. В письмах к знакомым и родным можно встретить мысли, которые потом выскажет Лопахин или Петя Трофимов, или кто-нибудь другой из «Вишневого сада».
В рассказах Чехова тоже можно встретить знакомые персонажи из «Вишневого сада». Например, в рассказе «Невеста» – это, конечно, Аня из «Вишневого сада», когда она, покинув семью, живет дальше.
Станиславский в своей системе советовал актерам писать биографию персонажа, которого играешь, то есть дофантазировать прошлое и будущее. Войдя в роль, я могла всегда рассказать, как бы мой тот или иной персонаж поступал бы в моем настоящем.
Часто можно встретить вопрос, что бы в наше время сказал Пушкин, как бы он поступил в той или иной нынешней ситуации. Я думаю, что достаточно хорошо изучить биографию и творчество того же Пушкина, и тогда очень просто представить его поступки в сегодняшней ситуации. Я, кстати, часто про себя играю в вымышленную игру «глазами Пушкина». Все становится сразу очень удивительно и интересно.
Марина Влади, например, написала роман про своих родителей и близких людей. Они как бы продолжают биографии персонажей «Вишневого сада». Они эмигрировали после революции, жили во Франции, и какая жизнь им была уготована в дальнейшем. Критики очень плохо встретили такой эксперимент, назвав книжку Марины «Клюквой вишневого сада». Я не читала эту книжку, поэтому не могу судить, но хорошо понимаю намерение Марины продолжить жизнь персонажей «Вишневого сада». Это, конечно, чисто актерский подход к проблеме, и отношение Марины Влади к персонажам «Вишневого сада», как к своим родственникам, я очень хорошо понимаю.
В конце концов, практически все персонажи чеховских пьес между собой «родственники» – родственные души. Их нельзя играть бытово, делая акцент на какой-то определенный характер. Они все «родственники» Чехова. Чеховские пьесы монологичны. Их можно играть практически одному человеку.
Все персонажи «Вишневого сада» в той или иной степени сам Чехов. И, думаю, так надо играть его пьесы – в начале держать в подсознании жизнь самого Чехова, а уж потом его персонаж. Надо учитывать какие-то особенности характера и судьбы самого Чехова. Я, помню, где-то прочитала о дисгармонии натуры Чехова, о «молчании сердца», о слабости чувств любви. Не знаю, так ли это точно по отношению к самому Чехову, но к «Вишневому саду» годится.
Чехов, по воспоминаниям близких, был очень естественный человек в своих проявлениях. Сейчас мало таких людей! Боязнь лжи и притворства. Самовоспитание. Интеллигенция первого круга. Что еще? Может быть – внимательное отношение к человеку при полной холодности и понимании окружающих людей. Усилие над собой? В творчестве – прием строго обдуманной лирики. Если про Чехова это не понимать, «Вишневый сад» лучше не ставить. Слова не так уж и важны – «стихи мои бегом, бегом…» Но при этом расчет. Бунин вспоминает, что Чехов сказал ему: «Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед».
Противоречивость натуры Чехова. Например, у Толстого есть запись: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их». Чехов же передавал то, что сам не испытывал, но «заражал» своим искусством всех, даже Толстого.
В этом, конечно, некоторый диссонанс в восприятии Чехова, когда его играешь: с одной стороны, знать, что это в первую очередь сам Чехов, и его держать в подсознании, а с другой стороны, понимать, что все это он выдумал.
Но все равно все персонажи разные. Например, в «Вишневом саде» Дуняша про себя говорит, что ее «еще девочкой взяли к господам», и Шарлотта тоже про себя – «взяла к себе одна немецкая госпожа». Обе осиротели еще в детстве, и обеих «взяли». Вроде бы они похожи, но в каждой из них есть что-то, что отличает одну от другой.
Лопахин, например, с одной стороны – «новый хозяин» жизни, купец, в «желтых ботинках в калашный ряд», а с другой стороны – «тонкая, нежная душа», как про него говорят. И это не две противоположные черты характера, а одно целое – слитое в одно.
Поэтому, играя Лопахина, нужно предвидеть, как эта «тонкая, нежная душа» помешает ему в будущих мероприятиях.
Но тут не надо, по Станиславскому, искать в скупом щедрость и, наоборот, в злом – нежность и т. д. У Чехова в любом персонаже уже заложена эта многослойность, ее только надо актеру понять и выявлять.
* * *
Я когда-то играла Пристли «Скандальное происшествие мистера Кэттла и миссис Мун». Сначала это был дипломный спектакль, который поставил Шлезингер, а потом и на сцене «Таганки», когда мы в 64-м году пришли в этот Театр драмы и комедии и там спектакль по Пристли оставили в репертуаре от бывшего театра. Так вот, тогда у меня тоже было много вопросов, в основном, правда, про английскую жизнь. Я стала читать все, что переводили из Пристли. Я тогда наткнулась на его запись о Чехове и о «Вишневом саде»: «Пьеса эта не о том, как заколачивается дом и продается сад. Тогда „о чем“ же она? Она о времени, о переменах и безрассудстве, и сожалениях, и ускользающем счастье, и надежде на будущее. Маленькая девочка, которую я когда-то знал, утихла на мгновение, села в угол, а когда ее спросили, что заставило ее задуматься, ответила: „Жизнь в этом мире“. „Вишневый сад“ – пьеса о жизни в этом мире».
* * *
Первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает рассветом. Ранняя весна. Морозный утренник. Ожидание. В доме никто не спит.
И хоть Эфрос советовал не обращать внимания на ремарки автора, я все же читаю: «Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно».
Причем, судя по черновикам, у Чехова были разные ремарки к 1-му акту. Например, было: «…в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях». Или: «…в имении дурной запах, дурной тон; деревья посажены как-нибудь, нелепо».
Слава богу, дурной сад в конечном результате стал прекрасным, цветущим и обреченным.
Впрочем, можно делать эту пьесу и с «дурным запахом», но спектакль будет уже другим, не эфросовским, и может быть, как ни странно, и не чеховским.
Чехов никак не мог остановиться на названии пьесы. Предлагал то один вариант, то другой. А потом окончательно, с каким-то умилением, произнес «Вишнёвый сад». И все время повторял, что не «ви́шневый», а «вишнёвый».
* * *
Начиная репетировать – ты как бы в центре круга, можно пойти в любую сторону. Пьеса – лишь руководство к действию. Пьеса – это либретто, а «музыку» будут писать режиссер и актеры.
Но, отталкиваясь от текста про Раневскую, брат Гаев говорит: «…она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении». Или Аня рассказывает в первом акте про парижскую жизнь Раневской: «Мама живет на пятом этаже… Накурено, неуютно».
На пятом этаже в начале века жили домработницы, студенты и бедные художники. На этом этаже была коридорная система с одним туалетом и ванной комнатой на целый этаж. Без лифта. Разве можно ходить по этим лестницам приличной даме в корсете? Конечно нет. Значит, надо искать в первую очередь, может быть, внешний облик Раневской? Какая она? Как ходит? Как говорит? Где-то я читала, что в начале века семейство Бенуа жило на 5-м этаже в Париже. Кстати, на 5-м этаже там жил и Максимилиан Волошин, а потом в его квартире жил Бальмонт с женой Екатериной Андреевой. Интересно, как они там управлялись?
Раневская чудесная! Бунин писал в записных книжках, вспоминая разговор с Чеховым: «Помните, вы говорили мне, что хотите написать пьесу потому, что выдумали чудесную женщину?» – «Да, да, Раневскую».
Сколько лет Раневской? Для меня в любой роли определить возраст важно. Ане, ее дочери, 17 лет. Лопахин вспоминает, что, когда ему было 15 лет, Раневская тогда была «молоденькая, худенькая», то есть старше Лопахина года на 3–4. Следовательно, Раневской в пьесе около 40, а Лопахину 35.
Это, конечно, не самое главное, но это важно. Я много слышала рассказов-легенд о Книппер в роли Раневской. Чехов вначале хотел, чтобы она играла Варю, но она настояла на Раневской. Чехов остался недоволен спектаклем Художественного театра. Видела я и пленку с Книппер в сцене с Петей Трофимовым. Кинопленка была, по-моему, 49-го года, когда Книппер было уже много лет. Надо вернуть Раневской ее собственный возраст. Щемящая трогательность этой женщины появляется и от правильно угаданного возраста.
Молодой возраст дает легкость пробегов. Неуспокоенность. Неусидчивость. С самого начала в пьесе лихорадочный ритм. Епиходов приносит цветы: «Вот, садовник прислал, говорит, в столовой поставить». Садовник прислал (это ночью-то!). Все на ногах. Суета, и в суете – необязательные, поспешные разговоры. Лихорадочный, тревожный ритм начала готовит такое же лихорадочное поведение приехавшей Раневской. Да, дым отечества сладок, но здесь, в этом доме, умер муж, здесь утонул семилетний сын, отсюда «бежала, себя не помня». Здесь каждое воспоминание – и радость, и боль. На чем остановить беспокойный взгляд, за что ухватиться, чтобы вернуть хоть видимость душевного спокойствия? «Детская…» – первая реплика Раневской. Здесь – в этой детской – и сын Гриша, и свое детство. Что здесь ей оставалось? – только детство, к которому всегда прибегает человек в трудные душевные минуты… Для Раневской вишневый сад – это мир детства, мир счастья и покоя, мир ясных чувств и безмятежности. Мир справедливых истин, мир ушедшего времени, за которое она цепляется, пытаясь спастись.
Любовь Андреевна. Детская… Детская, милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была маленькой… И теперь я как маленькая.
У Раневской наверняка было счастливое детство.
У меня детство было не самое счастливое время жизни, но я всегда вспоминаю его светло. Особенно когда не могу заснуть, всегда мыслями ухожу в свое детство: летом я уезжала к бабушке в деревню под Владимиром. Мы с двоюродной сестрой спали в амбаре. Я просыпалась поздно, около 12-ти. Солнце. Пустынная деревенская улица, и пахнет июльской пылью и травой. Эти ощущения так приятны, что хочется их продлевать и продлевать. Эти ощущения настолько реальны, что заслоняют от меня и болезнь, и мрачные мысли, и неустроенность моей жизни. Они успокаивают – и я засыпаю.
В детстве весь мир существует только ради тебя. Он неизменен, и кажется, что это будет длиться вечно. И разве можно потом эту реальность, это божественное ощущение разрушить собственными руками? «Остановись, мгновенье!» Время остановилось. У Конфуция: «Время бежит? Бежите вы! Время стоит». Время остановилось в детстве.
Раневская постоянно возвращается воспоминаниями к своему детству.
Может быть, иногда можно с братом играть, как играли с ним в детстве. Коверкать слова? Дурачиться? «Желтого в середину» – гаевское – может быть, это из детской игры? Вишневый сад – это их дом. Их детская жизнь. «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни», – говорит Раневская Пете Трофимову в 3-м акте.
Продажа вишневого сада – это не только крах ее жизни, а крах всего мироздания. Но – парадокс! С одной стороны, Раневская не мыслит свою жизнь без вишневого сада, а с другой стороны, она делает все, вернее – не делает ничего для спасения вишневого сада. Но что могла сделать для спасения сада Раневская? Разве это было в ее силах?
По пьесе – Раневской шесть лет не было в России. Жила во Франции, в Париже. Да как! Аня говорит про нее: «Мама живет на пятом этаже… (это для того-то времени), накурено, неуютно». Раневская – про своего любовника и жизнь в Париже: «Он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться…» И вот после такой бурной жизни она приезжает в Россию, чтобы продать последнее, что у нее есть, – имение. Для чего продать? Чтобы успокоиться, остепениться? Да нет, телеграммы идут из Парижа, и ясно, что с Парижем, вопреки заявлению самой Раневской, отнюдь не кончено…
Все постоянно пишут, что Раневская – роль-тема, тема болезни и гибели класса, целой эпохи. Это не пушкинский высший свет, втолковывал нам Эфрос, это не крепостники и это даже не дворянские гнезда Тургенева, это конец XIX – начало XX века, это среднее, обедневшее дворянство, это другое время, это – всемирная выставка в Париже, это электричество, это первые самолеты, первый кинематограф, это приметы иного времени, иные ритмы жизни, не миновавшие и последнего островка – вишневого сада. Сад обречен погибнуть, его сминает время. И можно ли ощущение обреченности, неминуемой гибели играть элегически спокойно?
Конечно, Чехов имел в виду не только смену социальных укладов и ритмов жизни. Для него в гибели вишневого сада звучала тема гибели поэтического, духовного начала в русской культуре. Без этого ощущения – духовности и надвигающейся беды – «Вишневый сад», мне кажется, не сыграть.
Известно, что Толстой не любил чеховских пьес. Бунин, вспоминая Чехова, записал его слова по этому поводу: «Только одно утешение у меня и есть, он мне раз сказал: „Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все-таки хватает читателя за шиворот и ведет его к неизвестной цели, не позволяет свернуть в сторону. А куда с вашими героями дойдешь?…“ Антон Павлович откидывает назад голову, – пишет Бунин, – и смеется так, что пенсне падает с его носа».
Конечно, Толстому не должны были нравиться пьесы Чехова. Ведь Толстой писал «правду жизни», когда «бытовая трагедия» лежит на поверхности. И конечно, в чеховских пьесах этого нет, в отличие, может быть, от его рассказов. В пьесах Чехова наши иррациональные страхи перед жизнью, перед ее бессмысленностью. Эти страхи и ожидания конца заложены в каждом человеке. О страхе принять «правду жизни», о бессознательном стремлении человека уйти от этого. И всё это не впрямую, а только ощущением.
27 февраля 1975. Утром – репетиция «Вишневого сада» без Эфроса. Народу уже мало. Нет «любителей» и случайных людей, которые всегда почему-то толкутся на репетициях. Нет и некоторых исполнителей. Начали разводить по мизансценам. Не очень интересно и без того нерва, о котором говорил Эфрос. Эфрос репетирует «Эшелон» во МХАТе и будет приходить к нам раз в неделю. Будем репетировать с Сашей Вилькиным.
Вилькин – ассистент режиссера – репетирует грубо. Есть по ходу репетиции вопросы, которые мы пытаемся решить самостоятельно. Начало какое-то абсурдное. Лопахин приехал, чтобы встретить Раневскую. Поезд должен был подойти около 12 ночи. Сейчас около двух часов ночи, поезд опоздал на 2 часа, а Лопахин проспал. Проснувшись, сразу вспоминает Раневскую и себя – пятнадцатилетнего. Необязательные разговоры. Они готовят что-то. Но что? О чем? Что за словами?
Неожиданные эмоциональные крики. Например, Дуняша: «А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут!» Можно сказать, что, мол, в отличие от вас, Ермолай Алексеевич, собаки не заснули, а можно просто радостно выкрикнуть, как важную новость.
У Епиходова все «враздробь», и это его возмущает в одинаковой степени – и то, что «мороз в три градуса, а вишня в цвету» (виновата вишня!), и что сапоги скрипят (виноваты сапоги!)
Потом выбегают один за другим – Аня, Варя, Шарлотта, Гаев, Раневская, Симеонов-Пищик. Раневская наткнулась на Лопахина, который стоит посередине сцены. Наткнулась и, испугавшись, резко повернулась и увидела детский стульчик.
Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, хотя это трагедия. Чтобы показать тишину, ее нужно нарушить. Трагедия, в которой от начала до конца плачут, рискует обратиться в комедию. И в то же время – несоответствие поведения людей ситуации бывает трагично. Герои «Вишневого сада» шутят и пьют шампанское, а гибель предрешена. Об этом знают, но еще наивно пытаются обмануть себя. Беда и беспечность. Болезнь и клоунада. Во всех поступках героев есть что-то детское, инфантильное. Как если бы дети, – говорил Эфрос, – играли на заминированном поле, а среди них ходит взрослый разумный человек и остерегает их, предупреждает: «Осторожно! Здесь заминировано!» Они пугаются, затихают, а потом опять начинают играть, вовлекая и его в свои игры. Детская открытость рядом с трагической ситуацией. Это странный трагизм – чистый, прозрачный, наивный. Детская беспомощность перед бедой – в этом трагизм ситуации.
И все-таки почему и «Чайка», и «Вишневый сад» названы Чеховым комедиями? В «Чайке» Треплев кончает жизнь самоубийством, а в «Вишневом саде» забывают Фирса в заколоченном доме.
Может быть, Чехов назвал эти пьесы комедией, чтобы оградиться от претензий критиков, что, мол, это не реальная жизнь. Это не слепок быта. Да, действительно, как писал Бунин, вишневых садов – таких огромных (больше 1000 гектаров), не существовало. Кроме разговоров, вроде бы ничего на сцене не происходит. В письме к своему брату Василий Иванович Немирович-Данченко пишет: «Ты спрашиваешь о пьесе Чехова. Я душой люблю Антона Павловича и ценю его… Это скучная, тягучая, озлобляющая слушателей вещь… Это не пьеса. Сценического – ничего. По-моему, для сцены Чехов мертв… Чехов не драматург. Чем он скорее забудет сцену, тем для него лучше!»
Да, действительно, «правды жизни» – в том понимании, которое существовало тогда на сцене театров, да и в самом Художественном театре, для которого и писался «Вишневый сад», не было. Не говорили тогда на сцене «тарарабумбия, сижу на тумбе я», не было абсурдного диалога, как в «Трех сестрах», например, о «черемше» и «чехартме», не мог Гаев ни с того ни с сего, не к месту сказать: «Желтого в угол».
Манера игры на сцене тогда была другой. Не пробрасывали целые монологи скороговоркой. За словами существовало адекватное чувство. А тут говорят о погоде, а через этот абсурд надо держать в подтексте скрытые страхи и ужас перед реальностью, говорят «у лукоморья дуб зеленый», а надо играть неудачную жизнь, нежелание принимать эту реальную жизнь.
В пьесах Чехова явное противоречие между чувством и действием, между чувством и словом.
О «Трех сестрах», например, сам Чехов писал: «Боже мой, как все эти люди страдают от умствования, как они встревожены покоем и наслаждением, которое дает им жизнь, как они неусидчивы, непостоянны, тревожны; зато сама жизнь такая же, какая была, не меняется и остается прежней, следуя своим собственным законам».
Может быть, из-за этого несоответствия и появилось у Чехова желание написать комедию? Уже сразу после премьеры в Художественном театре «Трех сестер» Чехов пишет: «Следующая пьеса, которую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу». И чуть позже: «…я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы черт ходил коромыслом».
В записных книжках у Чехова появляются слова: недотепы, однорукий барин, играющий на бильярде, старуха барыня, стреляющая у лакея деньжат. Или: «…либеральная старуха одевается как молодая, курит, не может без общества, симпатична».
Да, но почему это комедия? В чем здесь комедийность? Какая комедия? Когда после прочтения пьесы особенно оживают скрытые страхи и ожидания чего-то неизбежного, свойственного человеку, и на душе становится очень тревожно.
И чем больше Чехов был одинок и болен, тем настойчивее уверял себя и других, что написал комедию.
Талант вступил в противоречие с жизнью. Я помню, как Иннокентий Михайлович Смоктуновский мне сказал: «Вы знаете, Алла, талант умнее меня и умнее нас всех».
Чехов писал жене о «Вишневом саде»: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича».
«Вишневый сад» – это не пьеса о продаже вишневого сада, вишневый сад – символ, это сама Раневская: «…если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом…»
Пока существует вишневый сад, можно жить с иллюзией стабильности, неизменности. И как можно все это продать? Ведь не все умеют продавать. Я, кстати, тоже не умею продавать. И потом, как можно продать свое прошлое, свое детство, своих родителей, свои воспоминания.
Как-то давно я зашла в гости к старухе Грановской – бывшей актрисе 30-х годов. Она жила в центре Москвы, в большой захламленной, много лет не знавшей ремонта, квартире. У нее не было ноги, она лежала на кровати. По-прежнему красивая. За ней кое-как ухаживали молодые люди, которым она сдавала (или просто пустила пожить?) комнаты. А в ее комнате, где она лежала, на облупленной стене висел большой, известный по репродукциям автопортрет Фалька. Я ей сказала, что хорошо бы этот портрет продать, нанять сиделку, сделать ремонт. Она возмутилась: «Как это можно! Ведь это память о моей сестре, о моей жизни. Я просыпаюсь и смотрю на эту картину, и поэтому я живу». Как-то она проснулась – картины не было, только на стене остался светлый квадрат от нее. Картину украли. Вскоре Грановская умерла…
Я вспоминаю нищих одиноких старушек с бриллиантовыми колечками и брошками, которых они не продавали, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Просто это не приходило им в голову. Но даже если бы и захотели продать – не смогли бы. Не умели продавать.
Поэма о человеке, который спустился в ад и поднялся в рай, тоже названа комедией: «Божественная комедия» Данте.
А Станиславский определял жанр «Вишневого сада» так: «Для простого человека это трагедия».
Сейчас, когда человечество пережило ужасные катаклизмы XX века, понимая все это – тут-то и воспринимаешь «Вишневый сад» как трагедию. Но…! В классической трагедии герой всегда противостоит высшим силам. Может быть, здесь – это трагедия обыденности?
Комические ситуации разбросаны по всей пьесе. Скорее, комедия абсурда, особенно когда реплики входящего персонажа диссонируют с только что происходящим. «Желтого в угол» – это что, ответ?
Но скорее всего, умирающий Чехов думает о «комедии жизни» – «Все равно умрешь!». Не в чеховском характере обставлять собственную смерть трагическими всхлипами. Он умирал в Баденвейлере покорно. (Да и перед отъездом туда сказал знакомому – «еду умирать».) Без мучений, слава богу. Отлично понимал, почему пришедший немецкий врач ночью ему дает бокал шампанского. «Я умираю», – сказал Чехов по-русски и тут же добавил (его деликатность), – «Ich sterbe» – для немецкого врача, который не понимал русский. Как много оттенков в этой его последней фразе!
Основное качество интеллигента – деликатность.
Чехов тихо повернулся к стене и умер.
Может быть, после «Трех сестер» в Художественном театре, когда Чехова упрекали в излишней меланхолии, он хотел дистанцироваться от такой трактовки и специально для Станиславского и всех актеров настаивал, что пишет комедию, ведь и в «Трех сестрах», как и в «Вишневом саде», есть абсурдные столкновения реплик, которые вызывают смех.
И Книппер, которая играла в «Трех сестрах» Машу, Чехов советовал в местах, когда кричать хочется от страданий, просто насвистывать.
В игре нужны контрасты – от комического к трагическому и наоборот. Недаром был найден Чеховым такой поэтический образ самой вишни, вернее, вишневого дерева. Когда в цвету – гроздья белых легких облетающих цветов (какая беспечность!), а осенью и зимой – корявые черные низкие деревья (мрачные, графичные на фоне неба).
В русском языке есть слова, когда можно ставить ударения в двух вариантах и оба будут верными, но смысл смещается. В одном стихотворении Бродского есть строфа: «…это бесплодный труд. Как писать на ветру».
Смысл стихотворения требует на слове «писать» ударение на первом слоге, но в известной поговорке ударение ставится на втором.
Потому что говорить о неизречимом так же бесполезно, как «писать» с тем и другим ударением.
«Вишневый сад» тоже имеет право на два ударения. Ударение на первом слоге – это скорее ягодный сад. Ягода, которую, как говорит Фирс, раньше «сушили, мочили, мариновали, варенье варили… сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было!» А ударение на втором слоге – перед глазами встает цветущий белый сад – райская Красота.
Поэтому «вишневый сад», в зависимости от ударения, воспринимается или как плантация ягод для продажи, или как символ бессмысленной Красоты, без которой человек тоже не может жить.
Кстати, и фамилия Эфрос тоже имеет два ударения. И ее по-разному озвучивали. Для нас, актеров, он всегда был Эфрос – с ударением на первую букву, а для сторонних (критиков, зрителей) – ударение ставилось почему-то на второй гласной букве. И при этом образы менялись. Для нас – близкий человек, со своими достоинствами и недостатками, со своими слабостями и привычками. А во втором случае – возникал образ более обобщенный. Монолитный и величавый.
В нашем спектакле особенно было ясно, что ударение, конечно, ставится на втором слоге. Символ чистой хрупкой красоты. Но каждый режиссер может сместить ударение, и тогда спектакль будет о разрушении хозяйства, экономики в целом, о банкротстве. И здесь сад будет символом рентабельности и выгоды.
Когда Чехов назвал свою пьесу «Вишнёвый сад», сразу же произошло смещение идеи – вместо ягодного, приносящего доход сада возникло понятие странное, словами не очень объяснимое, сад стал скорее какой-то субстанцией. Нереальный и, конечно, не материальный. Между Пользой и Красотой Чехов выбирает Красоту. И когда мы теряем Красоту, мы теряем что-то главное в жизни и в людях.
Эта пьеса о потере. Мы все вспоминаем с грустью потери, которые бывают у каждого. Эта пьеса о конце, и каждый из нас знает, что конец когда-нибудь будет неизбежным. И кто в своей жизни не испытывал крах своих мечтаний и иллюзий.
3 марта 1975, понедельник. На репетицию пришел Эфрос. Мы, волнуясь, показали ему в верхнем буфете в мизансценах 1-й акт. Мне показалось, что он был не так включен и заинтересован, как раньше. Видимо, душой был в другой работе. А может быть, просто устал. Во всяком случае – был более спокоен, чем обычно.
Сначала сыграли один состав: Демидова – Раневская, Шаповалов – Лопахин, Сидоренко – Дуняша, Дыховичный – Епиходов, Ульянова – Шарлотта, Чуб – Аня, Штернберг – Гаев, Ронинсон – Фирс, Колокольников – Симеонов-Пищик, Холмогоров – Петя Трофимов, Шуляковский – Яша. После небольшого перерыва – второй состав: Богина – Раневская, Хмельницкий – Гаев, Комаровская – Аня, Жукова – Варя, Иванов – Лопахин, Золотухин – Петя.
Я посмотрела со стороны второй состав. Мне все это ужасно не понравилось. Но Эфрос похвалил, сказал, что мы молодцы, что в прошлый раз сказал в шутку, мол, разведите мне к следующему разу первый акт. «А вы шуток не понимаете – воспринимаете все всерьез», – сказал он, улыбаясь. Выделил наш состав, но, может быть, потому, что мы репетировали в начале. Сказал, что у него были свои представления о первом акте, но наше мужество и напор его впечатлили.
Я старалась записывать за Эфросом в своей тетрадке для роли его замечания в конце репетиции. Иногда на репетициях сидела Марина Зайонц и тоже кое-что записывала за Эфросом. В то время Марина жила у меня, и я потом заглядывала в ее записи. Что-то переписывала. Так у меня сложилась практически прямая речь Эфроса, которой я буду пользоваться здесь, в своих заметках.
ЭФРОС. «Может быть, не было резкого противопоставления традиции, как я просил, но это можно развить, хотя с этим надо в будущем быть осторожным. Надо стараться играть как бы шутя, элегантно, с современной легкой иронией. Как получится в результате – не будем загадывать.
Надо сохранить элегантность в трагичности. Вот это проблема. Я, например, увидел у Аллы в Раневской в изяществе скрытый драматизм. Это тоже должно быть и у актрисы, играющей Аню. И это надо усиливать. Играйте смелее. И больше драматизма. Особенно когда говорите „мой столик“, „мой шкафик“. Не стесняйтесь здесь сентиментальности. Мы умрем, а эти вещи будут жить и дальше.
Раневская под впечатлением того, что она увидела в доме. Допустим, ваш, Алла, выход. Я обратил на него внимание только потому, что это вышли вы. Я думал не так это делать. Делать надо острее. Начало должно быть неожиданным для публики. И Лопахин должен быть не таким спокойным, как мы его обычно себе представляем. Добронравов играл замечательно, но его рисунок роли нужно забыть, потому что сейчас все иначе. Все острее и нервнее. Сейчас другие ритмы! Епиходова я тоже представлял иначе. Пусть будет смешно, но должно быть и трагично.
Я давно хочу Чехова поставить, как Шекспира. От этого Чехова не убудет. Тема – обреченность людей. Ее можно показать акварельно, а можно очень жестко, резко, определенно. По-шекспировски.
Теперь о том, что делать дальше. Я не собирался сегодня двигаться дальше, рассказывать 2-й акт, а теперь думаю, что, может быть, стоит пойти дальше. Если вы снова так же серьезно отнесетесь к моей шутке. Давайте сделаем такой опыт.
Итак – 2-й акт. Финал первого акта – после него большая пауза. Затем выходит группа людей, глядя прямо в зал: Яша, Дуняша, Шарлотта, Епиходов. Откровенная демонстрация своей неприспособленности. Да, мы такие, ну и что! Бравада своей свободой, своим положением, своей обреченностью – и в первую очередь Шарлотта. Епиходов – он все делает нарочно, назло. Это тоже вызов. Трагическая клоунада. Бывают такие страшные нищие, открыли калитку вашей богатой дачи и стоят. Только ничего нельзя делать в отрыве от первого акта. Если там завяжется трагедия, то дальше – наступает бред, абсурд. Как бы представление клоунов. Но очень серьезное.
Этим людям все не страшно, потому что нечего терять. Да, мы шутим, но за этим может быть все что угодно. Мы мистификаторы. Может быть, смешно, а может, кто-то и застрелится. Епиходов не шутит, когда говорит об этом, он может и застрелиться. Должна быть доведенная до абсурда тема, которая завязалась в 1-м акте. Епиходов совершенно неожиданно обращается к публике: „Вы читали Бокля?“ Двадцать два несчастья, доведенные до безумия. Только надо не бытово все это делать. Через долгое молчание: „Вы читали Бокля?“ – вдруг доверительно к публике.
В целом в ролях расположено все правильно, ощущение, что все верно. Рисунок наметили, но актерски еще не дотянули. Это набросок того драматизма, который должен быть. Например, понравился Трофимов, но образ, конечно, сложнее, чем одна краска – ирония. Я смотрел с удовольствием, с интересом, хотя это все еще пока инфантильно. А надо, чтобы это потрясало. И должно быть развитие. Меня должно задеть до глубины души, я не должен быть только созерцателем.
Проблема в том, как, с одной стороны, держаться этого легкого, симпатичного рисунка, с другой стороны, прорваться к мощному шекспировскому звучанию. И как этого достичь у вас, с вашей таганковской манерой работы?
Хорошо, что работают оба состава. Когда смотришь второй раз, то видишь все недочеты. Надо подумать, как от шутки перейти к трагедии.
Нужна смесь абсурдности с острым драматизмом. Несчастье можно рисовать бытовым способом, а можно по-другому. У нас будет по-другому. Вы должны говорить как бы про себя, от себя. Через текст должно звучать что-то оголенно искреннее. Это особый мир, оголенный до предела, выраженный странными средствами. Я вспоминал тут песни Высоцкого, когда полный бред доводится до трагизма. Кстати, в моем доме живут такие вот люди, и теперь после песен Высоцкого я вижу их другими глазами. Я думаю, дело художника именно в этом, в таком особом взгляде на мир, на людей.
Лопахин в отчаянии от беспомощности этих людей. Он действительно может заплакать. Кстати, в „Вишневом саде“ публика часто плакала, а нам нужно вызвать другую реакцию. У Лопахина есть моменты, когда отчаяние переходит в свою противоположность. Есть в нем такой обратный ход – ладно, лети все к чертовой матери.
С Трофимовым очень трудно выкрутиться. Это ведь Чехов, да еще поздний. Петя в курсе всех дел и в большом отчаянии от безысходности. Надо выразить не впрямую, но очень выпукло: „о гордом человеке“. У Пети это идет от бессильного протеста против безысходности. В 1-м акте еще нет безысходности, осознания. Появилось это потом. У Пети должно быть абсолютно абсурдное противостояние, противопоставление всему, о чем они говорят. И произносить это можно только в злости. Нельзя говорить романтично, возвышенно. Он обрушивается на Раневскую, на Гаева.
Звук струны в конце второго акта. Все с мирной мизансцены должны вскочить. Потом прохожий. Его нужно бояться. Только Раневская идет к нему навстречу. У нее – интерес и отчаяние вместе – нечего терять и любопытно.
Сцена Ани и Трофимова очень сложная. Не надо делать диалог между ними. Они остались раздрызганные. Слова они говорят хорошие, но говорят они их нервно. Петя говорит, но это все продолжение его прежнего настроения. Он очень устал говорить правильные вещи».
* * *
В «Вишневом саде» самый трудный – это второй акт. Эфрос, разбирая второй акт, вспомнил фильм Феллини «Клоуны», который недавно видел, и просил, чтобы первая сцена второго акта игралась как чистейшая клоунада. Каждый ведет свою тему, но это ни во что не выливается. Белиберда, абсурд. И все кричат, не слушая друг друга.
Я помню, когда смотрела феллиниевских «Клоунов» в Женеве, у меня тогда был острый приступ аппендицита. Я смотрела фильм и корчилась от боли и смеха, особенно в последней сцене – «похороны белого клоуна». Вот уж когда для меня абсолютно слились в единое ощущение – мысли о смерти, боль и комизм происходящего на экране. Водевиль и трагедия. Мрачно выходит группа, глядя в зал. Шуты! Сейчас будет представление! Да, мы такие – ну и что! Для публики и на публику – нарочно. Назло. Вызов! Мелодия расстроенного рояля.
Кстати, ремарка Чехова ко 2-му акту: «Видна дорога в усадьбу Гаева…» Значит, это усадьба Гаева, но почему же тогда ждали Раневскую?
Таких вопросов, по ходу репетиций, накапливается много. Например, Варя – «из простых» – но кто? Или куда дели 90 тысяч от торгов и 15 тысяч, которые прислала бабушка?
Я давно заметила, чем больше вопросов возникает по ходу репетиций, тем лучше потом играешь. Правда, в отличие от Эфроса, не все режиссеры любят эти «глупые вопросы», которые возникают у актеров.
Чехов в письме Немировичу просил во втором акте сделать в декорации много зеленого поля и через него дорогу, теряющуюся вдали. Простор. Лопахин говорит во 2-м акте: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами».
У нас декорация на все акты одна и та же. Только левенталевская конструкция поворачивается к зрителям то деревьями, то старым креслом, то могильными крестами.
И Лопахин говорит свой маленький откровенный монолог не потому, что за спиной дали неоглядные, а потому что до этого был страстный монолог Пети Трофимова о нашей ужасной жизни – «азиатчина!»
ЭФРОС. «Лопахин говорит о прекрасной природе, где человеку следовало бы быть великаном. Раневская, иронизируя над этой идеей, замечает идущего Епиходова. Кто-то говорит, что солнце село. Трофимов соглашается. Все это можно сыграть, так сказать, чисто настроенчески, житейски. Вечер, заходит солнце, все к концу дня тихонечко рассуждают о том о сем… Но я предпочитаю даже в такие минуты находить динамику конфликтности. Внутреннюю динамику от ощущения различия разговаривающих. То, что Раневская сообщает об идущем Епиходове, есть ее внезапно найденное, хотя и почти бессознательное, инстинктивное опровержение „великанства“, о котором только что говорил Лопахин. Ведь Лопахин все время так или иначе говорит о том, что Раневская не так живет. Пускай в данный момент он не говорит буквально об этом, но инерция несогласия с ним все равно существует в ней. Вы болтаете о великанах, а тут реальность – Епиходов идет. Реальность в общем-то довольно-таки неприглядная.
А Гаев выступает с поддержкой, что, мол, не только Епиходов идет, но и солнце село, все одно к одному.
А Трофимов не просто подтверждает, что солнце село, его „да“ словно предупреждение, что „конец света“ неминуем, если будет продолжаться вся эта нелепица.
Все это, конечно, происходит стремительно и почти бессознательно для самих героев. Я очень люблю эти моменты активных наполнений конфликтным смыслом даже тех мест, какие, кажется, предназначены для чистого „быта“, для „атмосферы“».
* * *
Во втором акте, после «клоунады» четырех (Шарлотта, Дуняша, Яша и Епиходов), на сцену быстро выходят Раневская, Гаев и Лопахин, но они тоже говорят бог знаем о чем. Лопахин говорит, что уже в августе назначены торги, а Раневская ему в ответ – вернее, не в ответ – «Кто здесь курит дешевые сигары?» И эта абсурдность диалога продолжается. Говорят невпопад, но в мыслях одно – торги.
Со скрупулезностью врача Чехов ведет историю болезни. Во втором акте в болезнь уже поверили. О ней говорят. Лихорадочно ищут средство спасения. За Лопахина цепляются: «Не уходите… Может быть, надумаем что-нибудь!»
Раневская. Что же нам делать? Научите, что?
Лопахин. Я вас каждый день учу. И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи; поскорее – аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.
Раневская. Дачи и дачники – это так пошло, простите.
Гаев. Совершенно с тобой согласен.
Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (Гаеву.) Баба вы!
«Нелюбимому врачу» Лопахину раскрывают душу (монолог Раневской о «грехах»), докапываются до причины болезни. На откровенность Раневской Лопахин тоже отвечает откровенностью: говорит о своем несовершенстве, о трудном детстве, когда отец бил палкой по голове, и что сам он пишет «как свинья». Ему кажется, что его сейчас слушают, разговаривают с ним «на равных», и – вдруг – такая бестактная реплика Раневской: «Жениться вам нужно, мой друг… На нашей бы Варе…» От неожиданности, ведь его перебили почти на полуслове, он соглашается торопливо: «Что же? Я не прочь… Она хорошая девушка»…
Наэлектризованная атмосфера вызывает неожиданный монолог Пети. Но его тоже никто не слушает, не принимают всерьез. Он в ответ возмущенно кричит на безобидную реплику: «Солнце село, господа!» – «Да!!!» – и… слышен тревожный звук лопнувшей струны. И как предзнаменование – проход пьяного прохожего в черном. Появляются жуткие, трагические символы – как возмездие.
6 марта 1975. Опоздала на репетицию. Эфроса опять нет, он придет только в следующий понедельник. Без него скучно и неинтересно. Ссоримся. Вилькин репетицию отменил. Завтра не пойду.
7 марта. Вечером разговор по телефону с Эфросом. Он просил ходить на репетиции, сказал, что, когда придет, будет работать очень быстро и нужно, чтобы актеры знали хотя бы текст.
10 марта, понедельник. Показывали Эфросу второй акт. Вместо меня – другая актриса. Я не жалею, потому что мне все не нравится. Очень тоскливо.
ЭФРОС. «Если, допустим, Юрию Петровичу пришлось бы то, что он задумал, осуществить в 2–3 репетиции, даже он не смог бы. А вы это сделали. И то, что я увидел, достойно уважения. В другом театре это невозможно было бы сделать. Там бы долго сидели за столом – разбирали текст. Все, что я увидел, не противоположно тому ощущению, что есть в пьесе. Ухвачено главное – любовно-юмористическая беспомощность этих людей. Это не противоположно пьесе. И многие места мне нравятся. Это уже много.
Перейдем к третьему акту. Начало – ожидание. Поехали на торги. Играет еврейский оркестр, но стоя, не сидя. Везде бегают люди. Не понимают – почему Гаев и Лопахин не едут. Надо делать это резко, преувеличенно. Напряжение. И в музыке однообразные звуки. Потом сильно, сильно возрастает звук. На этом фоне попытки вслушаться, вдуматься в эту неизвестность. А между тем идет разная буза, как было в начале второго акта. Трофимов стоит вдали, у него злость от бессилия. Самочувствие его такое, что он весь акт старается кого-то цеплять. Интересно, что „клоуны“ продолжают исповедоваться. Тяжелые условия для исповеди, но „я все равно расскажу вам“ – и потом бурная исповедь. Сочетание явного абсурда с диким человеческим содержанием. Пищик пугается, что потерял деньги – сцена на 5 минут. Оркестр рядом с ним. Артист должен играть номер, как клоун в цирке, но полный драматического содержания.
На сцене несколько человек, каждому однажды надо прорваться в зрительный зал, чтобы его поняли. Вначале сцену ведут Пищик, Трофимов и Варя. Они ждут результатов торгов и не знают, что там в городе случилось. Раневская старается быть веселой, пытается петь. Музыканты пьют чай прямо на переднем плане. Потом фокусы Шарлотты. Открыто, демонстративно. Шарлотта занимает внимание, пока все ждут. На торгах, наверное, происходит нечто страшное для всех – они этого ожидают. Они показывают фокусы, занимаются абсурдными вещами, чтобы не быть в трагическом состоянии. Публику нужно заразить ожиданием. Яша выходит со сломанным кием Епиходова – так его потрясла человеческая нелепость, что он хохочет. Фирс пытается быть с Яшей как с человеком, а тот ему хамит. Не пьют, не едят, не „носят пиджаки“ (чеховская формула), а только решают свои судьбы. Не танцуют, как в ремарке. Обсуждают бурно, кто продал, кому и так далее. И все это в публику. Напряжение драматизма должно расти. Дуняша через Фирса говорит что-то Яше. Епиходов в присутствии троих говорит ей. Романы не кончились, они только изменяются. Стоят несколько человек. Один из них (Яша) измучен тем, что ему приходится жить среди хамов, но сам он – жуткий хам.
Наконец выход Лопахина. Его довели до покупки сада, его не слушали, и он им сделал назло. Это обратная сторона его боли. Она прорвется в одном лишь месте. Гаев выходит с ним, но не может сказать о том, что случилось. Это как в „Трех сестрах“, не могут сказать, что барона убили. Монолог Лопахина: „Я купил“. Подоплека его поведения – я же говорил вам, что случится ужасное, вот оно и вышло. Бесчинство его. Раневская старается не упасть, все ушли, она еле стоит».
* * *
Постепенно у нас все более-менее укладывается в голове. Повторили еще раз 2-й акт. Реплики Дуняши, Яши, Епиходова и Шарлотты абсолютно не должны быть связаны друг с другом. Каждый говорит о своем. Шарлотта жалуется на одиночество, Епиходов поет про «Жар счастливой любви». Но все складывается в одну общую картину. Ведь епиходовский «Жар счастливой любви» – это как бы ответ Шарлотте, что, мол, спасение от одиночества в любви. А если нет любви, как у него, например, то тогда лучше уж застрелиться. Диалог существует, но не впрямую, не классически.
Эфрос просил все-таки не общаться. «Эта связь разрозненных реплик сама собой потом сложится», – говорил он. Эти реплики нужно выкрикивать в зрительный зал, обращаясь к кому-то «другому». Бывает такая живопись – на картине какие-то разрозненные мазки, но чуть отойти на какое-то расстояние и взглянуть на картину со стороны – увидишь какой-нибудь интересный пейзаж или очень интересный, непривычный портрет.
То есть все эти отдельные без разбора реплики потом складываются в общую картину, и у зрителя возникает цельное впечатление жизни.
Некоторые наши актеры Эфроса не понимали, да и не могли понять, они были слишком бытовые, то, что в театре определяется как «харáктерный актер». Они, может быть, хорошие актеры, но не из нашего «Сада». Эфрос постоянно повторял, что он Чехова с точки зрения быта не принимает, а пытается его раскрыть через философию и обмен страстей. Напомним, что пьеса была написана во времена символизма, когда не было в искусстве пресловутых реальных передвижников. Что у Пикассо, например, одной линией карандаша возникает голубь. Нет деталей. Надо находить меткий жест или очень точную интонацию. Условный знак, если он точно найден, сейчас может выразить гораздо больше, чем подробное изложение. Не надо держаться за быт, а главное – почувствовать внутреннее движение, стремление к чему-то идеальному. Такая эмоциональная математика, которую играть трудно.
Потом об этой «математике» я прочитала у Эфроса в его книге: «У Чехова в пьесе – эмоциональная математика. Все построено на тонких чувствах, но все тончайшим способом построено.
Теперь, быть может, такое время в искусстве, когда эту эмоциональную математику нельзя передать через быт. Надо подносить ее зрителям в каком-то открытом, чистом виде. Пикассо рисует быка одним росчерком, точно и метко, всю позу схватывая, все движение. Но это – почти символ, почти условный знак. Можно нарисовать и не так, а как-то объемно, с шерстью и цветом кожи. Можно живого быка, а можно резко очерченный образ какой-то общей мысли.
То же самое и в театре. Можно создать иллюзию жизни, можно создать атмосферу, живые характеры и т. д. А можно во всей этой жизни в пьесе найти тот единственный росчерк, который сегодня выразит очень важное чувство и очень важную мысль. Быт останется только лишь точкой отсчета.
Вот, например, приезжает Раневская, входит, садится пить кофе, рядом Пищик все время впадает в сон. Два-три часа ночи, начинает светать. Лучше, чем было в МХАТе, это не сделаешь. Потому что для этого целая школа была, а кроме всего, тогда это была современная пьеса. То, что было реальностью, надо теперь воскрешать, реставрировать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сама эта школа тоже ушла. Ритм и стиль репетиции стали иными, потому что иным стало мышление».
* * *
Позже, читая книги Эфроса, я часто вспоминала время, когда мы репетировали «Вишневый сад» в 75-м году. Недаром Эфрос часто с юмором повторял, что работа режиссера состоит в том, чтобы много лет повторять одно и то же.
И часто в его книжках я встречала те мысли и слова, которые были им высказаны раньше – в 1975 году, когда он с нами репетировал «Вишневый сад».
13 марта 1975. Позвонил Эфрос. Спросил, как идут репетиции. Судя по всему, Вилькин опять нажаловался ему на меня – мол, слишком строптивая. Эфрос попросил больше доверять Вилькину и разобрать по мере возможности 3-й акт.
* * *
Третий акт – ожидание результата торгов. Как ожидание исхода тяжелой операции. Тут несоответствие ситуации и поведения достигает вершины: стремятся прикрыть смертный страх музыкой, танцами, фокусами. И наконец узнают результат операции – смерть… А в смерти виноват тот, кому почему-то доверились, – Лопахин. Ведь это он поехал с Гаевым на торги, чтобы за пятнадцать тысяч, которые прислала ярославская бабушка, выкупить имение, а их, оказывается, не хватило даже, чтобы проценты заплатить… Гаев с Лопахиным уехали в город на торги, а Раневская затеяла бал, где Шарлотта показывает фокусы. Да какие фокусы! «Вот очень хороший плед, я желаю продавать. Не желает ли кто покупать?» – ерничает Шарлотта. «Ein, zwei, drei!»[1] – выходит из-за пледа Варя – тоже продается, но никто не покупает, и опять – «Ein, zwei, drei!» – из-за пледа появляется Аня – тоже на продажу… Вокруг Раневской крутится фантасмагория: Яша ее о чем-то просит, Пищик приглашает на «вальсишку», а рядом Дуняша выясняет отношения с Яшей и Епиходовым. Этот трагический ералаш кончается нелепым выстрелом из револьвера Епиходова и ударом палки Вари по голове Лопахина. Монолог Лопахина – «Я купил!..» После напряженного ожидания, после клоунады и ерничания – истерика Раневской: «А-а-а!..» И на фоне этих рыданий – беспомощные слова Ани о новой прекрасной жизни.
* * *
17 марта, понедельник. У Эфроса во МХАТе выходной день, поэтому утренняя репетиция с ним. Разбираем 3-й акт.
ЭФРОС. «Сейчас я объясню, а вы мне скажете, понятно или нет. Вот где-то там торги, а здесь устроили праздник. Начало – бредовый разговор Пищика. Разгадок может быть много, почему он это говорит, но мы берем только тревогу. Все сроки приезда с торгов прошли. Это как мы бы ждали, допустим, в гололед кого-то, едущего на машине, и знали при этом, что с кем-то там случилась авария. Все сроки ожидания прошли. Один человек из нас – посторонний человек. Допустим, это я. Я мог бы в это время сидеть дома, но так получается, что я с вами. Если там на дороге что-то случается, то и я переживаю. Текст Пищика надо переложить на эту ситуацию. То есть я мог бы не переживать, это не мое дело, но все-таки я с вами. Пошел бы себе домой, но почему-то не могу».
Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате… Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо… Так и я… могу только про деньги…
Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.
Пищик. Что ж… лошадь хороший зверь… лошадь продать можно…
ЭФРОС. «В 3-м акте Пищик должен точно понять свое место в этой компании. Что-то можно быстро проговаривать. Его мотив – вы можете подумать, что я отлыниваю, не думайте так, здоровье-то мое прекрасное. Потом другой момент, насчет денег. Суть в том, что у меня был удар и я не могу поэтому волноваться, мне это вредно. Но это такой дом, где уж если попал, то с ними все переживешь. Потом ходите, гуляйте, пока не пришла мысль о том, что могут подумать, что он хочет удрать. И еще дело в том, что у него есть один только маленький недостаток, как прыщик за левым ухом, – денег нет. Вы объясняйте, почему вы не с ними до конца – потому что денег нет, голоден. А так бы все время про их сад говорил.
Потом Петя. Вы видите, как Пищик оправдывается. Но его-то это касается гораздо меньше, чем вас. Для вас все, что происходит, – кровное. Вы уже не выдерживаете. Нервы на пределе. Вам нужно кого-то задевать, придираться, цепляться. Посторонние люди надоели ужасно. И Пищик понял, что Петя его отринул, оттолкнул от этой семьи, мол, он к ним не имеет никакого отношения.
Потом Варя. Она привычно ждет от Пети оскорбления, ее ответ уже готов. Резко говорят оба. А суть в том, что нервов уже удержать нельзя. На фоне звучащей прекрасной мелодии ужасно нервная сцена.
3-й акт начнем с того, что стоит группа музыкантов. Потом выходит человек и отсчитывает секунды. Потом выходит вперед Пищик, а оркестр назад. Потом они меняются местами. Таким образом мы отсчитываем секунды.
Это очень парадоксальный секундомер по поводу того, что не едут с торгов. Есть нелепицы, о которых надо говорить как о трагедии. Петя думает, что Раневская с ума сошла, она ведет себя как ненормальная. Пете нужно зарядиться на весь акт – вы должны разрушить что-то, чтобы спасти себя. Но от каждого своего разрушительства боль не проходит, и вы увеличиваете степень разрушения. Копите ее в себе».
Пищик…А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай… Послезавтра триста десять рублей платить… Сто тридцать уже достал… Деньги пропали! Потерял деньги! Где деньги? Вот они, за подкладкой… Даже в пот ударило…
ЭФРОС. «Когда Пищик ищет деньги, паузу держите полчаса. Потом к нему подходят оркестранты, стоят и смотрят, правда ли потерял деньги. Ужас! Кричи: „Караул!“, ищи деньги всюду, даже у оркестрантов. На сцене, по-моему, каждую секунду должна быть загадка. Когда мы репетируем, мы раскрываем тайну сцены, рассказываем ее, а потом ищем форму, во что она облекается. Иногда она облекается в странные вещи. А зритель, наоборот, видит страшные вещи, а потом догадывается до тайны. Публику нужно проводить через разные, долгие пути к этой разгадке. Тогда будет интересно.
Раневской нужно помнить в этом акте – отчего так долго они не едут. Они ведь, сволочи, наверное, пошли в ресторан. Вам неважно содержание, важно только, почему так долго. Я думаю это сделать более рассудочно, что ли. Вы ходите, слушаете оркестр. Я должен задуматься – а что она хочет? Что с ней? И когда я на вас достаточно обращу внимание и захочу разгадать, тогда вы ставите и себе, и нам вопрос: „Отчего так долго?“ Вот что вас интересует. Потом пауза. Смотрите на музыкантов, предлагайте им чай, ведь они, наверное, устали. Петя должен понять, что на ней нельзя срываться, ей хуже, чем ему. Музыкантам принесли чай, они прерываются. Тогда только начинайте ее утешать, что, может быть, торги не состоялись. Тогда у Раневской вырывается, что глупо, что оркестр играет, что вообще его пригласили. И из этого я заключаю, что они надеялись, что Гаев выкупит имение. Глупо надеяться, понимали, что глупо, но ждали этого. А если не состоялись торги, то ведь и оркестр не нужен. Вот их чудаческая нелепая логика. Мне рассказали один случай: один человек не защитил диссертацию, его прокатили, а банкет уже был заказан, и все пошли на банкет потом. Но, Алла, все, что я сказал, делайте медленно, постепенно, потому что впереди у вас целый акт».
Любовь Андреевна. Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю…
Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.
Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати… Ну, ничего…
ЭФРОС. «А теперь заберите у двух музыкантов чашки: все некстати, так пусть уж тогда играют. Что тут может быть интересного для публики? Вообще, когда Раневская выходит на сцену, в первую минуту всеобщая растерянность, так как все на сцене свершается для нее. Все вокруг не знают, как с ней быть. Она тоже растеряна. Алла, не бойтесь быть „детской“.
Для Шарлотты самое страшное – впадать в пессимизм. Она старается всех веселить, а Пищик всему удивляется. У них у всех в крови подсознательно, что нужно давить печаль радостью. Забить грусть надо. Шарлотта должна делать подряд 4 глупости, а Пищик все воспринимает „удивительно“».
Шарлотта. Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.
Пищик. Задумал.
Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане…
Пищик. Восьмерка пик, совершенно верно! Вы подумайте!
Шарлотта. Говорите скорее, какая карта сверху.
Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.
Шарлотта. Есть! Ну, какая карта сверху?
Пищик. Туз червовый.
Шарлотта. Есть! А какая сегодня хорошая погода!
(Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня».)
Вы такой хороший, мой идеал…
(Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился».)
Пищик. Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна, я просто влюблен!
Шарлотта. Влюблен? Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant[2].
Трофимов. Лошадь вы этакая…
Обычно Шарлотта сама говорила чревовещательно эти реплики, «точно из-под пола». В нашем спектакле Раневская подыгрывала Шарлотте и реплики «О да, погода великолепная, сударыня» и «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился» говорила низким утробным голосом, танцуя с Петей Трофимовым.
ЭФРОС. «Шарлотта чутка, она все взяла на себя. В этом трагизм. Клоуну не хочется смеяться. Допустим, умер кто-то ее близкий, но зал не должен об этом знать, ее посылают зал смешить. Пищик – добрый человек, он знает, что если он начнет сомневаться в ее фокусах, то ее это расстроит. Он искренен тут. После каждого фокуса Шарлотта как будто бы за кулисами узнает, приехали или нет. А ей дают пинок под зад, и снова приходится играть. Потом ей говорят, что артист, который ехал, умер, и ей приходится снова играть. За кулисами – ужас, а на сцене веселье.
Вначале начните просто, легко, чтобы не было приспособлений, а чисто человеческое поведение. Публика тоже беспокоится, как и Раневская. Отвлекайте и публику. Это как сеанс – учите показывать фокусы. Пытайтесь отвлечь меня от мыслей о саде. Я буду говорить вам о саде, когда вы не сможете увлечь меня. Вот, собственно, и вся сцена. Почему она с этим обращается к Пищику? Потому что Раневская сразу скажет: не надо никаких фокусов сейчас. Есть ведь только один наивный человек – Пищик. Он может всему поверить. А через него она обращается к Раневской. Пищик же ею восхищен, он вообще любит, когда фокусы показывают.
Представьте, что на всех пушку наставили, а пока ее заряжают, вы всех отвлекаете. Страшно от того, что средства против пушки наивны и смешны. Пищика она развеселила, а Раневскую нет».
* * *
Однажды мы гуляли с моим хорошим другом Эдисоном Денисовым (гениальным композитором, что важно для последующего рассказа) в лесу где-то в Сортавале, и он мне развивал теорию о хороших людях и плохих музыкантах, что, мол, есть хорошие люди, но плохие музыканты и наоборот, и что «хорошие люди» любят плоть, а «хорошие музыканты» тяготеют к духу.
Позже, перечитав «Записки Кота Мурра» Гофмана, я натолкнулась на рассуждения музыканта Крейслера об этом же. Я поняла, что теория Эдисона Денисова именно оттуда. Но сама мысль мне понравилась. Сколько раз я встречала очень хороших, добрых людей, но плохих актеров. И наоборот. И я стала тоже делить людей на «хороших людей, но плохих музыкантов» – «Guter Mensch, aber schlechter Musikant», как говорит Шарлотта в «Вишневом саде». А Петя Трофимов подытоживает: «Лошадь вы этакая…» То есть Пищик – хороший человек, но совсем не способен на духовную любовь.
Плотские люди с толстыми, загребущими пальцами, как у купцов, и вроде бы Лопахин должен быть таким, не способным понять очарование и духовность вишневого сада, но у него «тонкие, нежные пальцы, как у артиста… тонкая, нежная душа» – как про него говорит тот же Петя Трофимов. Так почему же все-таки Лопахин рубит – сиречь губит вишневый сад?
У Лопахина, по классификации Гофмана – Денисова, помимо воспитания, от природы живет тот «дух хорошего музыканта», который и заставляет его тянуться к таким людям, как Раневская и Гаев. Лопахин влюблен в Раневскую, влюблен в красоту вишневого сада, «прекрасней которого ничего нет на свете», но эта страсть его никогда не будет утоленной, и, получив вишневый сад, он его убивает. В нем просыпается его плотская душа: «Ермолай – битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете… Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду… Музыка, играй!» И дальше: «Пускай все, как я желаю!.. За все могу заплатить».
У Гофмана напряженная духовная жизнь героев, т. е. у «хороших музыкантов», ассоциируется с «туго натянутыми струнами». Скрипачи перед тем как играть, всегда проверяют натяжение струн.
Кстати, у Высоцкого, который именно так и играл Лопахина, есть строчки в знаменитой песне:
Перережьте горло мне, перережьте вены, Только не порвите серебряные струны… Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, Только не порвите серебряные струны… Загубили душу мне, отобрали волю, А теперь порвали серебряные струны!Написал он это задолго до Лопахина, еще в 1963 году, но в Лопахине у него эта тема аукнулась.
Можно делить людей, как у Мережковского, например, на «удачников» и «неудачников». Чеховские герои у него «неудачники».
А я раньше делила людей на «детей» и «взрослых». У Чехова в пьесах – «дети», а у Толстого – «взрослые».
Молодой Чехов делил на «воспитанных» и «невоспитанных». (Вспомним его письмо брату, например.)
Есть люди «серьезные» и «несерьезные». На вопрос Книппер «Что такое жизнь?» – Чехов ответил: «А что такое морковка?»
Лопахин «серьезный», а Гаев – нет?
Часто слышу, что «Чехов жестокий». В чем? Он умный, но сострадательный. У него нет уж совсем пропащих.
Да и прямой морали никогда не найдешь у Чехова. Как-то он сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. ‹…› Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть».
Ну да, явной морали в чеховских пьесах нет, но это не значит, что этого нет совсем. Все в подтексте. Главное, почувствовать чеховскую концепцию мира. Когда читаешь пьесы Чехова, то как бы прочищаешься, становишься лучше. Понимаешь, что твои маленькие события и страдания ничто в сравнении с вихрем времени, который сметает все на своем пути. Сама природа лишена нравственности. Только человеку подвластно этот хаос жизни упорядочить. Сад не возникает сам по себе, его культивирует человек. На это потрачены огромные силы. Безнравственно уничтожать это дело рук человеческих. Тем более ради выгоды.
* * *
24 марта 1975, понедельник. Репетируем с Эфросом 3-й акт. Я на сцене с самого начала, сижу на детском стульчике справа на авансцене, курю и не обращаю внимания, что делается за моей спиной. Это поставил Эфрос, у Чехова Раневская выходит позже, только на свою реплику:
Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!
Варя. Дядечка купил, я в этом уверена.
Трофимов. Да.
Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, дядечка купит.
Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя, – нам она не верит, а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается, судьба…
Трофимов. Мадам Лопахина!
Варя. Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.
Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь – выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь – не выходи; тебя, дуся, никто не неволит…
Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать.
Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
Трофимов. Благолепие!
Варя. Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.
ЭФРОС. «Вы говорите, ясно, а той тайны, о которой я говорил, не могу уловить. Что это за тайна? Попробуем разобраться. Я понимаю все первые сцены. Запущен секундомер. Приезд Раневской. Следующий этап идет не по линии нагнетания чисто внешних нервов, а по линии раскрытия тайны. Мы должны понять конкретность ее беспокойства. Этот поворот интересен. Это как если бы, допустим, актер не пришел на спектакль. Всех волнует – будет спектакль или нет, а жену его волнует другое – что с ним случилось. Так и здесь. Если раньше Раневскую беспокоило, почему их нет так долго, то следующий момент – это ее возмущение против опоздавших. По тому примеру, который я привел, ход мыслей примерно таков – будем считать, что ничего с ним не случилось, с тем, кто не пришел на спектакль, но ведь вокруг телефоны, можно было бы и позвонить. Публика должна настроиться против тех, кто ее мучает. Гаев мог же сообщить. На первый план должно выйти не продажа сада, удалось ли его сохранить или нет, а почему один родственник заставляет другого так долго мучиться. Варя выбрала самый плохой способ ее утешить. Она говорит самые нелепые слова, но для себя она нашла, что они самые лучшие. А Раневская из-за Гаева на Варю выливает свое раздражение. Алла, я предлагаю сделать чуть рациональнее, медленнее, чтобы понять конкретность. Отмахнитесь от Вари. Мол, заткнись, ты говоришь глупости. Человек, желающий помочь ложью, попадает в глупое положение. Сцена должна вся обратиться против Вари. Самый добрый становится самым виноватым – такая вот жизненная драма. Не оставляйте ее в покое до тех пор, пока она не расплачется. Варя от Пети идет к Раневской под защиту, а Раневская сама ее обижает».
Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она без того в горе.
Трофимов. Уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!
Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. Отчего нет Леонида? Только бы знать; продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь… Я могу сейчас крикнуть… могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите…
Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано – не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
ЭФРОС. «Раневская обидела Варю, а сердится за это на Петю. Раневская их не слушает, а переключается на основную тему для себя – мне плохо, говорите мне что-нибудь, утешьте меня. А Петя не хочет ее утешать. Требуйте от него того, что фактически запретили Варе. Не в словах дело, а в сути. Растопчите его, он, видите ли, правду знает. Перестройтесь надолго. Ты сказал такую вещь, я тебя за это два часа буду топтать. Только небрежно говорите с ним».
Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом… Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
ЭФРОС. «Алла, вы не должны идти на сарказм. Раскройте сначала свою горечь.
Вы уже понимаете, к чему такое решение пьесы. Вы видите, что название „Вишневый сад“ – это символ. Когда перед вами простая бытовая пьеса, то первый режиссерский прием – ее нужно усложнить. Так было у меня с „Женитьбой“. А „Вишневый сад“ очень сложная пьеса, и ее надо упростить. В чем упрощение? Сделать вишневый сад буквально темой. И сделать нужно так на сцене: участок земли, грядки, деревья. Очень все красиво. Вокруг сада, то есть вокруг этого участка земли, персонажи и поют: „Что мне до шумного света“. А в конце все деревья выдернут, мебель туда свалят и все подожгут. И опять все вокруг собрались, траурно, но опять поют. От начала до конца должен быть процесс. 1-й акт – не тем заняты, 2-й акт – задумались, 3-й акт – ожидание решения, 4-й акт – конец.
В чем суть 4-го акта? Это происходит после чего-то. Вот, допустим, кого-то не стало, а потом люди возвращаются в его квартиру, и дальше все снимается скрытой камерой. Мы видим, как люди разлагают момент осознания, что все уже в прошлом, сейчас – это то, что уже произошло. 4-й акт – это анализ события после того, что произошло. После события. Как выходят после крематория и как после этого ведут себя люди. Здесь детали играют роль. Понятие „после“, разложенное по складам. Начало акта – спешить некуда, ждать уже нечего. Все нужно разложить на мелочи. Это как человек, уже собрав чемоданы, вспоминает, не забыл ли он что-то, а времени у него много. И он все очень медленно вспоминает – спешить некуда. Замедленный темп. После того, как человек умер и его вынесли уже, ждет машина, но торопиться не принято, неудобно.
Пока был вишневый сад, никто никого и ничего не замечал, а теперь людям все интересно. К спорам возврата нет, сада нет, все умерло. Это пауза между прошлым и будущим. Это пустота. Спешить некуда, жить не для чего. Что такое здесь Трофимов? Это очень, очень изнуренный правдолюбец. Он почти уже понял, что на его веку не будет истины, но за нее надо все-таки драться. Его высокие слова не ироничны, эти высокие слова вынужденные. Он знает, что их нужно говорить, и говорит утомленно и вынужденно. Это как дистрофик убеждает всех, что сердце у него еще здоровое. Абсолютно на одинаковом уровне – калоши, Фирс, шампанское. Все это имеет одно значение – после смерти. Если спектакль наш будет темпераментный и высшая точка – конец 3-го акта, то 4-й надо делать на страшных вещах – разложение прощания. А в это время все швыряют в кучу мебель. И дымится все. Я даже думал сделать так конец, но, может, это вульгарно получится, когда все выходят, рубят деревья, и пространство медленно сужается до минимального размера, а там стоит одинокий Фирс».
* * *
Пьеса, как известно, помимо всего прочего, отличается от любого драматического произведения тем, что в пьесе «разговаривают». Идет постоянный диалог – «петелька, крючочек». Иногда персонаж разражается монологом, но опять-таки на тему предыдущего разговора. А у Чехова этой последовательности нет. Люди иногда взрываются монологами, но как бы не к месту. Почему, например, Раневская исповедуется о своих «грехах» во 2-м акте? Или Лопахин там же о «великанах» и т. д. По воспоминаниям Бунина Чехов и в обычном разговоре не любил логичную последовательность диалога. Иногда он неожиданно, по каким-то своим внутренним ассоциациям, говорил что-нибудь противоположное происходившему. Кстати, об этих «провалах-лакунах» говорили между собой Мандельштам с Ахматовой, когда в стихотворении пропускается какая-нибудь логическая связь.
Но этот логический разрыв в диалоге кажущийся. На самом деле идет логическая внутренняя жизнь персонажа, которая внешне откликается монологами на атмосферу происходящего. Совершенно другой подход к драматургии. Многие чеховские современники говорили, что Чехов совершенно не «театральный» человек. Да и сам Чехов это не отрицал: «Не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения». И особенно после провала первой постановки «Чайки». Чехов говорил: «„Чайка“ отвратительна мне…» Или его же слова – «…зачем я писал пьесы, а не повести… я же не драматург».
А Станиславский, наоборот, называл Чехова именно «театральным человеком».
Конечно, пьесы Чехова в то время понимались очень немногими. Это потом манеру Чехова возьмет на вооружение так называемый «театр абсурда». Отсюда и Беккет, и Ионеску, и все другие современные драматурги.
И потом, думаю, что до Чехова не было в драматургии таких самообличительных монологов. Такого самовыражения. Такого психологического самоанализа. Боль, которая в душе постоянно, иногда выплескивается действительно не к месту. Почему, например, Тузенбах вдруг, не в контексте разговора, говорит о своей «русскости», что он даже не знает немецкого языка и этим гордится. «Я русский, православный, как вы», – говорит он Ирине, которую любит и поэтому готов забыть, что он немец. Это его больная тема, которая вдруг озвучивается.
Может быть, будучи врачом, Чехов чувствовал необходимость этих «облегчений души». Когда боль выговаривается, человек от нее освобождается. На этом построена православная исповедь и современный психоанализ.
Мой парижский знакомый Семен Израилевич Черток – известный психоаналитик – на мой вопрос, как он проводит свое лечение, ответил, что главное – нащупать в человеке его болевую точку, чтобы он начал о ней говорить, а потом, говорил Черток, я засыпаю. Это, конечно, шутка, но то, что боль выливается иногда многословием – в этом есть правда.
По воспоминаниям современников, Чехов, когда принимал больных, всегда старался разговорить их, чтобы они побольше говорили о своих болях, и сознательно стимулировал больных на эти самовыявления. Настоящий врач сопереживает больному. И психоаналитик, и Чехов «сливаются» с больным, понимая его целиком, а не частность болезни, и только так можно было найти панацею от этой болезни. Отсюда и можно понять «вживаемость» автора в персонажи. Идет раздвоение: я – автор и я – персонаж. Как, кстати, и в актерстве.
Но, странное дело, чем больше персонаж у Чехова «самовыражается» – тем таинственнее он является для нас – зрителей. Видимо, в самоанализе нет дна.
Так все-таки, к кому обращаются люди в этих самооткровениях? Ведь эти откровения возникают не в контексте, а как бы мимо только что прошедшей сцены. Они возникают поверх диалога и обращаются не к собеседнику, а к какому-то другому, не присутствующему здесь адресату. К тому, кто «знает еще что-то, чего мы не знаем» – как писал Андрей Белый в свое время. И собеседник не тот, кто в данный момент находится на сцене, а тот «идеальный», которого и на свете, может быть, нет.
И все-таки, несмотря на видимую нелогичность чеховских диалогов, внутренняя связь между репликами есть. Например, в 1-м акте Гаев возмущается, что «поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки», и Шарлоттина вслед реплика «а моя собака и орехи кушает» может показаться невключенностью, но на самом деле этой репликой Шарлотта ему отвечает, что, мол, какая ерунда ваш опоздавший поезд, вот то, что «моя собака и орехи кушает» – вот это имеет какое-то значение. Или дальше, в этом же акте, когда Варя мечтает о том, чтобы выдать Аню за богатого, а потом уйти в пустынь, в Киев, в Москву, – то Аня на это говорит как бы невпопад: «Птицы поют в саду» – мол, о чем ты говоришь! Смотри, какая красота кругом, и это главное, а не то, чтобы выдать меня за богатого. Но можно играть и не слушать друг друга – зритель сам подстроит второй план под эти реплики.
Главное – чтобы была найдена точная атмосфера.
* * *
В апреле, вечерами (днем у него репетиции во МХАТе), начались наконец ежедневные репетиции с Эфросом. Пошли с первого акта и все заново. Роли более или менее мы уже знаем, хоть и ходим по мизансценам с книжками. Я, как всегда, со шпаргалочками, рассованными по всем карманам. Эфросу это забавно. Посмеивается. Относится к нам, как к детям, которых надо чем-то занимать и поощрять. Предостерегал нас от сентиментальности, говорил, что лучше уйти в другую крайность – в ерничанье, хотя успех, добавлял он, возможен только тогда, когда гармонично сочетаются расчет, ум с сердечностью, детскостью, открытостью. Мне все, что он говорит, очень нравится. И его юмор, и посмеивание, и тоже детская заинтересованность, когда что-то получается.
Эфрос ходит с нами вместе по выгороженной площадке – репетируем пока на малой сцене – с книжкой и быстро-быстро произносит за нас текст – показывает, обозначая интонацию и мизансцену. Потом просит повторить, оставаясь на сцене. Но без него ритмы сразу падают, актеры садятся на свои привычные штампы. Эфрос не сердится. Продолжает дальше.
Выход Раневской. Выбегает так же по-юношески легко, как и Аня, чтобы зрителям даже в голову не пришло, что это Раневская. Они привыкли, что она должна «появляться». Мне хорошо – я раньше не видела ни одной актрисы в роли Раневской, поэтому во все глаза смотрю на Эфроса и копирую его, как обезьяна. Даже интонацию. Стараюсь схватить быструю манеру его речи. Почти скороговорка, так как слова неважны.
Выбежала, натолкнулась глазами на Лопахина, который стоит с открытыми для объятий руками, не узнала его, прошла мимо и сразу отвлеклась – «детская»: «Я тут спала, когда была маленькой, – (интонация вверх. И закончила с усмешкой) – И теперь я как маленькая», – (интонация вниз).
Пока не разбираюсь – что, почему, зачем. Это потом с бесконечными вопросами я буду приставать к Эфросу, пока окончательно не почувствую его манеру, чтобы мысленно отвечать за него на все свои вопросы.
Как, наверное, ему странно и непривычно работать с нами. Да и мы привыкли к другому. У нас тоже не бывает застольного периода, но с Эфросом надо работать почти с голоса, то есть по интонациям понимать, чего он хочет.
11 апреля 1975, пятница. Репетиционный зал. Начало 1-го акта. Играют Шаповалов, Сидоренко (Лопахин, Дуняша).
ЭФРОС. «Надо подчеркнуть, что Лопахин нежный человек. Для многих людей не имеет значения детство, а для него все помнится. А Дуняша чувствует себя виноватой. Больше пауз. Неприятные слова говорите с болью. Мы должны понять, что ему все потом можно простить. И ритм, который от него идет, переходит к Дуняше. Она нервничает, не слушает его. После слов Лопахина – замолчите на полчаса. Ожидание приезда сохраняет уже одна Дуняша. Когда Лопахин говорит про отца – накапливайте злость на себя. Все устроено не так. Это Раневской надо богатеть, а ему надо быть у нее слугой. Дуняша не слышит его, может быть, только последнюю фразу. И отвечает невпопад: „А собаки всю ночь не спали“. Все то, что копилось молча, теперь выплескивайте. Откройте то, что у вас было закрыто. Это трудное место, я пока оставлю его. Поищем верное решение потом, имейте терпение. Епиходов готовит все к приезду Раневской. Приносит цветы, потом все падает и рушится. После этого Епиходов стоит долго, полчаса. Он не знает, как выразить то, что природа создала и его, и себя плохо. Говорит Лопахину так, как будто природу создал он. Потом отдыхайте и снова к нему, как будто у вас давно спор, а эти слова только продолжение старого разговора. Он еретик, страшный еретик. Я маленький, худенький, но я беру на себя говорить правду. Чувствуйте себя обреченным говорить правду».
Моя рабочая тетрадь испещрена эфросовскими комментариями, которые я записывала по ходу репетиций. Вот, например, моя запись комментариев Эфроса в первой сцене Лопахина и Дуняши.
Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час?
Лопахин волнуется, что проспал и что опоздал, может быть, поезд, и он виноват.
…Хоть бы ты меня разбудила.
Досада! Нужно сделать добро, а я проспал! Ведь ты-то не спала, могла бы меня разбудить! Кричит на нее.
Что ты, Дуняша, такая…
Мол, ты-то что волнуешься?
Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок упаду.
Она боится – как-то ее воспримет Раневская? У нее масса новостей для Ани. (С Аней они почти приятельницы. Одного возраста. Может быть, молочные сестры?)
Епиходов (поднимает букет, который у него упал). Вот, садовник прислал, говорит, в столовой поставить.
Это ночью-то! Значит, и садовник не спит. Все не спят. Только Лопахин заснул.
А Дуняша в это время про Епиходова, мол, он говорит черт-те что, всегда некстати. Ей стыдно за него.
Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
Жить не могу так! Не научился! Несовместимость с жизнью, но я не ропщу. Я мужественен. А когда Дуняша приносит квас, Епиходову неудобно перед ней, что так разнервничался, – поэтому уходит.
Дуняша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.
И дальше ее рассказ очень быстро. Как сплетня. Как буря.
В сцене Ани и Вари в 1-м акте – Варя почти не слушает Аню, занимается уборкой. Но когда Аня говорит: «У мамочки накурено и неуютно», – Варя стихает. Мама приехала сюда несчастная!
Варя. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев… в Москву, и так бы все ходила по святым местам… Ходила бы и ходила… Благолепие!..
Не мечтать! А очень конкретно. Давно все продумано.
* * *
Высоцкий каждый раз из Франции мне привозил духи «Диориссимо» – запах ландышей, сирени и еще каких-то цветов. Запах весны. И я потом перед спектаклем обрызгивала этими духами сцену. Не знаю, доходил ли запах до зрителей, но он мне определенно помогал. В тексте говорят о запахе пачули. «Пачули» тоже были духи, но ими в начале века душились продажные женщины. А со временем этот запах стал в шкафах отпугивать моль.
В 1-м акте, после реплики Лопахина: «Время, говорю, идет» и Гаев ему отвечает: «А здесь пачулями пахнет», Аня от бестактности этих реплик резко: «Я спать пойду…» Раневская поняла ее деликатность и успокаивает: «Ненаглядная дитюся моя. Ты рада, что ты дома?…» – на что Аня в ответ с укором: «Прощай, дядя» (мол, как ты мог про пачули при маме). Гаев это моментально понял и, извиняясь, скороговоркой: «Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать!..» – Раневская, оправдывая Аню: «Она утомилась очень». Тут сразу вступает Варя и довольно-таки грубо пытается всех выгнать: «Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать». Раневская ее отчитала за бестактность: «Ты все такая же, Варя. Вот выпью кофе, тогда все уйдем». Пьет, как наркотик – лихорадочно, быстро, а потом ждет, как он на нее подействует. Все с ужасом смотрят на нее. Первая не выдерживает Варя (мама сумасшедшая!): «Поглядеть, все ли вещи привезли» – уходит. Вернее – убегает. Раневская, понимая все, стала ерничать, играть в какую-то даму. Села на маленький детский стульчик на левой авансцене: «Неужели это я сижу? Мне хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю?» А потом все бросила и очень серьезно: «Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно („нежно“ произнести, растягивая слово, лирично), я не могла смотреть из вагона (и со смешком над собой), все плакала… (И дальше очень трезво, обычно.) Спасибо, Фирс… (и т. д.)».
Лопахин стоит в стороне, наблюдает за всем, и ему очень нравится Раневская – как сидит, как говорит, и поэтому он начал в хорошем настроении: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить… Вы все такая же великолепная». И дальше скороговоркой и в конце: «…я люблю вас как родную… больше, чем родную». Это у него вырвалось. Раневская, чтобы не слушать это признание, – мол, опять бестактность! – вспорхнула со своего стульчика и закружилась. «…Шкафик мой родной… Столик мой».
И Лопахин, торопясь, выкладывает свой проект спасения вишневого сада, который обдумал задолго. Все его внимательно слушают, как дети урок, и Гаев ничего не понял: «Извините, какая чепуха!» Раневская тоже ничего не поняла и попросила объяснить еще раз. Лопахин разъясняет более ясно, но они опять не понимают. А когда Лопахин говорит: «Местоположение чудесное, река глубокая», – но ведь в этой реке утонул сын Гриша! И ему: «Вы ничего не понимаете!» И тогда в наступившей тишине Фирс: «В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили…» Гаев кричит, срываясь: «Помолчи, Фирс!» Но Гаев для Фирса ребенок, поэтому, не обращая на него внимания, продолжает свое рассуждение про то, как раньше было хорошо и разумно.
И вот среди всех этих разговоров Варя приносит для Раневской телеграммы из Парижа (не успела приехать, и уж две телеграммы!). Все знают, что это от любовника. Раневская быстро прячет эти телеграммы где-то у себя в карманах, не читая, и Гаев, чтобы отвлечь присутствующих от этого конфуза: «А ты знаешь, Люба!» – и не знает, что дальше говорить, пока на глаза не попадается этот шкаф («Шкафик!»). И гаевский монолог про шкаф. Гаев из говорунов конца XIX века, которые любили «пофилософствовать».
Просят Шарлотту показать фокус, все рассаживаются, чтобы смотреть, а она: «Не надо. Я спать желаю». Лопахин уходит и не уходит. Наша обычная привычка больше договаривать на пороге. Не выдерживает Варя и кричит ему: «Да уходите же наконец!»
Когда появляется Петя Трофимов, Раневская его не узнает, а когда вспоминает, что он был воспитателем Гриши, с ней происходит истерика: «Гриша мой… мой мальчик… Гриша, сын». На голом месте эту истерику не сыграть. Надо все время до этого внутри держать напряжение, а чтобы его никто не заметил – ерничать. А тут прорвалось! Как плотина! Ужас! У всех на виду! Она старается спрятаться за деревьями, но они маленькие – не спрячешься. Но она сильная! Взяла себя в руки и жестко, опять чуть ерничая: «Там Аня спит, а я… поднимаю шум…» И как будто Петя виноват в ее истерике, с укором ему: «Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?»
14 апреля 1975. Репетиция «Вишневого сада» с Эфросом в малом репетиционном зале. Начали с Фирса – Ронинсона.
ЭФРОС. «У меня есть такая дурацкая привычка отказываться от того, что сразу понятно. Надо забыть, что он старик. Мы успеем еще это осознать. Бывает, что и старики „летают“, а у него господа приехали. Сейчас мы попробуем, чуть утрируя, потом крайности отменим. Фирс кричит на Дуняшу: „Ты! А сливки!“ Это они все старики, а он молод. Энергичен больше, чем они. Сбросьте 40 лет. Нет старости, вы никогда больше не умрете. Потом остановка. Пауза. „Барин тоже ездили в Париж на лошадях“ – как быстро прошло время! Он стоит, думает, долго, долго. Выход Раневской, Гаева. Аня недовольна мамой, знает ее глупости и не хочет в этом участвовать. Раневская успевает извиниться перед ней. Статика тогда здорово сыграет, когда вы к ней будете возвращаться. Но до этого должна быть динамика. Перед дочерью почти унижайтесь. Возьмите очень бурно, гротесково бурно. Гротеск в роли Раневской очень будет кстати. Не бойтесь его».
* * *
В конце апреля мы перешли на большую сцену. Там уже стояла декорация. В «Вишневом саде» действительно все крутится вокруг вишневого сада. Как в детском хороводе – а сад в середине. Левенталь сделал на сцене большой объемный круг – такую «клумбу-каравай». На этой клумбе вся жизнь. От детских игрушек и мебели до крестов на могилах. Тут же и несколько вишневых деревьев (кстати, и в жизни, когда они не цветут, они почти уродливы – маленькие, кряжистые, узловатые). И – белый цвет. Кисейные развевающиеся занавески. «…утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Озноб. Легкие белые платья. Беспечность. Цвет цветущей вишни – символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, – символ смерти. Круг замыкается.
То, что, казалось, мы уже нашли, репетируя на малой сцене, – на большой все потерялось. Начинаем с начала первого акта. Опять Эфрос ходит вместе с нами по сцене и за нас читает текст. Главное – очень внимательно за ним следить и ничего не упустить. Теперь я понимаю, что первый акт – это вихрь бессмысленных поступков и слов. Словами прикрывают истинное страдание. Но иногда сдерживаемое страдание вырывается криком: «Гриша! Мой мальчик!.. Гриша!.. Сын! Утонул!..» И сразу: «Для чего? Для чего?!» – это спрашивать надо очень конкретно – почему именно на меня такие беды. А потом, смахнув слезы, почти ерничая: «Там Аня спит, а я поднимаю шум».
Нас, исполнителей, потом будут упрекать в однозначности, в марионеточности, да и сам Эфрос в своей книжке будет вздыхать об объемности ролей и где, мол, в Москве взять актера на роль Гаева, который сыграл бы объемное? Разве что Смоктуновский… Потом мы увидим Смоктуновского в роли Гаева в телевизионном спектакле, а Эфрос уже настолько привыкнет к нам, что скажет: не нужен нам никакой Смоктуновский, Виктор Штернберг играет Гаева прекрасно и точно. Объемно играть можно, но сразу теряется ритм. Ведь объем натурализма «Вишневого сада» в Художественном театре, как известно, не нравился Чехову.
Андрей Белый о пьесах Чехова писал: «натурализм, истончившийся до символа». А разве можно играть объемно символ? Сразу скатишься в быт. «Вишневый сад» – пьеса не о дворянах и не об интеллигентах, а о марионетках. Только марионеточный водевиль усложняется темой смерти. Эту формулировку я для себя придумала в начале репетиций. Позже, спустя несколько лет, мы стали играть более объемно, но из спектакля что-то ушло.
Пьесы Чехова не реалистичны, хотя, может быть, он об этом не думал. Его пьесы отличаются от его рассказов, или от его «Сахалина», например, где все «правда».
Как это играть? Когда за словами идет совершенно другая жизнь, которая пробуждает в наших душах какие-то скрытые страхи, ожидания конца, свойственные каждому разумному человеку.
«Вишневый сад» – пьеса о том, как трудно, как невозможно принять так называемую правду жизни. Это пьеса о бессознательном желании человека ускользнуть от бытовых вопросов, от реальности, от страха смерти.
Мы сочувствуем нелепым и слабым героям «Вишневого сада», потому что сами нелепы и слабы перед жизнью. Пьеса о растерянности перед настоящим и беспомощности перед будущим. Зависимость от непонятных, могущественных сил. И это порождает страх перед жизнью.
Мейерхольд написал Чехову в письме: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского, и режиссер должен уловить ее слухом, прежде всего. В третьем акте на фоне глупого топтания – вот это топтанье надо услышать – незаметно для людей входит Ужас».
Пьеса написана в начале века, когда разрушалась старая жизнь, но ведь ни у кого нет «опыта будущего». Будущее всегда неясно и тревожно.
Станиславский послал восторженную телеграмму Чехову по поводу «Вишневого сада»; но, как говорят, совершенно не понял – почему эту пьесу Чехов назвал комедией; и говорил, что опять выйдет, как в «Трех сестрах», «рас-про-трагедия». Чехов негодовал: «Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и готов дать какое угодно слово, что оба ни разу не прочли внимательно моей пьесы».
Пьеса начинается с ожидания приезда владелицы вишневого сада. Причина ее приезда нерадостна. Дела пришли в такой упадок, что имение должно быть продано на торгах. Назначена даже дата торгов. Она приехала ранней весной, торги будут в конце августа. Казалось бы, время есть, чтобы что-то сделать, но она всячески ускользает от принятия какого-либо решения. Раневская сознательно бежит от вопросов, которые требуют перехода к «принципу реальности».
Аня. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки.
Любовь Андреевна. Я закрыла глаза, бежала себя не помня.
Но с другой стороны – какая прекрасная женщина! Чехов о Раневской: «Обаятельна, умна, очень добра, ко всем ласкается». Гаев про сестру: «Хорошая, добрая, славная». Лопахин: «Хороший она человек, легкий, простой».
Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего… едва доехали. А мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю.
А незнакомому прохожему во 2-м акте, не найдя серебра, отдает золотой.
Приехав спасать имение, Раневская не имеет никаких планов на этот счет и не хочет слушать, когда Лопахин говорит о каком-то плане спасения.
Гаев. у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини.
Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
Любовь Андреевна. Может быть, надумаем что-нибудь.
Они не знают, как спасти имение. Они это признают. В конце 1-го акта Гаев говорит: «Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима». Или Раневская: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». (Кстати, после этой реплики в нашем спектакле я закрываю голову руками, боясь, что дом сейчас рухнет. А потом в какой-то постановке «Вишневого сада» я видела, что дом буквально разрушался.)
* * *
Из письма Чехова о «Вишневом саде» к Книппер 27 сентября 1903 года: «…пьеса кончена… написаны все четыре акта… Люди вышли у меня живые, это правда, но какова сама по себе пьеса, не знаю».
Послал пьесу в Москву. Станиславский, прочитав, дал 20 октября телеграмму: «Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного, Вами написанного».
В августе 1904 года «Вишневый сад» был опубликован в сборнике «Знания». И, как всегда бывает с явлением необычным на театре, мнения разошлись на диаметрально противоположные. А это, как известно, считается верным признаком успеха.
Горький, например, пьесу не принял и говорил, что после «Вишневого сада» со сцены повеет на публику зеленая тоска. Не принял пьесу и Короленко, выступив с этим в печати. Кстати, после его критики за пьесой закрепился ярлык упадочничества и тоски, когда гибнут дворянские имения и на сцену приходят предприниматели-купцы, недаром, мол, про Лопахина-купца Петя Трофимов говорит в пьесе: «Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадется ему на пути, так и ты нужен».
Но ведь сам Чехов предупреждал в письме: «Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек». А в самой пьесе тот же Петя, но уже в 4-м акте, говорит Лопахину: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…»
(Правда, у Высоцкого-Лопахина не было тонких пальцев, у него руки были немного одутловатые и с короткими пальцами, но фантом, который всегда отделяется от хорошего текста, как ни на кого, был впору на Высоцкого.)
История движется, мир меняется, и от человека в смене формаций мало что зависит. Как бы ни хотел Лопахин помочь Раневской – дать денег взаймы, чтобы выкупить заложенное имение, сад обречен, и если бы его не купил Лопахин, сад достался бы тоже купцу, но с фамилией Дериганов, и топоры так же быстро бы застучали.
Главное – уходящее время. «Жизнь-то прошла, словно и не жил», – говорит Фирс. О времени, просто в цифрах проносящемся, говорит почти каждый персонаж в пьесе. Первые же реплики: Лопахин: «…Который час?» Дуняша: «Скоро два».
И дальше тоже цифры: «Шесть лет тому назад умер отец», – говорит Аня. Через месяц 7-летний сын Гриша утонул, 5 лет назад уехала Раневская, 17 лет было Лопахину, когда он вспоминает Раневскую, в 5-м часу надо ехать в Харьков, через 20 лет дачник «размножится до необычайности», 40–50 лет назад – говорит Фирс о прошлом, «… а теперь мне уже 51 год», – говорит Гаев, и т. д. и т. д. И наконец – роковая дата: 22 августа назначены торги.
«Да, время идет», – говорит в 1-м акте Лопахин, то же говорит и в 4-м: «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит». «Всему на этом свете бывает конец» – реплика Симеонова-Пищика тоже в 4-м акте.
«В чем основная проблема „Вишневого сада“? – говорил Эфрос на репетициях. – В том, что жизнь – как вихрь, и вихрь сбивает людей, уносит их. И мы слабее этого вихря, которому название – время.
Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Оно меняется и меняет жизнь, как вулкан меняет поверхность Земли. И люди всегда перед вулканом, в общем, бессильны. Вулкан перестраивает рельеф Земли.
Чехов почувствовал в те годы, что рельеф Земли изменяется. И написал об этом пьесу. В этой пьесе – прошлое России, настоящее России того времени и будущее. И все это вместе связано. И все это дано в достаточно трагической окраске. Написал больной человек, который уже был при смерти, и назвал свою пьесу „комедия“. На спектакле не должны смеяться, если будет случайный смешок, то это по поводу чего-то частного».
20 апреля 1975, воскресенье. Вечером репетиции с Эфросом. Эфрос говорил о красоте и чувстве меры. Что красота может быть и в гротеске, как у Феллини, или в какой-нибудь акварели японской живописи. Он говорит, что чувство прекрасного живет в каждом человеке, но некоторые люди об этом забывают.
Красота не может быть утилитарна! Ребенок в счастливом детстве все воспринимает как должное. Все должно происходить само собой. Ни для чего не надо прикладывать усилия. Вишневый сад – это счастливое детство. Как же можно продать или пустить туда дачников. Действительно – пóшло!
Часто говорят о том, что сад белый. Например, Гаев: «Сад ведь белый», его подхватывает Раневская: «Весь, весь белый!» или «…покойная мама идет по саду… в белом платье!.. белое деревце склонилось, похоже на женщину… белые массы цветов…»
Я была в Киото, когда там цвела сакура. Море бело-розового цвета. При порывах ветра белые лепесточки отрывались и вихрем кружились над городом. Какая-то нереальная красота. Дух захватывало! Чехов акцентировал в первой же ремарке: «…май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник». И через короткое время реплика Епиходова опять напоминает нам об этом: «Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата… Наш климат не может способствовать в самый раз».
Я думаю, что если бы в пьесе была осень, когда в саду стоят голые деревья, жанр точно определился бы как трагедия.
На пресс-конференции в Токио, где Эфрос позже повторил рисунок нашего «Вишневого сада» с японскими актерами, спрашивали между прочим, почему Эфрос считает «Вишневый сад» трагедией, – ведь по Чехову это комедия. Эфрос потом написал в своей книжке: «Потом, уже в машине, я спросил японца, видевшего наш спектакль на Таганке, что там волновало именно его. Он сказал, что волновала беспомощность героев перед бедой. Вот оттого это и трагедия, хотя написана она со специальными „сдвигами“ в сторону нелепого, даже глупого. Содом и Гоморра, а в центре – несчастная Раневская. Особенно, на мой взгляд, это должно воздействовать, когда Раневская такая молодая и ломкая».
* * *
20 апреля 1975. Репетиционный зал. Многие перестали ходить на репетицию. Нет Шаповалова. Эфрос подыгрывает за Лопахина. Начали репетировать 1-й акт. Играть с Эфросом легко. Он по ходу объясняет ситуацию. Они диаметрально противоположны – Лопахин и Раневская с Гаевым.
Поэтому, когда Лопахин им начинает объяснять, как можно их сад разбить на дачные участки, они сначала искренне не понимают, о чем он говорит, а когда все-таки поняли, что это их сад нужно так изуродовать, то начали хохотать и дурачиться.
Лопахин ждал приезда Раневской, подготовил свою речь о Саде, но никак не может вклиниться со своим рассказом в их необязательные разговоры. Он ведь не дипломат. И поэтому вклинивается некстати – «вот мой проект». Даже это у них вызывает смех. Слово «проект», от него услышанное. После последних слов от него просто отмахиваются. Мол, говорит бред. А когда прошла сцена со «шкафом», то у Лопахина очень естественно вырывается «Да-а-а!» И тогда будет понятна эта жуткая разница в их мировоззрении. Они не слышат друг друга. Но он никак не может уйти. Его почти выгоняют. А когда он уходит, тут-то и прорывается негодование против него.
Публика должна быть в напряжении по поводу судьбы сада. Обычно он всем до лампочки.
Потом с Эфросом, который читал за Лопахина, прошли 2-й акт – сцена возвращения из ресторана.
После репетиции, как всегда, замечания Эфроса.
ЭФРОС. «Опять в намеке верно. Алла, до середины даже правильно. Здесь что отличает от 1-го акта, который мы прошли? Прежде всего, что это – некоторый повтор. В принципе речь идет о том же. Но, значит, делать это надо уже не так. Теперь Раневская тянется к Лопахину. Просит предложить другой выход. Ей уже как бы ясно, что надо лечиться, но только то лекарство ей не подходит, она просит другое. Начало надо брать жестче, чтобы потом был сильный взрыв в монологе о „грехах“. В ней раздражение должно нарастать от бессилия. В чем еще отличие? Лопахин. Если в первом акте он не знает, как подступиться, то здесь, через три недели, должно быть другое. Допустим, я знаю, что человек болен проказой, он отказывается принимать мое лекарство, а уже есть признаки болезни. Бессилие врача в подобном случае страшно. Смысл 2-го акта – все поняли безысходность положения. В 1-м акте этого не хотели понимать. В чем смысл появления Прохожего? Он – „другой“. Ведь они, последние, во всем мире такие. Это маленькая кучка обреченных. А вокруг все такие, как Прохожий. Мир вокруг такой. А их жизнь кончилась. Это о конце чего-то. Он о поезде спрашивает, а в поезде все будут такие, а едут они в город, а в городе заводы. И вокруг все такие, как он. Лопахин тоже оттуда, но он рос рядом с ними, он их, этих странных, вымирающих людей любит. Он один может с Прохожим говорить на его языке – он кричит на него».
Позже в своей книжке Эфрос напишет:
«В „Вишневом саде“, может быть, самое трудное – второй акт. Гуляют, разговаривают, часто даже как бы теряя нить разговора. Гуляют, болтают, а время идет. То самое беспощадное время, которое в конце концов все решит. И чем больше отстраненных, отвлеченных реплик, тем больше сгущается мрак. Тем ближе беда. Вначале дурацкие разговоры слуг. Словно клоуны разговаривают. Рыжий, белый и еще какой-то. Белиберда, сапоги всмятку. Яша курит дешевые сигары, Шарлотта рассказывает свою нелепую биографию, а Епиходов угрожает, что застрелится. Потом и господа говорят, будто бог знает о чем. Неожиданно главным монологом разражается Петя. А кто-то смеется над ним, не принимая его всерьез. Между тем садится солнце, и с неба слышится странный тревожный звук. Может быть, птица, а может быть, вовсе и не с неба, а, наоборот, из-под земли: в шахте сорвалась бадья. Никто не знает. И тут окончательно всех пугает пьяный прохожий. Все это похоже на возмездие за потерянные минуты, в которые следовало бы что-то решить».
* * *
В пьесе несколько раз звучит слово «несчастье». Начинает Епиходов в 1-м акте: «Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье». Дальше Фирс: «Перед несчастьем тоже кричала сова…» И т. д.
В социологии есть так называемая теория Томаса – если выдуманная ситуация рассматривается как реальная, она происходит. Она становится реальна по своим последствиям. А я знаю, что поэты, например, иногда боятся написать какую-нибудь фразу, так как они убеждены, что слово произнесенное – уже является действием. Об этом писала и Ахматова.
Иногда, чтобы не произносить какие-то слова, которые у всех на уме, Гаев, например, как краснобай начинает или философствовать, или строить какие-то неосуществимые прожекты.
«Многоуважаемый шкаф» – как и звук лопнувшей струны, трудность в режиссерском решении. По рассказам, с этим монологом о шкафе столкнулся и Станиславский, игравший Гаева в первой постановке пьесы, хотя сам Чехов упорно его уговаривал играть Лопахина. Так вот, на репетиции, как говорят, Станиславский – Гаев, произнося этот монолог о «многоуважаемом шкафе», долго, тщательно и аккуратно раскладывал в этот шкаф заветные вещи, которые остаются в семьях многие годы. Понятно, что Станиславский хотел заменить смысл монолога физическим действием, но это скрупулезное отношение к вещам скорее сродни купцу, а не беспечному Гаеву, который все «свое состояние проел на леденцах».
О Гаеве мы много говорили на репетиции. Вите Штернбергу эта роль вначале никак не удавалась. Витя огромный, с виду сильный человек. По внешности скорее Лопахин, а не Гаев. Надо играть растерянность перед возникшими обстоятельствами. Мучительное вдумывание в суть происходящего. Паника от невозможности в него проникнуть. Масса средств выйти из положения, а значит, в сущности, ни одного…
Я никогда раньше не была в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. Пугало само слово – дом-музей. Остался Чехов, который только что переехал с Малой Дмитровки, Чехов в Мелихове, Чехов наездами в Москву, письма Чехова… Он тут, он всегда может появиться… И вдруг – дом-музей. Как мавзолей. И все-таки – пошла. Вернее, потащили знакомые.
Поразила меня комнатка, где спал Чехов, – рядом с кабинетом. Такая светлая девичья спаленка. Белая. Узкая, маленькая кровать. Белое пикейное одеяло. Последний год, видимо, он долго жил в этой комнате. Болел. Туберкулез. Длинные утра, переходящие в день, когда не можешь заставить себя встать с постели. После бессонницы, после предрассветного страха смерти. Говорят, Чехов часто писал «Вишневый сад» лежа. А по другую сторону от кровати – красного дерева невысокий шкаф, не то книжный, не то посудный. Мне рассказали, что этот шкаф Чеховы привезли с собой из Таганрога. В нем стояли богословские книги отца, а мать хранила там варенье. Дети, как, наверное, все дети, потихоньку от взрослых к варенью прикладывались. Об этом в семье знали, не особенно наказывали. Я думаю, что Чехов, когда писал знаменитый монолог Гаева о «многоуважаемом шкафе», имел в виду не только книги, которые хранились в этом шкафу. Ведь в шкафу было еще и варенье! Тем более что Гаев произносит этот монолог, чтобы отвлечь сестру от мрачных мыслей о Париже, когда она получает очередную телеграмму оттуда.
В Ялте, я помню, весной: солнце, не жарко, пахнет морем, глициниями, мальчишки на велосипедах на набережной, объезжая редких прохожих, звонко и весело кричат: «Айн момент – Моменто – море». Все слилось – и море, и «Memento mori», смех и слезы, начало и конец, жизнь и смерть. Может быть, на этих душевных сломах и искать истину в «Вишневом саде»? Мне нравятся эти перепады. В жизни они встречаются часто.
В августе 1975 года я случайно попала на Шопеновский фестиваль в Душники-Здруй в Польше. Каждый день в маленьком домике, где жил Шопен, лучшие пианисты мира играли его произведения. Лето. Жарко. Открытые окна в парк. В доме зал – 50 слушателей и инструмент. После своего дневного выступления Галина Черны-Стефаньска вышла и сказала, что только что скончался Шостакович и в его честь она хочет сыграть прелюдию Шопена. Когда зазвучали первые аккорды, зал встал. Она играла прекрасно. А за открытыми окнами где-то в парке слышались смех, голоса, бегали дети…
Конечно, мир Чехова шире мира любого из его персонажей. Но если есть в чеховской драматургии какое-то общее правило, то это именно джазовое построение каждой пьесы.
Урок, который мы должны извлечь из пьесы, в конечном итоге преподносится пересекающимися и дополняющими друг друга судьбами и истинами. Это как в живописи – где-то я читала, что портрет нужно писать, дифференцируя душевное состояние: одному глазу дается выражение, противоположное выражению другого глаза, что, в свою очередь, не соответствует выражению губ и т. д. Но эти различия должны гармонически сочетаться друг с другом. И тогда портрет передаст не просто застывшее душевное состояние, а историю души, ее жизнь. Теория сама по себе сегодня кажется мне немного наивной, но, может быть, моя Раневская при такой дифференциации – «нос» или «глаза» спектакля?
Эфрос приходит к нам очень усталый. Видно, что плохо себя чувствует – часто сосет валидол. Как-то на репетицию опять не пришел Шаповалов – Лопахин. Помреж сказала, что у Шаповалова «колет сердце». Эфрос сказал, что у него тоже больное сердце, но он к нам все равно приходит, что он устал репетировать за отсутствующих актеров – и репетицию отменил. Мы, расстроенные, разошлись по домам. Я послала телеграмму Высоцкому в Париж: «Если сейчас не приедешь – потеряешь Лопахина».
23 апреля 1975, среда. Вечером репетиция с Эфросом в репетиционном зале. Разбираем начало третьего акта.
ЭФРОС. «Здесь, в этой сцене, весь комплекс ожидания. Вот, допустим, снять скрытой камерой час ожидания кучки людей. Допустим, ждут известия из больницы – выжил там после операции кто-то или нет. Мы будем заворожены этим. Все тонкости, последовательность развития этого ожидания, переход одного к другому должны быть поняты. Все должно быть выстроено точно психологически, весь процесс ожидания. Все держится только на одном, но к этому есть разные подходы. В пьесе во всем есть железная внутренняя логика. Ничего нет пустого. Понятно, что тут все ждут, этого можно добиться сразу, с паузы. Чехов как бы нарочно начинает не с Раневской, а с глупости. Начало формируется общо, без чего-то конкретного. В полный бред выходит Шарлотта, но не наигрывать. Это как в комнату, где все напряженно кого-то ждут, вдруг входит ребенок и все к нему кидаются как к отдушине.
Шарлотта устала, потеряла терпение, а они ждут от нее развлечений. Но текст тут надо говорить легко. Потом наступает следующий этап ожидания – отчего так долго? Тут надо не бояться быть разумной, очень конкретной. Почему их нет 3 часа? – Это подсознательно нарастало во время выхода Шарлотты. У Вари уже возникла 2-я версия их отсутствия. Этот каркас надо очень жестко держать, и тогда все будет легко и нечего будет придумывать. Варина версия, с точки зрения Раневской, бредовая. У Раневской уже запало, что Варя говорит ерунду, и она отыграется на ней через 5 минут. В этой следующей стадии важно, чтобы не было повтора. Теперь возникает вопрос: продано или нет. Она хочет знать истину. Так конкретно вопрос до сих пор не ставился. Говорить все это время нужно очень конкретно. Этот вопрос самый существенный. А Трофимов отвечает, что этот конкретный вопрос не имеет значения – продан сад или нет. Нужно быть свободной. Он учит ее. С половины его монолога Раневская не хочет его слушать. И только в конце монолога по-новому к нему, надо укорять его за эту правду. Она ведь без мужчины в доме – просит ее пожалеть. А он не знает, как ей сказать, что и он переживает. Но она не слышит его. Уронила телеграмму, и от этого идет ее защитный ход. А за всем этим мы должны видеть нарастание ожидания, но только не высказанное впрямую. А в конце бред уже полный – именно с Петей она танцует.
Потом Варя и Епиходов. Варя не кричит, она удивлена его поведением. Это как при покойнике – уже имущество разворовывают. У нее еще старые правила поведения. Она не понимает, что уже конец. А он уже знает новые правила игры. Он с ней нагл. Это из той же серии, что и звук струны или прохожий. Новые порядки, она их еще не уловила».
* * *
Роль Пети Трофимова очень трудная. Его раньше играли таким резонером. Говоруном. Эфрос объяснял нам, что Петя Трофимов не хочет говорить, но его как бы кто-то на это провоцирует. Когда человек хочет уйти от разговора, он буквально идет к двери, но, не досказав мысль, возвращается, чтобы продолжить фразу другой парадоксальной мыслью, которая только что пришла в голову. Сказав, опять хочет уйти и опять возвращается договаривать, и так бесконечно, пока не выскажет весь монолог. Золотухину почему-то это вначале не удавалось. Для этого нужен был другой, более интеллектуального склада актер, вернее, актер, который мог легко играть интеллектуала. Вначале Золотухин произносил свои слова зло, истерично, но потом очень быстро освоился и, прекрасно подхватив эфросовский рисунок, играл уже легко и импровизационно. У Валерия Золотухина была очень токая психологическая структура, он легко играл разные роли.
А когда в 85-м году Эфрос возобновил «Вишневый сад», Золотухин стал играть мягче и очень нежно по отношению к Раневской. Печаль и простота этого «вечного студента», каким его играл Золотухин, очень мне импонировали. С ним играть было легко. Он, как музыкальный человек, очень тонко чувствовал переходы интонаций и темпоритмы.
Эфрос потом напишет: «На Таганке нас упрекали в том, что мы высмеяли Петю Трофимова. Но мы и не думали высмеивать. Просто многие считают, что то, о чем он говорил, следует говорить буквально, ибо это мысли о будущем. Однако Петя вовсе не резонер. Это было бы попросту скучно и глупо.
Он простодушен, нелеп. Над ним смеются не только Лопахин, но и Раневская. Он и „облезлый барин“ и мальчишка. Жизнь его изрядно потрепала – он и горячится, и устал очень. Борода у него не растет, меры ни в чем он не знает, говорит, что выше любви, а поссорившись с Раневской, сваливается с лестницы. Вот он какой.
Качалов в свое время, вероятно, замечательно играл Петю, но облик высокого и красивого мужчины у меня все равно как-то не вяжется с Петей. Вот если бы совсем молоденький Москвин – это было бы, по-моему, другое дело. С его способностью вводить в роль легкий гротеск и быть одновременно трогательно-смешным и трагичным. На фотографиях, где он снят молодым, в смешном пенсне, – разве это не Петя?»
На первой репетиции с Вилькиным Золотухин попробовал роль и перестал репетировать. Но когда увидел, как Эфрос интересно рассказывает про Петю Трофимова, понял, что в этой роли он может сделать что-то совершенно новое для себя. А когда подключился к репетициям Высоцкий, Золотухин уже никого не подпускал к роли Пети Трофимова и играл только он один.
Филатов, назначенный на Петю, несколько раз заходил на репетицию, а потом окончательно пропал. А Золотухин просто вцепился в эту роль. Может быть, Филатов точнее бы сыграл Петю Трофимова в эфросовском рисунке. Филатовская скороговорка в жизни легко бы легла на роль. Но Эфрос Филатова практически не знал. Золотухин был известен по кино, и Эфрос решил, что, опираясь на известных публике актеров – Высоцкого, Золотухина, Демидову, можно уже ни на ком другом не настаивать. Золотухину Петя Трофимов давался, повторяю, нелегко, но он потом не пропускал ни одной эфросовской репетиции, впитывал его слова как губка, и в конце концов другого Петю Трофимова я просто себе не представляла.
Кстати, Эфрос сам играл Петю Трофимова, когда был в студии Завадского при Театре им. Моссовета. Это было в 1943 году. Они с педагогом Пыжовой делали отрывок из «Вишневого сада». Завадский тогда предложил Эфросу поступить на режиссерский факультет ГИТИСа – «слишком интеллектуален для актера».
Из книги Эфроса: «У Пети Трофимова есть такие слова, обращенные к Ане: „Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым – вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!“ Оставшись наедине с девушкой, говорить таким образом может человек или фанатичный, или наделенный большим юмором. Во всяком случае, это ведь не совсем естественная, повседневная речь молодого человека, которому нет тридцати, беседующего с девушкой семнадцати лет. Тут опасно впасть в литературный тон. Может быть, Петя так весел и находится на особом подъеме? Вряд ли. Только что была сцена с Прохожим, да и много другого. Может быть, напротив, он измучен и эти слова твердит как заклинание, чтобы держаться в форме? Или действительно это некий фанатизм, когда верят, что быть выше любви – значит быть ближе к счастью. Не могу сказать, что нахожу здесь всеобъемлющее решение».
Мне еще кажется, что Петя Трофимов напичкан стихами конца XIX века. Плещеев – «травка зеленеет, солнышко блестит…» Или: «Вперед! Без страха и упрека» – того же Плещеева. Или бальмонтовские слова – «Будем, как солнце!», «вольный ветер» и т. д. Поэтому все эти «странные слова», обращенные к Ане, – это его попытка вспоминать стихи, которые у него были на слуху, когда он учился в университете.
Причем, я думаю, и сам молодой Чехов был не чужд этим стихам. У него, например, Прохожий во 2-м акте «Вишневого сада» говорит: «Брат мой, страдающий брат… Выдь на Волгу – чей стон…» Здесь Чехов соединяет Надсона и Некрасова.
Да, наверное, не только стихи конца XIX века, а вообще – Поэзия. Чехов – сам поэт. Это надо учитывать, когда его играешь. «Стихи мои бегом, бегом» – слова пробрасываются.
Или фирсовская реплика, например, «все враздробь» – это же гамлетовские слова: «распалась связь времен».
Или на вопрос «Что в Париже»? – Раневская отвечает: «Крокодилов ела» (не лягушек, а больше – крокодилов). Вспомним опять Гамлета, который спрашивает Лаэрта над могилой Офелии, как тот способен страдать от горя: «Рыдал? Рвал платье? Дрался? Голодал? Пил уксус? Крокодилов ел?»
Таких ассоциативных реплик у Чехова в пьесах можно найти много, если специально этим заняться.
* * *
С 17 мая 1975 года пошли регулярные репетиции с Эфросом. Теперь он целиком наш. Начали опять с 1-го акта. Эфрос с книжкой ходил по сцене, обозначая мизансцены и по ходу опять разъясняя смысл происходящего.
ЭФРОС. «Представьте себе кладбище, вокруг стоит детская мебель, а среди всего этого сидит беспечная компания и поет: „Что мне до шумного света…“ Смешного в спектакле должно быть много, но главное – все это обречено. Будет и еврейский оркестр, и звук лопнувшей струны. Но все должно быть выражено через людей, через актеров, а потому буду, как всегда, подробно разбирать текст. Приготовьтесь к этому и привыкайте. А потом делать мы будем быстро.
Начало 1-го акта – начинать нужно сразу и резко. На сцене Лопахин и Дуняша. Поезд опоздал, они его ждут. Лопахин ждет Раневскую, чтобы предотвратить беду, он знает, как это сделать. Лопахин любит Раневскую – это давнее, прекрасное воспоминание детства. Ожидание ее приезда – очень серьезно. С самого начала надо сделать так, что Лопахин знает, что надо спасаться, он знает как. Необходимо создать напряжение – едут те, у кого беда и кому можно и нужно помочь.
Потом Епиходов. Москвин у всех у нас на памяти, мы, даже не видя его на сцене, знаем, как он играл, но это нужно забыть. Он смешно играл недотепу, а суть, мне кажется, в другом. Епиходов серьезен, а Москвин шутил. Епиходов говорит разрозненные вещи, скачет от одного к другому, но все его реплики вместе – про то, что все в этом мире устроено не так. Это крик его души, только нелепо выраженный. У него язык не работает, а чувства такие же, как у нас. А Лопахин живет чем-то противоположным, думает о своем. И диалог их абсурден, но и драматичен от этого. Свои мысли, своя тема и у Дуняши. Трагедия в том, что если бы люди умели говорить на одну нужную тему, все было бы хорошо. Так в жизни бывает редко-редко. Но, с другой стороны, кто умеет так говорить, чаще всего нам несимпатичны. Мы их не любим. Первая сцена построена на большом контрасте между тем, чем живет Лопахин, и другими, которые не думают об опасности.
Быстро-быстро выходит Раневская и смотрит на детскую мебель. Все идут за ней, а она стоит. Они возвращаются, опять идут, а она все стоит и смотрит в одну точку. Все вокруг суетятся, не понимают, что это она тут застряла. Это должно быть сделано страшно. Здесь можно здорово преувеличить по сравнению даже с текстом. Во МХАТе это было сыграно сентиментально, а можно сделать драматично, жестко. Раневская стоит на первом плане, а сзади ходят взад-вперед с вещами, переговариваются. Потом пауза на полчаса, только слышен какой-то странный звук. Все поставили вещи, смотрят на нее, потому что это похоже на помешательство. Но вот она резко повернулась, и все пошли вновь. Уходят. И сразу выскакивает Аня. То, что она стеснялась сделать при маме, она обнаруживает сейчас. Теперь она воспринимает свой приезд как бы со стороны. А у Дуняши – свое. Снова контраст. У каждого нормального человека есть вещи, которые всегда касаются его одного: умершие родственники, ребенок, возвращение домой, в детство и так далее. Чехов это очень хорошо понимал. И опять контрастное несоответствие между Аней и Варей. Суть тут в том, что у каждого есть глубоко сидящая боль и каждый выплескивает свое. Каждый ждет возможности это свое выплеснуть, не замечая состояния собеседника. И еще – есть ужасно много вещей, которые нужно играть как бы походя. Представьте себе состояние, как вот если бы вам вдруг сказали, что ваш театр закрыт. Общая растерянность, при которой и вылезают вдруг пустяки, совершенно ненужные, неважные вещи. Каждый актер должен знать, что у него ⅓ жуткого проговора, пустяков, и 1/24 – жуткого выплеска.
Я хорошо помню мхатовский старый спектакль, там была форма правды, а суть уходила. Я думаю, что правда в том, что мы не умеем все время говорить на одну и ту же тему, даже самую важную. Варя – у нее своя боль, она раздражена суетой. Упоминание о Яше – это пустяк, надо проговаривать такие фразы. Главная фраза – про Петю. Что он здесь и может напомнить про утонувшего Гришу. Люди не могут совладать с роком, который висит над ними, – это чеховская тема. Аня говорит про умершего брата, пытаясь анализировать случившееся. Это попытка анализировать то, что нельзя анализировать. У Чехова такие вещи уже были. В „Трех сестрах“ вначале Ольга говорит: „Год назад умер отец…“ и так далее. Разгадка этого монолога в попытке анализа того, что анализу не поддается. Мир устроен непонятно, не им его понять.
Выходит Фирс. Всем известно, как его надо играть, существует масса штампов. А суть в том, что у него есть своя очень определенная идея – все, что было раньше, еще возможно. Он абсолютно нормален, ничего не бурчит себе под нос, как это часто делается. Наоборот, все остальные ненормальны. Он знает, что все теперь можно организовать по-старому. Его нужно играть не дряхлым, не старым, он даже энергичен по-своему, как человек, который знает истину.
Оформление мы будем делать с Левенталем, делать не так, как было принято на Таганке, а как бы назло вам – красиво. А вообще, мне кажется, надо не бояться долбить в одну точку. Опять, например, выход Раневской, когда она стоит перед мебелью. Ее поведения боятся, она на грани трагического, все видят это. И потому Гаев старается ее отвлечь, смешит, шутит, именно на это нужно „класть“ его текст. Ее жизнь поломана, она вспоминает, как раньше было хорошо – в детстве, в юности (почему-то тут я вспоминаю кинохронику праздников 9 Мая, когда, встречаясь, плачут ветераны, я понимаю, почему они плачут), а Гаев не входит в ее трагедию, но старается облегчить. Все вокруг нее говорят, суетятся, она одна стоит не двигаясь. Она ничего не видит, всем что-то отвечает, что-то говорит, но на самом деле она совсем не здесь, а где-то в прошлом.
Фирс приносит кофе, она говорит ему что-то, он отвечает невпопад: „Позавчера“. Это снова на ту же тему – время идет, мчится вперед, она его помнит не глухим. А потом начинается самое главное. Лопахину скоро уезжать, и он должен все ей сказать, все им приготовленное как способ спасения. А говорит от волнения то, что не нужно – как он любит ее и так далее. У Раневской все, что было в груди, все вдруг выплеснулось наружу! „Столик мой…“ Но это – как обратная сторона истерики, и делать это нужно очень жестко. Потом опять пустяки и опять Лопахин – сейчас он их и осчастливит. А они не хотят слушать. Играть ему надо так, как будто все уже в порядке, он веселится и доволен собой. Он все время на часы смотрит, а они про свое, про пустяки, про варенье, про Париж и прочее, а бомба-то летит. Это сознательное бегство от необходимости. Нарочно слушать его не хотят. Его практицизму противопоставляют свое – „дорогой шкаф…“ Беспечность принципиальная. Он уходит, и его постарались забыть, специально сказали о нем плохо. И опять – абсурд. Пищик одалживает деньги. Гаев настолько простодушен, что делает то, что не надо – все ей напоминает. Она стоит впереди, а сзади входит Петя, и там за ней почти драка – его не пускают. И опять масса ненужных вещей. А потом последний взлет акта – у Гаева есть способ спасения. Он что-то делает, собирается делать, он клянется, что все будет хорошо. Все расходятся. В конце опять нелепость – Варя рассказывает уставшей Ане про что-то свое, сильно отвлекаясь от реальности, долго, подробно рассказывает».
* * *
Аню тоже трудно играть. Нужна очень молодая актриса, но уже уверенно себя чувствующая на сцене. Через юную Аню особенно ярко видна чеховская лирика, когда драматические выплески сходят на нет, появляется музыкальная откровенная лирика: «…Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..»
Может быть, Аню играть как начинающую поэтессу? А может быть, наоборот – такая будущая правильная учительница. Она логически пытается разобраться, как все произошло: «Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик…» Казалось бы – просто экспликация, но она анализирует, как в «Трех сестрах» Ольга точно так же не вспоминает, а именно анализирует, что только год, как умер отец, а Ирина уже в белом платье. Это что, анализ бега времени или анализ абсурда? Потому что причины лежат совсем в другом.
Ее молодость в перепадах настроения. Например, когда Варя говорит: «У тебя брошка вроде как пчелка», Аня в ответ угрюмо: «Это мама купила». И вдруг совершенно неожиданно по-детски кричит, вернее – хвастается: «А в Париже я на воздушном шаре летала!» И они вместе закружились, взявшись за руки, как в детстве.
Или когда Аня рассказывает Варе, как она приехала в Париж: «Выехала я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы». И так же неожиданно сердито кричит на Варю: «И зачем ты навязала мне Шарлотту!»
Неожиданные эти выбросы у Ани не от усталости, а от того, что «Мама живет на пятом этаже!».
Если они выехали зимой, а приехали уже весной, когда зацвели вишни, то как они жили там, в Париже? В небольшой квартирке Раневской. Да еще с Шарлоттой!
Я помню, в Афинах мы разговорились с одним греческим режиссером, который собирался снимать фильм про «Вишневый сад», я тогда обратила его внимание на эту зимнюю Страстную неделю. Он обрадовался, сказал, что это очень кинематографично – снять приезд Ани с Шарлоттой в зимний, со снегом, Париж и как они долго ищут квартиру Раневской.
* * *
Шарлотту обычно играют почему-то пожилые актрисы. Шарлотта, конечно, не молода, но все-таки… В этой пьесе старый только Фирс.
Шарлотта, видимо, умна, но скрывает это. Она все время кого-то изображает. Надевает и снимает маски. Можно это делать и голосом.
В 3-м акте она устраивает игру в торги: «Вот очень хороший плед, я желаю продавать… Не желает ли кто покупать?» Из-за пледа выходит сначала Аня, потом Варя. Продаются! В каком-то спектакле я видела, как Аня выходила из-за пледа с веткой цветущей вишни. Намек был очевиден – что, мол, и не только мы на продажу, но и весь наш сад.
По сцене мы не ходим – бегаем. Я опять спрашиваю Эфроса о возрасте Раневской. Все-таки перед глазами фотографии Книппер. А там – спокойствие, стать, прямая спина и т. д.
Раневскую в театрах играют первые актрисы, а чтобы стать первой, надо потрудиться. К 50-ти годам можно достичь этого результата. У нас на Таганке мы все были практически одного возраста, кроме нескольких старых актеров, оставшихся от старого театра. Ронинсон, например. Когда репетировали «Гамлета», тоже встал этот вопрос о возрасте, потому что Гамлет и его мать Гертруда были у нас одного возраста.
Чехов писал Раневскую для своей жены Книппер, которой в 1903 году было 35 лет. Но Аню тогда играла Лилина, которой было уже 37. Они, значит, тоже не думали о трудности возраста и допускали эту условность театра.
* * *
21 мая 1975, среда. Репетиция «Вишневого сада». Разводим по-прежнему 1-й акт.
«Вишневый сад» начинается приездом и заканчивается отъездом. И между этим все как бы живут «начерно». Чего-то ждут все время. Живут не сейчас, а «потом». На юру. Как, впрочем, это и принято в России. Нет этой европейской степенности, бюргерства. Все как бы бегом. И все время острое ощущение уходящего времени. Как в картинах Борисова-Мусатова – истлевающие имения, странные деревья, полутени людей. И все как бы покрыто патиной. Но патиной не спокойствия, а ожидания.
Но иногда это ощущение надо резко ломать. Например, в 1-м акте Раневская после приезда: «Я не могу усидеть, не в состоянии… Я не переживу этой радости… Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафик мой родной… Столик мой». Бегу от столика к шкафику, глажу их, а когда Гаев сразу после этого: «А без тебя няня умерла» – Раневская холодно, небрежно, быстро: «Да, царство небесное. Мне писали». Потому что «няня умерла» – это «реальность», может быть, очень болезненная, но ее надо прятать, а «шкафик» и «столик» – это жизнь, а «няня» – это «смерть». О смерти не говорят вслух, она живет в душе.
22 мая, четверг. Репетиция «Вишневого сада». Пытаемся развести на сцене 2-й акт.
23 мая, пятница. Репетиция 2-го акта на сцене.
У Чехова 2 раза в пьесе повторяется звук лопнувшей струны. Это скорее образ. Образ тревоги, но тревоги того времени, когда ставится пьеса.
Эфрос на репетициях часто рассуждал, вовлекая и нас, чем можно на сегодняшний день передать эту глобальную тревогу. Может быть, звук пролетающего сверхзвукового самолета? Кто-то моментально возразил, что, мол, этот звук хотя и противный, но не тревожный – мы к нему привыкли. Звук взлетающей ракеты? Но тоже узнаваемо. Можно, конечно, найти и усилить в тысячу раз звук разрываемого пространства. Но ведь тут же этот звук комментирует Лопахин – «где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья». А Гаев еще более наивно – «может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли», на что Петя, смеясь над ним, моментально отвечает – «или филин…»
И хоть по-настоящему «страшного звука» мы не нашли, но эту тревогу и страх мы отыгрывали быстрыми первыми репликами. И поэтому «Кто-то идет» – произносилось Золотухиным очень испуганно. Да и перед самим звуком никакой благости. Например – у Чехова такие ремарки:
(В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.)
Любовь Андреевна. (Задумчиво.) Епиходов идет…
Аня (задумчиво). Епиходов идет…
Гаев. Солнце село, господа.
Трофимов. Да.
У нас в спектакле эти фразы выкрикивались нервно, раздраженно, как предтеча чего-то ужасного. И все фразы с восклицательным знаком. Мы не думали о ремарках Чехова. Скорее, играли «наоборот».
Чехов об этом звуке струны повторяет в конце пьесы, после смерти Фирса. И поэтому страх перед неизбежным несчастьем (Фирс говорит во 2-м акте после этого звука, что «перед несчастьем тоже было») после этого звука в конце концов нам грозит уже катастрофой, масштабными катаклизмами.
Чехов тоже, наверное, искал выражение этого тревожного звука. Звук лопнувшей струны возник, может быть, из-за тургеневской юношеской поэмы, где приближение какой-то ужасной потусторонней силы выражено звуком лопнувшей струны где-то далеко в вышине. Но поэма, как известно, была опубликована только в 1913 году. Но, с другой стороны, образ лопнувшей струны в те времена был неоднократно использован поэтами и писателями.
У Дельвига, например, есть стихотворение, написанное в 1823 году, где такие строчки: «Любви дни краткие даны, / Но мне не зреть ее остылой; / Я с ней умру, как звук унылый / Внезапно порванной струны».
У Дельвига этот звук «унылый», а у Чехова – «замирающий, печальный».
Или в «Гамлете» (в переводе Полевого, изданном Сувориным): «…судьба сулила видеть, / Как оборвался этот чудный ум, / Подобно струнам арфы…»
Кстати, с «Гамлетом» у Чехова много перекличек. В «Чайке», например, целые реплики из «Гамлета», и расстановка персонажей там «гамлетовская» (Аркадина – Гертруда, Треплев – Гамлет, Тригорин – Клавдий, Заречная – Офелия и т. д.).
В «Гамлете» последняя реплика умирающего Гамлета «дальше – тишина» – аукается с чеховской ремаркой в конце «Вишневого сада»:
«…Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес».
И каждый режиссер, кто ставил «Вишневый сад», сталкивался с этой труднейшей задачей – найти тот странный звук – «отдаленный звук, точно с неба… замирающий, печальный».
Джорджо Стрелер, например, заменил этот звук движением. Над его белой сценой висел огромный белый полог, сверху засыпанный листьями, на просвет черными. И когда во 2-м акте должен по пьесе возникать «звук лопнувшей струны», этот полог вдруг неожиданно падал вниз, останавливался над головами, и дальше испуганная реплика Раневской – «Что это?» Впечатление было такое, как если бы разверзлось небо, так это было неожиданно и страшно. После этого «содрогания» все персонажи испуганно подходили к краю сцены и, каждый по-своему, смотрели в зрительный зал, ожидая оттуда что-то опасное. Они на фоне белого задника смотрелись черными силуэтами, как бывает в фильмах, когда после какого-нибудь атомного взрыва на стенах остаются только тени людей. Страшно!
А в первой постановке Художественного театра этот звук слышали не все. Звук беды слышат только те, кто ждет этой беды. Раневская услышала и спрашивает: «Что это?», а Лопахин не услышал и, читая в это время газету, равнодушно отвечает, что это, вероятно, где-нибудь сорвалась в шахте бадья.
Разные режиссеры искали и не находили странного звука, но каждый раз, какой бы звук ни был в спектакле, все, кто находился на сцене, отыгрывали испугом этот звук. Поэтому не важно, какой звук, важно – как пугаются этого звука люди. В ремарке у Чехова: «Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Эфрос всегда повторял нам: «Не обращайте внимания на ремарки, они давно разыграны».
Главное, что после этого звука все меняется. Звук отделяет беспечность от неизбежного. Они раньше не обращали внимания на особые приметы. Например, «блюдечко разбилось». Правда, посуда бьется, как говорят, к счастью.
Все неожиданное, непредвиденное пугает. Возникает мысль о смерти.
Этот звук нарушает хрупкую гармонию души. Или, если смотреть глобально, он нарушает «мировую гармонию». Он грозит всему человечеству (если «Вишневый сад» решать как трагедию, когда нарушаются человеческие нормы жизни). Звук должен диссонансом звучать. Иногда ведь какое-нибудь услышанное слово нарушает гармонию твоей души. Этот звук – возвещение о конечности бытия. О неизбежном. О смерти.
А звук топора в конце пьесы! Как будто забивают гвозди в гроб. Я слышала эти звуки, когда хоронили мужа. Ужасный звук!
* * *
24 мая 1975, суббота. Репетиция «Вишневого сада». Эфрос упрекал нас, что мы мало интересуемся новыми формами международного театра, что мало читаем про это, мало видим.
Главное – найти атмосферу спектакля. Атмосфера – это «душа спектакля», говорил Михаил Чехов.
Чтобы атмосфера прояснилась, главное – надо было выявить основной подтекст. В нашем спектакле это была беспечность. Говорят о грехах, каются до слез и тут же с легкостью переключаются на звук музыки еврейского оркестра: «Устроим вечерок!»
* * *
У Цветаевой в стихотворении «Сад»: «За этот ад, / За этот бред, / Пошли мне сад / На старость лет».
В русском языке слово «сад» имеет и обобщенное значение. Это что-то цветущее, красивое, самореализующееся.
Рай – это тоже сад. Везде райские яблоки, цветы и безопасные симпатичные животные. И человек там не знает ни забот, ни печали, ни старости.
Я помню, в детстве меня послали в эвакуацию к бабушке под Владимир. Она, видимо, очень уставала, но мы требовали от нее сказок. «И вот пришел Иван-царевич в райский сад. Птицы поют, ароматы пахнут», – говорила бабушка и засыпала. «Ну, а дальше-то что?» – теребили мы ее. «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой». – «Бабушка! Откуда там Сивка-бурка?» Так я и не знала ни одной сказки до конца. Но ощущение теплоты печки, бабушкиного голоса, детской уверенности, что я «пуп земли», осталось в моей памяти навсегда.
Чтобы утешить себя – я ухожу в детство. Детство – синоним рая. Рай – это Сад!
«Я вышла в сад, но суть не в этом, а в слове „сад“»… – опять Цветаева.
Зритель должен воспринимать вишневый сад не как реальное поместье, а как символ утраченного счастья. Рая. Детства. Может быть, у кого-то этого и не было, но мечта об этом живет в каждом человеке.
Петя Трофимов кричит: «Вся Россия наш сад!»
В конце 1880-х годов Чехов написал «Степь», где главным героем стала «степь, которую забыли». И в «Вишневом саде» герой – это вишневый сад. И здесь и там, и степь и вишневый сад – это скорее символы.
Бунин упрекал Чехова, что в России таких огромных вишневых садов не было, и если часть сада была вишневая, то где-то в глубине сада, и ветки вишневых деревьев не лезли в окна, как в пьесе.
Анатолий Васильевич Эфрос, задолго до нашей постановки «Вишневого сада», писал в «Продолжении театрального рассказа»: «С появлением чеховских пьес эта бунинская правда (а быть может, он в чем-то и прав) переставала казаться правдой. Теперь такие сады в нашем сознании есть, даже если буквально таких и не было».
А Толстой говорил, что «тургеневские барышни» появились после того, как их описал Тургенев в своих произведениях.
Хотя, когда читаешь воспоминания современников Чехова, то никто, кроме Бунина, не писал, что таких больших вишневых садов не было. А одна дама, например, вспомнила, что ее мать владела имением в Миргородском уезде на Полтавщине, что это имение было богато вишневыми садами. И ее мать якобы часто говорила с молодым Чеховым и рассказывала о красоте цветущей вишни.
Время написания Чеховым своих пьес называется временем символизма в искусстве. В «Трех сестрах» у Чехова Москва – это тоже скорее символ воспоминания, детства, надежд и безнадежных чаяний.
* * *
26 мая к работе подключился Высоцкий. Приехал с бородой. Смеется, что отрастил ее специально для Лопахина, чтобы простили опоздание. Рассказывал про Мексику, Мадрид, Прадо, Эль Греко. Объездил полмира.
С Высоцким опять начинаем с начала. Опять в тексте открывается что-то новое. Например, когда Аня с возмущением и ужасом рассказывает Варе о парижской жизни – «Мама живет на пятом этаже», «Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы». И вдруг Аня срывается от усталости на крик, почти на истерику: «И зачем ты навязала мне Шарлотту!» Почти всю сцену Варя не слушает, она занимается делом, подбирает разбросанные вещи – подушки валяются на полу. Но когда Аня рассказывает, как у мамы было накурено и неуютно, – Варя стихает. Им обеим жалко Раневскую. Мама приехала несчастная. Они это понимают. Надежды никакой нет. «Дачу возле Ментоны она продала, у нее ничего не осталось». Лопахин, проходя, слышит эту фразу, шутливо блеет: «Ме-е-е» – мол, я спасу, я знаю способ, мол, это мой сюрприз, – Варя и Аня пугаются его. Реакции неадекватны, нервы обнажены. О жениховстве Лопахина говорится между прочим – об этом в доме говорят часто – это не новость. И вдруг Аня – на радостном крике – забыла сказать! – «А в Париже я на воздушном шаре летала!» И они обе закружились-закружились, взявшись за руки. Как в детстве.
Действие катится все стремительнее и стремительнее. Раневская пьет кофе как наркотик (точно так же – как наркотик – в «Эшелоне» Эфрос заставит девочку читать книжку), а тут еще некстати телеграммы из Парижа. Не выдерживает напряжения Аня – уходит, потом Варя. Конфликт между Раневской и Лопахиным завершается предложением денег. Бестактно! Хам! Одна трезвая фраза в этом ералаше – Шарлотты: на просьбу показать фокус она говорит, что в это время надо спать, а не заниматься бог знает чем!
Иногда сдерживаемое страдание вырывается криком: «Гриша! Мой мальчик!.. Гриша!.. Сын! Утонул! Для чего? Для чего?» – а это спрашивать надо очень конкретно: почему именно у меня такие беды? В первом акте почти у каждого персонажа от напряженного ожидания приезда и усталости есть сцены почти на истерике.
Паника Гаева. Сцена его с Варей и потом с Аней. Растерянность и паника. Растерянность детей – что делать? И паника взрослых – спасения все равно не будет.
Очень трудный кусок – монолог Раневской «о грехах». Здесь не нужно прикрываться маской беспечности. Слова истинные. На открытом нерве. Но монолог надо готовить уже с прихода из ресторана – раздраженно бросает Гаеву и Лопахину: «И зачем я поехала завтракать… Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом!» – ударение – мылом! Как будто вся беда в этом. Срываться на пустяках, а то, что ярославская бабушка пришлет только «десять-пятнадцать тысяч, и на том спасибо», – говорить легко, беспечно. Но даже Лопахин не выдерживает напряжения и тоже срывается на Гаеве, кричит ему: «Баба вы!»
Фразу «Уж очень много мы грешили…» Раневская говорит медленно, раздумно, про себя и обо всех, о всей нашей нескладной и несчастной жизни. И начинает монолог так же медленно, но потом абсурд ее жизни ее же захлестывает, и она криком вырывает отдельные эпизоды жизни и бросает их Гаеву и Лопахину. Гаев постукивает палкой – нельзя при постороннем так откровенно, Раневская не обращает внимания, продолжает и потом очень конкретно обращается к Богу и просит его: «Не наказывай меня больше!» Слышится музыка, Раневская сразу же переключается на нее (все переключения очень легкие, неожиданные), предлагает зазвать музыкантов, «устроить вечерок».
Второй акт кончается пугающим всех страшным, непонятным звуком, на который отвечает легкой песней Петя: «Что нам до шумного света! Что нам друзья и враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви…»
Я помню, как-то в конце мая мы репетировали четвертый акт. Все позади. И беда, и болезнь, и ожидание, и смерть. Как после похорон, когда домашние вроде бы занимаются своими делами, приглашениями, разговорами, но голоса еще приглушенные, оперирующий врач (Лопахин) чувствует себя виноватым – от этого излишне громок и распорядителен. Суета сборов. Отъезд. Только иногда среди этой суеты – вдруг отупение, все сидят рядом, молчат. А потом опять дело… дело. Суета. И опять на своей «клумбе» собрались осиротелой кучкой. Все вроде бы буднично. И лишь в финале прорывается настоящий, как будто только что осознанный последний крик Раневской – прощание над открытой могилой: «О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»
Тема «Вишневого сада», во всяком случае нашего спектакля, это не прощание с уходящей дворянской культурой, а тема болезни и смерти. Это не быт дворянский умирает, а умирает сам Чехов.
Туберкулез медики называют «веселой болезнью». А сам Чехов часто цитировал Ницше, сказавшего, что больной не имеет права на пессимизм. Туберкулез обостряет ощущение окружающего. Озноб. Умирают в полном сознании. И в основном – на рассвете, с воспаленной ясностью ума. Весной. И первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает весенним рассветом.
«Я умираю. Ich sterbe» – последние слова, сказанные Чеховым перед смертью. «Жизнь-то прошла, словно и не жил, – говорит в конце „Вишневого сада“ Фирс. – Я полежу… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недотепа!..» И далее ремарка – «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Это последние слова, написанные Чеховым в «Вишневом саде». Как пророчество тех своих последних сказанных слов… И эту последнюю ремарку Эфрос выполнил абсолютно точно в спектакле, хотя до этого просил не обращать внимания на ремарки, а играть иногда «наоборот» – чтобы уйти от штампов.
Судя по моим дневникам, мы работали невероятно быстро. И в какой удивительной рабочей форме был в то время Эфрос!.. От тех дней осталось ощущение праздника, хорошего настроения, бодрости и нежности друг к другу.
* * *
Весь июнь 1975 года – каждодневные репетиции с остановками. Кое-какие места спектакля чистятся и уясняются. В это же время – поиски грима и костюмов. Мне по эскизу Левенталя должны были сшить дорожный корсетный костюм, который моя Раневская в нашем спектакле никогда бы не надела. Эфрос разрешил мне сделать с костюмом что хочу. Левенталь, по-моему, этим был недоволен, но его не было на репетициях, и он не знал моей стремительной пластики и закрученного ритма.
Меня мало волнуют декорации, и приспособиться к ним я могу очень легко. Возможно, это происходит оттого, что я много лет снимала комнаты и жила по чужим людям, где нельзя было ничего менять. Я жила в комнатах, где на стенах висели фотографии незнакомых людей, и я их или не замечала, или «разгадывала» их характеры, привычки, судьбы глазом равнодушного, хотя и любопытного постороннего. Я жила в комнатах и с вышитыми наивными кошечками, и с павловской мебелью. И это почти никак не отражалось на моем состоянии. А вот от костюма, от того, во что я одета в настоящий момент, зависит у меня многое и в жизни. И в кино, и на сцене. И почти всегда у меня из-за костюмов бывают столкновения с художниками.
Обычно эскизы костюмов делают «ансамблево», без учета индивидуальных особенностей. Например, Левенталь предложил для Раневской костюм того времени: жесткие отвороты, корсет и т. д. Пришлось почти перед самой премьерой шить свободное, легкое платье, может быть, и не по журналам мод того времени, но такое, которое, я убеждена, могла бы носить моя легкомысленная, грешная, бездумно щедрая, одинокая Раневская. «Мороз в три градуса, а вишня вся в цвету…» – та же незащищенная беспечность.
(Я помню, как ко мне после спектакля подошла Вивиан, француженка, бывшая жена Андрона Кончаловского, и спросила: «У вас есть выкройка этого летящего белого платья? Мне так хочется его повторить!» И я призналась: «Нет выкройки, потому что мы просто накалывали перед зеркалом и отрезали лишние куски. Это была сплошная импровизация…»)
Костюм меня часто спасал и в театре, и в кино, и на концертах. Художнику по костюмам достаточно было не сопротивляться моей фантазии – ведь она шла изнутри, от роли, – и профессионально осмыслить мои смутные желания. Мне очень легко работалось, например, с Аллой Коженковой в «Квартете» и в «Медея-материале» по Хайнеру Мюллеру (оба спектакля поставил греческий режиссер Теодор Терзопулос). С Аллой мне не важно было, кто сказал первое «а», главное – она меня очень понимала, а я ей безоговорочно доверяла. Она же мне помогла с моими костюмами и для Раневской.
Иногда я брала какое-нибудь платье из «большого Дома» (то есть от знаменитого кутюрье), как это было в ахматовском «Реквиеме», когда меня спас Ив Сен-Лоран.
Когда я впервые читала «Поэму без героя» Ахматовой в «Новой Опере», меня спас знаменитый японец, кутюрье Issey Miyake – я взяла его черное гофрированное платье и его же гофрированную золотую накидку.
Костюмы для меня – как маски в древнегреческом театре. Это не только «визитная карточка» персонажа, это еще и кураж – вот, мол, как я придумала!
В молодости мы с мужем жили очень бедно, но я все равно старалась одеваться необычно. Я даже придумала себе какой-то собственный стиль. Тогда он возникал из ничего, из энергии молодости. Переезжали с квартиры на квартиру со всем имуществом – двумя чемоданами, в которых были мои платья. На дорогие чулки не было денег, а надеть дешевые просто не приходило в голову, и когда мы собирались в гости, я рисовала модные тогда швы на ногах – за их ровностью следил муж.
27 мая 1975, вторник. Репетиция «Вишневого сада». 3-й акт на сцене. Эфрос сказал, чтобы Высоцкий не играл Лопахина с бородой, что это не обычный купец. Володя сказал, что старался долго растить эту бороду, лелеял ее специально, чтобы его простили за отсутствие на начальных репетициях.
В начале третьего акта сплошная беспечность. Музыка. Гитара. Оркестрик. Все танцуют. Например, в 3-м акте после бурного (почти ссора) разговора с Петей, Раневская: «Ну, Петя… ну, чистая душа… я прощения прошу… Пойдемте танцевать…» (Танцует с Петей.) Тут же прибегает Аня с сообщением, «что вишневый сад уже продан сегодня», и на вопрос Раневской: «Кому продан?» – отвечает: «Не сказал кому. Ушел». (Танцует с Трофимовым.) Симеонов-Пищик Раневской: «Позвольте просить вас… на вальсишку, прекраснейшая… (Любовь Андреевна идет с ним.) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас… Возьму…» (Танцует.)
И это в 3-м акте, где напряжение от ожидания торгов доходит до апогея. Пир во время чумы.
Беспечность и бессмыслица жизни. «Непонятная глубокая бессмыслица жизни», – записал Ин. Анненский.
Кстати, у Анненского есть стихотворение «Старая усадьба»:
Тени дома. Сердце радо. А чему? Тени дома? Тени сада? Не пойму.У символиста Анненского здесь за темой «дома» встает вся Россия, которая в конце концов (после 17-го года) становится только тенью.
Но «Вишневый сад» не только о неизбежном переходе одного времени в другое («Да! Время идет!»), но и о бесконечности, о неприспособленности к другому миру, о пассивности борьбы за существование.
История человечества идет, не глядя на красоту «вишневого сада». Полезность – вот девиз прогресса. Рим сменил в свое время «вишневый сад» греков, французская революция погубила красоту налаженной жизни аристократов, турки закрыли византийские храмы и т. д., и т. д. Кто-то даже сопротивляется, в отличие от Раневской и Гаева, но смена формаций от человека не зависит. Выживают приспособленцы. Конформисты.
* * *
«Вишневый сад» был написан Чеховым на смене двух веков. Помещичий уклад XIX века и бурное начало экономического подъема XX века. И в этом контексте «Вишневый сад» с одной стороны – символ беспечной патриархальной прекрасной жизни, а с другой стороны – «Вишневый сад» – где все на продажу, где можно подсчитывать десятины, о которых так скрупулезно в свое время писал Александр Минкин, и разбивать на них дачные участки. И в зависимости от идеи и воли режиссера можно было поворачивать спектакль в поэтическую символику или с убийственной точностью подсчитывать эти десятины, «реалистически отображать действительность». Эфрос выбрал первый путь, и здесь неуместны подсчеты, сколько денег мог дать Лопахин взаймы или сколько он в конце концов заплатил за сад. Нет рационального решения. Варя говорит, что только чудо может спасти имение.
С одной стороны, Раневская признается, что «без вишневого сада я не понимаю своей жизни», а с другой стороны, палец о палец не ударяет, чтобы его спасти. Это что – упрямство? Или спасение своей души? Кто-то из театроведов эту неразрешимую проблему называет «комплексом сада». Это состояние души знакомо почти каждому, когда вопреки логике и выгоде человек поступает по-своему.
Я это хорошо понимаю. После смерти мужа я осталась одна в большой квартире на Тверской улице. В кабинет мужа я до сих пор не захожу, там только вытирается пыль и поливаются цветы. Друзья советуют продать мою большую квартиру (старую, где последний косметический ремонт делали лет 30 назад), купить квартиру в новом, благоустроенном доме, нанять шофера, путешествовать и ни о чем не думать. Логично. Разумно. Выгодно. Но я этого делать не буду, потому что тогда я стану другой. Может быть, так и надо начинать новую жизнь? Некоторые так и делают. А другие не могут. Не могут – и все! И я тоже – не могу.
Вишневый сад продать было бы выгодно. Он был недалеко от города – «видно в ясную погоду». Во-вторых, «возле прошла железная дорога». Итак, «местоположение чудесное, река глубокая» – все сводится к одному: чтобы спасти вишневый сад, его надо продать, и сад разобьется на дачные участки.
На что Гаев возмущается: «…какая чепуха!» А Раневская: «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич», – не хочет понимать.
На моем экземпляре «Вишневого сада» записаны на полях первые разъяснения Эфроса по поводу Раневской. Во-первых, зачеркнуты все ремарки Чехова.
«Детская, милая моя, прекрасная комната…» – на полях записано со слов Эфроса: «Сентиментальность? – Расчет + сердечность».
Когда Раневская выходит во второй раз, продолжая, видимо, разговор с Гаевым: «Как это? Дай-ка вспомнить… Желтого в угол! Дуплет в середину!» У меня здесь на полях записано пожелание Эфроса, что на холм, на могилы и кресты только косится боковым зрением. Деликатно. Поэтому села на авансцене на детский стульчик. И все очень нервно. Резко Варе: «Ты все такая же, Варя». А потом оказалось, что все кругом не так уж плохо. «Мне хочется прыгать, размахивать руками».
Чехов не любил «мерихлюндии». Поэтому, когда Варя говорит: «Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!» или Гаев: «Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи». Раневская подхватывает это, ерничая, и ее реплика звучит, как чужие плохие стихи: «О мое детство, чистота моя!.. После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя». Она как бы издевается и над своими чувствами, и над сентиментальностью других. Передразнивает их.
28 мая 1975, среда. Репетировали 3-й акт. Потом прогнали 1-й и 2-й акты. Очень большие провалы по ритму. Высоцкий сбрил бороду, сказал, что и сам рад от нее избавиться. Кое-что успеваю записывать за Эфросом.
ЭФРОС. «Вышла Раневская, встала у рампы, вроде бы в дверях своей детской, сзади сгрудились все остальные. Тут же и Фирс с чашечкой кофе. Идет большой разговор, но я наблюдаю только за ней. И все живут только ею, понимая, чтó для нее этот приезд.
В маленькой кучке людей и Лопахин, и Гаев, и Пищик, Аня и Варя. Все понимают одно: она приехала прощаться. С этой жизнью покончено. Хотя еще будут какие-то страсти кипеть, будут скандалы и споры, надежды, но где-то, уже понятно, все решено. И вот все стоят, и мы наблюдаем, как она держится. Так выходит больной от врача, узнав ужасный диагноз, а вы идете с ним и болтаете о погоде, городе и витринах.
Она говорит о комнате, где когда-то спала, о том, как ехала в поезде, что любит кофе, но все понимают, что дело совсем в другом. И Аня с Варей уходят, не выдержав напряжения.
Тут важна сердцевина, точечка внутреннего раздражения. И ради этого можно забыть другие подробности быта и жизни. Проскочить мимо того, что не нужно, не важно, и попасть в эту сердцевину.
Не слепок жизни, а смелый росчерк очень важного чувства и важной мысли.
Опасность и беспечность.
Беззащитность.
Быстротекущая жизнь и „недотепы“.
Неумелое сопротивление надвигающейся беде.
Уходит прошлое, а будущее не наступило».
Эфрос в своей книге потом напишет: «Пройдя второй акт, я спросил актеров, в чем, по их мнению, разница между первым и вторым актом. В конце концов мы решили, что первый в основном связан только с приездом Раневской и ее встречей с домом. А во втором требуется немедленный ее ответ на вопрос, что делать с имением. И оттого, что она так или иначе уходит от этого ответа, на наших глазах сгущаются тучи, сгущаются за эти двадцать минут. Она призывает на себя эти тучи, эту грозу. Воздух становится иным. Сама природа как бы предупреждает об опасности. И наконец этот звук, доносящийся с неба».
* * *
Соединение Эфроса и «Таганки» в «Вишневом саде» дало неожиданный результат. Уже в декорации Левенталя было это неожиданное соединение. Я помню, когда принимали на художественном совете макет Левенталя, было много сомнений.
Вспоминая свою работу над «Вишневым садом», Эфрос потом напишет в своей книжке: «Как будет интересно, когда макет Левенталя станут принимать Любимов и Боровский. Это, по-моему, будет хорошо, когда показная стихия таганковских актеров ворвется на репетиции в эту нежную ткань. Только притом надо, чтобы была эта нежная ткань, чтобы была эта боль, а тогда пусть будет и таганковский Гаев, и таганковская Шарлотта. Может быть, и получится чеховский „психологический балаган“.
Вымирающее племя чудаков. Маленькое, беспомощное, несчастное стадо. Но на Таганке это не будет сентиментально. В центре, на пятачке, и сад, и плиты могил, и даже мебель – весь натюрморт их прошлой и настоящей жизни. Оплот их жизни. Они часто все усаживаются там, как в засаде.
Шесть тысяч маленьких белых цветков сделают в мхатовской мастерской для вишневых деревьев на Таганке.
Когда Лопахин в последнем акте разольет по стаканам шампанское, бутылку он бросит туда же, на этот пятачок, как бросают что-то ненужное в кучу хлама. Только эта куча хлама должна быть красива. Это должен быть именно натюрморт. „Буквальный“ хлам стал банальностью на театре. Все теперь делают на сцене „кучу хлама“. Югославский директор театра рассказывал, что из какой-то страны приезжал в Белград театр, требовавший срубить для спектаклей девяносто сухих осин, а пол покрыть шестью тоннами настоящей земли. Все это – реакция на прошлый театр, и она понятна, но все на свете имеет конец. Так говорится, кстати, в том же „Вишневом саде“».
* * *
Вишневый сад, когда не цветет и без листьев – уродлив. Маленькие, кряжистые, больные деревья. А у Чехова он еще и не приносит дохода, потому что утерян способ обработки вишен. Сад экономически не выгоден. Но когда вишневые деревья цветут – Красота! Нежные цветочки быстро сдуваются ветром – двойная Красота! А потом он уже никому не нужен. Следовательно, красота временна и в конечном счете бесполезна. Но как скучно жить без красоты и бесполезности!
На сцене красоту цветущего вишневого сада и его облетание (как снег!) хорошо передавать белым цветом. У нас и одежда сцены, и наши костюмы были белыми (кроме черного пальто Лопахина и костюма Фирса), а «облетание» передавалось развевающимися белыми легкими кулисами (как занавески на открытых окнах) – за кулисами стояли ветродуи. В спектакле у Стрелера тоже и сцена и костюмы были белыми, а легкость создавало огромное белое (почти прозрачное) полотно, нависающее над сценой. На нем были разбросаны листья от деревьев. И само полотно иногда вздрагивало, как вздрагивали бы деревья, когда их рубят.
Белый легкий цвет и движение – вот символ цветущего вишневого сада. Все остальное уже детали. Красота мгновения!
В Японии, когда цветет сакура (почти те же вишневые деревья), люди специально приходят с маленькими ковриками, садятся под деревья и любуются ими сколько можно. Надо успеть впитать эту красоту, чтобы она осталась в душе, а потом невзначай вспомнить в течение года. Японцы гордятся своей любовью к эфемерной красоте. Для них здесь корень благородства. Человек, который ценит эту эфемерную красоту, никогда не поступит гнусно.
Как-то я была в Японии в конце лета, жила в гостинице, где из окна было видно поле для гольфа, и посередине этого поля росло огромное дерево – сакура. На ней были маленькие плоды. Я попробовала – похоже на что-то среднее между вишней и черемухой. Вкусно. Я повадилась ходить к этому дереву «по сакуру». На меня удивленно косился японец, что следил за ухоженностью поля. Как-то я его через переводчика спросила: «А вы разве не едите ягоды сакуры?» Он ответил: «Нет». – «А почему?» – настаивала я. «Потому что не едим», – сказал он твердо.
В японской поэзии много стихов про сакуру. (Иногда переводится как вишня.)
Камнем бросьте в меня, Ветку цветущей вишни Я обломил.Однажды на гастролях в Токио мы играли спектакль «Таганки» «Преступление и наказание», где я играла небольшую роль матери Раскольникова, и вдруг на поклонах я вижу, как по проходу плывет сакура – огромную ветку сакуры мне прислал Куросава как память о «Вишневом саде».
Как же это, друзья? Человек смотрит на вишни в цвету, А на поясе длинный меч.То есть красота и агрессия несовместимы. Кто не понимает красоту, тот обязательно возьмется за меч.
* * *
Легкие пробеги персонажей. Раневская передвигается так же легко, как и Аня. Костюмы белые, у некоторых чуть припорошенные серым, как тленом. Как старые кружева.
Белый прозрачный задник. На нем портреты предков и за ним, на просвет, спиной к зрителю фигура женщины с мальчиком. В середине сцены – клумба светло-серого цвета. На ней несколько вишневых деревьев, садовая скамейка с узорной чугунной спинкой, старое мягкое кресло, надгробья и кресты. Над авансценой свисает белая цветущая ветка вишневого дерева. Вот одежда нашей сцены в «Вишневом саде».
6 июня 1975, пятница. Репетиция «Вишневого сада». В зале сидела Раиса Моисеевна Беньяш. Она многое не понимает, хотя ей нравится. Я репетировала в брюках – она не могла понять почему, а для меня на этом этапе неважно, главное – чтобы уложился внутренний рисунок роли. Да и репетиция была в основном для ввода Высоцкого. Поражаюсь Высоцкому: быстро учит текст и на лету схватывает мизансцену. После репетиции Высоцкий, Дыховичный и я поехали обедать к Ивану. Володя как у себя дома. Рассказывал, как они с Мариной долго жили тут, как завтраки переходили в обеды… Домой отвез Володя – жаловался, что на всю жизнь осталось ощущение бездомности. И в детстве, когда жил то с матерью, то с отцом, то у друзей, потом, когда женился, с Люсей жили у ее родителей, а теперь вот совсем у чужих. Странное несоответствие поведения и слов. Рассказала ему, как шли репетиции, как надо тревожно играть. Он, слава богу, в хорошей форме.
А где и как живет Лопахин? В пьесе этого нет. Высоцкому это неважно. Он идет от себя. Очень мягок только с Раневской и срывается на остальных. А в третьем акте в монологе «Я купил» тянет длинные согласные звуки – как в своих песнях.
Интересную ремарку оставил Черчилль на полях конспекта своей речи: «Довод слабоват – надо кричать!»
Обычно громко говорят люди, которые не уверены, что окружающие услышат их слова и примут к сведению. Как, например, кричат дети. А их не слушают.
Лопахин только один раз срывается на крик – в монологе 3-го акта: «Я купил…»
Хорошо, что Высоцкий резко начинает 1-й акт. Поэтому после него истеричность и крики других воспринимаются правильно. Динамика поступков и конфликтность ситуации. Аня кричит возмущенно – «Мама живет на пятом этаже»!!! Гаев кричит Фирсу – «Замолчи»!!! Раневская – «Как ты постарел, Фирс»!!! На этих криках разрядка напряженности. «Солнце село, господа»!!! – «Да»!!! Не про солнце, а про потерю всего. Незначительные слова вдруг приобретают конфликтный смысл. Нервность передается от одного к другому. В эту тревогу надо включаться за сценой, до выхода.
7 июня, суббота. Черновой прогон «Вишневого сада». Эфрос первый раз сидел в зале. Потом – замечания. После репетиции Высоцкий, Дыховичный и я поехали обедать в «Националь»: забежали, второпях поели, разбежались. Я заражаюсь их ритмом. Мне это важно для «Вишневого сада». Я ведь домосед-одиночка, а Раневская совсем другая. Правда, мне не привыкать играть роли, не похожие на меня, но чтобы до такой степени, когда во мне нет ни одной черточки той Раневской, какую предлагает играть Эфрос! Полагаюсь на свое чутье и безошибочность Эфроса.
Высоцкий к Эфросу – нежен и внимателен. Хорошо играет начало – тревожно и быстро. После этого я вбегаю – мой лихорадочный ритм не на пустом месте. Если до моего выхода ритмом не закручивается начало акта – я получаюсь просто сумасшедшей и мои резкие перепады вычурны. Жукова – Варя, по-моему, излишне бытовит, играет неплохо, но сразу другой жанр, другой спектакль. Главное – стремительность. После репетиции, как всегда, замечания Эфроса.
ЭФРОС. «В природе бывает так, что воздух сгущается, кажется, вот-вот что-то случится. Но все равно, когда вспыхивает молния, ударяет гром и внезапно разражается ливень, это кажется неожиданным и невероятным. Все как-то фантастически меняется. И цвет всего, что вокруг, и запах. В „Вишневом саде“ такой момент наступает во втором акте, когда Раневская вдруг прорывается исповедью о своих грехах. Она просит Господа быть к ней милостивым, не наказывать ее больше. До этого все накапливалось и накапливалось, но было скрыто особой манерой. Раневская от всего защищается легкомыслием. Идет по самому краешку, уже и песок осыпается под ногами, а все легкомысленна. Но в какой-то момент вдруг, как ливнем, прорывается слезами и стонами. И начинается нечто неправдоподобное. Как в природе в тот миг, о котором я говорил. Фантастика. Вдруг откуда-то слышится оркестр. Раневская тут же просит организовать бал. Лопахин поет что-то из вчерашнего водевиля, затем насмешничает над Петей, произносящим небывалый по гневности монолог. Но тут же Лопахин произносит свой откровенный монолог, почище Петиного. Садится солнце. Как некий уродливый символ, проходит мимо Епиходов. Точно с неба раздается странный звук. Фирс бормочет, что точно так же было перед несчастьем. Пьяный Прохожий читает стихи Надсона. Лопахин, коверкая слова, вспоминает строчки из „Гамлета“. И наконец в последний раз он предупреждает всех, что назначены торги. Раневскую знобит, и все маленькой толпой уходят в дом».
Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей.
Воля – свобода. Свобода – несчастье. Свобода – это когда ты сам должен о себе заботиться и организовывать вокруг себя быт. Это потеря детства. Потеря счастья. Они не готовы к этой свободе. Они дети, которых выгнали из привычной жизни, из отчего дома.
Лопахин рассказывает о том, как можно вишневый сад разбить на дачи. А Фирс вспоминает, что когда-то люди знали прекрасный способ, как вишню сушить. Раневская спрашивает: «Где же этот способ?» Фирс отвечает с укором, что способ этот забыли.
Конечно, во всем этом так много смысла, что, кажется, произнеси как угодно текст, только чтобы слышно было, и вот уже смысл стал ясен всем. На самом деле чаще всего бывает иначе. Идет какая-то жизнь на сцене, актеры будто стремятся к ее сохранению, но смысл ее непонятен. Да, жизнь течет, но о чем она говорит, неизвестно.
Пускай Фирс глухой, но он глазами и кожей слышит. Он слышит и видит, что все идет прахом. Он даже знает, что все пошло кувырком именно «с воли». Тогда на месте все было, а теперь все «враздробь». А вкусная вишня – лишь часть того целого. От той, бывшей истины снова уводит Лопахин. Фирс это чувствует, даже если не слышит. Его рассказ о вишне – противодействие дачам. Недаром Гаев кричит Фирсу: «Замолчи!» Не потому, что старик мешает никчемным бурчанием. А потому, что в неясность Фирс вставляет что-то свое, обращая их к прошлому.
Но Фирс на окрик чуть обернулся и, промолчав, упрямо закончил про прелесть прежней жизни, про старый способ сушки и варки.
Никто не может теперь вернуть то, что было. Все предали старое, только не он; но он, к сожалению, бессилен.
ЭФРОС. «Все заботятся о Фирсе, все его жалеют, только и слышно – а Фирса не забыли отвезти в больницу? В конце концов все уезжают, а Фирс забыт. Ну, это как будто бы по вине плохого человека – Яши. А вот другой пример. Лопахин хочет взять в жены Варю и не когда-нибудь, а сейчас ей об этом хочет объявить. Зовут Варю, оставляют их вдвоем. Но ничего не получается, даже слова об этом друг другу не сказали.
В самый разгар, кажется, необходимых разговоров бесконечно врываются какие-то отвлекающие мелочи. Даже у очень близких людей, кажется, нет никакого желания объединяться, хотя бы на мгновение, для решения важного вопроса. Нет желания, или умения, или нет возможности. Все происходит, с одной стороны, как бы закономерно, но в то же время как-то случайно. И никто не может ничего предотвратить или остановить. Пищик все время одалживает деньги у людей, которые сами сидят без денег. Затем внезапно он разбогател, у него радость, но в это время Раневская уже уезжает, ибо сада нет, сад продан за долги. Пищик может только беспомощно покряхтеть, да и то наспех, так как куда-то спешит. Отсутствие логики во всем. Несобранность какая-то перед лицом беды. Рассеянность. Разнобой. Кто в лес, кто по дрова. Никто ни с кем не может сговориться, и часто как бы по совершенно непонятным причинам. Беда, да и только. Но притом все происходящее достаточно смешно или, во всяком случае, забавно.
Удивительная стилистика».
* * *
11 июня 1975, среда. Втроем, с Высоцким и Дыховичным, ездили в Ленинград. Сегодня вернулись. Я опоздала на репетицию минут на двадцать. Эфрос ничего не сказал. Высоцкий и Иван, как ни странно, пришли вовремя. Обедали у Дыховичных. Раки. Вспоминали с Высоцким, какие прекрасные красные раки в синем тазу принес нам Карелов в Измаиле, когда мы снимались у него в «Служили два товарища». Много вспоминали. Хохотали. Вечером «Гамлет» – хорошо.
12 июня, четверг. Репетиция «Сада». Высоцкий быстро набирает, хорошо играет начало – тревожно и быстро. После этого я вбегаю – я как бы подхватываю этот ритм. Вечером 600-е «Антимиры». Вознесенский читал после нас.
13 июня, пятница. Утром репетиция. Прогнали все четыре акта. Очень неровно и в общем пока плохо. Смотрела Наташа Рязанцева – ей понравилось. Днем продолжение собрания. Любимов кричал, что покончит со звездной болезнью у актеров… Вечером «Гамлет». С Володей друг другу говорим: «Ну, как жизнь, звезда?»
19 июня, четверг. Прогоняли для Любимова «Вишневый сад». Любимов смотрел вполоборота и недоброжелательно, ибо все его раздражало. От этого, конечно, мы играли отвратительно. Вечером – «Кони». Любимов зашел за кулисы, спросил меня, почему я играю Раневскую такой молодой, ведь она старуха. Я ему ответила, что Раневской, видимо, всего 37–38 лет (старшей дочери 17 лет). Он удивился, наверное, никогда не думал об этом. Спросил, почему такой загнанный у всех ритм – я что-то стала объяснять, он прервал и стал говорить про Чехова, но совершенно про другого…
ЛЮБИМОВ (замечания после прогона). «Начало самое (песня), мне кажется, надо петь от театра. Это работает на замысел, так как мы все тоже беспечны и так далее. И тогда ясно становится, что все дальнейшее – условность. Условное оформление – как бы дом, но и улица. Хотя меня многое тут смущает. Например, мороз в 3 градуса, а они все ходят в легких платьях и не играют, что им холодно. Я ведь должен все понимать, а эти вопросы мешают. Или, например, в 3-м акте после выхода Лопахина Антипов (Пищик) должен хотя бы подойти к Высоцкому – его ведь по голове ударили – и тогда только ему ясно, что пахнет коньяком. А так издали, через сцену даже милиционер не учует. Я за условность, но так уж совсем неясно».
На следующий день Эфрос нас всех собрал и сообщил (из стенограммы): «Ю.П. сказал, что ему было не слышно многих реплик. Ю.П. спросил про сцену с кофе для Раневской в 1-м акте. Ему было неясно, мол, почему пьет, как наркотик. Я реалистически не мыслю, у меня нет бытового оправдания, я мыслю настроенчески. Кофе для Раневской то, чем нужно закрыться. Ю.П. сказал: а нет ли в этом ломания? Может быть. Я ничего бы не менял, но сделал бы понятнее, раз есть вопросы. И еще. Алла, мне очень нравится, как вы играете, я это люблю, люблю такое искусство, а что будут говорить те, кто не любит этого, не любит искусство изломанное, гротескное – бог с ними. Я это не ощущаю как излом. Но другие могут в спектакле видеть не драму, а излом. Что же делать? Быть в очень хорошем настроении. Купаться, плавать в хорошем творческом настроении, и тогда будет объем. А кто этого не приемлет, то и пусть. Вот, например, в моем театре Дуров, который все делает в предельно нервном рисунке. Это отталкивало, а теперь его только таким и ждут. Это нужно просто знать, немного страшиться, а спасение только в спокойном, радостном настроении. Я ужасно люблю гротеск, но он должен абсолютно лежать на сердце. И не ради взвинченности выполнять его. Еще, Алла. Сцена с Прохожим очень хорошая. Но я впервые услышал от Ю.П. замечание: а верно ли она к нему относится – мол, должна быть брезгливость. Я хотел объяснить, что она идет тут навстречу опасности, готова к смерти в момент, когда мужчины испугались. Нужно, вероятно, помнить все время про смысл. Когда они смотрят друг другу в глаза, она думает, что ей все равно, она не боится. Они понравились друг другу. Это редкостно, но символически очень интересно.
Штернберг – Гаев. Сегодня вы сделали крен чуть дальше, чем нужно. Сделать нужно тоньше. Не разоблачать его.
Еще Ю.П. оказалось непонятным, почему Епиходов проходит с пистолетом, поет. Видимо, точно не был выдержан ритм, может быть, не нужно курить, а примериваться к самоубийству показно. Ю.П. сказал резкую фразу, я ее вам передам: „Ты хотел сказать, что они все идиоты и их надо уничтожить?“ Мы должны понять, что, значит, такой взгляд возможен. Острота, которую мы предлагаем, принимается в обратном смысле. Нам необходимо точно чувствовать, что мы хотим сказать. Это – я перед лицом опасности. Чехов скорбел, когда писал. Когда что-то из жизни уходит, это всегда ужасно. Надо эту клоунскую нелепость все время держать на уровне человечности и понятности публике. Нужно обязательно быть аккуратными с разговорами о будущем, не должно быть насмешки, а должна быть боль. Это ведь как истинно верующие говорят о Христе. Достаточно снять пафос и соблюдать меру. Вот вокруг беспомощного человека с остатками интеллигентности два человека. Один считает, что выход в искуплении (Петя), а другой, что в предпринимательстве (Лопахин). А среди них человек – не приспособленный к жизни.
Еще замечание Ю.П. – почему не спрашивают про Фирса, отправили ли его в больницу? Значит, они бесчеловечны? Я не знаю, как отвечать на такие вопросы всерьез. Но думаю, что тут опять слишком много суеты было, игра приспособлениями, не было оправдания рисунка. А вообще всегда нужно оставлять какую-то легкость, мне со многими людьми в жизни приходилось общаться, с очень разными, а это вы сами понимаете, что такое. Но за последние 10 лет я поссорился только с двумя актерами, и то не по моей вине. Любую аудиторию можно забрать, если она знает, что вы к ней расположены. Это целая школа жизни. Я часто выступаю и знаю, что такое брать публику. И вы знаете. Это хитрый секрет актера чувствовать ощущение зала. И сегодня вам можно было бы что-то изменить ради этого. Я обычно дома обдумываю пьесу, даже если нет определенных планов постановки. Лет 10 назад я пришел к Левенталю и объявил ему, как хотел бы поставить „Вишневый сад“. Кладбище, на могильных плитах сидят герои, и у них, как у клоунов, нарисованы брови и белые лица. Прошло много лет. И я сейчас еще острее чувствую: самое трагичное в жизни – это уходящее время. Это самое страшное. Чехов почти перед смертью писал свою последнюю пьесу. Она о том, что невозможно что-то наступающее предотвратить. Он почти спародировал уходящий кусок жизни и через смерть Фирса сделал такой реквием. Это вещь философская. Трагедия беспомощности перед лицом несчастья. На всякое искусство нужны любители. Мне один мой знакомый сказал: чтобы понять спектакль, нужна расположенность к тому, о чем говорится в нем. Есть вопросы абстрактные, а есть конкретные – я ими совсем не занимаюсь. Не знаю, что другим это бывает непонятно. В теме вырождения есть что-то драматическое, если не брать это по-глупому. Тогда нужно спросить, почему у женщин Модильяни шеи такие длинные. А сколько вопросов вызывают портреты (и вообще картины) Пикассо. Чехов не мог написать открыто трагедию, он ее прятал за комикованием».
24 июня 1975. Прогон. Впервые в окончательной декорации со светом.
ЭФРОС. «Сначала скажу, что меня не удовлетворило. Конечно, нервы, неорганизованность. Первый раз декорации поставили, это нужно было спокойно организовать. Это не было сделано, и сумятица раздражала. За свою формальную часть мне было стыдновато, надо поправить, и это легко сделать. Но смотреть не мог спокойно. В первых двух актах это не так мешало, а особенно в 4-м акте мешало – не повернут станок и была ерунда, шокировало многое. Для нормального ощущения мне надо как-то освоиться в декорации, найти верный тон оформления. Сцена ваша особая, надо пространство решать заново, но нужно время для этого. Многие места надо поправить, обжить этот станок. И смотрел я все через нервность. По внешней линии мне понятно, иногда даже думал, что неорганизованность – хорошо, есть какая-то актерская хлесткость, она хороша, но нужно делать ее со смыслом. Много хаоса, и в него некоторые из вас попадают, и тогда это, наверное, должно шокировать своей нехудожественностью. Это первое. Я вообще очень мало что на сцене поправляю. Все должно исходить из того, что внутренне сочинено, и тогда рождается ни на что не похожий стиль, как бы вольного решения. Но нужно обжить оформление. Когда ничего не было на сцене и вы сидели, мне нравилось. А сегодня что-то показалось вульгарным. Памятники упали, а вы спокойно сидите среди этого – это вульгарно. Как с этим справиться? Репетировать с остановками. С паузами между актами, чтобы немного все упорядочить. Нужно для этого 1–2 репетиции. Этим нужно заняться. Теперь второе. Были разные моменты впечатлений от вас. Многие места мне нравились, я им даже подчинялся, входил в это. Был внутренне спокоен, как зрителя это меня вовлекало. Это было чуть больше половины мест. Но некоторые места меня немного шокировали. Почему? Не знаю, верно ли я сформулирую. Какая-то, может быть, любительщина стала выпирать. В некоторых местах мы лупим напропалую драму, и это утомляет. Мне уже многое понятно, а мы режем туда же. Иногда было неловко оттого, что делалось очень уж все слишком.
Мне должно быть интересно смотреть, как вы существуете. Следить за вашей виртуозностью. За вашей игрой должно быть легко и приятно смотреть. Все должно развиваться. Одно за другим. Должно быть выражением необходимости, в которую мы поставлены. Тогда по крайней мере я бы вынес что-то существенное от встречи с вами, а так – я уже все знаю, вы все свои намерения выкладываете сразу. И мне неинтересно за вами следить. Был позыв на готовое, на результат. Как во всем этом развивать легкость, импровизационность, когда нет ощущения труда, а есть легкое самочувствие контакта? К этому надо стремиться. Должно быть в актере не заданное на репетиции, а то, что происходит именно сейчас. Тогда публика попадает в плен. А мы не развиваем и просто гоним дальше. Получается крутеж вне зрителя. У меня, сидящего в зале, нет продыха, отсюда нет удовольствия. Мы „крутим драму“, а мне хочется и посмеяться, нюансы отметить, чтобы не было этого жестокого, скрипящего танка заданности.
(Антипову – Пищику) – Феликс, ты очень равнодушен. В начале 2-го акта ты выходишь, и я ничего не понимаю, что за этой равнодушной формой. В глазах должно быть все-таки какое-то содержание. В чем-то я вам даже завидую, этому равнодушию, но у меня есть что-то другое, что же делать. Когда я смотрел „Кузькина“, я позавидовал вам, завидовал вашей спокойности. Но что делать, если я другой, у меня нервная система другая. Я уверен, что этот 3-й акт, бал, нужно делать именно так, но не механически. Допустим, когда Варя на Епиходова кричит. Я в зрительном зале не понимаю этого крика, потому что вы делаете это формально. А мы задумали, что люди кричат от того, что не понимают, что колесо истории катится. Мы знаем только свои дела. Поэтому постигать трудно, что конторщик может прийти играть на бильярде – это ужасно. Эта сцена колоссальна по значению. Каждый в зале, пусть не буквально, подсознательно, но должен понять, про что идет речь. Все время должно быть ясно, про что вы играете. Каждый в данную секунду должен быть человеком, который многое понимает. Например, мне очень нравилось место, когда Фирс говорил на балу, но вот уже вторую репетицию чувствую – не то, потому что уходит подтекст, уходит содержание. Неважно, зачем он вышел. Но у него такое лицо, что даже Яша это заметил. Состоялся разговор прошлого и будущего. Им не понять друг друга. Известные вещи делаются часто бессознательно. Вы вообще такие мастера подавать реплики. Это без юмора. Но представьте себе, как сложно публике здесь понять сложнейшую мысль через ерундовую реплику про способ варить варенье. В современной пьесе все просто, мы все это знаем, мы все – сослуживцы. В этой же пьесе все от нас далеко, хотя и проблемы в ней вечные. Фирс говорит, что раньше знали, что такое уют, тишина, вне шума, вне лязга. Вишню можно было есть вкусную. Вы это говорите, но это только текст, и я уверен, что 90 процентов публики не усечет, про что здесь играется эта сцена. Надо сделать так, чтобы пьеса была совершенно понятна по мыслям, по чувствам, это путь очень тонкой трактовки, своего чувства, своего текста, своей реплики.
Золотухин (Петя) только идет к результату. Допустим, его монолог. Надо переложить его на другое, чтобы сегодня было ясно, про что он думает. Текст буквально сегодня не воспринимается. Петя не хочет говорить на серьезные темы, поэтому говорит ерунду. Он не может найти, какими словами выразить, что чувствует. И наконец выкрикнул одно слово – „азиатчина“. И сразу сник. А потом за ним не декларации, а очень конкретный текст Лопахина, который уверен в своей правоте. Нужны внутренние переоценки того, как именно сегодня может прозвучать та или иная реплика или монолог.
(Полицеймако. А в чем смысл декорации?)
Я считаю, что у нас в русском театре за 50 лет сложились две тенденции в оформлении. Одна – это МХАТ, то есть интерьер, дом и прочее. То есть натуралистически реальное. И второе – то, что делает Боровский. Он это делает грандиозно, мастерски. А те, кто подражает ему, их много повсюду. Сейчас все делают на сцене что-то из досок и так далее. И „Вишневый сад“ так уже оформляли – в Таллине у Шапиро было. Мы попробовали немного иную условность. Хотелось сделать небольшой островок, где живет кучка обреченных людей».
* * *
Очень важно для роли первое появление. Какой акцент выбран для роли. У нас – легкое платье – «мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Я помню, Любимов меня укорял за это, он говорил, что Раневская – барыня – была в дороге, поэтому нужно дорожное платье. Но для меня главное – этот поэтичный образ беспечности.
Потом я много видела постановок «Вишневого сада». У Стрелера Раневская появляется как голливудская актриса в мехах. У Питера Штайна Раневская появляется как сомнамбула – она растеряна, не знает, как себя вести, и плывет как во сне. У кого-то, не помню, Раневская – немолодая женщина с испитым лицом, хриплым, прокуренным голосом. Одна Раневская всех целовала, другая – дама полусвета и т. д. и т. д.
Раневская уехала за границу, «бежала, себя не помня», чтобы не видеть эти места, где умер муж и утонул семилетний сын. В Париже Раневская, видимо, жила беззаботно, тратя деньги, не думая о будущем. Продала дачу возле Ментоны. Теперь, по словам Ани, «живет на пятом этаже… у нее какие-то французы, дамы, старый пастор с книжкой и накурено, неуютно». Денег совсем нет. Та же Аня рассказывает: «… у нее ничего не осталось, ничего… едва доехали».
Судя по фотографиям и небольшой пленке 49-го года, Книппер играла Раневскую барыней, уверенной, с прямой спиной. Не сломленной.
Раневская – женщина Серебряного века. Беспечность – их основная черта. «Европеянки милые» – как их назвал позже Мандельштам. В России – это Саломея Андроникова («Соломинка»), Олечка Судейкина; за границей – Сара Бернар или Айседора Дункан.
Они игнорировали поток жизни, потакая своим желаниям, хаотичным всплескам влюбленности. Они не подчинялись порядку «принятого».
Раневская не откликается на бесконечные телеграммы – «это из Парижа. С Парижем кончено». Равно как, наверное, не откликалась на телеграммы из России, говоря, наверное – «это из России. С Россией кончено». За ней в Париж едет 17-летняя дочь, уговаривает ее вернуться. А зачем? На что надеются? Значит, совсем плохо, если надеются на беспечную Раневскую.
Аня уехала на Страстной неделе в Париж. Они что думают, что как после Страстной недели идет Воскресение, так и у них все снова возродится?
20 июня 1975. Репетиция. Эфрос вчера после репетиции говорил еще раз с Любимовым. И потом в замечаниях все время возвращался к этому разговору с Ю.П.
ЭФРОС. «Я человек откровенный и скажу вам, что разговор с Любимовым был смешной. Было, как будто я формалист, а он – мхатовец. Я стараюсь работать сердечно, но слышу разговоры, что недостаточно тепло. Говорит это Любимов, значит, в этих словах есть резон. Например, он говорил про Пищика – Антипова в финале. Разве Пищик не понимает, что его землю англичане заберут? Чему он радуется? Я ответил, что ему все равно. Это не тема, социальной серьезной темы Чехов не ставил. Это ему безразлично, а небезразлично одно – какой-то уклад жизни закончится. Пищик знает все, ему будет скверно, когда эта компания исчезнет, он бесшабашный и добрый мужик. Все это страшно легкомысленно до тех пор, пока человек не понимает, что он остается один, их не будет больше в его жизни. Я объяснил это Ю.П., а он сказал, что этого не понял. Поэтому надо все это почувствовать, понять и сделать. Это нужно так здорово освоить, чтобы было понятно. Допустим, человек очень беден и вдруг выиграл 700 тысяч. Мы все в горе, но он вошел и нашего горя не видит, а раздает долги, лихорадочно, долго. Все это достаточно жутко. Тут актеру нужно получить удовольствие от импровизации, от игры. Он еще не понимает, когда ему говорят, что здесь несчастье. Мне показать это легко, у вас есть текст, и я полагаю – здесь дело в технике, в наработанности.
Есть искусство совершенно абстрактное, оно рассчитано на душу, даже на нервы. Оно очень резкое. Чем оно абстрактнее, тем оно грандиознее, теплее. Нам нужно быть циркачами в психологических вещах. Нужна высшая гибкость в сложнейшем психологическом деле. (Антипову). Это не тебе в укор я все это говорю, это мы с тобой вместе не доперли до ясности. Когда Пищик наконец понял, что они уезжают – огромная пауза. То переход от одного состояния души к другому, противоположному. Сколько это должно занять времени? Эмоция всегда идет на переходах. Перелом нужно ощутить, понять, временнó сделать. Проброс, скороговорка нужны только при условии соблюдения души, потому что при небольшом перекосе это становится просто суетней, крикливостью. Но расстраиваться не надо. Часто только после 20-го спектакля суть его начинает оживать на сцене. В „Трех сестрах“ я в свое время уже слышал такие упреки. Здесь есть определенная опасность. Сегодня сразу вы стали напористые, энергичные. Я всегда, даже на плохих репетициях, радуюсь, смеюсь, и тогда острые вещи становятся душевными. Как только я суров и вы в ответ тоже, то пропадает объемность. Ваши жестокость, напор, сухость мне надоели через 20 минут. Вчера я ругал вас за вялый ритм, но темперамент надо переводить в резкость внутренних оценок. Пусть даже отдача будет не сразу, но позже проявится и меня – зрителя – заберет в плен. Удобный домашний стиль – это одна крайность, вторая – быть острым и темпераментным.
Часто выполняя рисунок, актер теряет свое индивидуальное. Нужно успеть проживать все, не скрадывая углы, их нужно внутренне оправдывать. Антипов – Пищик, например. Здесь важна мысль, а она проста – добрый человек со стороны. Это, кстати, тема многих итальянских кинофильмов. Там есть такие соседи-добряки. Во МХАТе Пищика играл прекрасный актер Волков. Вы его даже не знаете. А я помню, что кто-то храпел у стенки и пил квас, но это душевно не воздействовало никак. Это было другое искусство. Мы играем по-другому, но это нужно прочувствовать. Это как болельщики при театре, есть такая категория людей, видимо, в каждом театре. Во время репетиций я постоянно вижу в зале каких-то людей (кстати, актеров среди них нет). Что нужно этим людям? Зачем они каждый день приходят сюда? Вот про них и нужно вам, Феликс, думать. Это интересная трактовка, она существенна. Сегодня изменились нравы. Тебе должно быть больно, что они все смотрят на тебя как на должника. А в конце у него – высшая радость, когда у них – высшее горе».
21 июня 1975. Очень хорошая вечерняя репетиция с Эфросом. Разбирали по кусочкам третий акт. Монолог Лопахина, ерничанье: я купил – я убил… вы хотели меня видеть убийцей – получайте. Часов до двенадцати говорили с Эфросом и Высоцким о театре, о Чехове…
Лопахин советует Раневской очень простой способ спасения. Но говорит не о спасении вишневого сада, а говорит как раз о его гибели: «Если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода… Вы будете брать с дачников самое малое по двадцати пяти рублей в год за десятину… ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут».
Лопахин придумал это и с нетерпением первооткрывателя ждет приезда Раневской, чтобы сказать ей об этом гениальном, как он считает, плане. Гаева он не ставит в расчет и поэтому эту акцию свою приберег для Раневской.
А они ему в ответ со смехом: «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное… так это только наш вишневый сад».
Говорят ему о Красоте. И какой Красоте! Потому что даже по расчетам Лопахина если 25 000 рублей разделить на 25 рублей, которые они будут брать за десятину, то получится, как известно, 1000. (Десятина – это 1,1 гектара.) То есть у них 1000 десятин этой Красоты (т. е. – одна тысяча сто гектаров). И как же эту Красоту можно разрушать! Конечно, никаких вишневых садов в 1000 десятин в России не было. Это символ. Поэтическая метафора. Лишнее доказательство, что к Чехову нельзя подходить с логикой арифметической линейки. И не надо забывать, что Чехов в «Вишневом саде» – поэт. Пробросы, намеки, скороговорки о несущественном. Это символизм. Блок, Андрей Белый и другие поэты начала века, вспомним это время и этих поэтов.
И потом какой абсурд! Увидеть рядом с собой не Красоту вишневого сада, а тысячи построенных дач, почти город. Рядом с дачей в Переделкино, которую мы тогда с мужем много лет снимали, разрастались дачи в «Мичуринце», и то мы роптали. А то тысячи дач! Ужас!
А в детстве я приезжала к бабушке в деревню под Владимиром. Вокруг «дали неоглядные» – поля, лес, речка. Красота! Потом стали строить дачи, но город все наступал и наступал. И деревня превратилась в улицу города. Я давно туда не езжу. У меня в памяти остались эти просторы. И, кстати, вишневые сады. Владимирская вишня очень вкусная!
* * *
Во время репетиций я не люблю читать статьи о пьесе, которую репетируешь, но тут я не удержалась и читала о Чехове и «Вишневом саде» все, что попадало под руку: и раннюю статью молодого Маяковского «Два Чехова», и Льва Шестова «Творчество из ничего», и Мережковского, и Чуковского… и все свои сумбурные мысли от прочитанного выложила Эфросу. И он, посмеиваясь, говорил, что из этого вовсе не следует, что так можно представить Чехова сегодня, выведенным на уровень современности, современного нашего понимания театра и жизни.
Притащила даже как-то письмо Мейерхольда Чехову: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне глупого „Топтанья“ – вот это „топтанье“ нужно услышать – незаметно для людей входит Ужас.
„Вишневый сад продан“. Танцуют. „Продан“. Танцуют. И так до конца… Веселье, в котором слышны звуки смерти. В этом акте что-то метерлинковское, страшное. Сравнил только потому, что бессилен сказать точнее. Вы несравнимы в Вашем великом творчестве. Когда читаешь пьесы иностранных авторов, Вы стоите оригинальностью своей особняком. И в драме Западу придется учиться у Вас».
Эфрос посмеялся и сказал – вот видите, как мы точно почувствовали Чехова.
Разговора «на равных» между режиссером и актером практически не бывает. У актера почти всегда «пристройка снизу», ученика – к учителю, подчиненного – к начальнику. А у Эфроса к нам, актерам, всегда было отношение взрослого к детям. Не свысока, а так – посмеиваясь: что, мол, с них возьмешь – дети! Он нам много прощал, не раздражался на нашу «детскую» невключенность или невнимание, но тихо переживал про себя. И мне такое отношение нравилось, ведь он так прекрасно знал театр, и естественно, что мои рассуждения часто вызывали у него улыбку. Правда, иногда он забывал, что мы тоже в театре не новички, выходим на сцену уже много лет… – но эта мысль придет ко мне потом, когда Эфрос, несмотря на мое предостережение, станет главным режиссером «Таганки». А сейчас, на репетиции «Вишневого сада» – все было прекрасно, радужно и влюбленно.
Лопахин тоже относится к персонажам «Вишневого сада», как к детям. Он их безумно любит, и они ему доверились, поэтому покупка Лопахиным вишневого сада и для них и для него – предательство. Он это хорошо чувствует. Как если бы сам продал этих детей в рабство. От этого – крик души в монологе, боль, которая потом превращается в ерничанье, – он закрывается и от себя, и от Раневской пьяным разгулом.
Монолог Лопахина в третьем акте «Я купил…» исполнялся Высоцким на самом высоком трагическом уровне лучших его песен. Этот монолог был для него песней. И иногда он даже какие-то слова действительно почти пел: тянул-тянул свои согласные на хрипе, а потом вдруг резко обрывал. А как он исступленно плясал в этом монологе! Как прыгал на авансцене за веткой цветущей вишни, свисающей с верхней падуги, и как пытался ее сорвать! Он не вставал на колени перед Раневской – он на них естественно в плясе оказывался и сразу менял тон, обращаясь к ней. Моментально трезвел. Безысходная нежность: «Отчего же, отчего вы меня не послушали?…» Варя раз пять во время его монолога бросала ему под ноги ключи, прежде чем он их замечал, а заметив – небрежно, как само собой разумеющееся: «Бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь…» И опять на срыв: «Ну да все равно… Музыка, играй… Музыка, играй отчетливо!» Любовь Лопахина к Раневской – мученическая, самобичующая. Абсолютно русское явление. У нас ведь не было традиции трубадуров, рыцарской любви, не было в русской литературе любви Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты. Наша любовь всегда на срыве, на муке, на страдании. В любви Лопахина, каким его играл Высоцкий, было тоже все мучительно, непросветленно. Его не поняли, не приняли, и в ответ – буйство, страдание, гибель. Середины не может быть. Как у Тютчева: «О, как убийственно мы любим,/ Как в буйной слепоте страстей/ Мы то всего вернее губим, / Что сердцу нашему милей!» Лопахин сам понимал, что сделал подлость. Он, конечно, уже не купец, но еще и не интеллигент. Когда поехал с Гаевым на торги, он и в мыслях не допускал, что купит, но сыграла с ним злую шутку его азартная душа: когда начался торг с Деригановым, Лопахин включился, сам того не желая: «Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось… Вишневый сад теперь мой!.. Боже мой, господи, вишневый сад мой!» Он не верит еще этому. Уже купив, все равно ищет путь спасения, мечется. Купил еще и потому, что интуитивно понимал, что эта «пристань», к которой он пытался прибиться (к Раневской), – ненадежна и не для него.
ЭФРОС. «Все, что касается взаимоотношений Раневской и Лопахина, по-моему, выглядит очень сильно. Страдания Лопахина из-за Раневской и его беспомощность в деле ее защиты – тоже очень хорошо. Она слабая и очень сильная. Она способна оставаться самой собой. После ее ухода Лопахин долго молча стоит, запрокинув голову, еле сдерживая слезы. Вообще тут очень ясно, как он ее любит. И как хочет ей помочь. Возраст Раневской делает эту любовь ощутимой и конкретной.
Она все время отсылает его к Варе, и он быстро-быстро соглашается: да-да, конечно, ему надо жениться, и обязательно только на Варе. А что ему еще ей сказать?»
25 июня 1975, среда. Репетиция «Сада» с остановками. Потом прогнали два акта. Замечания Эфроса. Пыталась за ним записывать. Как мне помогло, что в свое время я быстро научилась конспектировать лекции в Университете.
ЭФРОС. «Центр – Раневская. Любопытство к ней – к ее походке, одежде, словам, реакциям. Ведь она из Парижа! Начинать первый акт надо очень резко. С самого начала – динамика поступков и конфликтность ситуаций. Некоторые слова почти выкрикиваются. Незначительные слова вдруг обретают конфликтный смысл. Все развивается очень стремительно. Одно за другим. Не садиться на свои куски, даже если их трудно играть. Тогда просто проговаривать, но быстро. Смысл дойдет сам собой. Главное – передать тревогу. В тревогу надо включиться за сценой, до выхода. Нервность передается от одного к другому. От первой реплики Лопахина: „Пришел поезд, слава богу!“ до непонятного звука струны во втором акте. Но все должно быть легко и быстро. Как бы между прочим».
Многие не берут эфросовский рисунок, может быть, не успевают. После репетиции я – с бесконечными вопросами к Эфросу. Он терпеливо объясняет. Сказал, что для него главное в спектакле – Высоцкий, Золотухин и я… Сказал, что раньше пытался добиваться от актеров тех мелочей, которые задумал и считал важными, но потом понял, что это напрасный труд и потеря времени, что выше себя все равно никто не прыгнет.
Но я часто видела, как меняются актеры после репетиций. Например, тот же Золотухин совсем не мог сразу ухватить эфросовский рисунок в Пете Трофимове и как постепенно, от репетиции к репетиции, он становился тем Петей Трофимовым, которого задумал Эфрос.
Правда, есть актеры, то, что называется «бытовые» – они очень хорошо и естественно играют «жизнь». В «Вишневом саде» это была Таня Жукова, которая играла Варю, или Антипов – Симеонов-Пищик. Они никак не могли (вернее, и не старались) схватить эфросовский рисунок, а играли бытово – по-своему. Или Чуб играла Аню не так, как показывал Эфрос. Она легко бегала по сцене, быстро говорила, как нужно, но в ней не было того внутреннего трепетного нерва, который требовался в этой роли – ведь она дочь Раневской.
Не знаю, зависит ли это от особенностей таланта или от упрямства актеров…
Талант – это способность видеть мир под неожиданным углом зрения, способность удивляться вроде бы привычному, примелькавшемуся. Но в преломлении этих привычных вещей получается результат, который удивляет людей – «боже, это так просто, как же я этого не заметил».
Итак, первый период – дословесный, когда словами трудно выразить то, чего хочешь. Образ складывается пока в мыслях, ощущениях, предчувствии…
Хотя, конечно, о правилах игры, об отправной точке договориться нужно. Нужно договориться о взаимоотношениях действующих лиц между собой, с ходом событий.
Правильное распределение ролей при конкретном режиссерском замысле – это уже больше половины дела. У актера есть рамки своих возможностей, и, если он назначен на ту роль, которую не может или не хочет сыграть, все стройное здание режиссерского замысла накренится и не пройдет и двадцати спектаклей, как все поползет по швам.
К концу первого периода образ, неясно возникавший в подсознании, должен сложиться в конкретного, со своим характером и привычками человека.
Этот вымышленный образ может и должен быть шире, богаче, полнее, чем на бумаге и чем собственная актерская индивидуальность.
Раньше почти все свои роли я играла по принципу: «я в предлагаемых обстоятельствах». Мне казалось, что человеческая личность так многогранна, что в разных обстоятельствах человек ведет себя по-разному. И в современных ролях это, в основном, проходило. Но как быть с классикой? Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью. Хоть чувства человеческие, говорят, мало изменились за века, но средства проявления этих чувств в каждом времени другие. Изменилась человеческая психика, поступки, идеалы. Конечно, это не значит, что классика не имеет никаких точек соприкосновения с современностью. Важны проблемы, ради чего ставится тот или иной спектакль, играется та или иная роль. Поэтому не удивительно, что в какие-то годы возникает интерес к Шекспиру, в другие – к Чехову…
Итак, то, что написано, – это схема, скелет, слова, слова, слова. А надо потом видеть уже явь, плоть живого человека, обогащая его своим жизненным опытом, знанием истории, находя детали и внешние проявления, часто совершенно чуждые собственной индивидуальности.
После того как образ возник в фантазии, оговорен, определен, начинается второй период работы – чисто ремесленный – подчинение организма творческому замыслу. Этот период может быть очень коротким, если актер мастер, и может затянуться, если актер новичок, а может и совсем не состояться, если актер не «гибок» и его организм-материал не слушается его воли.
Помимо этого, идет другая техническая работа: когда закрепляется текст, запоминаются и отрабатываются мизансцены. (Кстати, запоминание текста и мизансцены идут как бы в параллель, текст запоминается ассоциативно. Я знаю наизусть несколько пьес, но текст их возникает у меня, только если я мысленно иду по мизансценам спектакля. Иногда, перед выходом на сцену, с ужасом понимаешь, что не помнишь ни одного слова роли, но – выходишь на сцену, срабатывает условный рефлекс, и слова возникают сами собой.) Итак – идет техническая работа, когда вырисовывается, уточняется и закрепляется рисунок роли, когда привыкаешь к партнерам и корректируешь свой замысел с общим замыслом спектакля; когда обсуждается костюм и обживаются декорации; когда часами стоишь в примерочной и завидуешь западным звездам, у которых, как говорят, есть для этого дублерши; когда иногда слезно убеждаешь гримера сделать такой парик, который видишь в собственной фантазии, а не тот, который они делают по журналам мод того времени, и им никак не втолкуешь, что журналы мод – это одно, а жизнь – другое, но они свято верят напечатанному… Повторяю, все это техническая работа, к чисто творческому процессу имеет небольшое отношение.
И только тогда, когда это осталось в тебе, когда это стало твоим, когда «забыто» все, что прочтено, увидено в чужом творчестве, когда забыты азы учебы, когда природа, традиции, стиль, чувство прекрасного, правдивость, ритмы сегодняшнего дня – растворились в тебе, вся проделанная работа над созданием образа опять ушла в подсознание, – только тогда начинается творчество. Третий период актерской работы.
Период, когда актер творчески преображает ремесло в искусство. Когда актер играет. Он как бы проецирует вымышленный и утвержденный в нем на репетициях образ зрителю. Через себя. Как слайд через проекционный аппарат.
Чем точнее и реальнее этот образ был увиден в воображении (первый период), чем совершеннее твоя «аппаратура» (второй период) – тем точнее этот образ будет воспринят зрителями (третий период). В понятие «игра» входит и восприимчивость зрителя, это мостик, невидимая нить, связывающая актера со зрительным залом.
26 июня, четверг. Репетиция «Сада» с остановками. Потом прогнали два акта. На репетиции сидел Элем Климов – ему это все скучно. Он, видимо, как и Любимов, не признает такого Чехова.
Опять интересные замечания Эфроса.
Многие не берут его рисунок, хотят делать по-своему. Эфрос показывал, например, возмущенную Аню: «Мама живет на пятом этаже… Накурено!.. Какие-то французы!» Она это Варе кричит, как будто Варя во всем виновата. Чуб в этом куске играет Аню медленно, со слезами, но эфросовского нерва нет. Но, может быть, Эфрос и прав – выше своих способностей актер не прыгнет. А некоторые актеры такие упрямые и самоуверенные!
* * *
Лопахин. «Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что была за картина!»
Лопахин тоже не чужд прекрасного. Раневская любит вишневый сад, а у него – маковое поле. Но! Он за него получил доход. А Красоту продать нельзя. То есть можно, но это уже другое отношение к красоте. Красота у него – изначальная выгода. У Лопахина не было счастливого безмятежного детства, как у Раневской. Он труженик.
У Чехова тоже не было счастливого детства. Он всю жизнь зарабатывал, чтобы содержать не только себя, но и всю свою многочисленную семью. Он, как и Лопахин, тоже знал, что сколько стоит.
Почему Лопахин не мог выкупить Вишневый Сад и подарить его Раневской, ведь на торгах он заплатил в 5 раз больше, чем Сад стоил до торгов? А почему сестры в «Трех сестрах», если уж так рвутся в Москву, не купили билеты и хотя бы не навестили Москву?
Потому что не об этом пьеса. И «Сад» и «Москва» – символы. Москва в «Трех сестрах» – символ, куда рвутся люди, но куда никогда не попадут.
Недостижимая цель.
Кстати, у Лопахина тоже есть эта «недостижимая цель» – Раневская. Она поразила его, когда ему было 15 лет. «Такая молоденькая, худенькая», – вспоминает он. А Высоцкий на этих словах еще и жестом одной руки делал этот зигзагообразный росчерк при слове «худенькая». Ради нее он разбогател, чтобы быть вровень, но у него хоть и «тонкая душа и пальцы, как у артиста», но душа не беспечная.
Чехов писал Книппер в 1903 году: «Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова…» И ей уже через два дня: «Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек». А Станиславскому в тот же день, 30 октября: «Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов…»
Почему Лопахин сомневается – узнает ли его Раневская. Ведь прошло всего 5 лет с тех пор, как она уехала. Но за эти 5 лет он разбогател, заматерел. «В белой жилетке, желтых башмаках».
Петя Трофимов про него: «Вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен», – заканчивает он шуткой, переходя с «вы» на «ты», и все смеются.
А Гаев про Лопахина роняет реплику походя: «Хам!»
Он, а не она, стал другим. А она? Изменилась, живя во Франции? Думаю, нет. Эта жизнь для нее привычна.
Но если предположить, что «любовник из Парижа» – это кто-нибудь из талантливых художников начала века, то, конечно, она изменилась. Аромат парижских кафе. У нее другие реакции, чем у обитателей «Вишневого сада». Они на нее смотрят, как на диковинного зверя, а иногда даже как на сумасшедшую.
У Чехова Лопахин пародирует шекспировского Гамлета. С самого начала у него в руках книжка, – может быть, Шекспир – правда, он заснул, читая ее. Варю посылает в монастырь, назвав ее «Охмелией». И попытки его рассуждений о жизни во 2-м акте тоже напоминают Гамлета.
Правда, потом, когда Высоцкий играл Лопахина, уже давно играя Гамлета, я у него не встречала этой сопричастности. Думаю, что это ему просто не приходило в голову. Только две роли у него оставались без дублеров – это как раз Гамлет и Лопахин. И он к этим ролям относился как-то очень особенно, личностно. Ревностно.
Кто-то из критиков потом заметил, что «Вишневый сад» начинается с того, что не разбудили будущего хозяина сада – забыли разбудить. И заканчивается пьеса тем же – забыли Фирса, многолетнего слугу имения. «Вишневый сад» закольцован гамлетовскими словами: «умереть, уснуть и видеть сны». Забыли разбудить, забыли отправить в больницу – правда, слуги – в первом варианте Дуняша, а в финале – Яша. Но забывчивость – свойство безразличия. Это как патина – она накрывает всех персонажей.
У Лопахина, конечно, есть то, что называют комплексом неполноценности. Он все время относится к себе критически. «Пишу я так, что от людей совестно, как свинья». С одной стороны, он родом из простых (отец торговал в лавке), но уже чуть ли не барин. Но он только подражает господам. «Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком», – говорит он про себя.
Слуги, как правило, подражают господам. Дуняша и Яша – это пародия на господ. Лопахин тоже подражает, но он это осознает и от этого сам себе отвратителен: «…а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд…»
Эти желтые башмаки хорошо использовал актер, играющий Лопахина в спектакле Питера Штайна, во 2-м акте «Вишневого сада». Когда они втроем возвращаются из города после обеда и Лопахин опять за свое, напоминая им о торгах, но его опять никто не слушает, тогда он снимает с себя башмак и, как Хрущев в свое время, чтобы заставить себя слушать, стучал на заседании ООН башмаком по трибуне – так и Лопахин у Штайна стучит башмаком, этим жестом хочет привлечь к себе внимание, но его опять никто не слушает.
Лопахин – деловой человек, для него время – деньги. Первая его реплика: «…Который час?» Он напоминает Гаеву и Раневской, которые занимаются воспоминаниями, что «время идет». В первом же акте он озвучивает дату продажи вишневого сада – «На двадцать второе августа назначены торги». Он все время прерывает начавшийся разговор, потому что думает о другом. Это, кстати, хорошо получалось у Высоцкого – некоторая отстраненность от происходящего. Конечно, все понимают, что «время идет», только одни от этого загораживаются, а Лопахин чувствует бег времени кожей. Когда Высоцкий начинал резко, быстро 1-й акт, эта мысль о беге времени была ясна, но когда он играл «в полноги», ритм падал, и все остальное казалось надуманным.
Лопахин предлагает Раневской дать деньги взаймы, но они не берут. Он мог бы, в конце концов, выкупив вишневый сад, подарить его Раневской, но не сделал этого, понимая лишний раз, что он чужой, а от чужих не берут.
Лопахин получил то, что ему не принадлежит от рождения. За этим, по справедливости, должно последовать наказание.
Чехов писал жене: «…для чего переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего не поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать».
Почему это не поймут? Они так же продают и покупают, как это делается во всем мире. Но дело в том, что они продают то, что им принадлежит в реальной жизни. И всякие символические покупки-продажи детства, «райского сада», действительно в начале века им еще неведомы. Пьесы Беккета появятся намного позже.
А если к продаже Вишневого Сада относиться с функциональными понятиями торгов, векселей, процентов – то лучше взять пьесу Островского «Бешеные деньги», например. Или «Банкрот». И тогда действительно главным героем пьесы был бы Лопахин. Но «Вишневый сад» не о нем.
Россия стоит на пересечении восточного мистицизма и западного прагматизма, как часто пишут умные люди.
Кстати, на пересечении дорог и случаются всяческие катаклизмы. Революции. Войны. Перевороты. Перестройки. Передел собственности. И это будет вечно продолжаться. У нас место такое – нам никуда не деться.
Первый акт начинается рассветом. «…скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник», – пишет Чехов в ремарке.
Лопахин спрашивает: «Который час?» – и Дуняша отвечает: «Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло».
Обычно в мае в 2 часа ночи темно, но если прибавить два часа разницы (мы не знаем, где этот сад – в средней полосе или на юге), то в 4 часа ночи начинается рассвет.
Я помню, в театральной школе Парижа мы с Табаковым проводили мастер-класс по «Вишневому саду». Табаков предложил Дуняше за неимением свечи войти в темную комнату, где предварительно погасили свет, с горящей зажигалкой. Студентам это понравилось – необычно, но когда она сказала: «Скоро два. Уже светло», – в комнате раздался смех.
Лопахин досадует на себя, что заснул, но срывается на Дуняше, кричит на нее. – «Хоть бы ты меня разбудила!» Он с ней почти вровень, во всяком случае, рассказывает про Раневскую ей. Вспоминает Раневскую – «…еще молоденькая, такая худенькая» и делает какой-то особенный акцент удовольствия, подчеркивая его жестом, очерчивая фигуру Раневской.
Но, с другой стороны, здесь нет диалога в привычном понимании («петелька – крючочек»). Каждый говорит про свое, не слушая друг друга.
Лопахин: «Пришел поезд, слава богу. Который час?… Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал. Сидя уснул».
Он не проспал, а его сморил сон от волнения и усталости.
* * *
27 июня 1975. Прогон «Вишневого сада». Опять смотрел Любимов. Вошел в зал хозяином, стал делать замечания осветителям. Вместо Высоцкого – Шаповалов. Очень трудно. Сразу быт, замедленные ритмы. Я на этом фоне излишне суечусь. Пытаюсь искусственно поднять упавший ритм. От этого излишняя экзальтация. Мы с Шаповаловым очень разные по манере игры. Получается два разных жанра.
Любимов позвал всех в свой кабинет. Замечания. Спор Эфроса – Любимова (Чехов – Толстой). Прекрасная речь Эфроса о Чехове-интеллигенте. Любимов, я видела, раздражался, но сдерживался. Они, конечно, несовместимы. И очень разные приоритеты. У меня были билеты на гастроли Шведской оперы на вагнеровское «Золото Рейна», я все время смотрела на часы и чувствовала, что опаздываю. Встала, извинилась и пошла. Любимов взорвался, стал кричать о равнодушии актеров, что им ничего не интересно, что больше не хочет разговаривать, и выгнал всех из кабинета. По-моему, расхождения с Эфросом у них серьезные. Я умчалась.
Эфрос позже напишет в своей книжке: «Работа на Таганке была тяжелой. Трудно приходить в театр с совершенно другим почерком. Только множество поставленных спектаклей позволило мне делать там что-то свое.
Пожалуй, не будь я известен им своими другими работами, я не был бы понят. Иногда я снова чувствовал себя, как когда-то на первых своих репетициях, когда начинал работать режиссером.
На Таганке другие привычки, другой характер репетиционной работы, совсем иная сцена. Манера игры другая.
Их частенько обвиняют в голой форме, но по сути – они гораздо больше реалисты, чем многие из нас.
Это вообще очень интересная тема. Они совершеннейшие реалисты, даже иной раз достаточно элементарные. Это парадокс, что именно я им казался формалистом. Моя условность иногда казалась им „неуловимой“, они привыкли к более весомой, открытой условности.
Но эта их условность жанровая, что ли. А тут, по их мнению, какой-то „абстрактный психологизм“.
Они беспокоились, не будет ли скучноват мой внутренний рисунок, не поддержанный многими сильно ощутимыми конкретностями. Впрочем, работали они прекрасно, но кроме актеров, занятых в работе, есть еще не занятые, и есть, наконец, в каждом театре, так сказать, „идеологи“ данного художественного направления. О, к ним в руки не попадайся, они что-то другое, не свойственное им самим, иногда принимают на стороне, но у себя дома им подавай только то, на чем они сами крепко стоят, хотя, возможно, в свое время они и это с трудом воспринимали. Но потом привыкли, уверовали в успех и теперь – ни-ни, чтобы ничего другого не было!
Прошу извинить меня, но я вспомнил, как однажды Крэг захотел поставить спектакль у Станиславского. И что из этого получилось. В продолжение этого своего шуточного сравнения скажу, что я почувствовал себя скорее Станиславским у Крэга.
Только своеобразие ситуации было в том, что „Крэг“, при всех своих ширмах, любил сочный быт, а „Станиславский“, при всей любви к психологизму, тяготел к непонятной Крэгу условности.
Одним словом, не разбери поймешь!..
Однако я хочу повторить, что мои сравнения шуточны.
Тяжелее всего было актерам, потому что выстоять в своем театре часто труднее, чем выстоять перед публикой. Ведь надо еще к этой публике прорваться через своих, не потеряв веры в то, что делаешь.
И все-таки, кажется, мы к ней прорвались».
* * *
Вишневый сад продан. Сколько же денег досталось его обитателям? Ярославская бабушка, как известно, прислала на торги 15 тысяч, а этих денег не хватало, чтобы проценты заплатить.
Лопахин. Я купил!.. Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой!
Итак, Лопахин на торгах заплатил за долги и сверх заплатил еще девяносто тысяч. Долг уйдет в банк, где было заложено имение, а сверх долга получат владельцы, т. е. 90 тысяч.
Раневская, уезжая в Париж, берет только с собой 15 тысяч, которые прислала бабушка, а остальные 90 тысяч, наверное, останутся Ане, Гаеву, Варе. Все справедливо.
90 тысяч для того времени были большие деньги. Например, в 1891 году Чехов пишет Суворину про имения, которые хочет купить: «Маленькие есть в полторы, три и пять тысяч. За полторы тысячи – 40 десятин, громадный пруд и домик с парком».
Так что на 90 тысяч вполне можно было купить другое имение. Раневская про себя говорит: «Я уезжаю в Париж, буду жить там на деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения – да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго».
За 10 лет до написания «Вишневого сада» Чехов пишет опять Суворину, что покупает имение за 13 тысяч. Но это недалеко от Москвы. Так что через 10 лет жизнь дорожает, и 15 тысяч не так уж и много.
Но дело не в количестве денег. Они не умеют с ними обращаться. Эти деньги уйдут так же быстро, как ушло их имение.
Точно так же дело не в количестве десятин в их имении, которые иногда подсчитывают некоторые критики.
Лопахин. Если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину. Ручаюсь чем угодно – у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут.
Кто-то скрупулезно подсчитал: это значит – тысяча десятин. А десятина – это 1,1 гектара.
Кроме сада и «земли по реке» у них еще сотни десятин леса.
Это такой простор, что не видишь края. Точнее: все, что видишь кругом, – твое. Все – до горизонта.
Казалось бы, что за беда, если режиссеры ошибаются в количествах десятин. Но тут не просто арифметика. Тут переход количества в качество.
На сцене все эти детали выражаются символом. Или белым цветом, или свисающей с колосников веткой цветущей вишни, или белым задником с портретами предков (как у нас в спектакле) и т. д. Это понятно. Но почему некоторых так интересуют цифры? Конкретность? В пьесах Островского – пожалуйста.
Александр Минкин с подходом арифмометра пытался разгадать «тайну» «Вишневого сада» в статье, которая печаталась в свое время в нескольких номерах газеты. Приведу отрывок из его «расследования»:
«Когда вдруг эти тайны разгадались, то первым делом пришли сомнения: не может быть, чтобы раньше никто этого не заметил. Неужели все режиссеры мира, включая таких гениев, как Станиславский, Эфрос…
Не может быть! Неужели тончайший, волшебный Эфрос не увидел? Но если б он увидел, то это было бы в его спектакле. А значит, мы бы это увидели на сцене. Но этого не было. Или было, а я просмотрел, проглядел, не понял?
Эфрос не увидел?! Он так много видел, что из театра я летел домой проверить: неужели такое написано у Чехова?! Да, написано. Не видел, не понимал, пока Эфрос не открыл мне глаза. И многим, многим.
Его спектакль „Вишневый сад“ перевернул мнение об актерах „Таганки“. Кто-то считал их марионетками Любимова, а тут они раскрылись как тончайшие мастера психологического театра.
Так стало невтерпеж, что узнать захотелось немедленно. Была полночь. Эфрос на том свете. Высоцкий (игравший Лопахина в спектакле Эфроса) на том свете. Кому позвонить?
Демидовой! Она у Эфроса гениально играла Раневскую. Время позднее, последний раз мы разговаривали лет 10 назад. Поймет ли, кто звонит? Разгневается ли на полночный звонок или подумает, что сумасшедший?… Время шло, становилось все позднее, все неприличнее (вдобавок отчество вылетело из головы), а подождать до завтра – невозможно. Эх, была не была:
– Алла, здравствуйте, извините, ради бога, за поздний звонок.
– Да, Саша. Что случилось?
– Я насчет „Вишневого сада“. Вы у Эфроса играли Раневскую и… Но если сейчас неудобно, может быть, я завтра…
– О „Вишневом саде“ я готова говорить до утра.
Я сказал про 15 тысяч, про бабушку, про дочерей и брата, которые остаются без копейки, и спросил: „Как вы могли забрать все деньги и уехать в Париж? Такой эгоизм! И почему они стерпели?“ Демидова ответила не задумываясь:
– Ах, Саша, но это же поэтический театр!
В голосе звучал упрек. Слышно было, что она огорчена таким низменным и примитивным отношением к „Вишневому саду“. Или это отношение Раневской, не знающей цены деньгам».
Я не хочу разбирать всю статью Минкина, в конце концов, «Вишневый сад» – пьеса настолько гениальная, что каждый человек в ней увидит свое отражение.
Но сошлюсь на Эфроса. Он переносил рисунок нашего «Вишневого сада» в Токио и потом написал в своей книжке подробно про репетиции с японскими актерами и свое там житье. Вот что он тогда написал: «Звонят из конкурирующего театра, где тоже ставят „Вишневый сад“. В чем, спрашивают, подавали раньше сельтерскую воду? По пьесе Фирс, оказывается, приносит эту воду. Я сказал, что не знаю. Раневская пьет кофе. Какие в то время были кофейники? Это они, видимо, так, по своему обыкновению, будут точно следовать чужому быту. Я, разумеется, тоже не знал, какие были кофейники, и никогда об этом не думал. А каковы правила игры на бильярде того времени? И что значит „желтого в лузу“? Тут мне совсем стало стыдно. Я, видимо, „абстракционист“, раз не интересуюсь бытовыми подробностями. Жаль, что уеду раньше, чем выйдет тот спектакль. Я бы понял тогда, нужно все это знать или не нужно».
Недавно я была в Японии, и там эфросовский «Вишневый сад» вспоминают до сих пор, а когда я спросила про «Вишневый сад», который был поставлен в Токио параллельно с Эфросом – никто не помнит. «Забыли!» – как сказал бы Фирс.
* * *
Справедливости ради надо сказать, что при написании «Вишневого сада» у Чехова менялось и отношение к пьесе. «Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет, и меняется она каждый день». И пишет дальше: «…в окно видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях».
«Талант сильнее меня», – как-то сказал мне Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Может быть, талант заставлял Чехова перейти от фарса к поэзии, от барыни-старухи к прелестной женщине Серебряного века? Блок написал «Двенадцать», а когда его спрашивали: «Почему? Почему впереди этих бандитов идет Иисус Христос?» – он отвечал: «Не знаю».
Приближение смерти, конца, и не только конца одной человеческой жизни, а конца целой эпохи XIX века, с патриархальными милыми помещиками, с беспечностью жизни, с садами и недотепами, с уходящим временем, а на смену неизвестно что придет. Не Петя же Трофимов со своими сентенциями «Вся Россия – наш сад» или «Здравствуй, новая жизнь!» и не Лопахин, который тоже обречен.
Finita la comedia – все кончено!
28 июня 1975, суббота. Прогон «Сада» для художественного совета. Они ничего не поняли. Выступали против. Много верноподданнических речей перед Любимовым…
В своей книжке Эфрос об этом обсуждении напишет: «На Таганке было обсуждение „Вишневого сада“ внутри театра. Актеры, не занятые в работе, довольно сухо приняли спектакль. По их мнению, это было местами скучновато, местами непонятно.
Об общем замысле говорили вежливо-абстрактно, что, мол, общий замысел понятен, но никто не порассуждал по поводу этого самого замысла. В чем он?
Только один случайно присутствующий на обсуждении литератор сказал, что жизнь „строит рожи“, а люди живут и не знают своей судьбы. И Чехов об этом печалится. Этот зритель, подумал я, умеет отвлекаться от частностей, понравившихся ему или нет, умеет отвлекаться от них и выстраивать в голове нечто общее.
„Но все же, – сказал он, – нельзя все время играть конечный результат. Судьба судьбой, но люди живут, они не просто пешки, марионетки в каком-то предначертанном построении, между тем актеры в спектакле скорее манекены, чем живые люди“.
Я отвечал, что это правда, что надо достичь объема, но теперь почти разучились его достигать.
Теперь режиссер и актер, дай бог, чтобы схватили какой-нибудь стержень, но обживают его с трудом и муками. На Гаева в Москве, пожалуй, есть один Смоктуновский, а остальные возьмут лишь одну черту, если вообще возьмут. А на Таганке откуда Гаев?
Трактовка исходит часто не только из современных задач, но и из современных возможностей. Режиссер, как и скульптор, работает в материале.
И вот получается спектакль, в котором общее решение не вытекает из объемной, живой ткани, а становится плодом лишь какого-то искусственного построения. Это, конечно, так.
Однако в этом, на мой взгляд, есть и некое достоинство. Явно иной человеческий материал, чем тот, что был в эпоху Чехова, диктует как бы не просто исторический, классический спектакль, а экспериментальный, приближающий старую пьесу, так сказать, к сегодняшней фактуре, и физической и духовной. „Вишневый сад“ становится как бы совершенно новой пьесой, к тому же написанной прекрасно.
Разумеется, чеховеды от вольности этой приходят в раздражение, но со временем они привыкнут, ибо человек 80-х годов XIX века уже никогда не воскреснет. Правда, будут таланты, способные в большей или меньшей степени проникать туда. Однако, скорее всего, талант будет включать в себя не только возможность проникнуть в то, – он еще будет выражаться в способности ощутить современное отношение к старым проблемам и ситуациям.
Софокл уже, вероятно, никогда не будет поставлен так, как он шел в свое время. Чехов – как при Чехове. Да и не нужно.
Хотя, конечно, стремиться к объему все равно необходимо. И тут выступавший на обсуждении литератор, сказавший о марионетках, конечно, все-таки прав.
Впрочем, что такое объем? Это, быть может, смелое оперирование ролью, это абсолютное владение ею. Это умение раскрыться в ней полностью самому. Вот уж прав был Станиславский, придумав знаменитую формулу – „я“ в предлагаемых обстоятельствах“. Предлагаемые обстоятельства вроде остаются в пьесе все те же, а „я“ вечно меняется. И если это действительно „я“, а не что-то малоопределенное, то это „я“ должно раскрываться, смело толкуя по-новому все, что вокруг него».
6 июля 1975. Премьера «Вишневого сада». По-моему, хорошо, несмотря на то, что Антипов был пьян. Много цветов. Эфрос волновался за кулисами. После монолога Лопахина – Высоцкого («я купил») – аплодисменты, сразу, в ответ после моего крика – тоже. Банкет. Любимова не было. Конфликт.
30 сентября 1975, вторник. Начало сезона. Позвонила Эфросу. Он чем-то раздражен и чужой. Рассказала ему, что когда мы были на гастролях в Болгарии, то на пресс-конференциях всегда был вопрос о «Вишневом саде» (хотя «Вишневый сад» не возили) и что Любимову это очень не нравилось. Рассказала, что была у Ванги в городе Петрич. К концу разговора Эфрос подобрел.
31 октября, пятница. Вечером репетиция «Вишневого сада». Половины исполнителей не было. Высоцкий еще не вернулся, а Шаповалов не пришел. Эфрос был расстроен. Думает перенести спектакль на свою сцену, со своими актерами.
2 ноября, воскресенье. Утром репетиция «Вишневого сада». Приехал Высоцкий – в плохой форме, по-моему, он опять запил, но пока держится, ведь завтра «Гамлет».
3 ноября, понедельник. Любимову явно не нравится наш «Вишневый сад» – постоянно об этом говорит к месту и не к месту. Вечером «Гамлет». Высоцкий играет «напролом», не глядя ни на кого. Очень агрессивен. Думаю, кончится опять длительным запоем.
4 ноября, вторник. Вечером прогон «Вишневого сада». Опоздала. Меня все ждали. Эфрос ничего не сказал. Первый акт – хорошо, второй акт – очень плохо: не понимаю, кому говорить монолог о «грехах» – Высоцкий слушает плохо, играет «супермена». Ужасно! Все на одной ноте. Третий акт – средне, обозначили, четвертый – неплохо. Мне надо быть поспокойней.
18 ноября, вторник. Все дни черные, ночи бессонные. Очень плохое состояние. Ничем не могу заняться – паралич воли. Звонил Эфрос, спрашивал, кого бы на Симеонова-Пищика, так как Антипова в очередной раз уволили за пьянство.
21 ноября, пятница. После «Деревянных коней» вечером репетиция «Вишневого сада», вместо Антипова вводим Желдина. Прекрасный монолог Эфроса о конце. Всем приходит конец – жизни, любви, вишневому саду. Это неизбежно. Это надо постоянно чувствовать и нести в себе. Слова не нужны. Общий ритм – как в оркестре, когда вводят, например, четвертную скрипку, она слушает оркестр и включается в него…
23 ноября, воскресенье. «Вишневый сад». Народу!.. Кто принимает спектакль – хвалит, кто видел летом, говорят, что сейчас идет лучше…
29 ноября, суббота.…репетируем «Обмен». Трифонову не понравился «Вишневый сад». Это понятно. Звонил Эфрос, прочитал письмо Майи Туровской. Хвалит спектакль, меня, Володю.
30 ноября, воскресенье. Вечером «Вишневый сад». Очень много знакомых. Все хвалят. Меня даже слишком. Флеров сказал, что это не Чехов. Каверин очень хвалил. После спектакля зашел Смоктуновский с женой и сказал, что такой пластики не могло быть в то время, его жена возразила, а Таланкин на ухо мне: «Не слушай…» Окуджаве – нравится. Авербах – в восторге, но сказал, что после «родов» третьего акта четвертый надо играть умиротворенно.
1 декабря, понедельник. Звонил Вениамин Александрович Каверин. Долго хвалил. Вспоминали Ялту и Чехова. Я перезвонила Эфросу, рассказала про Каверина и всех остальных. Ему, я чувствую, это слушать приятно.
Потом мы стали играть «Вишневый сад» не часто. Любимов не снимал с репертуара «Сад», но и не давал нам его часто играть.
2 февраля 1976. Играем «Вишневый сад». Очень нервно. На спектакль приходит много хороших людей, играть для них приятно.
В основном играем «Сад» на утренниках. Это очень тяжело – такой нервный спектакль играть утром.
Помню, как заменили «Вишневый сад» из-за болезни кого-то (сейчас не помню) на «Деревянные кони». На «Вишневый сад» должна была прийти Майя Плисецкая, которая в то время работала на телевидении с Эфросом. Потом рассказывала: «Пришла на „Вишневый сад“, увидела, что идут „Деревянные кони“, ну и я повернула оглобли».
* * *
Мне надо выбегать вслед за Аней, Варей, Шарлоттой так, чтобы зрители не поняли – кто же из них Раневская. Легко! Это получалось, когда Высоцкий начало акта играл нервно. Я выбегала, наталкивалась на Лопахина – «не узнавала его», как будто натолкнулась на какое-то энергетическое препятствие, которое таит в себе угрозу. Когда же Высоцкий играл «супермена», то мой выбег из кулис и дальше казался надуманным.
После смерти Высоцкого, когда восстановили в 1985 году «Вишневый сад» с другим актером в роли Лопахина, этот начальный эмоциональный всплеск совсем не получался. И я была старше, и актер, который играл Лопахина, не мог играть так напряженно, как нужно, и я стала выходить медленно. И даже подвела под это «теорию». Например, когда Любимов приехал первый раз после многолетней эмиграции, мы его встречали в аэропорту. Долго ждали. Вышли все, кто прилетел этим рейсом, а его все не было. Наконец вышел он – медленно, спокойно, в элегантном плаще, в темных красивых очках, но когда я подошла к нему, я увидела за очками слезы на его глазах. Они не текли, но глаза были полны слез. Так и я стала играть выход Раневской. Но дальше рисунок ломался, и Эфрос меня попросил выбегать по-прежнему – легко, быстро и нервно.
Когда Любимов в тот приезд пришел в театр, он вошел медленно, назвал по имени дежурную при входе, вошел медленно, осторожно открывая дверь, в свой кабинет. Ему раньше говорили, что стены с надписями и автографами великих были замазаны, что все переделано. Но кабинет был тот же, и даже на стуле перед его столом висел его пиджак, а внизу лежали его тапочки.
«Детская!.. Детская, милая моя, прекрасная комната…» – первая реплика Раневской.
ЭФРОС. «Странно, но я не помню, что в старом мхатовском спектакле (где играли Книппер, Качалов и Добронравов) было щемящее чувство от возвращения Раневской в свою детскую. Помню, как все там сидели, как пили кофе, болтали, как дремал Пищик, а вот переживаний по поводу возвращения Раневской в свое детство не помню. Но, может быть, я слишком давно смотрел».
ЭФРОС. «После годового перерыва готовлюсь к репетиции, стараюсь вспомнить, на чем строился наш „Вишневый сад“. Читаю пьесу, и, может быть, даже яснее, чем прежде, всплывает основа: все эти люди в тревоге. Они боятся остановиться, боятся конкретного слова о деле, ибо ничто не сулит им счастливый исход.
Возможно, когда-то раньше, в прежних спектаклях, эта тревога скрывалась в подтексте. А внешне – подобие мирного быта, по крайней мере в начале спектакля. Мы же все их волнение вывели на поверхность. Оно росло, росло, ширилось, доходило до паники, до почти что мистической ноты, когда раздавался какой-то звук, похожий на лопнувшую струну. Это как в „Болеро“ Равеля – одна мелодия ширится до кошмара.
Вначале Лопахин с Дуняшей ждут приезда Раневской. Тревога неприкрытая, откровенная, оттого что поезд вовремя не пришел, оттого что Лопахин не знает, какова будет встреча. От одного к другому передается нервность. Епиходов у нас ронял не только цветы, но даже и стол, и плиту на могиле сваливал из-за волнения. Конечно, любое решение может граничить с вульгарностью. Но стоило вспомнить по жизни про ожидание чего-то, когда к тому же не ждешь хорошего, – становилась живой даже очень резкая краска.
Затем Раневская приезжала. Все суетились, скрывали, прятались от чего-то, боялись беду назвать в глаза. Раневская пила кофе, как наркотик, разговор не вязался, все куда-то бежали, вытесняя Лопахина с его деловыми речами. По пустякам открывали душу, совершали глупости и стыдились. Все было очень легко и быстро, потому что люди делали вид, что это не важно, что важнее будет потом, а потом опять бежали прочь от главного, пока наконец не выходил какой-то пьяный прохожий и все разбегались в испуге. Оставался Трофимов, с бессильным гневом твердя о беспечности.
Конечно, „Вишневый сад“, поставленный на Таганке – спектакль спорный. Спорность его хотя бы в том, что Чехов ставится в коллективе абсолютно „не чеховском“. Тут люди прозаичны до дерзости. Их главное оружие – насмешка. А если играют драму, то делают это скорее жанрово. А Чехов в пьесах своих утончен, изящен. Ставить Чехова на Таганке – значит как бы заведомо идти на провал.
Однако в последнее время Чехов не удавался именно там, где, казалось, изящество и лиричность были в самой природе театра. Потому что в этом лиризме и в этой поэтике образовалась доля привычности. Она не давала возможности снова почувствовать существо. Вот почему не простой прихотью было желание поставить Чехова на Таганке. Я, разумеется, знал, что неизбежны потери. Однако эти потери будут иными, чем те, что сейчас в МХАТ, и даже эта смена потерь и некая смена достоинств уже казалась полезной.
Но спорность не только в этом. Спорность и в том, что считать существом „Вишневого сада“. Об этом, впрочем, спорить как бы излишне, ибо со школы уже известно об уходящем дворянстве и т. п. Но и в этом вопросе тоже как бы сгустилась привычность.
Нужен был крен, который будет, конечно, понятен одним, а другим непонятен.
Однако, идя на подобные вещи, нужно идти до конца. Робость тут ничего не прибавит и не убавит. Будет все то же. Нужно было привычную тему конца дворянской усадьбы сделать обобщеннее, философичнее. Чтобы не быт главенствовал, а проблема. Проблема неизбежности гибели одного и переход в другое. Драма прощания с прежним и поиски нового. Но для героев „Вишневого сада“ поиски возможны только ощупью. Ибо эти герои, к несчастью, слишком слабые люди. Они уязвимы из-за плохо прожитой жизни. Они беспечны, они несговорчивы. Они при шторме не знают, как закрывается дверь. Те же, что знают, знают наполовину, однако и их почти никто не хочет услышать. Они чисты, эти люди, но в то же время испорчены. Они достаточно гордые люди, но жалкие в то же самое время.
Нужно трагический смысл сделать как бы гротескным».
2 февраля. «Вишневый сад». Прошел хорошо. Нервно. Высоцкий в прекрасной форме. Золотухин ко мне нежен. Остальное – не важно.
5 февраля. «Вишневый сад» отменили. Высоцкий запил. Он снимался у Митты в «Арапе Петра», посмотрел материал, он ему не понравился, поссорился с Миттой – и сорвался. Но, говорят, пришел на юбилейный вечер Массальского Павла Владимировича – руководителя курса, где учился Высоцкий.
У Высоцкого, как я говорила, не было дублера в нашем театре только в двух спектаклях – в «Гамлете» и в «Вишневом саде». Каждый год он месяца на два – на три уезжал к своей жене Марине Влади во Францию. Они много путешествовали, и он всегда возвращался немного другим. Западным. Его свободная уверенная манера общаться с людьми была всегда, но после западных отлучек в нем еще появлялась какая-то покровительность. Это, кстати, очень ложилось на роль Лопахина. И играть после его возвращения было легко. Но он часто срывался – пил. Пил, кстати, и Золотухин, правда, «Вишневый сад» никогда не отменялся из-за Золотухина, но из-за Высоцкого бывало. Пил и Антипов, который играл Симеонова-Пищика, но его можно было быстро заменить, и на ходе спектакля это не отражалось.
Однажды мне Высоцкий сказал, что он нашел лекарство, которое покрывает алкоголь. Утром, например, мы его видели пьяным, а вечером он спокойно играл «Гамлета». И только где-то в 79-м году я поняла, что это «спасительное лекарство» – наркотики.
После смерти Высоцкого в 1980 году из репертуара «Таганки» ушли и «Гамлет», и «Вишневый сад».
Когда Эфрос пришел на Таганку художественным руководителем, в марте 1984 года, он говорил, что хочет восстановить «Вишневый сад» и ввести на роль Лопахина какого-нибудь артиста.
20 сентября 1976 года мы поехали в Югославию, в Белград, на 10-летний юбилей БИТЕФа. Пожалуй, тогда это был самый серьезный театральный фестиваль. От «Таганки» пригласили «Гамлета» и «Вишневый сад». Любимов повез только «Гамлета».
В Белграде на пресс-конференции нас постоянно спрашивали о «Вишневом саде». Но что мы могли им ответить? Отделывались какими-то незначительными словами.
Тогда первую премию разделили три спектакля: наш «Гамлет», бруковский «Сон в летнюю ночь» и спектакль Боба Уилсона «Эйнштейн на пляже».
Восстановленный в 85-м году «Вишневый сад», к сожалению, утратил тот нерв, который был в спектакле в начале. Это было и из-за того, что не было Высоцкого-Лопахина, и из-за того, что мы были уже другие. «Таганка» пережила за эти годы ряд трагических событий, и из спектакля ушла наша былая «беспечность», которая нужна была для всех исполнителей «Вишневого сада». Эфросовская формула «опасность и беспечность» теперь требовала изменений в рисунках ролей. А в моем исполнении появилось больше сарказма.
Спектакль мы стали играть на Новой сцене «Таганки». Сцена была в два раза больше прежней сцены и требовала более широких мазков. Из спектакля ушло ощущение поэзии и «беспечной красоты» («мороз в три градуса, а вишня вся в цвету!»).
Спектакль стал, может быть, даже более трагичным. Мы теряли не Сад, а «Таганку». Мы это не акцентировали, но мы этим жили.
Если раньше в спектакле превалировал дуэт Высоцкий – Демидова, то теперь ведущими стали Демидова – Золотухин. Простите, что я так говорю, но так это было. Золотухин стал играть намного лучше, нежнее относился к Раневской, оберегал ее. Высоцкий играл страсть, затаенную любовь к Раневской. Страсть эта вырывалась неожиданными выплесками, которые были хорошо известны в его песнях. В Дьяченко, который теперь играл Лопахина, этого свойства не было от природы. Он бытовой, прозаический актер, и как я ему ни объясняла, что нужно играть в старом рисунке Лопахина, он, может быть, и хотел, но не умел это воплотить.
Золотухин стал играть Петю Трофимова проще, печальнее, и за его известными монологами сквозила горечь. Он повзрослел. Чувствовал какую-то ответственность и за «Вишневый сад», и за сам театр, где в это время происходили драматические события.
Изменился и сам Эфрос. Раньше он на «Таганке» был гостем, а теперь стал хозяином. Он купил этот Сад. Конечно, он не стал рубить деревья и не отменял старые спектакли, но относился к ним равнодушно. Он сам стал заложником Рока.
Театральная жизнь 80-х годов отличалась заметно от 70-х. Появилась другая публика. Зрители стали реагировать на другие вещи. Неожиданно зрительный зал откликался на какую-нибудь реплику, которой не замечали в 70-х годах. Например, безобидная, проходная фраза Фирса об освобождении крестьян от крепостного права: «И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают» – вызывала у зрителей неожиданную реакцию и ассоциировалась у них с какими-то сегодняшними переменами в жизни. Они шли на Таганку, где, как они слышали, все касается сегодняшних проблем, и поэтому и выискивали в спектакле ответы на эти свои проблемы. Или лопахинская фраза – «жизнь у нас дурацкая» – тоже вызывала бурную реакцию. Как и его слова, что стоит у нас начать какое-нибудь дело, сразу понимаешь, «как мало честных, порядочных людей».
Зрителей уже не волновала проблема чеховских постановок, они не думали сравнивать Эфроса и Любимова, например, а просто шли на «скандальный спектакль» в «скандальный театр». И конечно, им было больше по сердцу обличение. Слова Пети Трофимова, например: «Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно». Раньше Золотухин эти слова пробрасывал скороговоркой. Они звучали в контексте с другим. Говорил их Золотухин с горечью. А теперь – почти в зал, «по-таганковски».
А Лопахин стал совсем другой. Он, правда, – как писал Чехов Станиславскому, – купец, но порядочный человек. Артист все делал правильно и старался держать рисунок роли, сделанный Высоцким, но он, к сожалению, не был Высоцким, не мог играть так нервно, самозабвенно и страстно.
Из спектакля ушла трепетность и незащищенность.
* * *
До прихода Эфроса на Таганку в качестве главного режиссера он мне позвонил и предложил совместную работу по пьесе Уильямса «Прекрасное воскресенье у озера Сакре-Кер». Пьеса для четырех актрис. Начали мы репетировать в Театре на Малой Бронной: Оля Яковлева, Марина Неелова, Настя Вертинская и я. Но в это время начались переговоры с Эфросом о его переходе на Таганку, и репетиции приостановились.
Когда он пришел на Таганку, то своим первым спектаклем он заявил горьковское «На дне». Мне досталась небольшая роль Анны, но атмосфера в театре была не для работы, и я попросила Эфроса меня от этой роли освободить.
Приблизительно через год я подала директору заявление об уходе. Написала письмо Эфросу. Но потом он меня вызвал, поговорил, успокоил – он удивительно мог успокаивать. Говорил, что надо восстановить «Вишневый сад».
Он был очень демократичен, с ним у меня не было привычной дистанции: главный режиссер и подневольная актриса. Я очень ценю редкое сочетание таланта с демократизмом в работе. Так это было с Андреем Тарковским, с Анатолием Васильевым или с Евгением Колобовым, Кириллом Серебренниковым. Так и с Эфросом. Я его не боялась, и он меня, конечно, уговорил остаться. Я работала дальше.
Но то письмо у меня сохранилось:
«Анатолий Васильевич! Я пишу Вам, чтобы как-то избежать тяжелого для меня разговора после подачи заявления об уходе из театра. Мне трудно объяснить однозначно и просто причину. Но основная – та, про которую я Вам еще зимой прошлого года говорила, еще до Вашего прихода на Таганку. О том, что мы будем присутствовать при агонии старых спектаклей. Поскольку за ними никто не смотрит, они полностью разрушились. Я писала директору театра письма с предупреждением, что если „Деревянные кони“ и „Три сестры“ будут идти так, как они идут – я играть их не буду. Но это ведь в театре воспринимается или как каприз, спонтанный выплеск эмоций, или как „очередное предупреждение“, на которое никто не обращает внимания. Я пробовала сама выяснять отношения с осветителями, радистами, некоторыми актерами, которые не держат рисунок – но опять-таки, этого в лучшем случае хватало на один-два спектакля. Я чувствую, что у меня когда-нибудь разорвется сердце на спектакле от напряжения, накладок, отрицательных эмоций, от плохой своей и чужой работы. Мы повязаны одной веревкой: один делает плохо – все валится в пропасть.
Мое заявление и уход из театра – от чувства самосохранения…
Извините, что не поговорила с Вами до подачи заявления, но Вы мне как-то сказали в разговоре: „Если что-нибудь решите для себя – скажете“. Я решила.
Всего Вам доброго.
2 февраля 1985 года».
Когда мы репетировали «Вишневый сад», у меня к нему не было ни одной секунды не то что недоверия, а мне все-все было по сердцу. Все его реакции, слова, замечания. Он абсолютно совпадал с моим душевный строем. Он был мне по душе. Но у него была своя актриса, и я знала, когда в 1984 году он пришел к нам, что он будет работать с Ольгой Яковлевой. Скажем, история с «Геддой Габлер»: «Да, да, Алла, конечно, это ваша роль. Будем репетировать. (Пауза.) Оля, правда, просит. Но вы ведь знаете, что это ее бывшая роль. Ей надо меняться». Говорю: «Я не хочу никому переходить дорогу, давайте я сыграю что-нибудь другое. „Макбета“, скажем». На том расстались. Потом уже, после его смерти, я узнала, что в «Гедде Габлер» было распределение ролей, были репетиции дома. И Гедду должна была играть, конечно же, Яковлева. И так бы это и было. Всегда. У Эфроса я тоже ничего не играла бы. Нет, это не коварство. Это нежелание идти на прямой контакт, на прямое выяснение отношений. И его приход на Таганку, и все, что с этим приходом связано, я тоже во многом его понимаю, и его нежелание вступать в объяснения своих поступков. Для себя он решил тогда все правильно. Он ни через что не переступал.
Когда до меня дошли первые слухи, что Эфросу предложили перейти на Таганку, я спросила его об этом впрямую. Он мне сказал: «Нет, нет, Алла, мне никто не говорил, что вы!» Потом, когда прошло два месяца и слухи стали более упорными (говорили даже, что Эфрос по этому поводу уже был у Гришина), я – опять к нему. И опять в ответ: «Нет, нет, Алла, со мной никто не говорил. А даже если бы и поговорил, я бы сказал (я ведь хитрый), что я вначале посоветуюсь с мамой, с бабушкой, с женой, с родственниками и только потом дам ответ». Как выяснилось позже, он тогда уже и согласие дал, и подписал все, что требовалось. Когда все было окончательно решено, я с ним говорила опять и предупредила буквально обо всем, что произойдет на Таганке, сказала, что все равно будут ждать Любимова. Поговорив с Эфросом очень откровенно, я не пошла на собрание труппы, где его представляли коллективу и где, как говорят, разразился скандал.
После премьеры «Вишневого сада» прошло 10 лет. С Высоцким мы его играли около пяти лет. И сейчас Эфрос решил восстановить «Вишневый сад», но уже c другим Лопахиным на Новой сцене. Эта сцена больше, поэтому и декорацию надо делать новую. Да и костюмы надо тоже шить новые. Может быть, Эфрос хочет этим меня удержать в театре?
ЭФРОС. «В героях „Вишневого сада“ есть что-то инфантильное. Они не приспособлены к жизни. Оттого их всех и уносит ветер. Инфантильное, легкое, ажурное соседствует тут с резко трагическим. Какая это пьеса, боже, какая пьеса! Я перечитывал вечером сцены, которые должен завтра репетировать, и мне хочется, чтобы завтра наступило скорее. Мне кажется, что в свое время на Таганке было удачное сценическое решение, и вот сейчас, спустя несколько лет, снова читая пьесу, я в этом решении не разочаровываюсь. А ведь время многое ставит на свои места. Оно, это решение, заключалось в том, может быть, что мы как-то ушли от привычного лирического быта и открыли дорогу странному трагизму, который в этой пьесе заложен. Чистый, прозрачный, какой-то наивный трагизм. Детская разноголосица в минуту грозящей опасности».
3 января 1985. Пытаемся восстановить «Вишневый сад»… Губенко – на Лопахина. Коля сидел с магнитофоном и уже переписанной от руки ролью. Задавал бытовые и социальные вопросы. Он, конечно, будет неприятен для меня в Лопахине… Он не эфросовский актер.
4 января. Губенко отказался репетировать Лопахина, сослался на болезнь жены. Думаю, что понял несовместимость…
5 января. …Эфроса положили в больницу. Оля говорит – инфаркт, но, видимо, просто сильный спазм.
3 февраля. Написала письмо Эфросу. Вечером дома у Эфроса – долгий разговор. Решили – я заявление не беру, а за два месяца что-нибудь решится. Очень надеется на возобновление «Вишневого сада». Но кого на Лопахина? И потом, мы постарели все на 10 лет. И за это время произошло много трагических событий.
10 февраля. Эфрос провел изумительную репетицию «Вишневого сада». Говорил: стиль необязательной, несмонтированной хроники. Пробалтывание. Порхание бабочки. Птицы порхают, а среди них ходит человек (Лопахин) и говорит – не летайте тут, здесь шрапнель, а они не слышат. Монолог о грехах – как крик покаяния Богу на ноте истерики. На Лопахина – Гребенщикова, Бортника, Дьяченко.
16 марта. Репетиция «Сада». Эфрос сидел скучный. Потом сказал, что мы постарели на 10 лет, что раньше делали спектакль в веселое время и он получился хулиганским и радостным… Предложил сыграть: Раневская – это Любимов, а Лопахин – Эфрос. Думаю, это ему пришло в голову после моей реплики в первом акте: «о, мое детство… в этой комнате я спала», – я говорила и думала о Любимове, о старой «Таганке», вернее молодой – когда мы только начинали.
7 апреля. Эдисон Денисов сказал, что говорил с Любимовым и тот сказал, что хочет вернуться, если отдадут театр.
23 апреля. День рождения театра. Я не поехала. Рассказывали, что был унылый банкет: не то поминки 21-го года, не то рождение первого года. Пьяный Антипов пел «Многая лета Юрию Петровичу…» Актеры сидели понурые.
«Вишневый сад» мы восстановили, но спектакль стал другим. Ушла легкость. Актер, который играл вместо Высоцкого Лопахина, был приверженцем спокойного психологического театра. Я понимала, что от того, как играется Лопахин – спектакль поворачивается в ту или другую сторону. Это даже было и при Высоцком, когда он играл «не в форме», «в полноги». Уходил нерв и, как ни странно, моя трепетность из этого спектакля. С новым актером я возилась как с ребенком, приглашала его домой и долгими вечерами рассказывала, как играл Высоцкий и какой нужен ритм в той или другой сцене. Он, я думаю, решил, что я эгоистически хочу всех подстроить под себя. У него не получалась любовь к Раневской на том срыве, какой был у Высоцкого.
Но легенда о том «Вишневом саде» осталась в памяти зрителей. И поэтому спектакль пользовался успехом. На него, считалось, надо обязательно пойти.
Я пробовала что-то изменить в Раневской, сделать ее более спокойной, но Эфрос категорически возражал против этого. Мне было легко играть только с Золотухиным, который держал крепко рисунок Пети Трофимова и стал играть еще лучше с годами.
26 января 1986. На «Вишневый сад» должен был приехать Горбачев с женой. А до этого на спектакле были «странные» люди в серых костюмах. Мы играли плохо. Нервно. Я раздражалась. И, видимо, эти «чиновники» не посоветовали Горбачеву смотреть этот непонятный спектакль. Он не приехал. (Пришел потом на «На дне» и после спектакля беседовал с Эфросом.)
18 ноября. Выехали с Эфросом на гастроли в Польшу. Во Вроцлаве – пресс-конференция. Очень много вопросов Эфросу: зачем он пришел на Таганку. Он отшучивался.
22 ноября. Мы играем во Вроцлаве. Дупак с Эфросом прилетели из Парижа, где смотрели сцену в «Одеон» для наших будущих гастролей.
Репетировали и играли неплохо. Я ходила на спектакль Гротовского. Молодые актеры. Очень вымуштрованные. Похоже на нашу раннюю «Таганку».
27-30 ноября. Варшава. «Театр Польски». 28-го – «На дне». 29-го – «У войны не женское лицо». 30-го – «Вишневый сад». После спектакля – открытое обсуждение спектаклей Эфроса. Резко осуждают его за приход на Таганку. По-моему, он первый раз услышал эту резкую правду. Прием у министра культуры. Эфрос болен – сердце. Мы с Наташей Сайко с двух сторон его поддерживали, когда возвращались в гостиницу.
1 декабря. Варшава. Играли «Вишневый сад» для театральной общественности. Эфрос плохо себя чувствует. Жаловался, что после Парижа в Варшаве сыро и темно. Перепады давления. В Польше он что-то ставил лет 15 назад, и там был какой-то конфликт. Поляки помнят гастроли «Таганки» в 1980 году с Высоцким – Гамлетом. Разругали «На дне». Хвалили «Вишневый сад». Не без умысла, думаю, так как он был поставлен при Любимове.
10 декабря. Эдисон Денисов передал мне письмо от Любимова, написанное мне 8 ноября в Лондоне. Пишет, что ему передали о наших хлопотах и походах с целью его возвращения. «Вспомнилась вся наша жизнь таганская; сколько энергии вгрохано – подумаешь и удивишься: откуда брали. Возродить „Таганку“? Это как воз родить!..» Дальше Ю.П. пишет, что у него перед глазами фотография Твардовского, который стоит на пепелище своего родного дома у печной трубы, опустив голову. «Напишите, кто хочет работать со мной. Можем ли возобновить наши лучшие работы». Пишет, что не может разорвать сейчас ряд контрактов, обязан их выполнить, работать на Западе. «Напоминаю Вам: я получил официальное разрешение лечиться, после смерти Андропова был выгнан из театра, хотя Андропов передал перед смертью, что я могу возвращаться и работать. Черненко лишил меня гражданства». И в P.S.: «Обнимите, передайте поклон тем, кто помнит, часто вспоминаю вас».
11 декабря. «Вишневый сад» на нашей сцене в Москве. Показала любимовское письмо кое-кому из актеров и Эфросу. Идея – я должна встретиться с Раисой М. Горбачевой и показать ей это письмо. Эфрос дал добро на восстановление «Мастера», хотя спектакль ему не нравится (спекуляция на материале). Эфрос понимает, что Любимов вернется и тогда диалога не избежать. Сейчас Эфрос не отвечает на ругань Ю.П., так как тот обиженный, но когда вернется… Эфрос явно через печать скажет про все, что он по этому поводу думает. Эфрос подписал наше письмо в Верховный Совет о возвращении Любимова. (В отличие, например, от Бортника и Сидоренко.) Там примерно 140 подписей. Сказал труппе, что если вернется Любимов – он уйдет тут же. Я его уговариваю: в театре 2 сцены – 2 режиссера.
13 декабря. Написала ответ Любимову, отдала Альфреду Шнитке для передачи.
«Дорогой Юрий Петрович! Если бы Вы знали, как мы Вас ждем! Все. Даже Театр Вахтангова: прошел по Москве слух, что Вы там будете главным режиссером, если вернетесь…
Письмо наше наверху еще не читали, но, по нашим сведениям, – вот-вот… Мы после Ваших весточек предпринимали кое-какие шаги… время для возвращения сейчас неплохое…
Мы подготовим все, что сможем. Уже восстановили „Дом на набережной“. Идет с огромным успехом. Хотим 25 января сыграть Володин спектакль. Дупаку сказали официально, что можем восстановить любой спектакль. На очереди „Мастер“. Если вопрос с Вашим приездом решится положительно, то к приезду постараемся восстановить „Бориса“, чтобы у Вас было меньше черновой работы… Но главное, чтобы вопрос решился юридически, чтобы Ваше имя стояло на афишах… Естественно, поднимая вопрос о возвращении, хлопочем о гарантии Вашего свободного выезда туда-обратно. Когда Вы приедете, соберется вся „старая гвардия“: и Коля, и Веня, и Леня, и Шаповалов, и, конечно, Боровский – все, кто сейчас на стороне… Мне кажется, возродить старую „Таганку“ можно. На другом витке: с мудростью, битостью и пониманием…»
23 декабря. «Вишневый сад». В антракте ко мне в гримерную зашел Эфрос, сказал, что спектакль расшатался и он его будет репетировать перед гастролями в Париже. В конце кричали «браво». Опять зашел ко мне в гримерную Эфрос. Поговорили о письме коллектива в Верховный Совет с просьбой о возвращении Любимова. Что будет, если приедет Любимов? Я успокаивала: естественное разделение. Эфрос со своим репертуаром – на Новой сцене. Любимов – на Старой. Тем более что Ю.П. пишет в своем письме: «Надо работать на Старой родной сцене, там и стены помогают». Будет два театра под одной крышей и с одной труппой.
30 декабря. «Вишневый сад». Хороший разговор с Эфросом. Он сказал, что если бы поставил только «Вишневый сад», этого было бы достаточно. Он нервничает. Болит сердце. Сказал, что после Нового года ляжет в больницу, а сейчас ждет отдельную палату.
7 января 1987. Эфрос, Дупак, Глаголин ходили по вызову в ЦК. Им сказали, что возвращение Любимова в его собственных руках. Нужна бумага с его просьбой о восстановлении в гражданстве.
8 января. «Вишневый сад». Перед спектаклем зашел Эфрос. Говорил о худсовете и о гастролях во Франции. Сказала ему, что ночью будем говорить по телефону с Любимовым – он в Вашингтоне ставит «Преступление и наказание».
После спектакля дома у Жуковой – Маша Полицеймако, Давид Боровский с женой, Веня Смехов с женой и я. Маша, Таня, Веня, Давид и я по очереди говорили по телефону с Любимовым. Он возмущался, разговаривал с нами жестко и нехорошо: «Вот вам же разрешили почему-то сейчас говорить со мной». Нам никто не разрешал – на свой страх и риск. У Давида тряслись руки, когда подошла его очередь взять трубку, но он говорил очень спокойно: «Да, да, вы правы, Ю.П.», «…это верно, Ю.П.». Мы попросили Ю.П. написать письмо в Президиум Верховного Совета о гражданстве. Он не соглашался, говорил, что все предатели. Я ему попробовала что-то объяснить, он завелся, высказывал все накопившиеся обиды, просил позвонить Делюсину – тот поможет…
12 января.Общее собрание. Эфроса не было. Все кричали. Очень сумбурно. Выбирали худсовет. Эфрос оставил письмо со списком худсовета. У Наташи Крымовой день рождения – позвонила, поздравила.
13 января 1987.Умер Эфрос. В 2 часа дня – дома – инфаркт. «Скорая». В три часа его не стало. Звонила Наташе Крымовой: там ужас. У меня такое же чувство, как после смерти Высоцкого. Все потрясены.
17 января.«Вишневый сад». Перед спектаклем мы все вышли на авансцену. Я – очень нервно: речь об Эфросе. После спектакля у Дупака – Жукова, Полицеймако, Золотухин и я. О худсовете. Золотухин – председатель, чтобы не подсунули другого. Все ужасно! Докатились.
1 февраля.Гастроли в Париже. Hotel «Trianone» около театра «Odeone», где мы будем играть. И рядом Люксембургский сад.
* * *
После раскола театра на губенковскую и любимовскую труппы – опять беготня по кабинетам и судам. Ездила по Москве, собирала подписи в поддержку Любимова. Швейцер сказал, что в таганковской истории, как в трагедии, нет правых и неправых…
* * *
…Эфрос мне иногда снится. А однажды приснился так явно, что я даже сон запомнила. Во сне я говорила ему: «Знаете, Анатолий Васильевич, Вы напрасно порвали с „Бронной“». А он: «Там невозможно было жить, там у меня не было друзей». Я: «Но все равно это – Ваш театр. И даже если Вы не могли работать с теми, кто Вас предал, Вы бы начали работать с другими, но на этой площадке, она – Ваша. Там бы Вы оставались в собственных стенах и Ваш энергетический заряд многих бы притянул. Эту пуповину нельзя было рвать…» Вот такой у меня был сегодня ночью с ним разговор.
Еще при жизни Эфроса был юбилей Павла Александровича Маркова, мне позвонила Таня Шах-Азизова и сказала, что в Доме ученых будет вечер Маркова. Но сам Марков не хочет присутствовать на сцене, а хочет, чтобы в концерте показали отрывки спектаклей, о которых он писал последнее время, и один из них – «Вишневый сад» Эфроса.
Но ведь «Вишневый сад» не расторжим на сцены, он ведь – одним накатом. Кроме того, на фоне серых кулис Дома ученых и без белых костюмов надо играть иначе – более объемно, более резко. Но Таня меня уговорила.
Я выбрала сцену с Петей Трофимовым, позвонила Золотухину – он откликнулся. Подумали: не в белых ли костюмах? – но это выглядело бы странно на голой сцене. А я тогда носила длинные юбки и много бус. Эфрос шутил: «Вы, Алла, как новогодняя елка – сверкаете и звените…»
И вот я, как лежала на диване в длинной юбке а-ля хиппи, так и пошла на вечер. Собственно, и костюм Раневской – такой же, только в белом цвете: все развевается, непонятно, где начало, где конец этих тряпок.
Прихожу. Как всегда, опаздываю – вечер уже начался. Слышу знакомую мелодию, подхожу к кулисам и вижу, что это показывают кусок из «Вишневого сада» с Книппер-Чеховой, но запись, очевидно, конца 40-х, потому что Книппер очень старая. И как раз – сцена с Петей Трофимовым. Играют медленно-медленно, и если вся наша сцена длится 5–6 минут, они треть ее играют минут 10. И я подумала: «Ну, мы в порядке. На этом фоне мы, конечно, выиграем». Правда, потом, когда камера пошла за окно – к расцветающим вишневым деревцам – и зазвучал знаменитый вальс, я поняла: видимо, была какая-то особая атмосфера… Закончилось. Гром аплодисментов, просто шквал, как бывает в Парке культуры, когда там молодежь. Я посмотрела в зал: там сидят старенькие академики в черных шапочках и их жены с брошечками на груди. Но аплодируют так, как в юности не аплодировали, и плачут с кружевными платочками у глаз. Тогда я сказала себе: «Алла, подумай! И сконцентрируйся…»
Поскольку вечер продолжался, а Золотухина еще не было, я пошла за кулисы. В Доме ученых две гримерные. Открыла одну дверь – там сидят «старики» в меховых боа, в вечерних платьях, в смокингах и во фраках: Кторов, Степанова, Зуева, Козловский, Рейзен – и что-то говорят светскими, поставленными голосами. Я тут же закрыла эту дверь, потому что своим видом никак туда не вписывалась, и вообще они для меня были слишком великими, я не осмелилась бы даже сказать «здравствуйте». Открыла другую дверь – там среднее поколение. Тоже в черных костюмах, но уже в других. Травят анекдоты и смеются. А я в то время не воспринимала закулисную трепотню, поэтому опять закрыла дверь. Нашла где-то стульчик, полусломанный, поставила его за кулисами и стала смотреть. Играют «Чрезвычайного посла» – Кторов и Степанова. Играют все на зал, абсолютно не общаясь (где это знаменитое мхатовское общение и погружение в суть роли?!). Говорят поставленными голосами, видимо, оба немножко глуховаты, поэтому форсируют слово. Играют медленно. Но я завораживаюсь их статью, уверенностью, каким-то благородством внутренним и уважением к слову. Я-то слово никогда не уважала, но тогда подумала, что, видимо, оно несет какую-то функцию, помимо содержания, помимо интонации – какую-то энергию.
После их выступления – опять шквал аплодисментов. Потом играет Зуева – Коробочку, Харитонов – Чичикова. Зуева гениальна, хотя наигрывает, как могут только характерные старухи в комических ролях. Харитонов естественнен, но малоинтересен. От Зуевой я была в восторге и подумала: «Видимо, в старой школе что-то было, напрасно я ее для себя зачеркиваю».
Потом поют Рейзен и Козловский. Рейзен до этого не выходил лет десять на сцену, волновался безумно – у него дрожали руки, когда он держал лорнетку. Они пели «Не волнуйся, наше море…», и Козловский свое «ля» тянул раз в десять дольше, чем Рейзен, а тот удивленно на него смотрел: ждал, когда это «ля» закончится.
В это время появляется Золотухин. Пьянее вина. Он слышит, как поют Козловский и Рейзен, и плачет. И в зале многие плачут от того, как эти два старика гениально поют. Золотухин трезвеет на глазах, понимает, куда он попал. Я ему говорю, что мы можем как-то «проскочить», если будем играть, как последний раз в жизни на крупном плане кино. То есть никак не актерски, не подавая реплики в зал, только внутренне концентрируясь на мыслеобразах, на партитуре. Это очень трудная техника, но Золотухин – гибкий актер и иногда может мобилизоваться.
Я выхожу на сцену: серые сукна, вместо скамейки из «Вишневого сада» – два стула. После вечерних платьев, смокингов и боа – шок от моего вида. Я объясняю, почему я так одета, объясняю суть роли и декораций, пытаюсь ввести зрителей в атмосферу спектакля. Меня плохо слушают, я их раздражаю своим ассоциативным мышлением. Им нужен последовательный рассказ, а у меня его быть не может, я этого просто не умею. Комкая мысли, налезая фразой на фразу, я заканчиваю и говорю: «Воспринимайте нашу сцену как экзерсис».
…Мы действительно никогда так не играли – так по-живому, так концентрированно, так нервно. Мы нашу сцену выпалили за три минуты, просто выбросили, как плевок. И мы ушли под звук собственных шагов – не было ни одного хлопка…
Когда мы играли, мой внутренний режиссер говорил, что мы играем хорошо. Но мы провалились, а отсутствие контакта со зрителем абсолютно зачеркивает внутреннее ощущение. И когда в театре назначили очередной «Вишневый сад», я сказалась больной – я не могла его играть. Потом поговорила с Эфросом, и он очень разумно мне сказал: «Алла, вот представьте себе: в консерватории играют знакомую классическую музыку, а потом на три минуты выходят „Битлз“. Представляете, какое они бы вызвали раздражение! И наоборот – попробовал бы Рихтер сыграть на джазовом фестивале…» Это меня как-то успокоило, и я продолжала играть «Вишневый сад». В Доме ученых я не появлялась много-много лет. Потом, кажется, через год после смерти Эфроса, был вечер его памяти в Доме ученых. И я всю эту историю рассказала зрителям. Когда я уходила за кулисы, одевалась, садилась в машину – все еще слышались аплодисменты, хотя публика была, конечно, другая…
* * *
В феврале 1987 года мы повезли «Вишневый сад» в Париж. Играли в театре Odeon. В программке на наши гастроли (привезли еще «На дне» и «У войны не женское лицо») было сказано, что приехал Театр на Таганке со своим новым художественным руководителем Анатолием Эфросом (Эфрос умер 13 января 1987 года) и что впервые в Париже показываются спектакли Эфроса.
* * *
Дарить после спектакля цветы во Франции не принято, их приносят в гримерную перед спектаклем. Моя гримерная, как в голливудском фильме про звезд, была вся уставлена корзинами цветов. После спектакля я лихорадочно стирала грим и мчалась куда-нибудь со своими друзьями – в кафе, в ресторан или просто в гости. Я, кстати, давно заметила, что почти все актеры во всех странах после спектакля спешат – неважно куда, может быть, просто домой. Вероятно, в этом сказывается обычная человеческая деликатность – не задерживать после спектакля обслуживающий персонал, или же свойства и привычки чисто профессиональные – скорее сбросить «чужую кожу» и войти в собственную жизнь.
И вот однажды после «Вишневого сада» ко мне в гримерную зашел Антуан Витез. Как он раздражал меня своим многословным разбором «Вишневого сада» и моей игры! Он говорил об эмоциональных перепадах в роли, которые ему по душе, об экзистенциальной атмосфере сегодняшнего театра… Я устала, знала, что внизу меня ждет Боря Заборов с компанией, чтобы идти вместе в кафе, и поэтому не особенно Витеза слушала – я быстро стирала грим, отмечая про себя, что по-русски он говорил хорошо – очень жестко, со скороговоркой парижского интеллигента, но почти без акцента.
После того знакомства он написал обо мне статью – «Комета, которую надо уметь уловить». Видимо, он назвал ее так потому, что я ужасно спешила и его не слушала… Тогда же, после «Вишневого сада», Витез сказал, что хочет со мной работать. Я такую фразу слышала не раз от западных режиссеров, но знала, как трудно это воплотить из-за нашей неповоротливой советской системы, поэтому к его предложению отнеслась как к очередному комплименту. Тем более что Витез предлагал работать вместе еще раньше. Еще раньше, на гастролях «Таганки» в Париже в 1977 году, на одном из официальных ужинов продюсер гастролей г-н Ламброзо произнес тост за меня, сказав, что дает деньги на любой спектакль любого режиссера в Париже с моим участием. Это было услышано представителями нашего посольства, и в то время им, по каким-то своим причинам, выгодно было эту идею поддержать. Начались бесконечные переговоры. Я уже тогда должна была работать с Антуаном Витезом. Но тогда это ничем не кончилось, и теперь, в 87-м году, опять возник Витез. Решили делать «Федру» на сцене Comedie Francaise. Но это другая история, и я об этом писала в своих книжках.
А что касается неосуществленных проектов из-за медлительных переговоров советского министерства культуры с другими государствами, я как раз вспоминаю решение Страсбургского Национального театра поставить со мной в роли Раневской «Вишневый сад» на французском языке. Я прочитала несколько переводов. Очень тяжелый для игры, например, был перевод Эльзы Триоле. Как, в свое время, у Лозинского перевод «Гамлета». Лозинский, как говорят, более точно придерживался оригинала, нежели Пастернак, например, но перевод оказался не поэтичным, а главное, очень тяжеловесным для игры. Так и у Триоле в переводе «Вишневого сада» – длинные фразы с придаточными предложениями, но легкость пробрасывания фраз ушла. Ушел музыкальный ритм текста. Ушла непрерывность. Я взяла другой перевод – Маркóвича, на котором шел спектакль Питера Брука, и, кое-что беря у Эльзы Триоле, получила новый вариант перевода. Так в свое время Высоцкий, когда репетировал «Гамлета» на Таганке, соединил переводы Пастернака и Лозинского.
Почему трудно играть переводную классику? Во многих случаях из-за неудачного перевода. Мольер, например, на русской сцене всегда получался излишне бытовым, тяжеловесным. Французские слова легкие, и к концу слова интонация почти всегда вверх, а в русских словах – наоборот. Потом Мольера перевел Донской, и тогда «Тартюф» на сцене ранней «Таганки» получился легким, летящим.
Я помню, английские актеры, посмотрев нашего «Гамлета», шутили: вы-то счастливые – вы играете Пастернака, а мы-то средневекового Шекспира.
Так вот, в Страсбурге я показала свой вариант перевода «Вишневого сада» руководству, они согласились и предложили мне выбрать режиссера для постановки. Я выбрала Каму Гинкаса. Шли долгие переговоры. Наконец мы с Гинкасом едем в Страсбург отбирать актеров. Кама французский язык не знает, но он запретил мне сидеть на показах актеров. Но на этих кастингах выбирают и самого режиссера. Кама говорил, что еще в театральной школе дал своему руководителю курса Товстоногову экспликацию «Вишневого сада», где хотел акцентировать несовместимость персонажей «Сада» с новой жизнью. Они все устарели. Пожилая женщина ждет, когда вырубят вишневый сад, чтобы вернуться к своей прежней жизни в Париже. И все это на фоне трагико-мистического существования. Мистика в ожидании конца, смерти. Товстоногов, конечно, не принял это решение, но Гинкас потом, ставя Чехова, и в «Чайке», и в «Даме с собачкой», и главное, в «Черном монахе» странный мистицизм сохранил. Конечно, для французских актеров все это было странным и непонятным. Я томилась за дверью. Потом опять пошли длинные переговоры и факсы с двумя министерствами, пока не началась перестройка и все старое закончилось. Так закончился и этот проект.
* * *
В 1987 году Джордж Стрелер пригласил наш театр на свой юбилей в Милан. Пригласил он два эфросовских спектакля – «Вишневый сад» и «На дне».
В мае этого года мы поехали в Милан. Но уже без Эфроса. Стрелер недаром выбрал на юбилей эти спектакли. Дело в том, что в 1955 году он первый раз поставил «Вишневый сад» в духе Брехта, под влиянием которого находился долгие годы, и тоже ставил в свое время «На дне».
Второй раз он поставил «Вишневый сад» в 1974 году. Спектакль потрясающий! Без декораций. Только белый цвет, как белая симфония. Белый планшет сцены, наклоненный к авансцене, белые костюмы и вместо потолка огромный белый полог, как купол – мягкий, движущийся. С него в конце будет падать снег.
В одном письме у Чехова есть описание летней белизны сада, в котором женщина в белом платье. И добавляет: «…а за окном идет снег». Есть фотография – актеры Художественного театра в Ялте у Чехова – все в темном, и только Книппер в белом платье, с огромной белой шляпой.
Стрелеру удалось соединить белый цветущий сад и белую холодную зиму. На белом планшете сцены в черном был Фирс, Шарлотта и ее черный пудель, который ходил на задних лапах. Прохожий тоже был в черном. Иногда, когда менялся свет, фигуры персонажей на сцене тоже превращались в черные силуэты. Такими же черными силуэтами были детали – детский мячик, шкаф, детская коляска, детская железная дорога. А в конце все надевают черные пальто. Спектакль удивительный! Наш спектакль тоже был практически весь белый, но это не плагиат. Я думаю, что ни Эфрос, ни Левенталь до наших репетиций не видели спектакль Стрелера, премьера которого была только несколькими месяцами раньше. Иногда общие идеи искусства носятся в воздухе.
У меня сохранились записи стрелеровского юбилея в мае 1987 года.
Я отыграла несколько «Вишневых садов» и теперь сижу среди приглашенных на юбилее.
В «Пикколо Театро ди Милано», знаменитом театре Стрелера, три сцены. Сегодня синхронно идут: на старой сцене стрелеровский «Арлекин, слуга двух господ», на новой – эфросовский «На дне», а третья, главная, где, собственно, и происходит чествование, закрыта большим экраном, на который проецируются поздравления из Америки, Англии – со всего мира.
Ведет вечер сам Стрелер, у него два помощника – Микеле Плачидо, всемирно известный по телевизионному сериалу «Спрут», и их популярная телеведущая. Огромный амфитеатр и в центре – вертящийся круг.
На экране время от времени показывается, как идут спектакли на двух других сценах. «Арлекин» завершается, мы видим на экране поклоны, и через 10 минут все актеры, прямо в своих костюмах commedia dell'arte, приезжают, выбегают в круг, поздравляют своего Мастера и потом разбегаются по ярусам. «На дне» идет дольше. Поет какая-то певица, происходят импровизированные поздравления. Вот и «На дне» кончается – мы опять видим поклоны на экране, – наши после сцен в ночлежке тоже приезжают и поздравляют Стрелера вроде бы в игровых костюмах, но я заметила, что они каким-то образом успели переодеться в свои нарядные платья, но выглядело это все равно убого.
Я сижу во втором ряду. Кругом одни знаменитости, рядом со мной Доминик Сандá – точно такая же, как в своих фильмах, свежая и прелестная. Наконец заиграл вальс из «Вишневого сада» в постановке Стрелера, он подходит к Валентине Кортезе – своей знаменитой Раневской, выводит ее на середину и потом вдруг подходит к моему ряду (я сначала думала, что к Сандá), хватает меня за руку и говорит: «Алла, идите!» Я от неожиданности растерялась, да еще у меня от долгого сидения ноги затекли. И вот мы стоим в центре круга – две Раневкие, – Стрелер говорит: «Хочу слышать Чехова на русском». Только я стала про себя решать, какой монолог прочитать, как Валентина – эффектная, красивая – начинает с некоторым завыванием читать монолог Раневской на итальянском. Стрелер опять несколько раз повторяет, что хочет слышать Чехова на русском. Микеле Плачидо – мне на ухо: «Начинайте! Начинайте!» Едва я сумела открыть рот, как Кортезе опять – громко, с итальянским подвыванием произносит чеховский текст. Тогда я бегу к своему креслу, хватаю шелковый павловский платок, который еще не успела никому подарить, и быстро отдаю ей. Стрелер в это время молча ждет, потом машет рукой, арена раздвигается, и из гигантского люка медленно вырастает гигантский торт, а сверху, под музыку из какого-то его спектакля, спускается золотой ангел (живой мальчик!). И рекой льется шампанское…
Стрелер потом подходит ко мне и весьма недовольно спрашивает, почему я не прочитала монолог Раневской по-русски, как он просил. «Надо предупреждать», – говорю ему. Он: «Это не совсем хорошо для актрисы». Я: «Мы, русские, медленно ориентируемся».
Публика расходится по фойе и кулуарам. Огромный торт задвигают в угол сцены, и потом я краем глаза вижу, как около него стоит один грустный, толстый наш Гоша Ронинсон и ест торт, который, как в сказке, больше его роста.
Весь месяц я, если не играла, ходила на спектакли Стрелера или на его репетиции. Тогда он ставил «Эльвиру» – пьесу о репетициях знаменитого Жувé с одной французской актрисой во время Второй мировой войны. Пьеса на двоих, сам Стрелер играет Жувé. В его ухо вставлен микрофончик, через который суфлер подает ему текст.
Со Стрелером мы разговариваем часто. Во время приема по случаю проводов «Таганки» он спрашивает, почему у нас такой странный Гаев – такой простой русский мужик, который уж никак не мог проесть свой капитал на леденцах (у нас его играл чистокровный еврей Витя Штернберг), я рассказываю Стрелеру что-то про народников и про Голема на глиняных ногах – именно таким Гаева видел Эфрос. Стрелер хвалит меня и неожиданно прибавляет: «Хотите поработаем вместе? На каком языке? Выучите итальянский, вот актриса, которая играет в „Слуге двух господ“ – немка, выучила итальянский и уже несколько лет работает с нами». Я отвечаю, что для меня это нереально, а вот если бы он приехал в Москву… Он подумал и говорит: «Может быть, если успею. Будем делать „Гедду Габлер“».
Через несколько дней было еще что-то вроде «круглого стола», на котором возник вопрос о разнице менталитетов, сказывающихся, когда играют Чехова. Такая разница есть. «Вот у вас в спектакле, – говорю, – в сцене приезда Раневской, когда просят Варю принести кофе, все сидят и спокойно пьют кофе, как в кафе. Но ведь в три часа ночи „мамочка просит“ кофе – это нечто экстраординарное». В России вообще тогда кофе пили мало, в основном чаевничали. Кофе ночью так же странно, как если бы в Италии в это время попросили чашку чая. Я давно заметила – когда в итальянском кафе просишь чай, на тебя смотрят как на сумасшедшую и потом приносят какую-нибудь бурду. Или сцена со шкафом. В спектакле Стрелера в шкафу хранятся детские игрушки брата и сестры – это очень хорошо! Но у Чехова «многоуважаемый шкаф» – совсем иное. Шкаф – это единственный предмет из мебели, перевезенный в Ялту из Таганрога. В шутку его дома называли «многоуважаемый шкаф». В нем внизу стояло варенье в банках, а на верхних полках – религиозные книги отца, Павла Егоровича. Гаев говорит о шкафе, чтобы отвлечь сестру, ведь не успела она приехать, ей уже подают телеграммы из Парижа… Он хочет ее вернуть в детство.
Стрелер тогда был еще и директором Театра наций, устраивал поэтические вечера, на которых читали стихи представители разных стран Европы. И из России он пригласил меня.
Когда я приехала, Стрелер срежессировал мне этот вечер на своей большой арене. Сочинил мизансцену, установил мольберт, зажег свечу, посадил в первый ряд синхронную переводчицу (она переводила только мои комментарии), подобрал музыку. В этой композиции Стрелера я и сейчас веду свои поэтические вечера.
Сам же он в тот вечер уехал в Париж и прислал мне оттуда письмо:
«Дорогая Алла!
Я должен быть сегодня в Париже на встрече с президентами Миттераном и Гавелом. Мне бесконечно жаль, что я не могу Вас принять со всей любовью и неизменным уважением.
Тем не менее наш театр – в Вашем распоряжении.
До скорого свидания где-нибудь в Европе.
Ваш Джорджо Стрелер
Париж 19.3.1990».
К сожалению, мы так больше и не встретились…
* * *
А Готлиб Михайлович Ронинсон – наш Гоша – неизменный наш Фирс, в одиночестве умер в своей пустой квартире в декабре 1991 года.
* * *
В феврале 1989 года были гастроли Питера Брука. Он репетировал на Новой сцене «Таганки» свой «Вишневый сад». Я сидела в глубине зрительного зала, чтобы меня никто не видел, и наблюдала за репетициями. Меня поразила неспешность и тихая манера Брука работать с актерами. Кое-что я записывала.
26 февраля 1989. – Брук репетирует 1-й акт «Вишневого сада». Выход Епиходова. Актер, который играет Епиходова, вышел из-за кулис торжественно, с большим букетом, споткнулся о ковер (которых много на полу) и упал. Брук поднялся на сцену, взял букет, упал и, поднимаясь, показал, как из букета падают один за другим все цветы. Как у клоуна в цирке, он поднимает одно, но сразу же падает что-то другое – и так до бесконечности. Показал, как осторожно ходит Епиходов, чтобы не скрипели сапоги, и при каждом скрипе замирает, как испуганный заяц. Актер стал это повторять, но было видно, что он сильно зажат. Брук что-то тихо ему сказал на ухо, и я увидела, как у актера сразу же освободились плечи. Потом Брук показал, как Епиходов испугался, увидев себя в зеркале.
Дальше репетировали с актрисой, которая играла Дуняшу. «Мне, признаться, Епиходов предложение сделал». Актриса молодая, видно, что неопытная. Ритм сцены упал, Брук из зала попросил говорить текст быстрее, но у актрисы не получалось. Брук поднялся на сцену и что-то долго ей объяснял. Опять очень тихо – только ей.
Лопахина играет знаменитый Пи́кколи. Я помню его по кино. Черные густые брови. Вид интеллигента. Он и появляется, как киногерой. Он очень заметен. Высокий, красивый. Герой. А в конце он почему-то стал меньше ростом. Когда я его увидела на сцене в начале репетиций, я сразу поняла, что он будет играть Лопахина – такая уверенность у него в облике, но во время репетиции он мягчел.
Раневскую играла жена Брука Наташа Пáрри. Все действие и все персонажи крутились вокруг нее, но у меня жужжала мысль в голове – крутятся не вокруг Раневской, а вокруг жены главного режиссера.
Ох уж эти жены и фаворитки режиссеров! Мне пришлось с ними столкнуться в работе, но это другая тема…
Лопахин разговаривает с Варей и косится на Раневскую. Яша подобострастен. Гаев обращается только к ней и т. д.
Гаева играл бергмановский актер Йóзефсон. Играл мягко, трогательно и смешно. Фирс, например, его за ухо уводил спать, как в детстве. И Гаев не сопротивлялся – привычно.
Спектакль они потом играли ровно, немного скучно. Без антракта.
* * *
Если до начала наших репетиций «Вишневого сада» я не видела ни одного спектакля по этой пьесе, то потом я уже стала смотреть все «Вишневые сады» – и Някрошюса, и Питера Штайна, и Стрелера, и Брука, и т. д., и т. д.
Что-то мне нравилось, что-то нет, но единственно могу сказать, что после Эфроса Раневскую стали играть не гранд-дамы, не пожилые актрисы, которые с годами становятся первыми и играют все главные роли. Раневскую играли по-разному. Она было то уставшей, то больной, то полуалкоголичкой, иногда на грани сумасшествия, иногда ее играли в костюмах á la russe, в сарафанах. И в какую бы страну я ни приезжала, если в театре давали «Вишневый сад», я шла смотреть. Например, в 1999 году в Париже, в «Комеди Франсез», я посмотрела тоже «Вишневый сад». Его поставил Ален Франкóн. В прошлый мой приезд все говорили: «Скучный спектакль, Алла, не ходи». Но поскольку у меня – присвоение «Вишневого сада» (как у Цветаевой: «это – мое!», я подумала: в свое время я учила этот текст на французском, даже если будет скучно – повторю текст. Опять перевод Маркóвича, причем с какими-то вольностями. Например, во втором чеховском акте в конце Шарлотта говорит Фирсу: «Кто я? Откуда я?», а Фирс возвращается за кошельком, который забыла Раневская (потом я узнала, что это вернули сцену, вымаранную Станиславским не репетициях).
Спектакль мне очень понравился. В нем было то трепетное отношение к пьесе, которое перешло в трепетность атмосферы внутри спектакля. Там были не просто обозначены характеры – там был объем. Например, Яша: его всегда играли однозначно – хамом, который побывал в Париже. Однако Раневская вряд ли терпела бы около себя такого типа. В этом спектакле актер, игравший Яшу, был тонок, несколько манерен, ведь провинциал сначала схватывает лишь форму столичной жизни. Но когда он в третьем акте просит Раневскую: «Возьмите меня в Париж!» – а она, не отвечая, уходит, актер остается один на сцене и неожиданно начинает плакать. Эта актерская краска дорогого стоит.
Но Раневской в спектакле практически нет. Крепкая характерная актриса, в прошлом году я ее видела в «Тартюфе», она играла Дорину. А в Раневской, хоть она и была в модных мехах, фигура у нее крупная и вид советского председателя колхоза. Но, слава богу, она не играла, а просто произносила текст, и этого оказалось достаточно, чтобы не разрушать впечатления от целого.
Первый раз в жизни я видела такого прекрасного Гаева. Играл Анджей Севери́н – актер жесткий, агрессивный, так он играл и Клавдия в «Гамлете», и Дон Жуана, и Торвальда Хельмера из «Кукольного дома», а тут – абсолютный ребенок. Детскость ведь очень трудно сыграть, она может стать гранью сумасшествия. Но когда Станиславский – Гаев после фразы о леденцах с разбегу нырял головой в стог сена – это было не сумасшествие, а черта характера. Вот такие детские проявления были и у Севери́на. Ему одному почему-то вдруг становилось смешно. Тем трагичнее были его короткие, подавленные реплики, когда он возвращается с торгов.
Прекрасный Фирс, очень точный во всех чертах русского слуги. В конце, когда его оставляют в доме, он идет, стуча деревянными башмаками, через всю сцену. И этот стук воспринимается как стук топора по дереву или как забивание гвоздей в гроб.
Думаю, помимо режиссера, этому спектаклю много дал Севери́н – он поляк, знает славянскую культуру и Чехова чувствует тоньше, чем остальные. Недаром он потом стал заниматься режиссурой.
Впечатления от этого «Вишневого сада» я высказала своей знакомой, актрисе «Комеди Франсез» Натали Нерваль. Потом она мне рассказывает: «Я на репетиции Анджею говорю: „Алла Демидова считает, что вы лучший Гаев“. Он покраснел от удовольствия». Для меня удивительно, что он вообще меня знает, а он, видите ли, краснеет от того, что какая-то Демидова… Как странно, разобщенно мы живем: следим друг за другом, но мало общаемся!
Правда, потом, спустя какое-то время, мы с Анджеем Севери́ном играли в паре в Краковском театре в мистерии «Реквием», посвященной погибшим в концлагерях во Второй мировой войне. Сказал, что сам хочет поставить «Вишневый сад». Не знаю, удалось это ему или нет.
* * *
Классика – это зеркало, которое стоит перед жизнью, и каждое время видит там себя по-своему. И конечно, «Вишневый сад», как любую классическую пьесу, можно ставить по-разному, в зависимости от идеи режиссера и, главное, от времени, в котором эта пьеса ставится. Сейчас, наверное, главным бы героем был не Лопахин, который скупил все Сады России и понастроил там Дач по своему вкусу и хотению, и не Петя Трофимов, который со своими вечными монологами о справедливой жизни будет всегда в оппозиции. А обычный Симеонов-Пищик, который без малейшего сожаления сдает в аренду на столетние сроки свои земли и залежи каким-нибудь очередным «англичанам».
А Лопахин, как он себя сам называет, «новый помещик – владелец вишневого сада», из тех «новых русских», которые возникли в 90-х годах прошлого столетия, и до сих пор продает землю дачникам. Ведь Сад был большой. «Вся Россия – наш сад» – как говорится в самой пьесе. Хватит надолго.
У нас рядом с дачей под Москвой на Икшинском водохранилище раньше было прекрасное большое поле. Оно принадлежало местному колхозу. Они на этом поле то сажали картошку, то оставляли его просто так – отдыхать, и на нем цвели полевые ромашки. Красота немыслимая! Но во время перестройки колхоз продал это поле и лес рядом какому-то новому бизнесмену – Лопахину, и тот, не долго думая, вырубает лес и на поле, и на месте леса строит коттеджи на продажу. Сейчас это огороженный дачный поселок. Мечта Лопахина сбылась! Но красота исчезла. И мы больше не ходим туда гулять.
Почему колхоз не мог сам построить эти коттеджи и потом продавать или сдавать в аренду? Но ведь это так сложно! Легче продать! Это что, беспечность или русская лень?
Я живу в центре города в огромной старой квартире, мои верхние соседи очередной раз меня залили. Сосед оказался порядочным и предложил мне сделать ремонт. Я, естественно, отказалась, потому что ремонт нарушает мое хрупкое состояние спокойствия души – чтобы ничего не менялось. Потолок до сих пор весь в разводах, и мой приятель художник говорит: «Как это красиво! Это напоминает мне болота Манэ. Я нарисую там лилии». Он, конечно, ничего не нарисовал, и потолок с каждым годом чернеет. «Я все жду чего-то, как будто на нас должен обрушиться весь этот дом», – говорит Раневская.
* * *
А Раневская и Гаев – они сейчас или в своих «парижах» доживают свой век, или ютятся в захламленных книгами и картинами квартирах, давно не знавших ремонта. Раневская, которая говорила: «Видит бог, я люблю родину, люблю нежно…» – «бежала, себя не помня» за границу, а Гаев, который убежденно клялся: «Честью моей, чем хочешь клянусь, имение не будет продано! Счастьем моим клянусь!» – где-нибудь теперь служит в маленьком банке чиновником. За ними стояли только «слова, слова, слова». Они не сумели научить людей, да и сами не смогли «искупить наше прошлое, покончить с ним».
А «недотепы»? – так и остались «недотепами». Недотепой Раневская зовет Трофимова, Дуняшу. Недотепой называет Фирс Яшу. И последняя реплика в пьесе: «Эх ты, недотепа», – говорит Фирс сам про себя.
Недотепы – романтики. Они и сейчас «не способны ни к какому делу».
Пьеса – на все времена!
Когда я начинала репетировать Раневскую, во мне не было ни одной черты, которая нужна была бы для роли, но после «Вишневого сада» я изменилась. Я стала беспечнее. Терпимее. Никогда не сужу людей. Это не значит, что я не вижу, какие поступки совершает человек, но я никогда его не осуждаю – мало ли какие причины его привели к этому. Мне яснее стала видна причинно-следственная связь.
«Жестокий» Чехов, «лиричный» Чехов, «нежный» Чехов – какие только эпитеты я за свою жизнь не слышала про спектакли Чехова. Да, еще – «хмурый» Чехов или самое ужасное – «певец сумеречных настроений». Бунин писал, как все это возмущало самого Чехова. «Какой такой пессимист? – писал Бунин про Чехова. – Теперь без всякой меры гнут палку в другую сторону… Твердят: „Чеховская нежность и теплота“… Что же чувствовал бы ты, читая про свою нежность! Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем».
Иногда прямые суждения Чехова принимали за жестокость. Когда один его знакомый пожаловался: «Антон Павлович! Что мне делать? Меня рефлексия заела!» – Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте».
Чехов всю жизнь работал. Он любил повторять, что человек, который не работает, всегда будет чувствовать себя пустым и бездарным. «Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… всю жизнь», – сказал он Бунину. И дальше Бунин вспоминает, что, помолчав, Чехов без всякой видимой связи добавил: «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец…»
Я стараюсь во всем учиться у Чехова, поэтому я и заканчиваю свой рассказ о том, как мы репетировали «Вишневый сад», вычеркнув многое из того, что написала в свое время.
Но я все-таки еще хочу добавить: да – я научилась терпению и даже покою. Хотя иногда по-прежнему, как в «Вишневом саде» у Раневской, на меня накатывается тревога о стремительности времени, и тогда я теряю свой покой и чувствую, как теряется ясность сознания и мои мысли беспорядочно толкаются в прошлое, я чувствую беспокойство и страх. Боюсь жизни. Но, к сожалению, у меня нет той спасительной беспечности, которая была у моей грешной Раневской…
Приложение (от редакции)
Художественный совет
(открытый) 28/ VI -1975 г.[3]
Повестка дня: обсуждение репетиции спектакля «Вишневый сад».
Присутствовали: Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос, З.А. Славина, А.С. Демидова, В.Б. Смехов, В.С. Золотухин, Б.А. Хмельницкий, В.С. Высоцкий, А.И. Васильев, М.П. Еремин и др.
З.А. СЛАВИНА. Я сегодня смотрела целый спектакль, это всегда очень трудно. Сцена отделана белым цветом. И есть какой-то праздник. Все говорят о любви к Раневской, а у нее есть брезгливость к партнерам. Хочется отметить работу Т. Сидоренко. Несколько сцен, где она добивается результата. Нина Чуб очень серьезно работает. У артистов многих – намек на образы. Меня не трогает, крови нет.
Ю.П. ЛЮБИМОВ. Где вам скушно?
З.А. СЛАВИНА. Мне понравился Епиходов, его жаль. А Фирса не жалко, никто никого не любит, никто никого не трогает.
В.А. ИВАНОВ. Меня пока особенно не трогал Чехов ни в театре, ни в кино. У нас в театре не было серьезной режиссерской практики, переосмысливающей Чехова. В этом спектакле же ясен замысел, серьезное отношение. Спектакль стал осмысленным. Прочно ясна линия Лопахина и линия Яши. Самый разумный, толковый человек. Хорошо, что он, Яша, уезжает. Спектакль переживает период вызревания. Еще усилие, доводящее его до гармонии.
В.Б. СМЕХОВ. Я видел 2 прогона. Я лицо заинтересованное. Спектакль сегодняшний (прогон) более слабый. Существует опасность скуки. Это рискованное предприятие. Есть жесткая атмосфера и ситуация. Актеры утешили тем, что не хочется сравнивать их с актерами Эфроса. Существует содружество двух режиссеров. Происходит закономерное и праздничное событие. Благородство театра – в поддержке этого полезнейшего труда. Прекрасно, если хорошие, умные люди будут говорить: мы любим «Таганку» во всех проявлениях, мы любим ее за новое прочтение Чехова, за своеобразный климат большого режиссера. Плохо, если кончится банальным, скучным, потасовочным вариантом. Чехов зашифрован, когда актеры его расшифровывают, тогда все получается. На тех прогонах актеры были связаны. В 1-м акте много «почему?», 2-й акт действует точно, он интереснее. Совершенно необходим зритель. Джабраилов уже готов, Сидоренко, Высоцкий (особенно во 2-м акте) и Золотухин: сочетание банальности и революционности.
Б.А. ГЛАГОЛИН. Меня смущает слово «гениальная» режиссура. Мне не совсем удобно говорить, я не беру на себя смелость судить спектакль. Я не совсем понимаю замысел спектакля, упущены важные вещи. Вся линия Раневской меня раздражает, я не понимаю смысла.
М.П. ЕРЕМИН. Мне показалось, что Анатолию Васильевичу разговоры про Чехова, который пишет «про интеллигенцию», надоели. Тема Чехова – вся Россия, ее судьба. Он любил Россию в мире. И вот мы смотрим на них и думаем: туда вам и дорога. А в этом спектакле – Яша дожил бы до наших дней. Петя Трофимов – тоже дожил бы. Первое впечатление – максимально возможное освобождение от быта. И у Чехова это не бытовая пьеса. Это какие-то люди, увиденные во всем потоке жизни. И главное действующее лицо – судьба. Я бы не приближался к «марионеточности» некоторой – подчеркнул силу любви Раневской. Во 2-м акте Раневская спокойна, логика поведения Раневской нарушается. Я не понимаю Фирса, финал и конец Фирса вне стилистики спектакля. А Любовь Андреевна (Раневская) любит Россию. Она не виноватая дворянка. Почему в 1-м акте выбивается личное?
В 1-м акте Лопахин больше чеховский Лопахин, он ведь больше работяга.
2-й акт лучше 1-го, но момент истерии во 2-м акте – мешает.
Но этот спектакль ближе к Чехову, чем все, что я видел раньше.
А.В. ЭФРОС. В чем сущность этой пьесы? Чехов говорит людям: вы живете абсурдно, когда дело идет о жизни и смерти. Главный вопрос – бредовость той жизни перед лицом опасности.
Актеры пока недобирают до образа. Нет полнокровных характеров, надо дать полнокровные живые характеры, но роли намечены верно и потому это будет. Прогон шел правильно, но надо стремительнее, резче, темпераментнее.
Демидова играет правильно и будет играть хорошо.
Всем 3-м актом Лопахин должен сказать: «Я вам говорил, что вы все погибнете. Но вы меня не слушали – и вот получайте». Лопахин – не деловой человек, ему вишневый сад не нужен, он хотел сделать добро Раневской.
Спектакль этот – о беспечности людей, когда над ними висит опасность.
М.П. ЕРЕМИН. Есть вещи в спектакле несомненно чеховские.
Е.И. ПРУДНИКОВА. Я хочу еще кое в чем разобраться. Когда я смотрю спектакль, я попадаю в настроение, все ясно просто из сюжета.
А.В. ЭФРОС. Надо сыграть теперь так, чтобы трогало нас. Эта душевность придет.
А.И. ВАСИЛЬЕВ. Даже не обсуждая конкретно, что сделал А.В. Эфрос, уже само по себе то, что Эфрос ставит на Таганке – это интересно. И надо, чтобы у нас ставили другие талантливые режиссеры, для актеров это необыкновенно полезно. И теперь видно, что актеры «Таганки» могут работать и с другими режиссерами. Мне понравился 1-й акт. Все в спектакле было абсолютно понятно, все идеи, весь подтекст, но даже иногда настолько понятно, что подтекст читался как открытый текст. Все актеры точно исполняют рисунок. А потом вдруг не про нас. Я хорошо знаю всех актеров, все их болячки и боли, и если они заболеют ими на сцене, спектакль еще выиграет.
З.А. СЛАВИНА. В сегодняшнем спектакле чеховская, истинно чеховская Россия. Последний крик Раневской – понятен. В спектакле есть истина, много хороших работ. Спектакль очень интересный.
Р.Х. ДЖАБРАИЛОВ. Мы, актеры, понимаем, что все правильно говорится, но мы с Анатолием Васильевичем только начинаем понимать, еще немного времени – и мы начнем играть полно.
Л.А. ФИЛАТОВ. Спектакль мне понравился. Он должен идти. Он меня изнурил в хорошем смысле. Эпизод с кофе – неточно, немного манерно.
Г.Н. ВЛАСОВА. Говорить сложно. Спектакль 30-го сдается. Сказать могу только о досадных мелочах. Многовато проходил Прохожий. Понравился Дыховичный и Шаповалов. Я не воспринимаю конец Фирса.
Ю.П. ЛЮБИМОВ. Мы часто заняты на своих обсуждениях другой стороной дела. Не понял я взрыва с Лопахиным. Я не все понимаю. Есть сентимент. Начало – надо петь от театра. Фраза Аллы про стены – непонятна. Есть несколько моментов, которые меня беспокоят, потому что это стандартный Чехов. Резче надо смены тонов. Хорошо работает Золотухин.
В Лопахине есть текст проходной.
Образы все намечены правильно. Все, серьезно.
Приложение (от редакции)
Художественный совет (открытый) 28/ VI -1975 г.
Повестка дня: обсуждение репетиции спектакля «Вишневый сад».
Присутствовали: Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос, З.А. Славина, А.С. Демидова, В.Б. Смехов, В.С. Золотухин, Б.А. Хмельницкий, В.С. Высоцкий, А.И. Васильев, М.П. Еремин и др.
З.А. СЛАВИНА. Я сегодня смотрела целый спектакль, это всегда очень трудно. Сцена отделана белым цветом. И есть какой-то праздник. Все говорят о любви к Раневской, а у нее есть брезгливость к партнерам. Хочется отметить работу Т. Сидоренко. Несколько сцен, где она добивается результата. Нина Чуб очень серьезно работает. У артистов многих – намек на образы. Меня не трогает, крови нет.
Ю.П. ЛЮБИМОВ. Где вам скушно?
З.А. СЛАВИНА. Мне понравился Епиходов, его жаль. А Фирса не жалко, никто никого не любит, никто никого не трогает.
В.А. ИВАНОВ. Меня пока особенно не трогал Чехов ни в театре, ни в кино. У нас в театре не было серьезной режиссерской практики, переосмысливающей Чехова. В этом спектакле же ясен замысел, серьезное отношение. Спектакль стал осмысленным. Прочно ясна линия Лопахина и линия Яши. Самый разумный, толковый человек. Хорошо, что он, Яша, уезжает. Спектакль переживает период вызревания. Еще усилие, доводящее его до гармонии.
В.Б. СМЕХОВ. Я видел 2 прогона. Я лицо заинтересованное. Спектакль сегодняшний (прогон) более слабый. Существует опасность скуки. Это рискованное предприятие. Есть жесткая атмосфера и ситуация. Актеры утешили тем, что не хочется сравнивать их с актерами Эфроса. Существует содружество двух режиссеров. Происходит закономерное и праздничное событие. Благородство театра – в поддержке этого полезнейшего труда. Прекрасно, если хорошие, умные люди будут говорить: мы любим «Таганку» во всех проявлениях, мы любим ее за новое прочтение Чехова, за своеобразный климат большого режиссера. Плохо, если кончится банальным, скучным, потасовочным вариантом. Чехов зашифрован, когда актеры его расшифровывают, тогда все получается. На тех прогонах актеры были связаны. В 1-м акте много «почему?», 2-й акт действует точно, он интереснее. Совершенно необходим зритель. Джабраилов уже готов, Сидоренко, Высоцкий (особенно во 2-м акте) и Золотухин: сочетание банальности и революционности.
Б.А. ГЛАГОЛИН. Меня смущает слово «гениальная» режиссура. Мне не совсем удобно говорить, я не беру на себя смелость судить спектакль. Я не совсем понимаю замысел спектакля, упущены важные вещи. Вся линия Раневской меня раздражает, я не понимаю смысла.
М.П. ЕРЕМИН. Мне показалось, что Анатолию Васильевичу разговоры про Чехова, который пишет «про интеллигенцию», надоели. Тема Чехова – вся Россия, ее судьба. Он любил Россию в мире. И вот мы смотрим на них и думаем: туда вам и дорога. А в этом спектакле – Яша дожил бы до наших дней. Петя Трофимов – тоже дожил бы. Первое впечатление – максимально возможное освобождение от быта. И у Чехова это не бытовая пьеса. Это какие-то люди, увиденные во всем потоке жизни. И главное действующее лицо – судьба. Я бы не приближался к «марионеточности» некоторой – подчеркнул силу любви Раневской. Во 2-м акте Раневская спокойна, логика поведения Раневской нарушается. Я не понимаю Фирса, финал и конец Фирса вне стилистики спектакля. А Любовь Андреевна (Раневская) любит Россию. Она не виноватая дворянка. Почему в 1-м акте выбивается личное?
В 1-м акте Лопахин больше чеховский Лопахин, он ведь больше работяга.
2-й акт лучше 1-го, но момент истерии во 2-м акте – мешает.
Но этот спектакль ближе к Чехову, чем все, что я видел раньше.
А.В. ЭФРОС. В чем сущность этой пьесы? Чехов говорит людям: вы живете абсурдно, когда дело идет о жизни и смерти. Главный вопрос – бредовость той жизни перед лицом опасности.
Актеры пока недобирают до образа. Нет полнокровных характеров, надо дать полнокровные живые характеры, но роли намечены верно и потому это будет. Прогон шел правильно, но надо стремительнее, резче, темпераментнее.
Демидова играет правильно и будет играть хорошо.
Всем 3-м актом Лопахин должен сказать: «Я вам говорил, что вы все погибнете. Но вы меня не слушали – и вот получайте». Лопахин – не деловой человек, ему вишневый сад не нужен, он хотел сделать добро Раневской.
Спектакль этот – о беспечности людей, когда над ними висит опасность.
М.П. ЕРЕМИН. Есть вещи в спектакле несомненно чеховские.
Е.И. ПРУДНИКОВА. Я хочу еще кое в чем разобраться. Когда я смотрю спектакль, я попадаю в настроение, все ясно просто из сюжета.
А.В. ЭФРОС. Надо сыграть теперь так, чтобы трогало нас. Эта душевность придет.
А.И. ВАСИЛЬЕВ. Даже не обсуждая конкретно, что сделал А.В. Эфрос, уже само по себе то, что Эфрос ставит на Таганке – это интересно. И надо, чтобы у нас ставили другие талантливые режиссеры, для актеров это необыкновенно полезно. И теперь видно, что актеры «Таганки» могут работать и с другими режиссерами. Мне понравился 1-й акт. Все в спектакле было абсолютно понятно, все идеи, весь подтекст, но даже иногда настолько понятно, что подтекст читался как открытый текст. Все актеры точно исполняют рисунок. А потом вдруг не про нас. Я хорошо знаю всех актеров, все их болячки и боли, и если они заболеют ими на сцене, спектакль еще выиграет.
З.А. СЛАВИНА. В сегодняшнем спектакле чеховская, истинно чеховская Россия. Последний крик Раневской – понятен. В спектакле есть истина, много хороших работ. Спектакль очень интересный.
Р.Х. ДЖАБРАИЛОВ. Мы, актеры, понимаем, что все правильно говорится, но мы с Анатолием Васильевичем только начинаем понимать, еще немного времени – и мы начнем играть полно.
Л.А. ФИЛАТОВ. Спектакль мне понравился. Он должен идти. Он меня изнурил в хорошем смысле. Эпизод с кофе – неточно, немного манерно.
Г.Н. ВЛАСОВА. Говорить сложно. Спектакль 30-го сдается. Сказать могу только о досадных мелочах. Многовато проходил Прохожий. Понравился Дыховичный и Шаповалов. Я не воспринимаю конец Фирса.
Ю.П. ЛЮБИМОВ. Мы часто заняты на своих обсуждениях другой стороной дела. Не понял я взрыва с Лопахиным. Я не все понимаю. Есть сентимент. Начало – надо петь от театра. Фраза Аллы про стены – непонятна. Есть несколько моментов, которые меня беспокоят, потому что это стандартный Чехов. Резче надо смены тонов. Хорошо работает Золотухин.
В Лопахине есть текст проходной.
Образы все намечены правильно. Все, серьезно.
Комитет по культуре города Москвы Московский Театр драмы и комедии на Таганке
Стенограмма обсуждения спектакля «Вишневый сад»
30 июня 1975 года
Б.В. Покаржевский
М.Н. Строева
А.А. Смирнова
Н.И. Кропотова
М.А. Светлакова
А.В. Эфрос
Ведет обсуждение Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ
Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ. Театр просит нас, учитывая, что заканчивается полугодие, обменяться мнениями по увиденному прогону, высказать свои замечания и решить проблему этого спектакля.
Я думаю, что, наверное, мы придем сейчас к общему мнению, и с теми замечаниями, которые могут сейчас возникнуть, Анатолий Васильевич в силах за короткий период времени справиться.
Я тоже выскажу свои соображения, но чтобы не забегать вперед, – пусть сначала выскажутся товарищи.
Начнем с М.Н. Строевой.
Пожалуйста, Марьяна Николаевна.
М.Н. СТРОЕВА. Я себя чувствую в какой-то мере соучастником…
Мне прежде всего хотелось сказать, что, по-моему, театр сделал очень серьезный, большой шаг, я бы сказала даже, – для себя внутренне необходимый шаг к Чехову. И то, что театр пригласил режиссера, который многие годы отдал работе над Чеховым, это тоже очень, на мой взгляд, важный момент в жизни Театра на Таганке, который знаменит своими грандиозными открытиями, – я бы так сказала: просто грандиозными открытиями в искусстве, которому, может быть, в его яркой палитре не хватало и таких тонов – чеховских тонов, более сложных, углубленных психологически, емких, мягких, неоднолинейных.
И я думаю, что пройти через Чехова, через эту психологическую школу, по-моему, чрезвычайно важно для каждого театра, а для актеров Театра на Таганке, мне кажется, особенно важно.
У меня даже была такая мысль: было бы интересно, чтобы Юрий Петрович поставил сейчас спектакль с актерами Театра на Малой Бронной, которые привыкли к прямо противоположной манере и которым, может быть, не хватает манеры «Таганки», то есть какой-то публицистической смелости, яркости, какого-то гражданского темперамента.
Мне думается, что сейчас этой многогранности, которая принята в искусстве Театра на Таганке, в этом спектакле не хватает…
Спектакль сейчас, может быть, еще в каких-то своих элементах не готов, не завершен, может быть, спектакль сейчас показывается еще не окончательно созревшим, потому что это один из первых прогонов; новые исполнители в последние репетиции были введены, которые, по-моему, очень усилили спектакль; мне думается, что очень усилило спектакль то, что был введен на последнем этапе работы такой актер, как Высоцкий, который в высшей степени подходит к роли Лопахина, и то, что был введен такой актер, как Золотухин, который очень точен здесь: его душа, его темперамент, его звенящая лирическая стихия – это тоже было очень необходимо в этом спектакле, который вначале, когда репетировался, был несколько однотонен, может быть, несколько где-то грубоват; сейчас он вырывается и обретает общее стилистическое единство.
Мне представляется, что наибольшей силы спектакль сейчас достигает в своих драматических элементах и прежде всего благодаря игре Демидовой. Я вообще очень высоко, – может быть, кто-нибудь со мной не согласится, – но я чрезвычайно высоко ставлю игру, эту великолепную игру этой артистки Театра на Таганке. Такой Раневской у нас не было, не было на русской сцене такой Раневской. Уже есть штамп, есть уже то, что слышится до того, как произносится реплика Раневской, и очень трудно было актрисе от этого отойти.
Я видела другие репетиции, может быть, более удачные, может быть, она сегодня играла резче, чем обычно, она первую половину спектакля играла на репетициях легче, мягче, лиричнее. Эти переходы у нее проходили более спокойно, более легко, она владеет этим мастерством, этой техникой. И вообще, она актриса поразительной тонкости нюансов, от нее просто трудно оторвать глаза.
И то, что сегодня она первый и второй акты играла, может быть, чрезмерно драматично, уже сразу начала с какой-то очень напряженной и как бы обреченной ноты, – я думаю, что в дальнейших репетициях, в дальнейших спектаклях это смягчится, и какая-то утонченность, легкость переходов к ней придет, потому что я видела это у нее на репетициях. Но, конечно, поразительны места в третьем-четвертом актах по Чехову, просто поразительно, как она делает эти драматические куски. Конец третьего финала и режиссерски решен необычайно; этот момент, когда она вырывается на авансцену, момент прощания такой страшный, что просто душа разрывается. Каждый раз, как я вижу, я волнуюсь здесь необычайно. Я видела, что и зрительный зал тоже всегда захватывает это волнение.
Что, мне кажется, сейчас, – чтобы не говорить долго, – еще не очень получается?
Сегодня, мне кажется, гораздо интереснее прозвучали у Золотухина куски монолога. То, что сегодня найдено, это и надо как раз развивать. Еще не во всем монолог прозвучал, остается ощущение, что есть в этих монологах известная наговоренность, какой-то штамп, то, что где-то, может быть, и пародийно сегодня звучит, отжившей легендой, и он как-то говорит, говорит, уже много говорит, и ему даже становится стыдно, а потом он говорит что-то самое сокровенное. И сегодня очень хорошо получились эти неожиданные переходы – то, что в зал идет и принимается как откровение.
Этого раньше не было, я это почувствовала в первый раз, и эту линию, по-моему, интересно развить.
Мне кажется, что у Высоцкого сегодня несколько однотонно прозвучал монолог третьего акта; на репетициях было интереснее. Здесь, может быть, чрезмерно много он ходит по авансцене, и все в одной краске, в общем, вольтажный темперамент. Здесь нужно поискать большего многообразия разных моментов, когда вдруг лирика в нем проснулась, а потом опять грубость пошла.
Но актер это все сделает, это дело техники.
Я не очень была сторонницей актрисы Чуб на роль Ани и очень внутренне этому сопротивлялась. Мне казалось, что она внешне не подходит для этой роли, потому что она очень неинтеллигентно выглядит: резка, груба, совсем не дочь Раневской – не отсюда она… Так мне казалось. Потом актриса меня стала переубеждать, и мне показалось, что у нее есть лирические краски, которые здесь подойдут, и внутренне актриса справляется с этой ролью, хотя вокруг меня все говорили: «Ну какая она Аня?…» Но это дело спорное. Может быть, в театре есть другая актриса…
(Ю.П. ЛЮБИМОВ. Есть другая актриса – вы ее видели.)
Я видела маленький кусочек на репетиции и не могу судить, как она сыграет весь спектакль.
Внутренне я очень не принимала все время Гаева. Мне казалось, что актер не может играть эту роль, и опять-таки думаю, что под конец актер Штернберг вошел в нее где-то, и есть ощущение, что он зажил, хотя все-таки режиссерский рисунок очень чувствуется в нем. И все-таки настоящего Гаева нет, и финал играется одной Демидовой. Я уже говорила об этом Эфросу: мне жаль, что пропадает самый драматический момент, даже не слышно чеховских слов: «Сестра моя, сестра моя!» Это всегда было самое сильное место в исполнении Качалова и Станиславского. И снимать так просто, чтобы все это на себя брала Демидова, это, мне кажется, не совсем верно.
Еще у меня есть ощущение, что не до конца сейчас найден Фирс. Начинал актер интересно, были даже комедийные краски, потом он это потерял, стал себя очень жалеть, и ощущение такое, что Фирс все время ноет, все время жалеет себя, хочет страдание навязать. В этом смысле есть однолинейность. Чехов тем и гениален, что у него все время идет контрапункт, и Фирс с этой поэмой о вишне и со всеми своими «недотепами», конечно, ведет и комедийную линию; этого не получается в спектакле, и думаю, что тут надо еще поработать с актером в этом смысле.
У меня есть еще отдельные замечания и по другим ролям. Может быть, сегодня менее интересно играл Джабраилов. На репетициях он работал легче, свободнее, остроумнее при всем своем внутреннем драматизме, но это актер талантливый, и у него, конечно, это получится.
Думаю, что очень интересно здесь оформление. Художники прекрасные – что и говорить! – и это очень красиво, и одновременно очень где-то внутренне едино, и как-то ритмично и музыкально в своем рисунке. Но у меня создается такое впечатление, что, может быть, какой-то динамики этому кругу не хватает, он надоедает в своей статике: все время стоят эти надгробия. У меня ощущение, что в этом есть какая-то назойливость. Может быть, даже там и не нужны обязательно два креста, два надгробия, может быть, нужно больше вещей в конец накидать, мебели. Анатолий Васильевич очень интересно говорил на одной из первых репетиций, что Лопахин раскидывает вещи, даже какое-то деревце вырывает, и этот холмик остается оголенным. Это была интересная мысль, но она не осуществилась, – может быть, это технически трудно сделать, но сейчас есть ощущение статичности; в замысле это, по-моему, звучало интереснее.
Это техническая сторона, и это, может быть, еще будет наращиваться, а в целом мне кажется, что спектакль уже задышал, и он должен на зрителе еще больше набирать ритм. Есть затянутость отдельных эпизодов, но это уйдет, и плавность и легкость переходов придет к актерам, когда они будут играть на зрителе и почувствуют реакцию зрителя и ощущение себя в этом спектакле.
Поэтому мне представляется, что этот спектакль будет какой-то очень интересной и значительной страницей в искусстве Театра на Таганке.
А.А. СМИРНОВА. У меня сложное положение, потому что я не курирую этот театр. Поэтому прошу извинить, если мои суждения будут несобраны, сужены, может быть, отрывочны.
Очень трудно говорить о такой значительной, большой работе даже со второго просмотра. Мне думается, что мы встретились с очень интересным спектаклем, во-первых, с очень интересным и каким-то удавшимся творческим экспериментом, с постановкой А.В. Эфроса с труппой актеров на Таганке классического чеховского спектакля, и мне хочется сразу сказать, что эта работа чрезвычайно интересная, талантливая, она очень удалась. И думается мне, что первый прогон, в субботу, был значительно спокойней, не столь взволнованно и остро решенным, каким-то тонким и более изысканным спектаклем. Он был более завершенным. И сегодня когда смотришь, – это какие-то отголоски в художественном совете, – поэтому спектакль, к сожалению, более огрубленным предстает в ряде своих исполнений. И это жаль, хотя его основа очевидна, его достижения очевидны, крайнее режиссерское мастерство очевидно и крайнее актерское исполнение тоже очевидно.
Сегодня Марьяна Николаевна очень верно говорила о Демидовой. Это действительно очень интересное исполнение, но оно сегодня пострадало от какой-то нервности. То, что мы видели в субботу, было гораздо глубже, тоньше и не так срывисто. Сегодня несколько разрушилась слишком быстрая внутренняя жизнь смятенной души Раневской, – в прошлый раз она представала острее, глубже и более чеховской. Сегодня это, к сожалению, ушло, хотя есть великолепные вещи.
Первое, что мне хочется сказать, – о чрезвычайно интересном, талантливом и очень емком и каком-то современном решении образа. Мне представляется очень интересным то, что нам показана, как справедливо говорилось передо мной, совершенно необычная Раневская. Показана очень одаренная женщина, с богатым внутренним миром, женщина, которая как бы прикрывается иронией, скептицизмом по отношению к самой себе и вместе с тем дает взрывы истинного отчаяния, драматизма своего существования. Это что-то очень сложно переживаемое, спрятанное внутри прекрасной души прекрасного человека; недаром в спектакле выстроен культ Раневской, она эпицентр этой жизни, этого круга людей, она предмет восхищения, и то, как актриса это делает, дает возможность построения ее внутренней линии, ее сценического рисунка, ее судьбы, и при том, что это несомненное открытие, это не находится в противоречии с Чеховым. Потому что если внимательно вспомним пьесу и прочтем заново, – а мы ее знаем почти наизусть, – то мы поймем, что к Раневской так и относились – и Лопахин, и Трофимов, и Гаев. Здесь чрезвычайно проникают корни чеховской драматургии, очень по-своему вскрывая и заставляя нас вместе с собою вновь открывать не познанные ранее драматические вещи.
К числу совершенно замечательных кусков этого исполнения относятся такие сцены (я их назову очень контрапунктно).
Очень интересен кусок «О мое детство! О моя чистота!» За этим встает такой страшный второй план камня и трагедии прожитой жизни, такой взгляд в прошлое из страшного настоящего, – это чрезвычайно значительно и интересно для понимания раскрытия характера.
Воспоминание о сыне Грише, встреча с Петей Трофимовым очень сильно сыграна, очень прожита.
Совершенно обворожительна сцена в третьем акте – эти два танца, которые очень насыщены отношением Раневской к Пете, этот второй план, который выносится обоими актерами в этом танце, – и Демидовой и Золотухиным. Это чрезвычайно важно для понимания спектакля и всех коллизий и данных характеров.
Великолепно сыграна после отчаянного лопахинского выплеска («Мой дед и отец были рабами, а я хозяин вишневого сада») реакция Раневской, когда она вскрикивает, как раненное в живот животное, и этим приоткрывает глубинные трагедии этого человека, которые человек, необычайно талантливый и мужественный, все время скрывает.
Кусок «Продан вишневый сад или не продан?» – как актриса спрашивает; или когда она обращается с сконфуженной и целомудренной просьбой к Лопахину, чтоб он женился на Варе, – все это выстраивает очень превосходно внутренний рисунок жизни Раневской.
Говоря об этом, нельзя не сказать о ряде очень интересных актерских исполнений, и в этом смысле режиссура выразила себя чрезвычайно плодотворно, потому что режиссура – это не только решение и прочтение драматургии, но это и работа с актерами, и это выражается в ряде актерских работ. Мне легче об этом судить, потому что я видела спектакль два раза.
Очень интересна работа у Полицеймако, которая играет Шарлотту. Это неожиданная работа, это необычайная органика, это и чеховский гротеск, и огромный, щемящий чеховский лиризм, и огромный комизм, и раскрытие характера – и раскрытие актрисой в сложнейших предлагаемых обстоятельствах. Это тоже, на мой взгляд, очень интересная, великолепная работа.
Варя (Жукова) – интересная работа.
Очень интересная работа у Джабраилова (Епиходов). Он возникает вдруг интересным, странным характером, парадоксальным по Чехову и вместе с тем трагическим характером, когда он обращается в зал и спрашивает: «Вы читали Бокля?» – после его пауков и тараканов вы понимаете трагичность этого гротеска – нелепого, дикого, юродствующего характера, а за этим стоит драматизм человеческой жизни. И все это у него в удивительно интересном сочетании – с комедийностью, с лиричностью, с внутренней насыщенностью.
Если говорить о том, что сегодня меньше состаивается, чем в прошлый раз, – сегодня серьезные претензии предъявляются к Штернбергу. Я видела другого Гаева. Он не во всем устраивал, но он был мягче, органичнее, он был очень добрым, любящим свою сестру. Он действительно конфузился и уходил от своего либерального фразерства. Сегодня эта многоплановость ушла от артиста, он идет по одной орбите, и это достаточно обедняет раскрытие характера. То, что он сегодня делал, это десятая доля того, что мы видели в предыдущем прогоне. Тогда не возникало никаких серьезных возражений, мне даже казалось, что он точно социально решен, что он из этого круга человек, что он необычайно нежными чертами связан с Раневской, с Аней. Это потеряно на сегодняшнем прогоне. Я боюсь быть оракулом, но сегодня было одномерное исполнение, и судить об этом невозможно. У него были очень глубокие, волнующие куски, – сегодня они отсутствуют.
Притом что я очень высоко оцениваю эту работу, мне думается, что не во всем еще точно воплощается режиссерский замысел, режиссерская концепция спектакля и прочтение драматургии. То, что так шатается где-то Золотухин… Золотухин, конечно, прелестно играет Трофимова, но мне показалось, что на прогоне для художественного совета он играл более точно логическое развитие характера. Мне показалось, что когда Петя Трофимов начинал свои рассуждения о светящемся ему где-то в будущем, о судьбах России, о том, что надо уходить в жизнь, надо перестать бездельничать, – было более интересно, когда он начинал с яркого, пылкого выявления своих мыслей о России, о будущем.
А в финале он приходил необычайно изящно и тонко к некоторой выхолощенности, опустошенности, усталости, повторяемости и т. д. Но этот взрыв, монолог, который кончается тем, что «Россия отстала на двести лет, голодают рабочие, живут по сорок человек в комнате, и мы об этом не думаем», – сейчас появился только один кусочек, причем менее драматичный, чем в прошлом прогоне. Тогда все это вырывалось из него на необычайной доподлинности, глубине и правде в очень страстном восприятии того, что его окружает, и это очень верно по самому глубокому отношению к Чехову. По самым последним работам специалистов по Чехову очень верное прочтение образов Пети и Ани – прочтение этих образов, в которых звучат предвозвестники будущего. Ничего точно не сказано, ничего рельефно не сказано, и поэтому сажать его на такое пробалтывание этого монолога, три четверти этого монолога, как это было сегодня, – может быть, это тоже актерские нервы, но это заболтано. В принципе это неправильно. Если Петя тоже заражен бациллой либерального фразерства, то это надо делать очень тонко, и этого достаточно в финале, когда идет прелестный диалог Лопахина и Пети в характере «Не дойдем, – дойдут другие», – это уже понятно, что Петя Трофимов устал верить с той пылкостью, как он верил раньше. Мне кажется, что так раскрывать этот характер, как сегодня в первой половине спектакля, неправильно.
Совершенно очаровательна сцена Раневской и Пети, их ссора, примирение, их связи тонко раскрыты с необычайным лиризмом и человечностью, их танец – все это становится на место. А эти опорные куски выявления его убеждений нельзя сразу подвергать категорическому выявлению. Это будет не совсем по-чеховски. Если Антон Павлович какие-то вещи наметил, то эти два персонажа – Петю и Аню, – то в каком-то инструменте симфонии мы должны услышать тему будущего. И в этом отношении я хочу сказать об Ане (Чуб).
Я понимаю, что ей задано постановщиком, что постановщик уходил от бесплодного, идиллического раскрытия характера, все это понятно. Но она в этих вещах где-то перебирает. Когда она уговаривает мать и говорит: «Не плачь, мама», – совершенно потрясающий кусок, и в этом звучит тремоло, почти злость, ее уносит Петя Трофимов на руках, а она почти зло говорит: «Мама милая, и папа милый, и колокольчики…» Если проследить с самого начала до конца, то девочка злая. Я понимаю, что она уходит от банального, тривиального прочтения образа, но ей не веришь. Она сегодня работала в одной локальной краске, она так однопланово сыграла всю свою линию на внутренней ощеренности, что ей не веришь, это не вызывает доверия. По-моему, нужно какую-то работу проводить, чтобы выявить режиссерский замысел, чтобы энергия этого характера, воля этого характера не шли в ущерб внутреннему чувствованию. Она не обаятельна.
Высоцкий – Лопахин. Он играл значительно интереснее на прошлом прогоне. Сегодня, при всем его даровании, при всем его умении, он более узнаваем как актер, нежели в прошлый раз. В прошлый раз было потрясение: это Высоцкий – и не Высоцкий. Это была внутренняя углубленность, она решается от реплики Пети: «У тебя тонкие пальцы артиста». Это человек чрезвычайно неустроенный в этой жизни, человек добрый от природы, человек умный, человек, одиноко живущий, – возьмите его невозможность объясниться с Варей. Но дело в том, что сегодня вдруг я слышу какие-то очень знакомые пристрои актера, его интонационный строй, его темпераментное, очень острое раскрытие, в то время как раньше все шло к этой кульминанте: «Здесь мой дед и отец были рабами», – это разрастание лопахинское, и потом идет пристрой к Раневской: «Что же вы, моя милая? Я ведь вам советовал». И когда второй план ушел в каких-то драматических местах, тогда это было значительно тоньше, взволнованнее, билось настоящее, доподлинное человеческое чувство в спектакле и в Лопахине, было сродни Раневской, потому что он действительно ей сродни и поэтому так восхищен. А сегодня эта сложность, тонкость и богатство – все это, к сожалению, ушло…
Я думаю, что сегодня возникли какие-то решения, обворожительные по рисунку, которые были очень важными, точными, единственно верно найденными: вот сцена Раневской и Пети Трофимова, – не может быть другого. Какой-то очень точно найденный мизансценический строй спектакля вдруг нарушился огрубленными моментами исполнения. Это можно понять – почему это произошло, но в таком спектакле нужно беречь все тонкости, какие есть.
Мне понравилось оформление. Оно очень изящное, очень элегантное, оно красивое. Но – может быть, это очень субъективно, но эта белая ветка мне не понравилась.
Очень интересно решена вся цветовая гамма спектакля, и почти все актерские работы состоялись. Ронинсон сегодня играл более сентиментально.
Он раньше играл очень мужественно, а сегодня ушел в сентимент.
Н.И. КРОПОТОВА. Мне кажется, что к этому спектаклю театр шел всем своим предшествующим путем: любимовский театр называли театром режиссера, потом неожиданно обнаружилось громадное созвездие первоклассных актеров, а сейчас, по-моему, все более закономерным будет определение этого театра и как театра автора.
Я лично еще со времен и Чернышевского, и Горького, не говоря о Брехте, всегда ощущала, что этот театр необыкновенно тонко и точно передает микроклеточку, структуру писателя, что бы он ни делал. И Абрамова здесь не спутаешь с Можаевым, Брехт здесь всегда Брехт, и, наверное, взять за короткий период времени необыкновенной сложности одну из вершин мировой классики актеры смогли потому, что у них был громадный путь освоения очень крупной литературы.
Мне лично очень сложно воспринять оформление спектакля. Я понимаю, что это концепция, что это замысел, что художник имеет на это право и имеет право со мной не согласиться. Я привыкла в этом театре к большей лаконичности Боровского и неожиданности Боровского, и несколько синтезированный, очень изящный ход, символический ход мне остался чуждым, хотя я никак не оспариваю права режиссуры и театра идти именно этим путем.
Спектакль радует очень многими неожиданностями, очень многими интересными и глубокими решениями, и, говоря о режиссере и ансамбле актеров, конечно, нельзя не присоединиться к тем высоким похвалам, которые идут в адрес Демидовой. Мне показалось, что первую часть, часть спектакля до антракта, актриса провела более резко, срывисто и нервно, чем это требовал материал. Правда, потом мне показалось, что на фоне первой, срывистой части более спокойная, тихая и более человечная вторая часть прозвучала как концепция, как замысел и как смысл. Может быть, это случайность репетиции, но это мне более открыло Раневскую как человека действительно неординарного, действительно очень глубоко связанного с тем, что вокруг нее, с тем, из чего она вышла – из ее детства, из этой жизни, и этот крик умирающего, как от удара, как от пули, – это необычайно точное режиссерское выражение моральной смерти человека, который, разрывая со своим прошлым, остается беззащитным и никчемным.
Это мне показалось одной из очень интересных и талантливых находок режиссуры и актрисы, и такие находки были в спектакле не раз.
Я не могу не сказать, что, наверное, как всегда, не хватает времени для работы над спектаклем, наверное, есть огрехи и случайности, и существует определенный постулат для Чехова: если характер идет в каком-то богатстве и многообразии своих связей, то тогда возможны любые трактовки; если связь становится прямолинейной и обнаженной, уже воспринимать этот характер трудно.
Об исполнении Жуковой (Варя). По-моему, очень интересная работа. Можно принять то, что она швыряет ключи, можно принять то, что она визжит, можно принять то, что она делает что угодно, можно принять, что она скупая и кормит горохом. И когда она действительно уходит от возможности нормальной жизни, – в этом исполнении прочерчивается какая-то любовь, – может быть, не столько к Лопахину, сколько к возможности устроить с ним жизнь, но характер возникает необыкновенно многоплановый и интересный.
То же я хотела сказать и о Золотухине с теми коррективами, о которых говорила Ариадна Арсеньевна. Они очень точны, и если они будут учтены, это пойдет на пользу спектаклю.
Что касается Высоцкого, мне бы хотелось, если это совпадает с мнением режиссера этого театра, – не так демонстративно его разоблачать, потому что разоблачение от начала до конца приедается. Даже реплика о душе и о пальцах тотчас же опрокидывается ходом актера, который начинает грубо совать Пете деньги. А можно не грубо совать… И если проследить ход спектакля, то можно сказать: это тот грядущий хам, от которого все отворачиваются. И он вначале растерянный, совестливый, а уж если торжество, то это торжество хама.
Будет лучше, если давать разнообразие человеческих чувств, а Чехов дает к этому громадные возможности: связи, взаимоотношения, детали…
То же самое по исполнению Чуб. Понятен замысел режиссера, но его можно воплощать более изящно и талантливо. Пока это очень прямолинейная, очень неумная, очень злая девушка, никого не любящая, ни с кем не связанная: и Петю она не любит, к матери равнодушна, дядю она вот-вот исцарапает и убьет. Ведь какие-то гены от матери, шарм Демидовой должен же к ней перейти. И какие-то детали человеческого характера, какие-то зерна нужно дать. Она несимпатична от начала до конца, нужно, чтобы был характер, был человек, у Чехова это есть, а здесь вместо человека мы видим марионетку. Это не самое интересное, что мы можем от нее видеть.
Я думаю, что спектакль, конечно, будет расти в работах, будет расти во встречах с публикой. У нас нет оснований не показывать спектакль, но очень бы хотелось, чтобы театр не оставил заботу об этом спектакле.
М.А. СВЕТЛАКОВА. Каждый раз, когда мы говорим о постановке классики на нашей сцене, мы в последнее время привыкли к тому, что мы это называем современным прочтением классики, и лишний раз находим подтверждение этому тем сильным аргументом, что мы находим в классике подтверждение своих мыслей, своих чувств, когда театр – и особенно такой театр, как Театр на Таганке, – берет классику.
Мне кажется, что современное прочтение классики прежде всего проявилось во взгляде художника и театра на те события, на то, что происходит в этой старинной и хорошо знакомой нам пьесе «Вишневый сад», и в этом смысле спектакль современен – современен потому, что наш советский художник, обращаясь к этой пьесе, написанной где-то в 900-х годах, увидел все, что происходило там, глазами человека, который вроде бы ретроспективно смотрит на все эти события, то есть на все то, что раньше казалось, может быть, чем-то вроде положительного потенциала. Для нас совершенно ясно: история поставила какие-то свои акценты. Поэтому понятно, что Анатолий Васильевич так трактует Лопахина. У него мало симпатий к этим людям, которые в общем-то исторически были обречены на гибель. И в этом отношении многое становится понятным с этих нынешних позиций.
Но мне хотелось бы сегодня сказать, не повторяясь, о каких-то основных моментах, которые, на мой взгляд, еще необходимо выстроить в спектакле.
Этот театр славится ясностью своей позиции в каждом своем спектакле, и эта позиция выявляется в ряде его спектаклей открыто, публицистично, во весь голос. Материал данного спектакля иной, и тем не менее активная позиция театра всегда должна быть как-то до конца осознана.
Я понимаю, с одной стороны, то, о чем я сказала: современность прочтения, современность отношения ко всему тому, что происходит, к тем людям, которые есть в спектакле. Но мне кажется, что здесь должна быть и вторая сторона, то есть утверждение каких-то позиций. И, на мой взгляд, в этом отношении требует еще внимания и характер Ани в исполнении Чуб, и то, что делает Золотухин – Петя Трофимов.
Мне кажется, что характер Трофимова передан как-то многообразнее, богаче по своим краскам, а Аня слишком резка, слишком определенна, слишком понятна. Я понимаю, что это замысел Анатолия Васильевича, но материал есть, материал Чехова требует тонкости, и мне хотелось пожелать, чтобы не так напрямую резко выходил здесь тот изъян, который, на мой взгляд, сегодня проявился.
Хотелось бы мне сказать и о том, что позиция театра должна была сказываться в многообразии, в самых разных характерах. Сегодня, пожалуй, ближе всего к этому Демидова. Об этом говорила Марьяна Николаевна. Действительно, характер интересный и своеобразный во всех своих проявлениях и по-чеховски лирический. Наверное, и то, что играет Штернберг, нуждается в особом внимании режиссера. Спектакль будет идти и набирать силу, но, вероятно, нужен и ваш глаз.
Что касается оформления спектакля, во многом я его принимаю, но не могу не согласиться с товарищами, которые говорили, что, может быть, слишком большое нагромождение того, что с этим кладбищем связано. И так понятно: даже если один крест будет стоять, – все абсолютно ясно. Здесь какое-то излишне кладбищенское настроение создается.
Мне хотелось бы пожелать театру и Анатолию Васильевичу как-то доработать в этом смысле спектакль. Повторяю: это не мешает тому, что спектакль может идти, без зрителя он не может расти, он должен набирать силу, но внимание к нему нужно.
Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ. Наверное, будем завершать. Повторяться нет смысла.
Юрий Петрович, вам слово.
Ю.П. ЛЮБИМОВ. Наше дело – слушать…
Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ. Вы – главный.
Ю.Л. ЛЮБИМОВ. Я не ставил этот спектакль…
Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ. Пожалуйста, Анатолий Васильевич.
А.В. ЭФРОС. Вчера на художественном совете я слышал много разных советов. Я благодарю вас за доброжелательство и обязательно все, что было сказано, постараюсь учесть.
Я хотел сказать одну вещь, которая, может быть, преждевременна, но я ее скажу.
Для меня Театр на Таганке – некий идеал. Я этот театр очень люблю и всегда свою работу поверяю его спектаклями. Поэтому я с очень большим волнением шел сюда, потому что я знал, что я совсем другой, и как соединится то, что я совсем другой, с определенностью, какая есть у них, – это для меня было чрезвычайно волнительно и экспериментально.
Просто хочу сказать, что они меня очень хорошо приняли – и актеры, и Юрий Петрович, – и я с благодарностью хотел бы им это сказать.
Б.В. ПОКАРЖЕВСКИЙ. Позвольте мне сказать несколько слов.
Я не раскрою секрета Юрия Петровича, если я скажу, что когда мы разговаривали, вернее – когда Юрий Петрович мне сказал, что он хотел бы пригласить только одного режиссера на постановку, – что этим одним режиссером он назвал А.В. Эфроса. Тогда мы и договорились об этой постановке, и я очень рад, что Анатолий Васильевич отмечает свой юбилей именно чеховской постановкой; я имею в виду жизненный юбилей – у Анатолия Васильевича 3 числа круглая дата. Давайте мы его сейчас поздравим с наступающей датой, пожелаем ему творческих успехов, здоровья и всего самого наилучшего. (Аплодисменты.)
В процессе работы я, конечно, интересовался:
– Ну, как, Анатолий Васильевич? Как вас там встречают? Как вы находите общий язык?
И всегда я чувствовал удивительно доброе отношение к этому театру, к актерам, с кем он работал, и исключительно теплое отношение я слышал Юрия Петровича в адрес Анатолия Васильевича.
Знаете, некоторые режиссеры хороших мастеров где-то опасаются. К сожалению, это в нашей театральной практике сплошь и рядом. Здесь это соединение произошло, и это доказала работа над чеховской постановкой – не потому, что Анатолий Васильевич пришел в этот театр (не обижайтесь на меня!) с этой пьесой, а мне кажется, потому что театр созрел для серьезной драматургии и показал настоящее мастерство.
И мне хочется весь коллектив театра вместе с Анатолием Васильевичем и Юрием Петровичем поздравить.
Здесь говорили много хорошего в адрес исполнителей, в адрес Демидовой. Мне кажется, это замечательная работа. Я много видел постановок «Вишневого сада» и у нас, и за рубежом, и по стране – не только мхатовскую постановку, но мне кажется, что это открытие Раневской, новая характеристика этого образа.
Много нового я для себя увидел в этом спектакле, и мне кажется, это действительно чеховский спектакль в полном смысле этого слова.
Я не буду повторяться об остальных исполнителях.
Мне кажется, прекрасна и Варя, мне кажется, интересен Лопахин, хотя я согласен с теми замечаниями, которые были здесь высказаны.
В общем неплохой получается спектакль, но я хочу присоединиться к тем замечаниям, которые здесь были высказаны. Они в интересах дела.
Я бы так сказал: мысли Чехова, главным образом, с социальной стороны выражены прежде всего в образе Трофимова – о будущем, о прошлом – и в образе Ани; они для этого спектакля, для этой пьесы играют, конечно, очень важную роль.
Поэтому я хочу присоединиться к тому, о чем сказала Маргарита Александровна; нужно утверждение позиций, а утверждение позиций идет через эти два центральных персонажа, хотя они и не занимают центральное место в пьесе.
Если вторая часть исполнения Золотухина мне очень нравится – мягкая, с множеством всевозможных переходов, то первая часть, когда речь идет о рабочих, об общежитии, это почему-то не только пробалтывается, но еще и у других персонажей идет дополнительный текст, который все время где-то перебивает, и не ухватываешь главное.
Поэтому я присоединяюсь и прошу театр, прошу вас, Анатолий Васильевич, обратить внимание на это.
Доверимся театру и в отношении Гаева. Тов. Смирнова говорила, что в прошлый раз это было интереснее. Спектакль в росте, и, наверное, товарищи учтут это замечание.
И я хочу присоединиться, уважаемые товарищи, к мнению об оформлении. Интересно найдено оформление в целом, – я имею в виду несколько серовато-светлые тона, но вместе с тем мне действительно где-то надоедает центральная часть. Если я ее вначале воспринимаю, то потом она надоедает. Очень интересную мысль высказала Марьяна Николаевна, что к концу где-то это разрушается, и по существу, так же как и вишневый сад вырубают, так и вся эта жизнь уйдет в прошлое. Посмотрите – может быть, здесь есть какая-то перегрузка, тем более что эта часть все время статична, все время одно и то же несколько надоедает.
Я не буду повторяться по всем замечаниям. Мне кажется, основные замечания высказаны.
Понимаю, что Анатолий Васильевич соглашается с основными положениями. А если вы соглашаетесь, то нет расхождения.
Я так понимаю, что Юрий Петрович ставит вопрос, чтобы сыграть этот спектакль сегодня…
Рецензии на спектакль
Владимир Стаменкович[4] Перешагнувшие границы «Вишневый сад»
«Вишневый сад» в исполнении Московского театра на Таганке, завершившего XIX БИТЕФ, дерзко перешагивает границы, а именно границы традиционной трактовки Чехова, но при этом не посягает на неприкосновенность автора и не раздражает зрителей, хотя, с другой стороны, и не продвигает вперед современный театр.
Сцена, на которой режиссер Анатолий Эфрос, в сотрудничестве со сценографом Валерием Левенталем, ставит «Вишневый сад», дает точное предчувствие темы спектакля: опустошенная жизнь группы людей, протекающая среди обрывков воспоминаний, под гнетом прошлого. Она символизирует уход прошлого, той опорной точки традиции, которая позволяет человеку на протяжении длительного времени сохранять одни и те же формы жизни, одну и ту же сущность. Сцена представляет старый барский дом, продуваемый ветрами, за которым неожиданно вырастает редкий цветущий садик, за тоненькими ветвями которого просвечивают силуэты надгробных памятников, где, как в пространстве брошенной земли, сквозь щебет птиц время от времени пробиваются таинственные звуки, возвещающие перемены где-то за видимым горизонтом.
На такой-то сцене жизни режиссер и выстраивает чеховскую драму в форме горькой комедии, группируя вокруг главной героини, Раневской, галерею персонажей, не имеющих ни реального значения, ни достоинства для драматического действия, ни осознания реальности ситуации, в которую они попали, часто очерченных лишь банальными, чисто физическими чертами.
И посреди этой толпы, как дух, как медленно колышущаяся лента, как ледяное изваяние, движется Раневская, чье лицо, хотя она редко и мало говорит, выражает в кристаллизованной форме сознание о крахе своей жизни, о бренности своего существования, о бесполезности любой попытки сопротивления. Раневскую играет поистине выдающаяся актриса А. Демидова с искоркой в глазах, как у Греты Гарбо, с шармом Жанны Моро, в котором переплетаются интеллект и эротика, актриса, несущая в себе несравненное внутреннее богатство. Когда она доминирует на сцене, это потрясающий момент сценического искусства, это – вершина нынешнего БИТЕФа.
Что еще сказать о спектакле Эфроса? То, что, если исключить игру Демидовой, это спектакль открыто антипсихологический, он несет печать легкого издевательства над всем, что мы подразумеваем под «славянской душой», и иронии по поводу интеллектуальных и эмоциональных деклараций, через которые она выражается, и что все ее персонажи служат чем-то вроде прожекторов, с помощью которых освещается судьба Раневской.
Но все же остается открытым вопрос, не обедняет ли Чехова такая трактовка, сводящая весь сюжет к драме Раневской, не изымается ли таким образом из «Вишневого сада» то, что в нем, наверное, важнее всего: пафос перемен, последовательно выражающийся различным образом в жизни других персонажей.
Анатолий Кудрявцев Из статьи об итогах БИТЕФа[5]
Приступая к разговору о «Вишневом саде», следует встать. Это был спектакль, наполненный кружением снежинок, полетом и щебетанием невидимых птиц. Эфрос отмел все традиционные исходные точки и отбросил все предрассудки. Он ввел прием стилизации, благодаря которой образы поднялись до символов и все вместе спели романс русской тоски. В этом спектакле точнейшему измерению был подвергнут лунный свет и были зарегистрированы невидимые вздохи душ.
Виолетта Иверни «Вишневый сад», «Вишневый сад»…[6] Спектакль Театра на Таганке в Париже
«Вишневый сад» А. Эфроса, «Вишневый сад» Театра на Таганке – Чехов или не Чехов?
Только это и слышишь в фойе, среди мельтешащей толпы – мельтешащей взволнованно, нервно, даже кое-где и оскорбленно, поскольку толпа состоит в большой степени из русских, а русские просто не в состоянии воспринимать что-либо (зрелище в особенности) иначе, как персональный подарок или личное оскорбление. Дружно сходятся на том, что – не Чехов, и продолжают бурлить – уже с чувством глубокого удовлетворения от того, что угадали, что попали в самое яблочко.
Так что и мне теперь невозможно начать разговор о спектакле с другого конца. Давайте поразмышляем – Чехов или не Чехов? И этот вопрос неизбежно потянет за собой другой: театр или не театр? Чем отличается театр от драматургии? Где кончаются права драматурга и начинаются права режиссера – и еще целый поток вопросов предательски захлестнет нас, как только мы зададим себе этот вопрос: Чехов или не Чехов?
Что такое «Чехов», это вам каждый ребенок скажет: импрессионистическая манера письма, тонкий запах увядания, легкий воздушный налет печали, звук лопнувшей струны, «настроение», подтекст – и что там еще? Стихи в прозе, «Осень» Левитана, тягучие шлейфы платьев начала века, медленный поворот головы: скупое движение, почти не существующее, почти не произведенное, так что любое изменение положения предмета или человеческого тела в пространстве воспринимается как событие, как разворот ситуации. Воздух недвижен, фигуры недвижны – и недвижны слова, в которых много странного, вовсе не подходящего к моменту, или скорее – подходящего к любому моменту необычайному, недейственному, несценически долгому – к абсолютному моменту размышления, воспоминания.
Это верно для всех чеховских пьес, а для «Вишневого сада» в особенности. (Событие из важнейших: «Епиходов кий сломал».) Он весь построен на том, что было, а не на том, что есть, потому что на самом деле ничего и нет: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя вернуться в собственное прошлое, в себя прошлого. Так что возвращение Раневской – попытка заранее обреченная, настолько же, насколько заранее обречена попытка сохранить вишневый сад или, вернее, «сохраниться» при вишневом саде – его нахлебниками, иждивенцами воспоминаний.
В спектакле Эфроса громадная подушка в центре площадки – легко прочитывающийся символ «сидения», неподвижности, созерцания, восхитительного, сладостного, изысканно-волнительного и безысходного. Она же – кладбище воспоминаний – и не только прошлого, но и будущего тоже, ибо здесь никакое движение, никакая собственно жизнь невозможны. Чехов это или не Чехов? Ну конечно, Чехов. Это умирание написал Чехов, Эфрос его не придумал. Эфрос его только показал – в собственной манере сценического письма.
Белая одежда сцены, белые костюмы, белыми флагами весны и поражения развевающиеся занавеси на окнах: цвет чистоты – и пустоты, цвет начала – и конца, подвенечного платья – и савана, цвет праздника – и смерти. Чехов или не Чехов? Ну конечно, Чехов! (Кстати, тот же прием белого спектакля применил в своем «Вишневом саде» Джорджо Стрелер лет десять тому назад.)
У чеховского подтекста в этом спектакле есть материальное выражение: весь ансамбль его сценического оформления, от декораций до знаменитого «звука лопнувшей струны», превращенного здесь в ржавый скрежет (не просто разрыв, слом, нарушение гармонии, но вторжение чего-то дикого, безобразного и чужого, с чем примириться мерзко, но необходимо, ибо это факт, независимо от героев существующий). Это резче, это прямолинейнее, чем у Чехова, как и все остальное. И откровенность приема, его вызывающее упрямство как бы добавляет к спектаклю еще одного героя: режиссера. Да и не его самого, собственно говоря, но его Чехова, а еще точнее – право на иного, другого Чехова, лишенного слезливой умилительности, которую сам писатель так ненавидел (и всем это было известно, только никто не понимал, почему это его так раздражало и чего, собственно, он, Чехов, хотел от актеров взамен).
Эти нежные полутона, этот флер, эти интонации на грани слез – не были ли они у Чехова атрибутами могилы, ее сладким запахом, а отнюдь не тихой песней любви? Да и какой любви? Где, когда писал Чехов любовь? Любовь осмеянную, любовь ненужную, любовь, вечно убегающую от самой себя, любовь водевильно-глупую, или жалкую, или разрушающую, или обреченную на разрушение – да, такую любовь он писал. Любовь-силу, любовь-победу, любовь-гармонию, любовь-вершину пирамиды – он не писал, да он никогда и не видел ее, и не мог видеть, и воспринимать не мог иначе как пошлость. Ибо все в себе самом завершенное, законченное, приведенное к созидательному, здоровому финалу, и не могло не быть пошлостью для него, умирающего, оставленного умирать, ждавшего смерти, видевшего всю жизнь свою одно только разрушение вокруг, сдачу и поражение человеческого тела и великие слабости человеческого духа. Он был врач, Чехов. Долго умирающий врач. И писавший собственное умирание художник.
«Что нам до шумного света, / Что нам друзья и враги, / Было бы сердце согрето / Жаром взаимной любви», – поют в спектакле, сомкнувшись в тесный кружок, персонажи. Очередная насмешка, дьявольская гримаса. Какой еще жар? Какая взаимная любовь? Кого к кому? Всех ко всем? Никого к каждому? Жар есть, но – тоскливого желания любви, тоскливой жажды ее, неуловимой, как подвешенный в воздухе солнечный зайчик, которого не схватить. Никто никого не любит – и грань слез не от любви, а от нелюбви. Оттого, что любить хочется и надо, необходимо, но – не получается, не дается. Епиходов любит Дуняшу, Дуняша – Яшу, Яша – себя самого. Раневская любит память о сыне, далекого любовника (или себя при нем) и – не Аню, не Варю, не Гаева, не вишневый сад, но мысль об Ане, Варе, брате, вишневом саде, старом доме.
Легендарная чеховская доброта – миф, ее никогда не было. Посмотрите на них, на героев всех его пьес: они смешны до слез, они славные, милые, тонкие и обездоленные собственной слепотой люди. Они не видят, что смешны. У них не хватает на себя чувства юмора. Чехов их не любил. Он над ними печально смеялся.
Поэтому еще одна эфросовская буквализация – обращение актеров в зрительный зал, минуя друг друга, – не более чем графически очерченное произнесение Чехова. Никто никого не слушает и не слышит. Все друг другу рассказывают о себе – то, что окружающим давным-давно известно, ибо это, во-первых, уже тысячу раз рассказано, во-вторых, прожито вместе. Каждый непристойно, смешно, оскорбительно одинок, и при этом никогда не остается в одиночестве: они толкаются на маленьком пятачке свободного пространства сцены, бегают вокруг своей подушки-могилы, бестолково зовут друг друга – и ходят друг за другом не отзываясь, друг друга ищут и не находят, друг друга находят – и бегут, ибо сказать нечего, и стоит кому-нибудь открыть рот, как уже остальные ждут, когда он наконец замолчит, потому что и звук его голоса оказывается невыносим.
Чехов это или не Чехов? Да конечно же, Чехов, чего уж там!
Но есть другая сторона дела: исполнители. Ощущение от спектакля, что он с чужого плеча. Что актерам в нем неловко и неудобно. Они словно бы участвуют в споре, не будучи уверены, что правы. Не то чтобы они не понимали, что делают, но вроде не уверены, должны ли они делать именно это или, может, лучше данное движение поменять на какое-нибудь другое. И в бестолковости суеты, заданной мизансценически, нет точности исполнения, нет филигранности. И крик персонажа превращается в дранье глотки, а голоса кажутся не просто непоставленными, но не привыкшими к большому зрительному залу. И властная форма спектакля выглядит сиротливой, необжитой и тесной для исполнителей.
Трудно сказать, в чем тут дело. Слишком ли тяжела для спектакля перегрузка реальным, жизненным подтекстом последних лет (и недель) Театра на Таганке, или есть тому причины иные – конгломерат причин, быть может, но «Вишневый сад» выглядит спектаклем больным, нервным, зябко неуверенным. Обращение в зал – формально, но не поддержано видящим взглядом, общением.
Есть, правда, одно исключение – и немалое: Алла Демидова. Правда, и для нее это трехчасовое существование в роли Раневской выглядит преодолением чего-то невидимого и мешающего, но она (единственная!) не просто подчиняется режиссерскому вышиванию по канве, а занимает в этом рисунке абсолютно законное положение. Уверенность в том, что она делает, зиждется не просто на техническом мастерстве, на технической виртуозности, даже не на том, что дается годами счастливой жизни на сцене: соединением мастерства и природного дарования с радостно ощущаемой внутренней свободой. Демидова, собственно, могла бы сделать на сцене все что угодно – ну, хоть кульбит или еще что-нибудь столь же неожиданное и нелепое, и эта нелепость выглядела бы у нее оправданной по той простой причине, что мы бы у нее никакого объяснения не просили и не ждали. Эта убежденность в праве на выбор – поведения, жизни, ощущения (на выбор на подмостках) – появляется на сцене вместе с актрисой, и нам в зале слышится, как звоночек, как камушек в окно: это большая актриса, это – всерьез.
Между тем Раневская Демидовой – наименее чеховский из всех вместе взятых компонентов спектакля. Вернее, именно она персонаж «Вишнёвого сада», а не «Ви́шневого». (Разница между этими «садами» громадная. Для «Ви́шневого» – кульминационная точка, катастрофа: Раневская вишневый сад потеряла. Для «Вишнёвого» – эта кульминация в другом: Лопахин вишневый сад купил. Раневская-Демидова может этот сад сколько угодно раз потерять – он у нее в жилах, страшно, что купил Лопахин, ибо это торжество пошлости.) Она не по слабости своей живет неразумно, как не по слабости позволяет своему любовнику себя обирать, как не по слабости к нему возвращается, и деньгами сорит не по безответственности или жизненной немощи, а потому – что эстетическое чувство не позволяет ей жить иначе, чувствовать иначе, действовать иначе. Она может и умеет быть только самой собой, и потому никакие разумные выкладки и рассуждения не имеют над ней никакой власти. Она просто живет по принципу «голодаем, как гидальго». Раневскую жаль, ибо она прекрасна, но не жизнелюбива. У Демидовой – пожалеть надо не ее, но мир, ибо мир наш завистливо не переносит серебряной тонкости, духовного аристократизма, восхитительного фатализма богатых душ. У Демидовой – легкая, блуждающая улыбка полуиронической готовности ко всему, что несет с собой наступающее мгновение: радость – превосходно! неважно, что ненадолго. Горе – ну что ж, так тому и быть! тем хуже для мира, коли он не в состоянии понять и принять…
Алла Демидова примиряет со спектаклем, но заменить его, разумеется, не может. Не может заживить внутреннего надлома в нем. А ущербность эта тем более досадна, что свежесть переосмысления чеховской пьесы столь неожиданна и столь (с моей точки зрения, во всяком случае) законна и долгожданна. Нет этого раздражающе-неуместного Пети-Аниного оптимизма (какая уж там «новая жизнь», какие «дали» – побойтесь Бога, господа!), и бесплодность Вариных надежд на брак с Лопахиным обусловлена тайной его влюбленностью в Раневскую (а что вишневый сад купил, все мосты сжигая, так это как в сказке про черепаху и скорпиона: укусил, потому что натура такая – сильнее страха смерти!) Не знаю, стоило ли епиходовские «двадцать два несчастья» превращать в «еврейское счастье», но – смешно. И Петя, конечно, такой вот – «облезлый барин», брюзгливый, неухоженный, староватенький, болтливый…
В этом спектакле самое дорогое и симпатичное – тот факт, что о нем хочется говорить. Разочарованно ли, очарованно, но – говорить. А это не так уж мало.
Иллюстрации
Анатолий Васильевич Эфрос
Макет декораций В. Левенталя к спектаклю «Вишневый сад»
Начало спектакля
Раневская – Алла Демидова
Лопахин – Владимир Высоцкий
Фирс – Готлиб Ронинсон
Петя – Валерий Золотухин
Варя – Татьяна Жукова
Епиходов – Иван Дыховичный
Гаев – Виктор Штернберг
Аня – Нина Чуб
Репетиции спектакля. В. Штернберг, А. Демидова, В. Высоцкий
Алла Демидова
Сцены из спектакля. Фирс, Раневская, Аня
Варя, Раневская
Раневская, Гаев
Раневская, Лопахин
Раневская, Варя
Епиходов, Шарлотта (М. Полицеймако)
Симеонов-Пищик (Ф. Антипов), Раневская, Гаев
Варя, Раневская, Симеонов-Пищик
Аня, Раневская, Лопахин
Гаев, Раневская, Лопахин
Раневская, Лопахин
Раневская
Лопахин
В. Левенталь
Поклоны. Слева направо: Р. Джабраилов, Т. Жукова, Н. Чуб, А Демидова, А. Эфрос, В. Высоцкий, В. Золотухин, М. Полицеймако, Т. Сидоренко, Г Ронинсон, В. Штернберг
Любимов
Фотография на программку. 29 сентября 1986 г.
Слева направо (сидят): М. Полицеймако, Ф. Антипов, В. Золотухин, В. Шуляковский, Н. Чуб, А. Демидова, Л. Селютина, T. Сидоренко, А. Дьяченко, Г. Ронинсон; (стоят): А Семин, В. Штернберг
Алла Демидова
Примечания
1
Раз, два, три! (нем.).
(обратно)2
Хороший человек, но плохой музыкант (нем.).
(обратно)3
РГАЛИ. Ф. 2485. Оп. 2. Ед. хр. 217.
(обратно)4
В кн.: Королевство эксперимента. Двадцать лет БИТЕФа / Пер. с сербского Н.М. Вагаповой. Белград, 1987. С. 234.
(обратно)5
Svjetlost i sjene / Пер. с хорватского Н.М. Вагаповой // Свободная Далмация. Split. 1985, 6 сентября.
(обратно)6
Русская мысль. 1985.
(обратно)

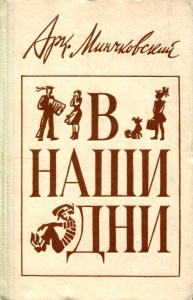





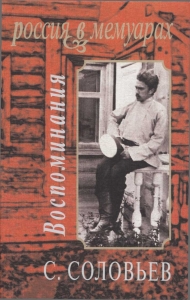

Комментарии к книге ««Всему на этом свете бывает конец…»», Алла Сергеевна Демидова
Всего 0 комментариев